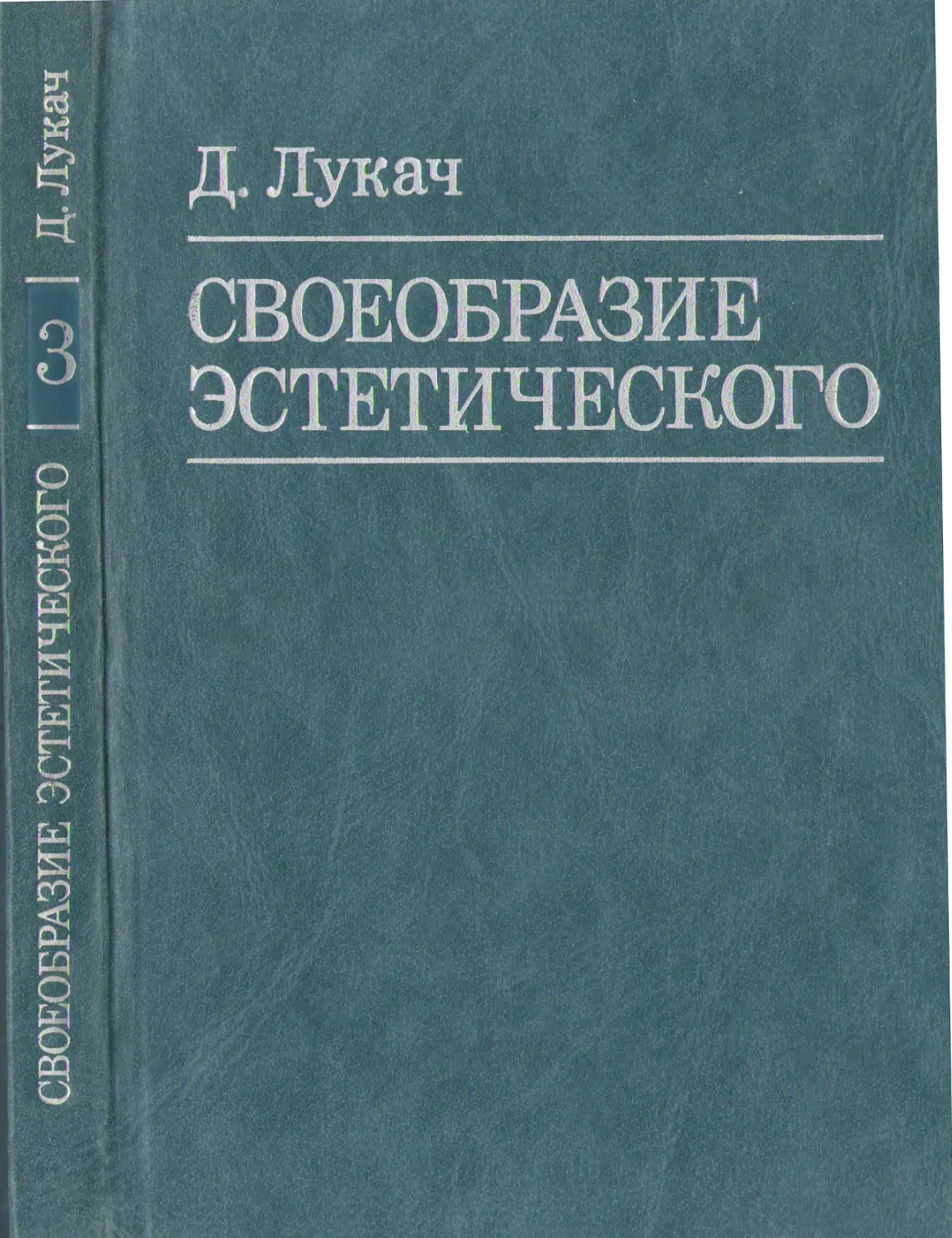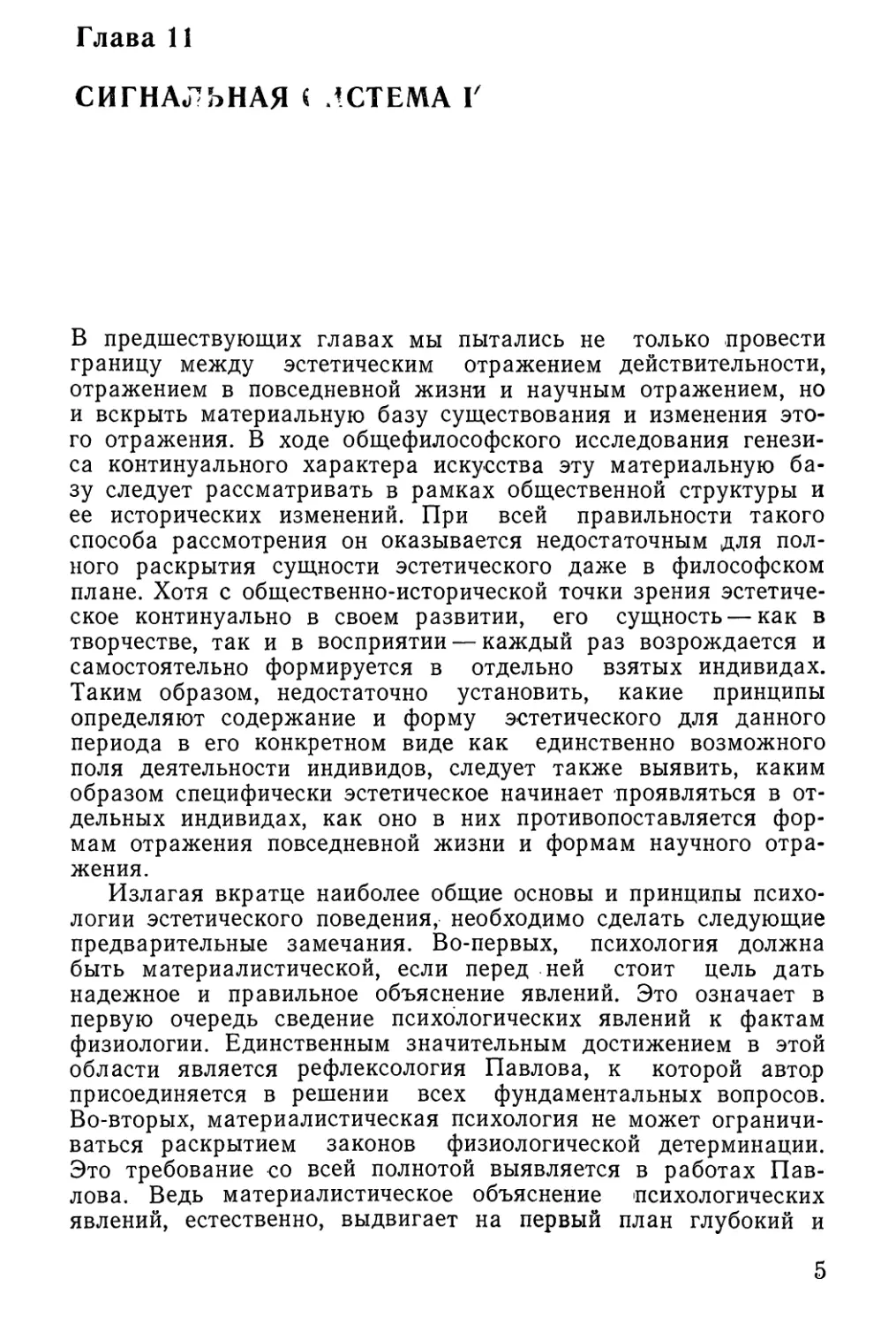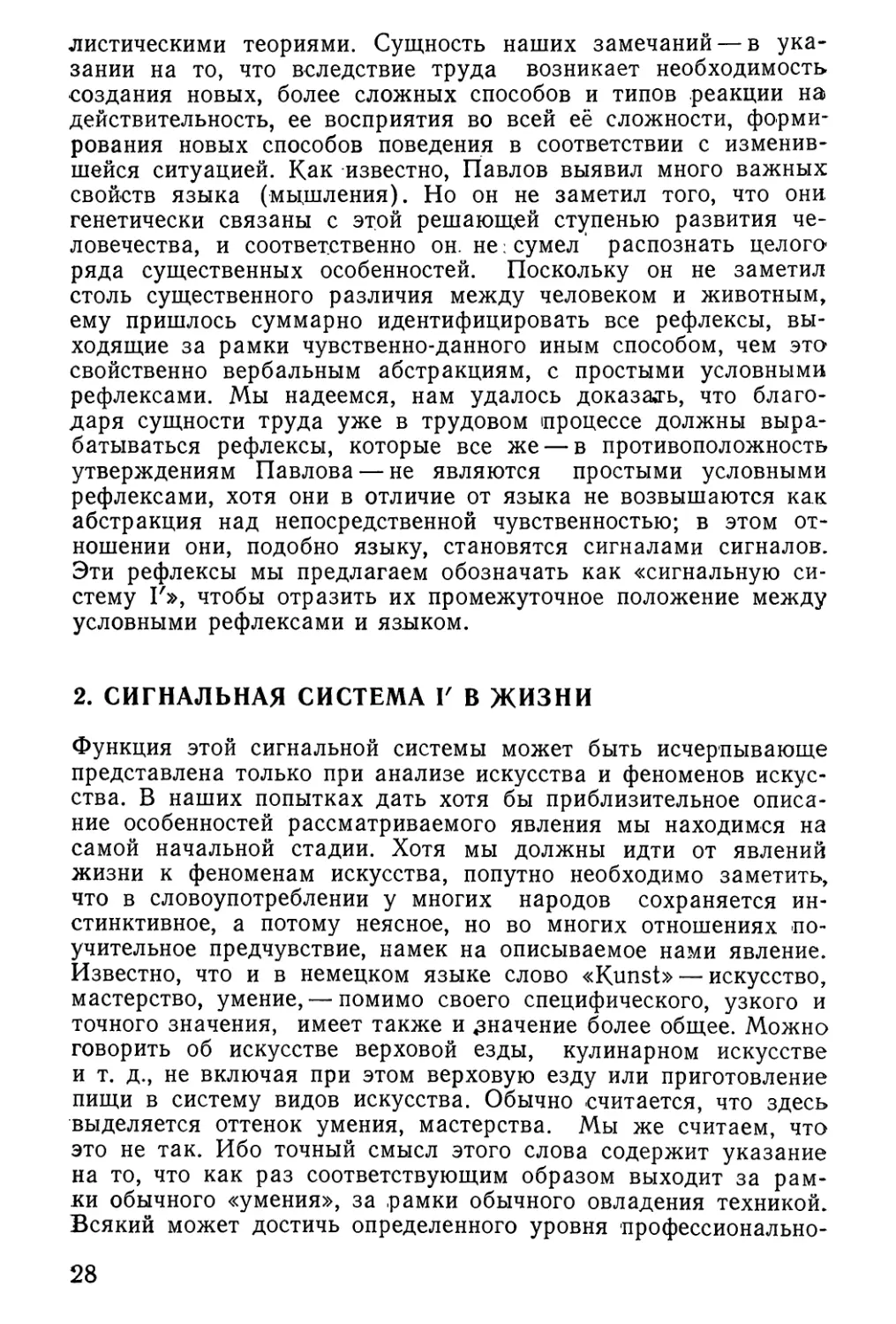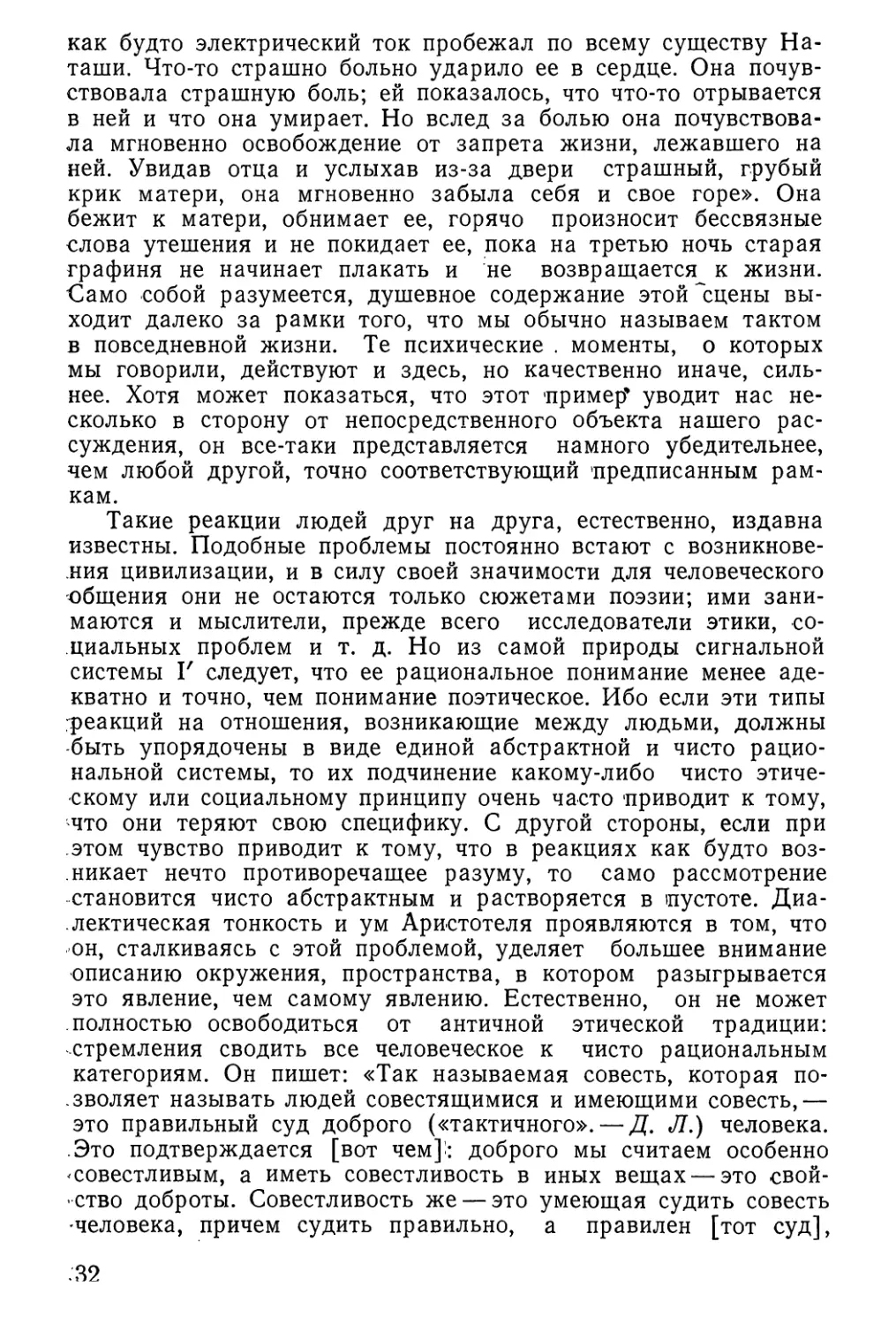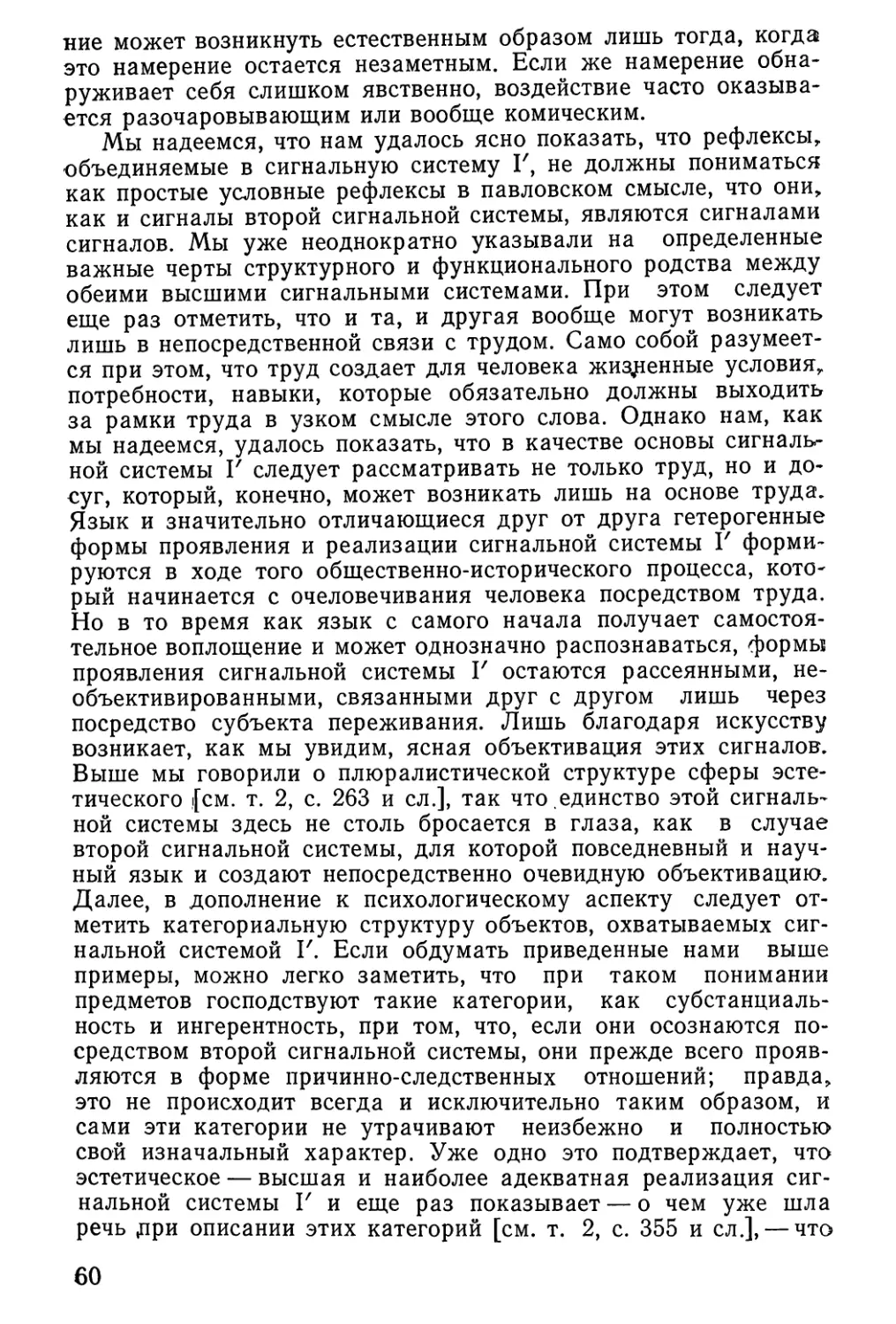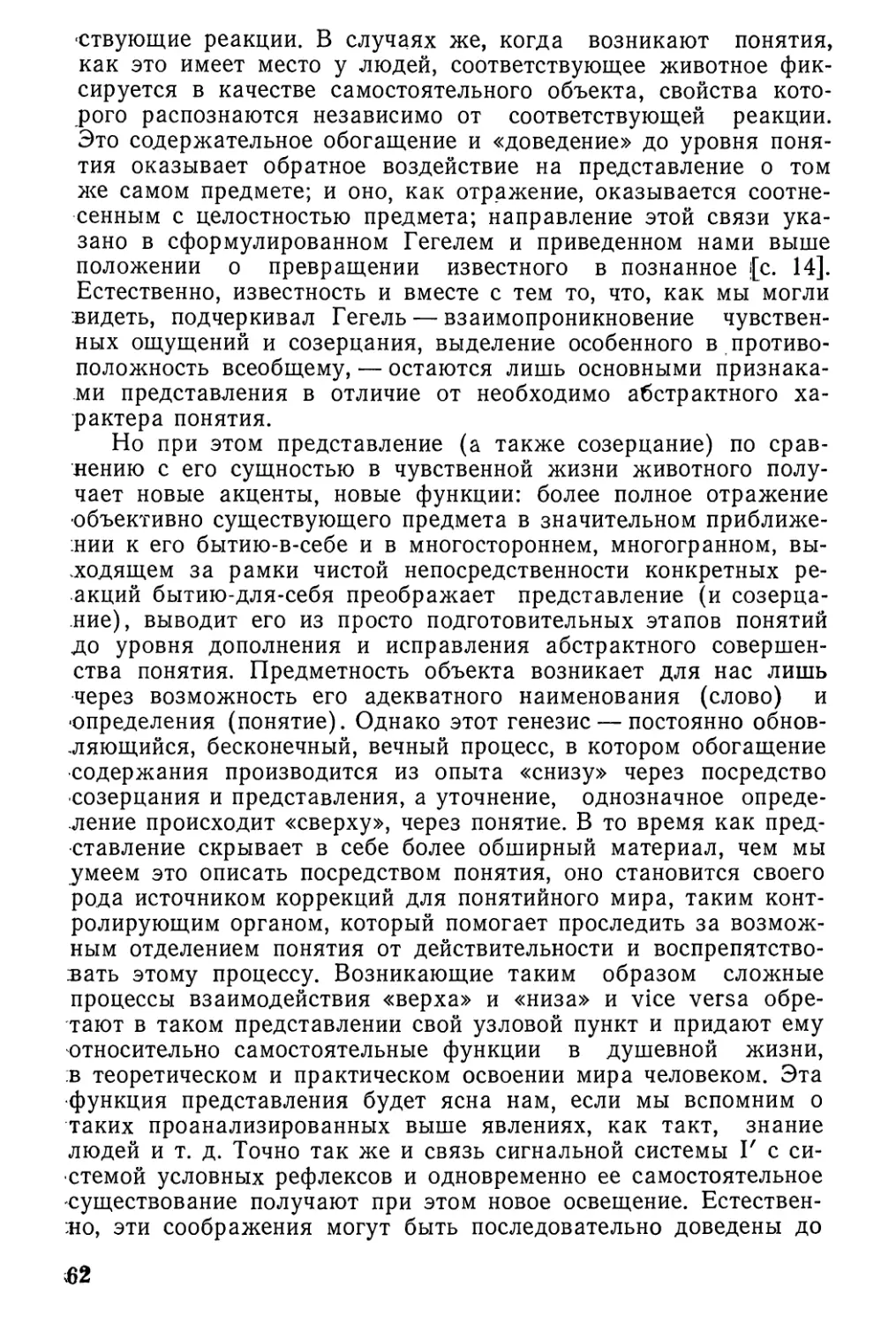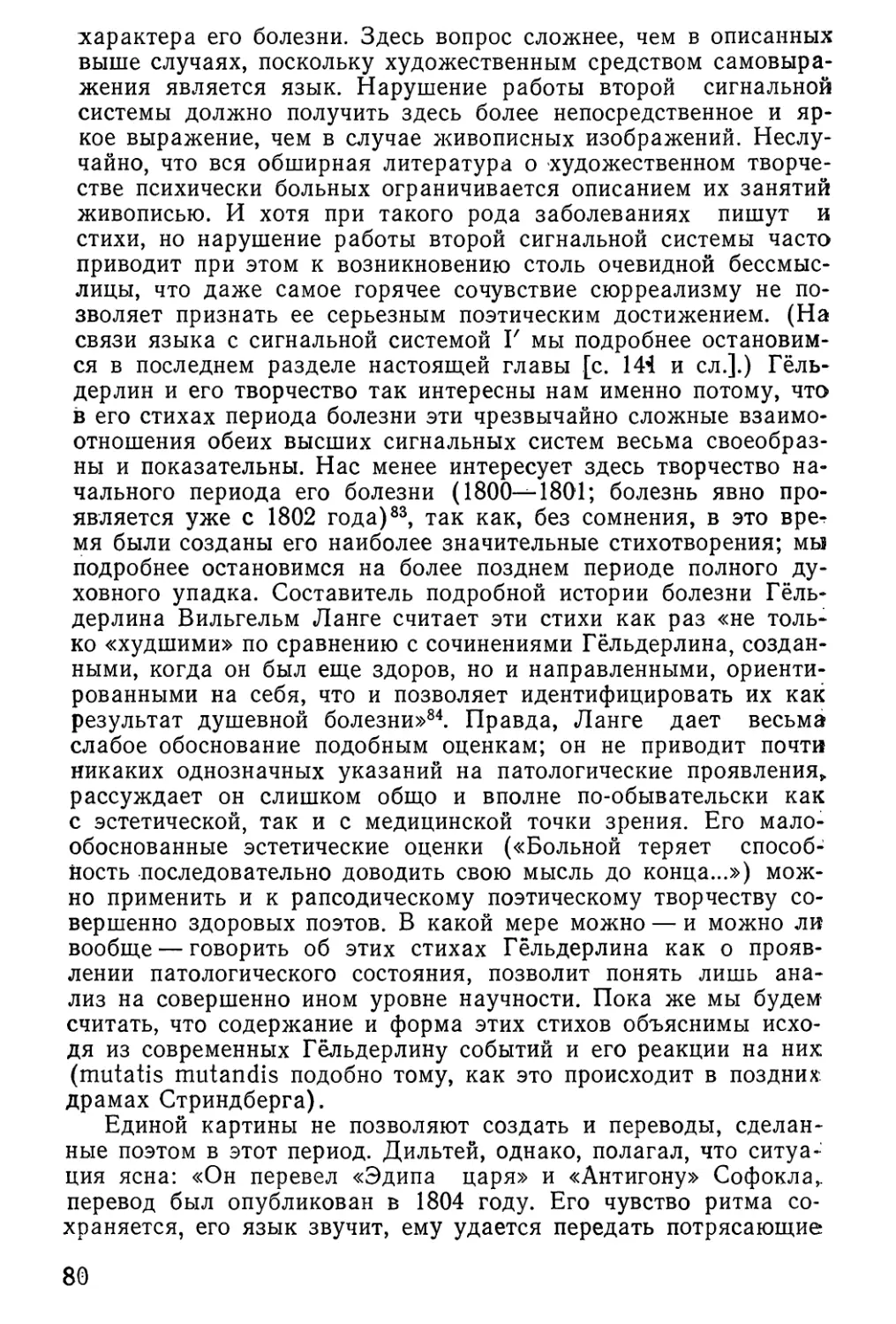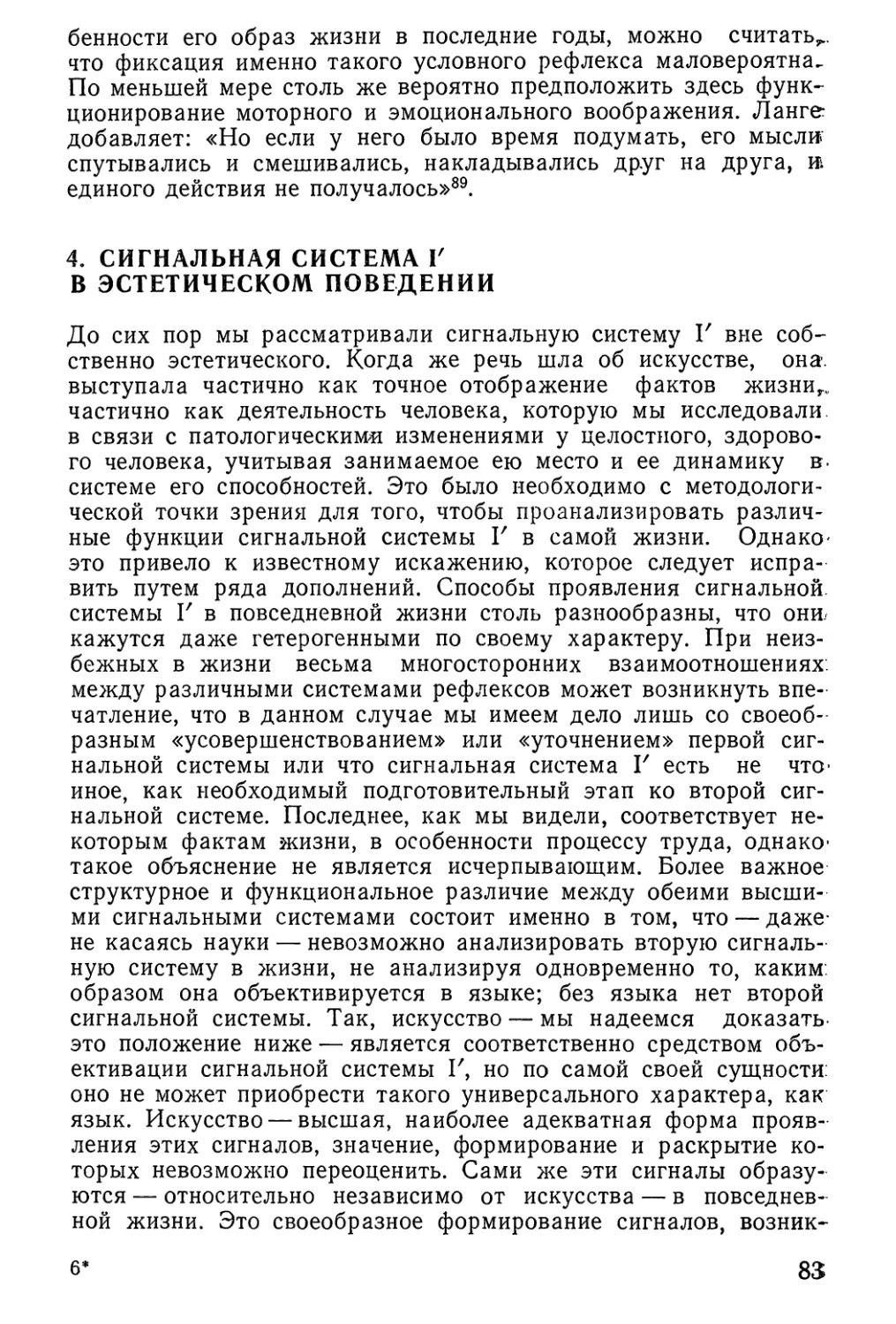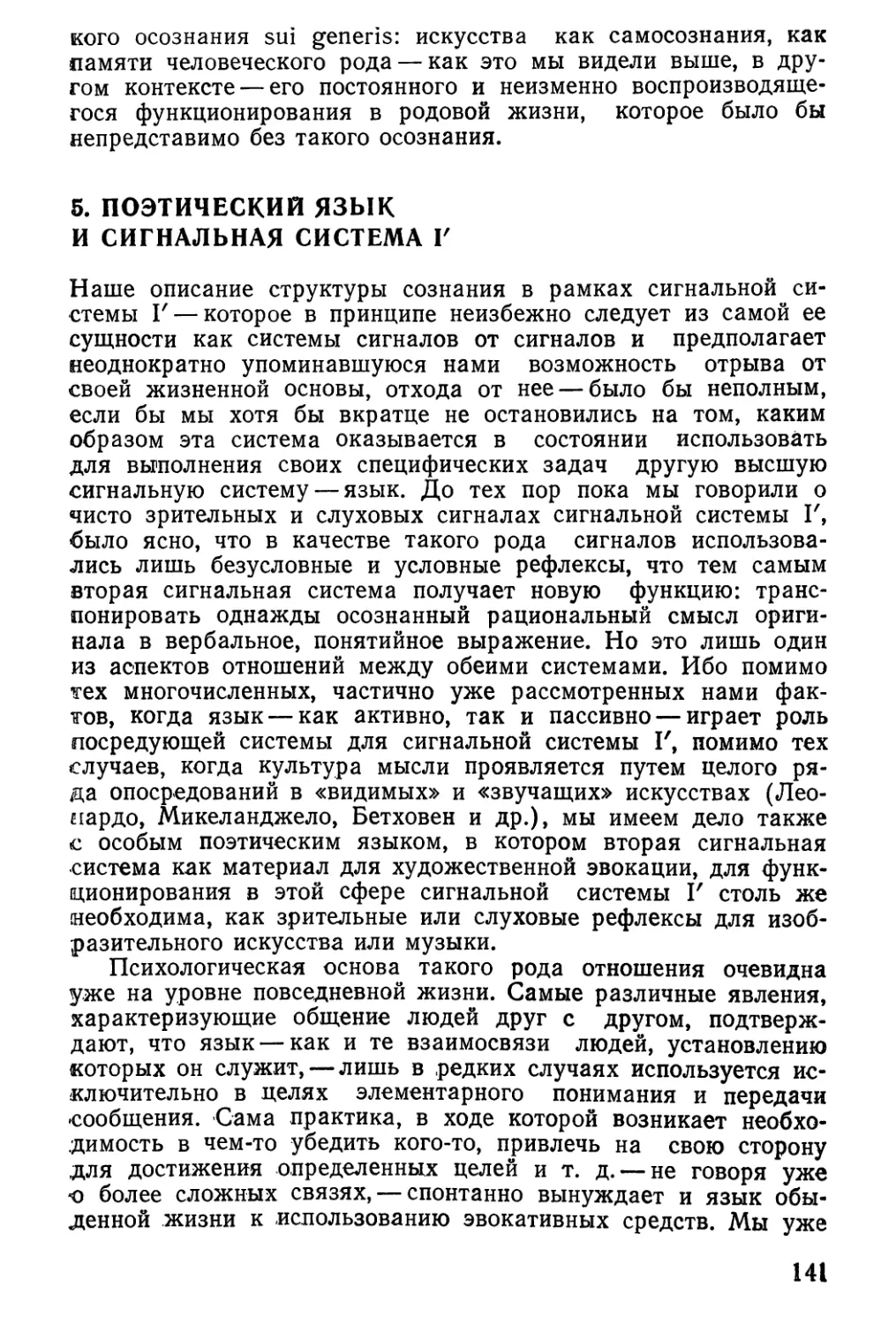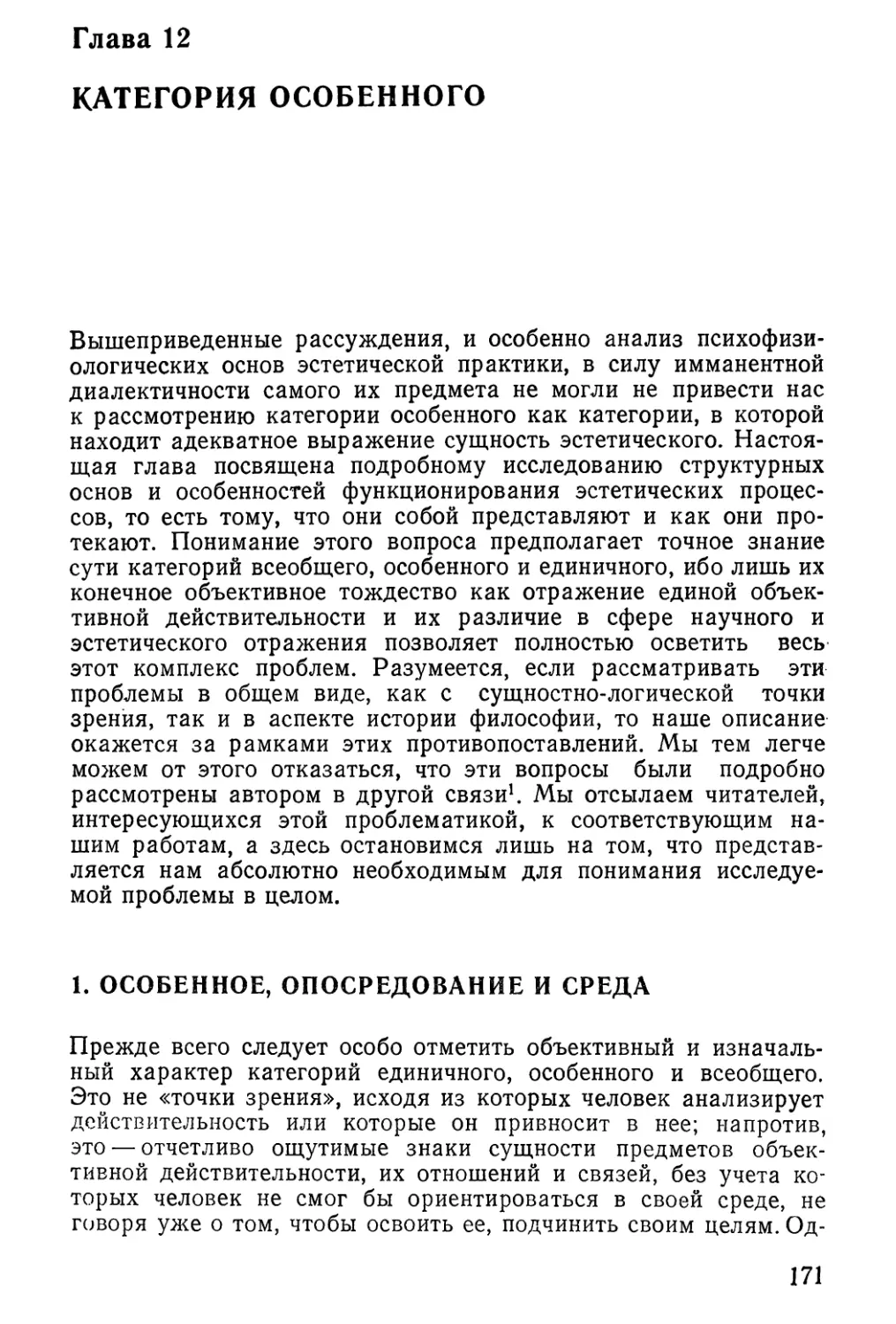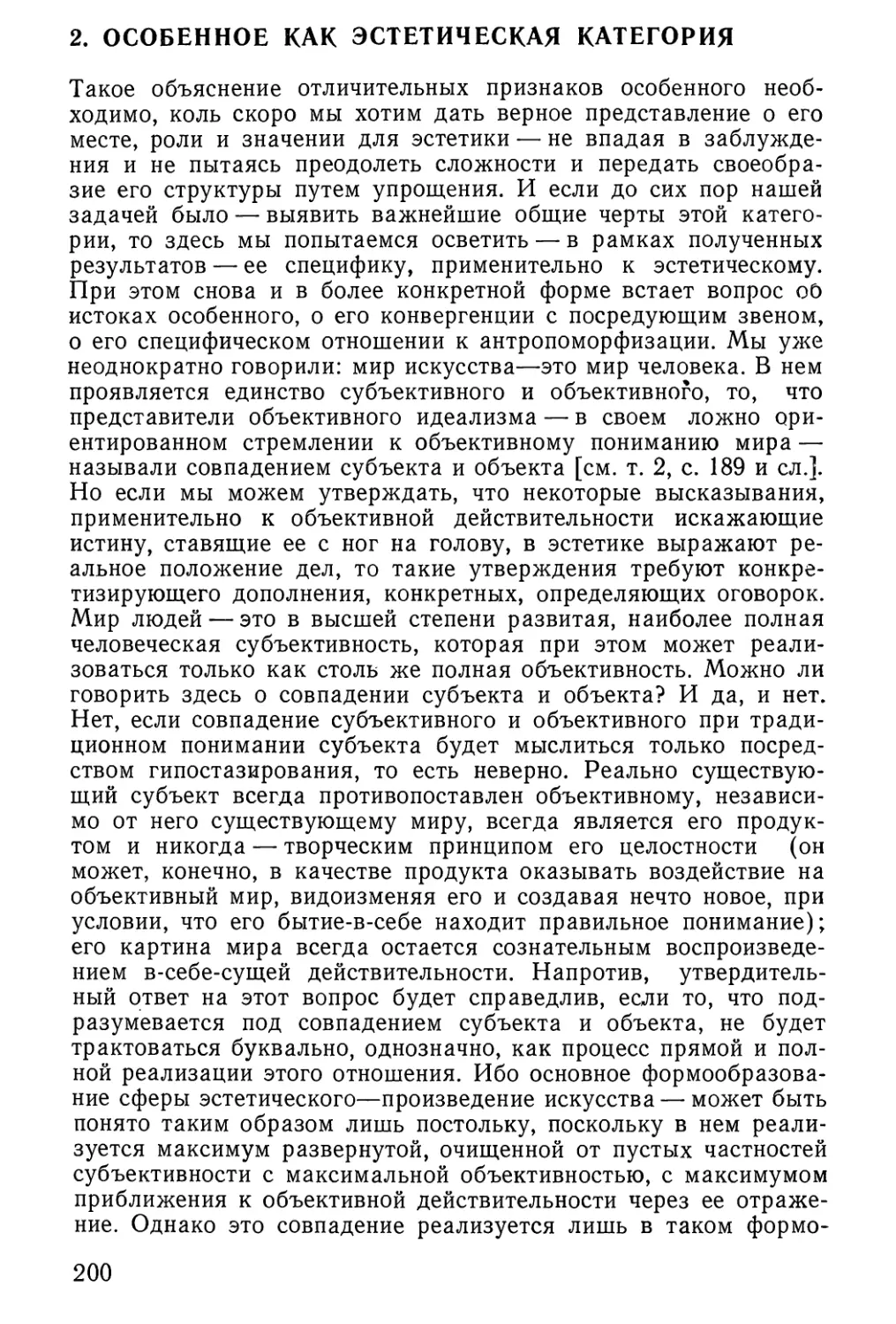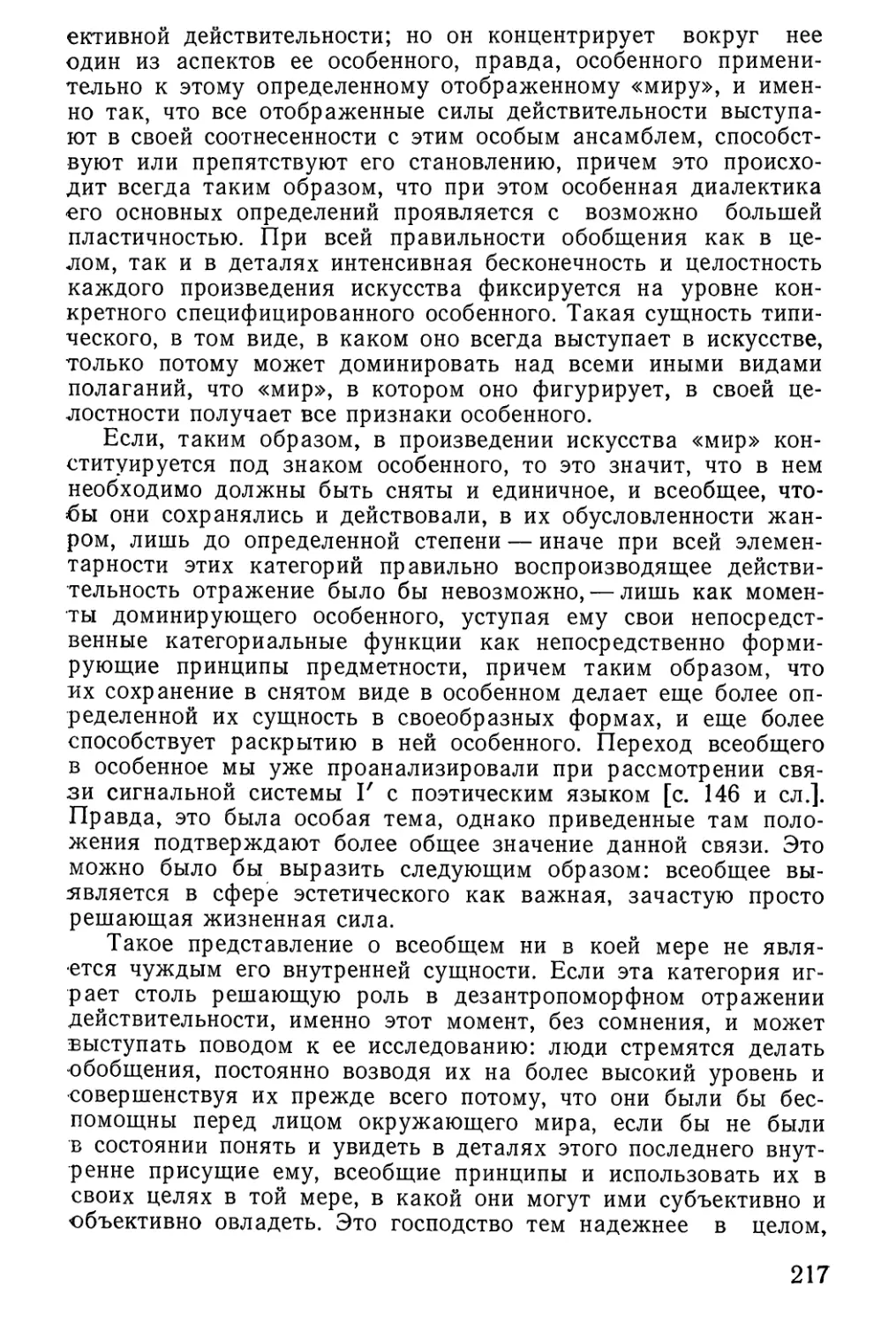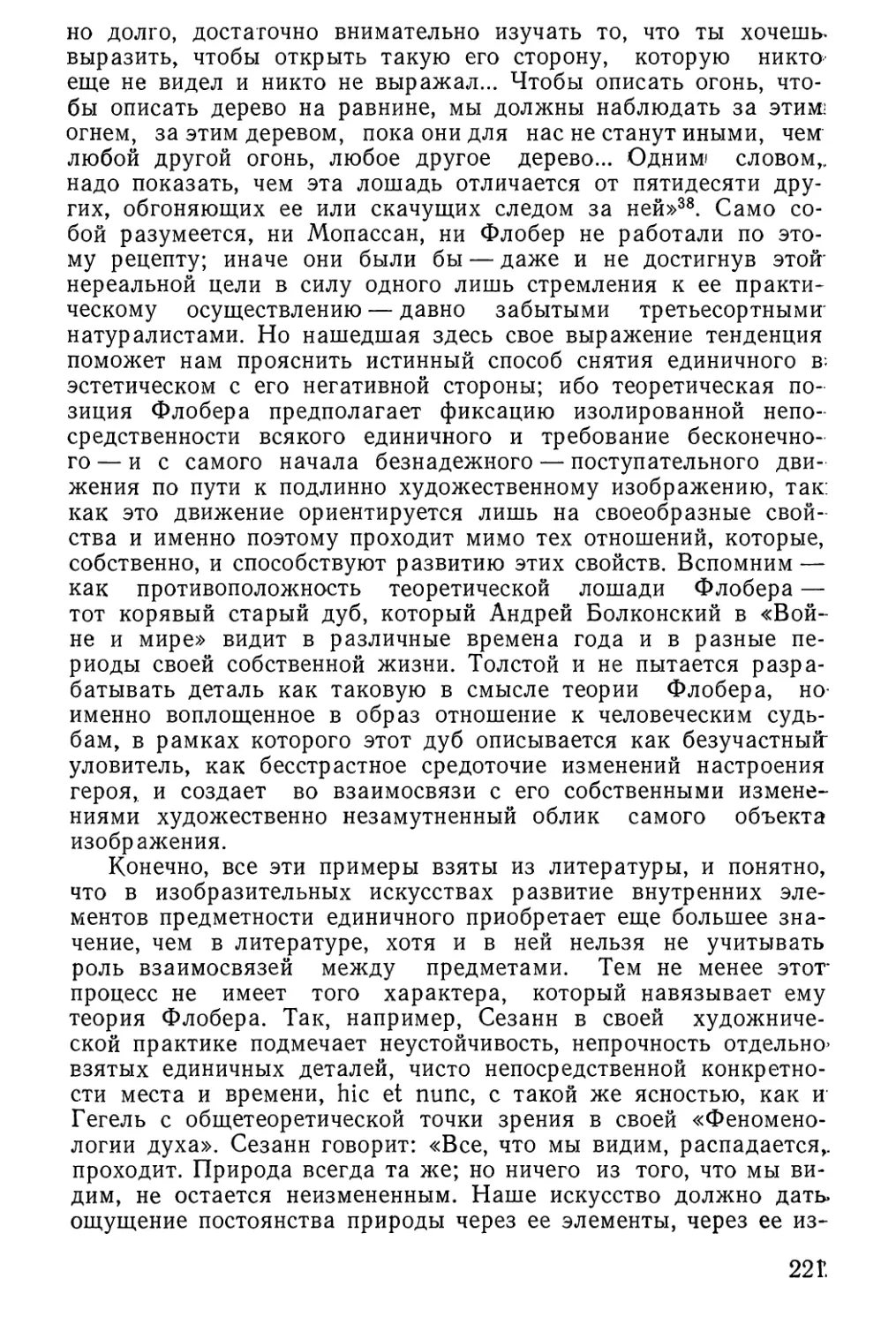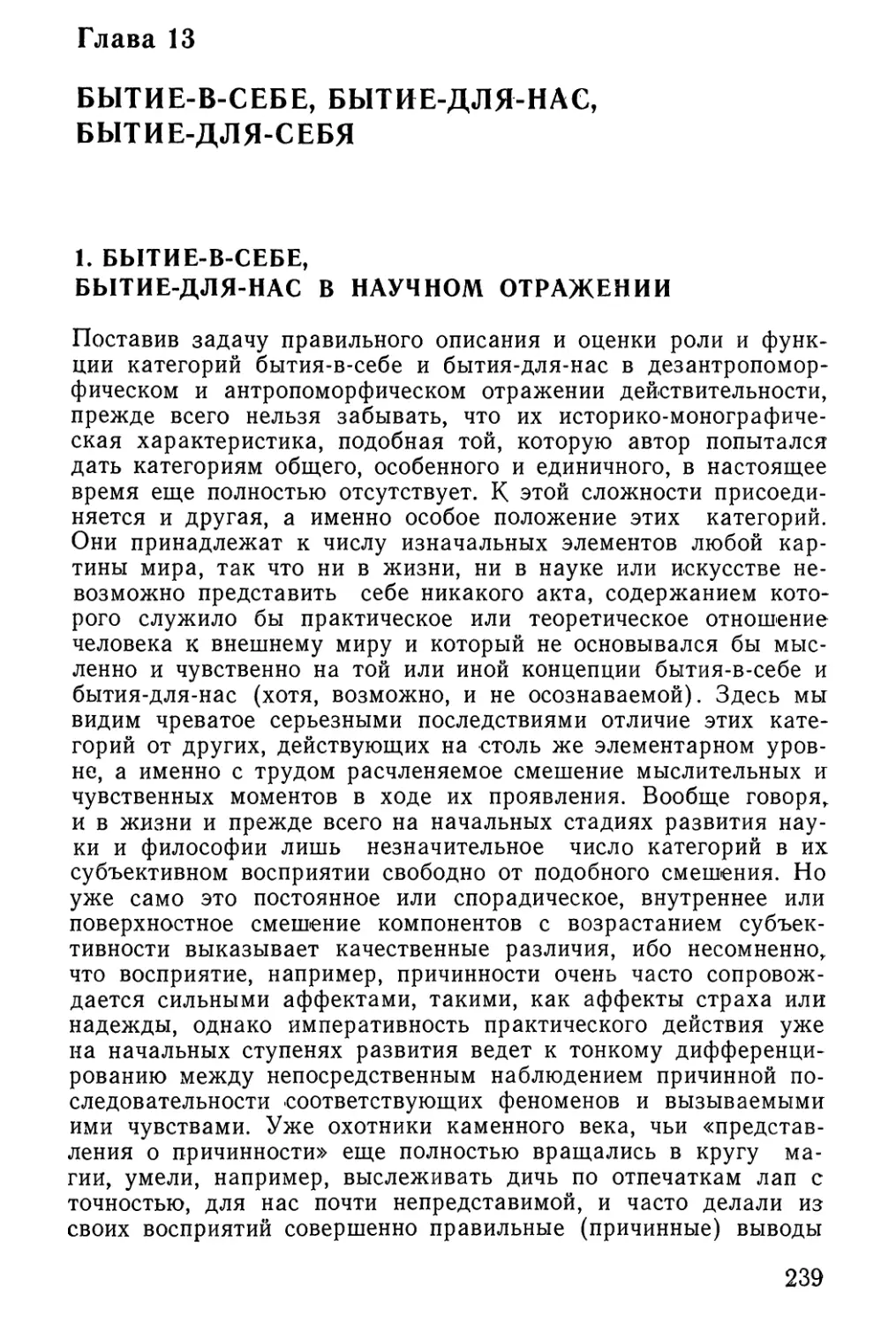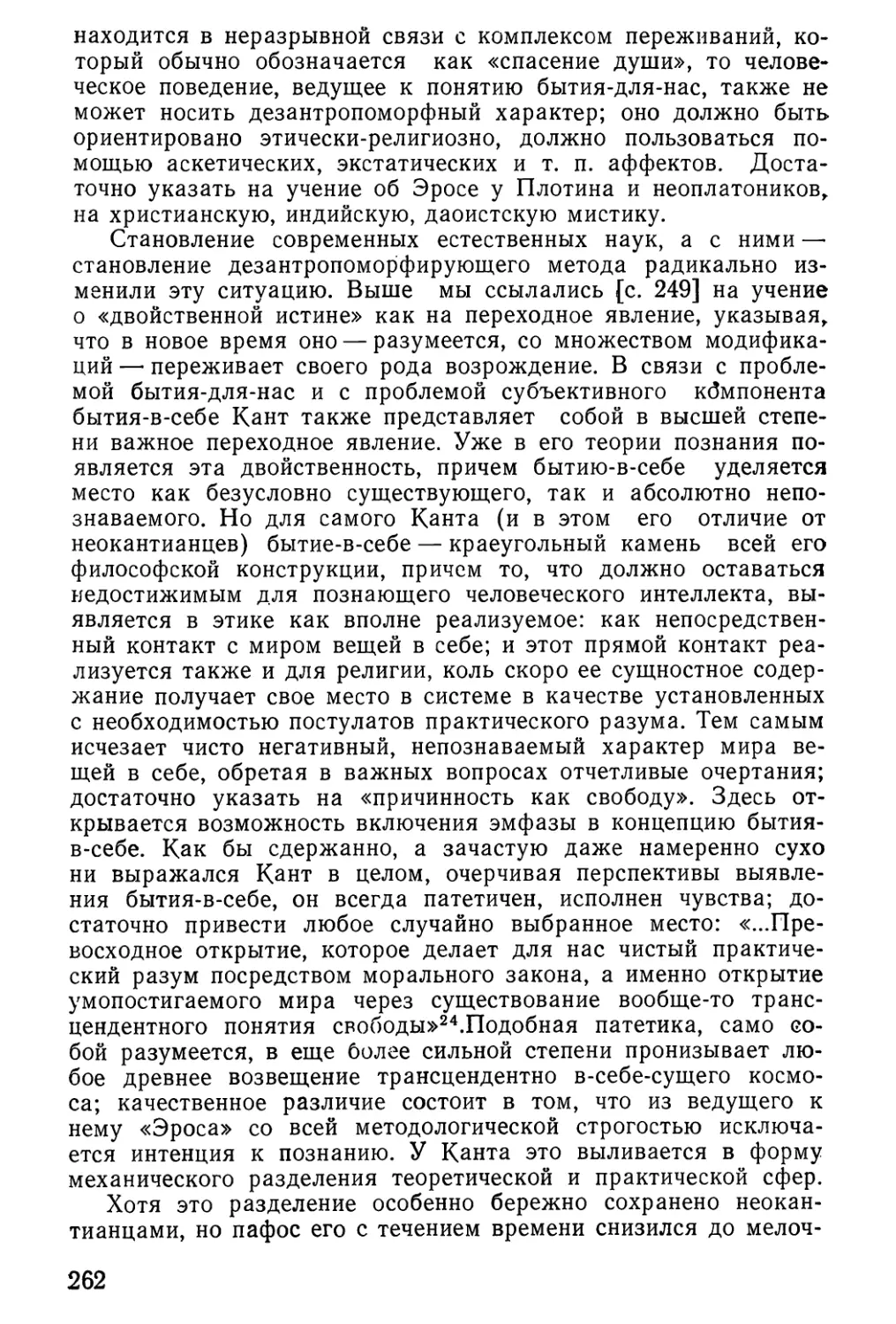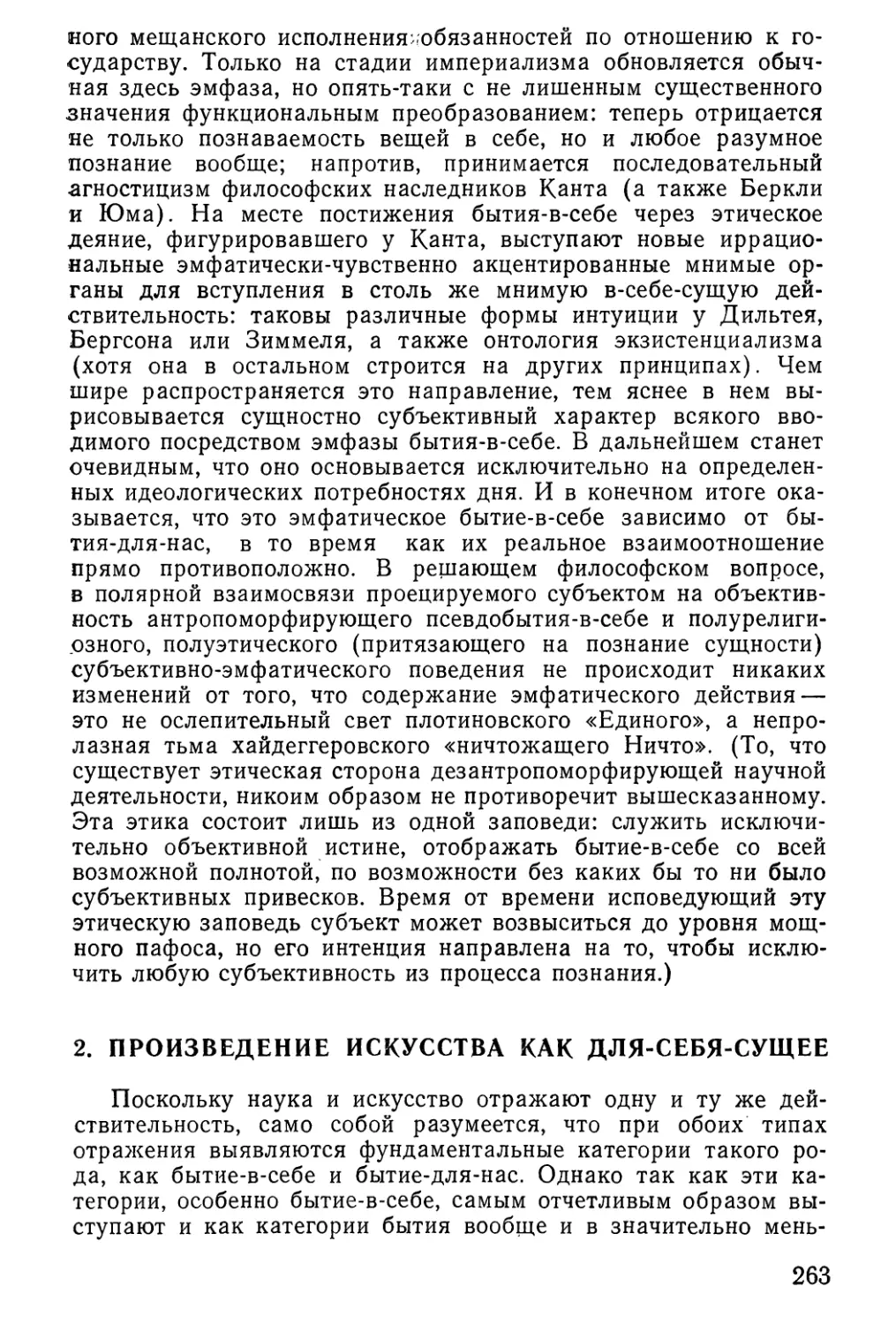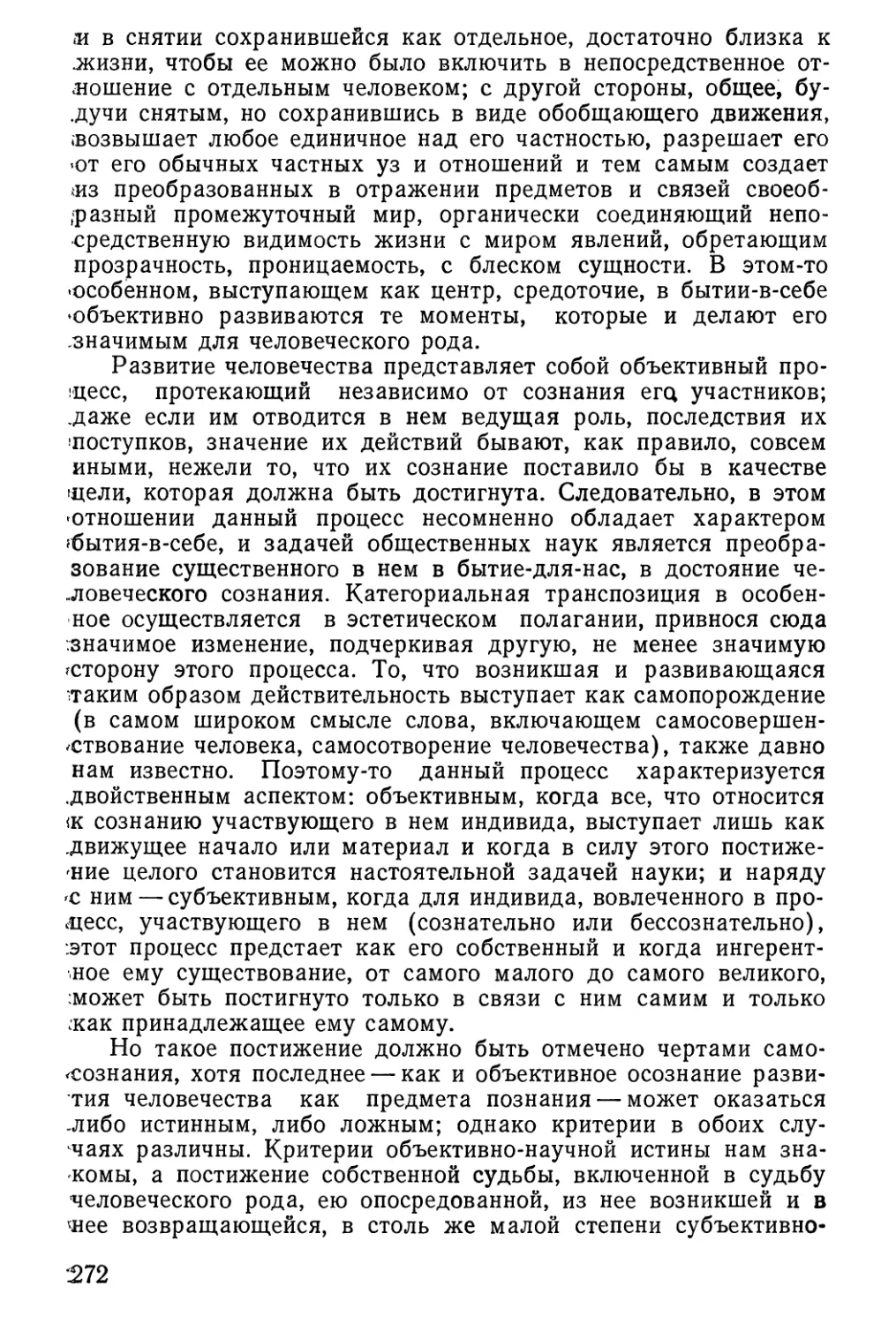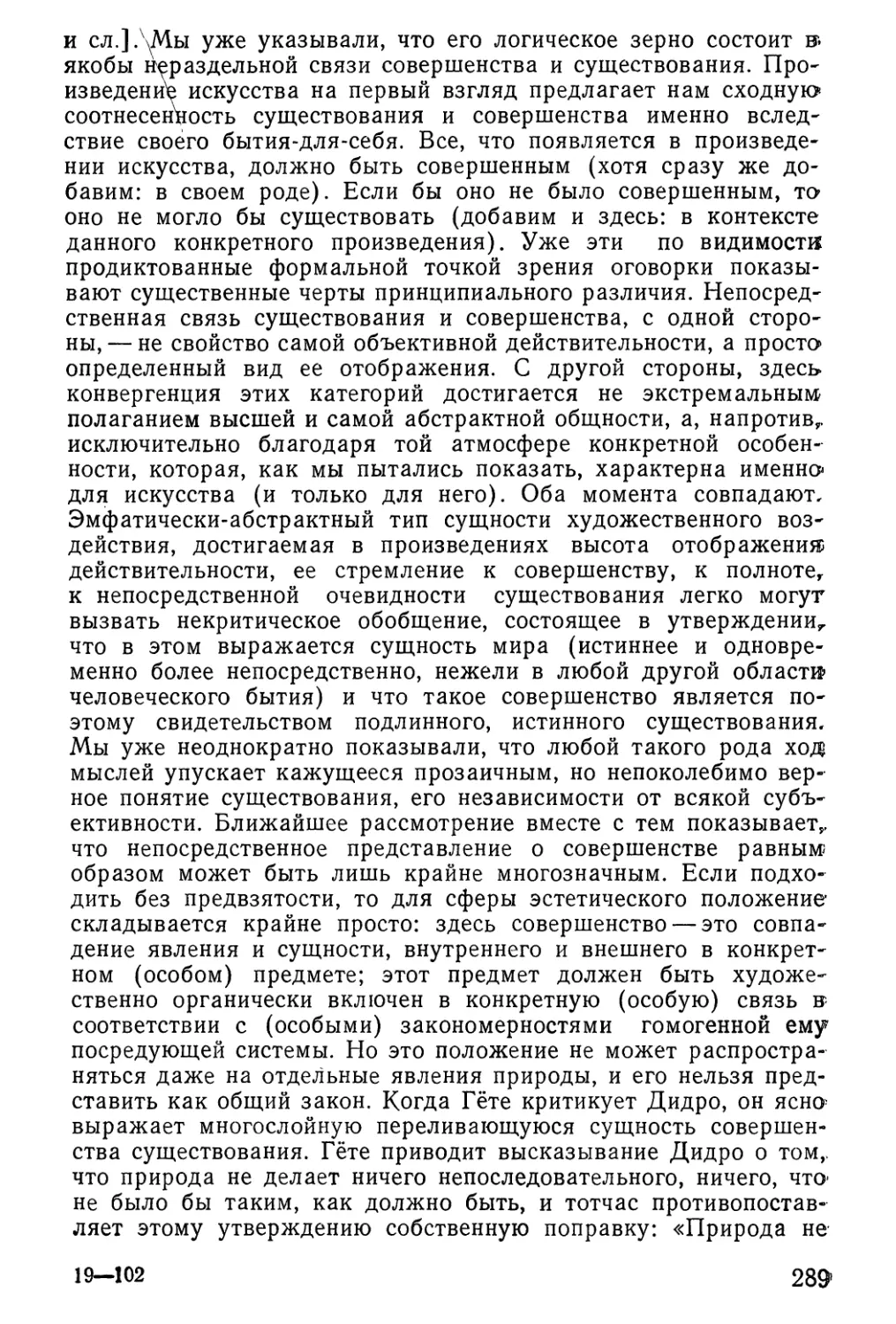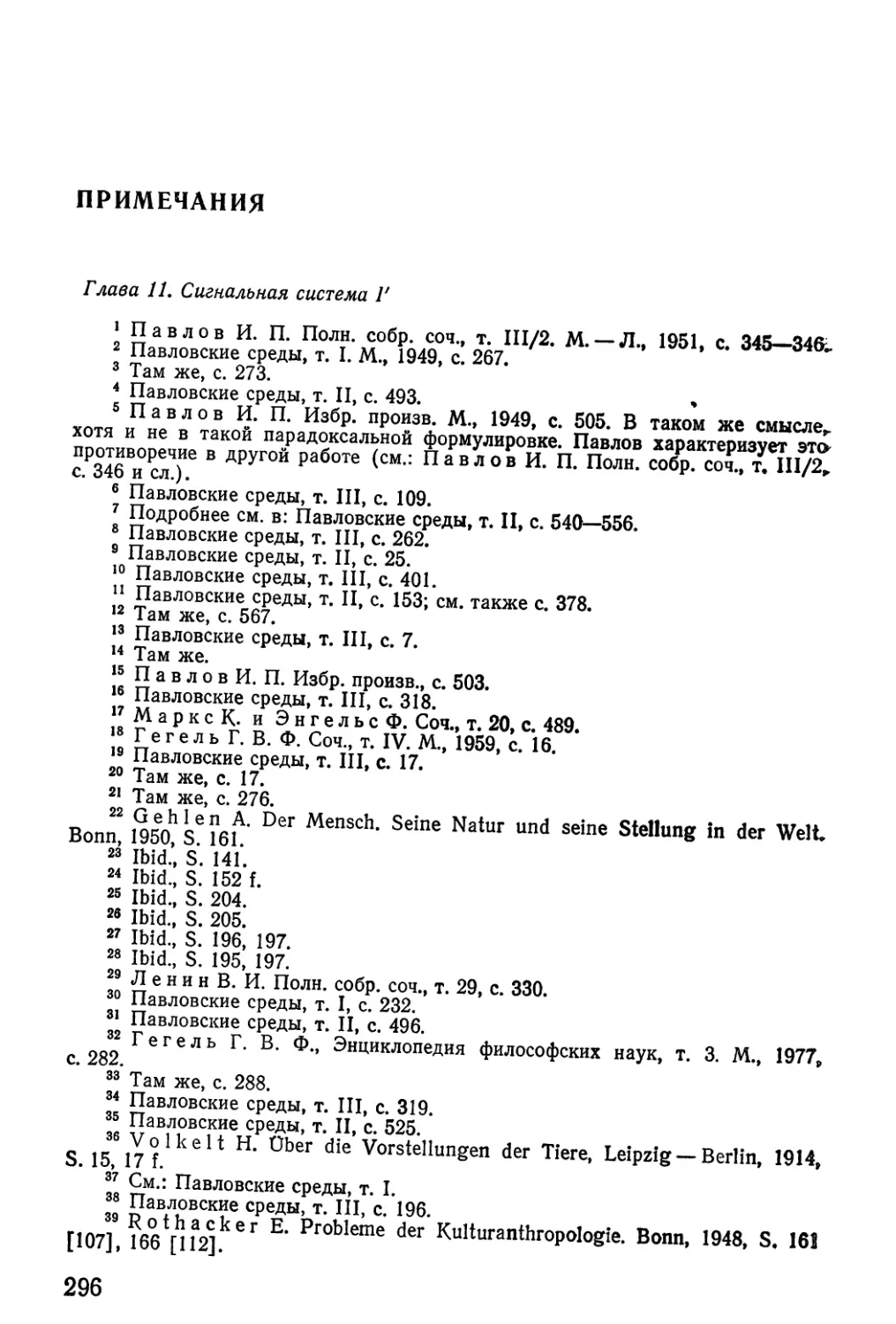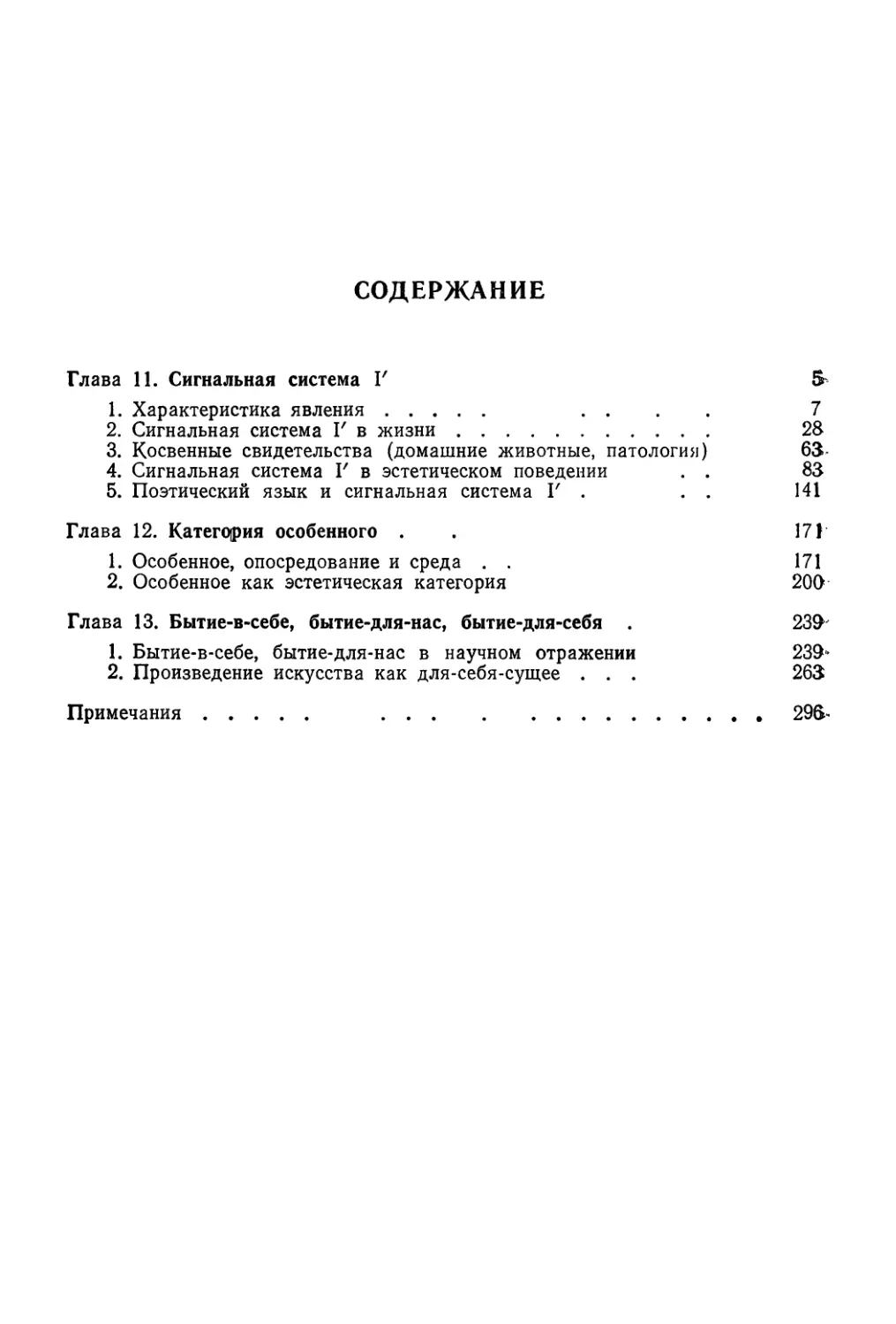Текст
СВОЕОБРАЗИЕ ЭСТЕТИ
t* i *ч
gH
G. Lukâcs
DIE EIGENART
DES ÄSTHETISCHEN
Berlin und Weimar
Aufbau-Verlag
1981
Для научных библиотек
Д. Лукач
СВОЕОБРАЗИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ТОМ 3
Перевод с немецкого
Общая редакция
доктора философских наук, профессора К. М. Долгова
Москва
«Прогресс»
1986
Переводчики: А. Ю. Айхенвальд и М. А. Журинская
Книга известного венгерского философа Д. Лукача представляет
собой систематическое изложение проблем марксистской эстетики, опыт
разработки ленинской теории отражения применительно к эстетике.
Третий том четырехтомного издания в русском переводе объеди-
няет 11—13-ю главы, где автор рассматривает в психологическом и
философском плане эстетические эмоции — промежуточное звен.о% в
становлении эстетического как отражения действительности.
Редакция литературы по философии и лингвистике
© Ferenc Jânossy, 1963
© Перевод на русский язык. «Прогресс», 1986
0302060000—528
Л006(01)— 86 19—86
Глава 11
СИГНАЛЬНАЯ ï. ЛСТЕМА Г
В предшествующих главах мы пытались не только провести
границу между эстетическим отражением действительности,
отражением в повседневной жизни и научным отражением, но
и вскрыть материальную базу существования и изменения это-
го отражения. В ходе общефилософского исследования генези-
са континуального характера искусства эту материальную ба-
зу следует рассматривать в рамках общественной структуры и
ее исторических изменений. При всей правильности такого
способа рассмотрения он оказывается недостаточным для пол-
ного раскрытия сущности эстетического даже в философском
плане. Хотя с общественно-исторической точки зрения эстетиче-
ское континуально в своем развитии, его сущность — как в
творчестве, так и в восприятии — каждый раз возрождается и
самостоятельно формируется в отдельно взятых индивидах.
Таким образом, недостаточно установить, какие принципы
определяют содержание и форму эстетического для данного
периода в его конкретном виде как единственно возможного
поля деятельности индивидов, следует также выявить, каким
образом специфически эстетическое начинает проявляться в от-
дельных индивидах, как оно в них противопоставляется фор-
мам отражения повседневной жизни и формам научного отра-
жения.
Излагая вкратце наиболее общие основы и принципы психо-
логии эстетического поведения, необходимо сделать следующие
предварительные замечания. Во-первых, психология должна
быть материалистической, если перед ней стоит цель дать
надежное и правильное объяснение явлений. Это означает в
первую очередь сведение психологических явлений к фактам
физиологии. Единственным значительным достижением в этой
области является рефлексология Павлова, к которой автор
присоединяется в решении всех фундаментальных вопросов.
Во-вторых, материалистическая психология не может ограничи-
ваться раскрытием законов физиологической детерминации.
Это требование со всей полнотой выявляется в работах Пав-
лова. Ведь материалистическое объяснение 'психологических
явлений, естественно, выдвигает на первый план глубокий и
5
детальный анализ их взаимоотношений с окружающей средой.
Мы видим, что Павлов уже в своих опытах над животными и
тем более в своих попытках применить учение об условных
рефлексах к патологии человека все полнее учитывает обрат-
ное воздействие внешнего мира на психофизиологию. Та об-
ласть, которая представляла бы для нас особый интерес, а
именно психофизиология нормального человека, полностью вы-
несена за рамки его исследования. К сожалению, до сих пор
еще не предпринималось серьезных попыток возделать откры-
тую им научную целину. Естественно, даже и полностью завер-
шенная психология такого типа не стала бы достаточным
основанием эстетики. Эта последняя была и остается философ-
ской дисциплиной. Однако, разумеется, многие проблемы эсте-
тики можно было бы осветить -при помощи научной рефлексо-
логии гораздо глубже, чем мы в состоянии это сделать сего-
дня. Ниже мы увидим, что все те психологические теории, ко-
торые возникли как реакция против традиционной психологии
(например, описательная психология Дильтея, гештальт-психо-
логия, теория Юнга, Фрейда и т.д.), выдвигают ничем не
обоснованные романтические мифы вместо прозаического от-
каза от этой традиционной психологии, причем всюду, где тра-
диционная психология оказывается просто неисторичной и не-
общественной по своему характеру, они сами предлагают лишь
пустые, неубедительные конструкции ad hoc.
Наконец, автор считает своим долгом пояснить в начале
этих рассуждений, что в области психологии он является пол-
ным дилетантом и не имеет никакого права высказывать свое
мнение по поводу ее собственных проблем. Вместе с тем в
настоящей главе предлагается выделять еще одну новую сиг-
нальную систему, занимающую промежуточное положение
между условными рефлексами (первой сигнальной системой)
и языком (второй сигнальной системой). По перечисленным
ниже причинам эта система будет обозначаться как «сигналь-
ная система Г». Тем самым, однако, перед областями науки,
связанными с рефлексологией, должен быть поставлен только
один вопрос, разработка которого — задача компетентных спе-
циалистов. Нам представляется уместным привести здесь из-
вестное высказывание Гегеля — шутку, весьма плодотворную
для развития науки: не надо быть сапожником, чтобы почув-
ствовать, где жмет сапог.
Отправным пунктом нашего исследования являются методы
Павлова. Иногда при формулировке какого-либо вопроса при-
ходится отмечать отдельные проблемы в результатах Павлова;
в таких случаях автор отдает себе отчет в том, что всякие
замечания, дополнения и пожелания могут возникать только
на основе составившей эпоху в развитии науки павловской
теории рефлексов, и разработанной им методики исследова-
ния. Сохранились отдельные замечания Павлова, из которых
6
следует, что он сам считал, что его теории нуждаются в допол-
нениях, и прежде всего при их применении к человеку. Но по-
скольку эти замечания относятся к эмоциональным основам
реакции на внешний мир, а не к предложенному нами направ-
лению исследований, мы ограничимся простой констатацией
этого факта. Завершая эти вводные замечания, следует под-
черкнуть, что в ходе дальнейших рассуждений мы будем опи-
раться на так называемые «павловские среды», коллоквиумы,
проводимые великим ученым. Все, на что мы будем ссылаться,
естественно, содержится в самих работах, причем в более пол-
ном и аргументированном виде. Но поскольку здесь речь идет
не о самих физиологических теориях, а об их применении в
новой области, по нашему мнению, именно коллоквиумы дают
наиболее ценный материал. Здесь Павлов гораздо энергичнее
занимается углублением и применением своего учения, его
связью с общими вопросами методологического и мировоззрен-
ческого характера, чем в самих своих работах, где он сосре-
доточивает внимание исключительно на проблемах физиологии.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЯВЛЕНИЯ
Павлов неоднократно высказывался; ясно и определенно об от-
ношении психофизиологии к интересующему нас вопросу, то
есть к искусству и артистизму. На" основе огромного материа-
ла, подтвержденного и проверенного опытным путем, он пока-
зал значение типологии Гиппократа для высших организмов,
высокоразвитых животных и человека. На основании этого он
попытался разработать учение о специфических человеческих
типах; в своем очерке он предположительно выделяет два экс-
тремальных типа — мыслительный и художественный, а рядом,
или, лучше сказать, между ними, помещает промежуточный
тип. Он пишет: «Животные до появления семейства homo sa-
piens сносились с окружающим миром только через непосред-
ственные впечатления от разнообразных агентов его, действо-
вавшие на разные рецепторные приборы животных и проводи-
мые в соответствующие клетки центральной нервной системы.
Эти впечатления были единственными сигналами внешних
объектов. У будущего человека появились, развились и чрез-
вычайно усовершенствовались сигналы второй степени, сигналы
этих первичных сигналов — в виде слов, произносимых, слыши-
мых и видимых. Эти новые сигналы в конце концов стали обо-
значать все, что люди непосредственно воспринимали как из
внешнего, так и своего внутреннего мира и употреблялись
ими не только при взаимном общении, но и наедине с самим
собой. Такое преобладание новых сигналов определила, конеч-
но, огромная важность слова, хотя слова были и остались толь-
ко вторыми сигналами действительности. А мы знаем, однако,
7
что есть масса людей, которые, оперируя только словами, хо-
тели бы, не сносясь с действительностью, из них все вывести
и все познать и на этом основании направлять свою и общую
жизнь. Но, не входя дальше в эту важную и обширнейшую
тему, нужно констатировать, что благодаря двум сигнальным
системам и в силу давних хронически действовавших разнооб-
разных образов жизни людская масса разделилась на худо-
жественный, мыслительный и средний типы. Последний соеди-
няет работу обеих систем в должной мере. Это разделение дает
себя знать как на отдельных людях, так и на целых нациях»1.
Это противопоставление и разграничение Павлов иллюстри-
рует конкретными примерами, из которых ясно видно, что по-
добная специфически человеческая психология оказывается да-
леко не так хорошо фундированной, как вышеупомянутая об-
щая психология. Я приведу только некоторые» примеры. Так,
в одном месте он характеризует Толстого как представителя
специфического художественного типа: «Например, Л. Н. Тол-
стой— величайший художник, но слабый мыслитель. Он отри-
цал все области человеческого знания, которых касался своим
анализом. Репин рассказывал о нем следующий эпизод: однаж-
ды они купались вместе в пруду, после чего Репин начал вы-
тираться полотенцем. Увидя это, Толстой закричал из воды:
«Что Вы делаете, ведь животные никогда не вытираются после
купания». Даже Репин, будучи тоже художником, удивился не-
лепости такого рассуждения, приняв в соображение, что живот-
ные после воды отряхиваются, на что мы в той же мере неспо-
собны»2.
Неубедительность этого примера прежде всего в его психо-
логической недостоверности. Историк культуры или философ
мог бы с тем же правом утверждать, что Толстой враждебно
относился к науке. Если же мы рассмотрим приведенное вы-
сказывание Толстого с психологической точки зрения, мы долж-
ны будем признать, что оно относится к области мышления,
теории; оно может быть несостоятельным с научной точки зре-
ния, а психологически (а именно с точки зрения системы реф-
лексов) оно ничем не отличается от теоретических положений
науки. Когда два человека решают математическую задачу и
один из них находит правильное решение, а другому это не
удается, оценить это может только математик, с психологиче-
ской точки зрения они оба равным образом производили мате-
матические мыслительные операции, у обоих работала вторая
сигнальная система. Точно так же Павлову не удается его про-
тивопоставление художника Толстого мыслителю Гегелю. «Ге-
гель,— говорил он, — не любил действительности и был сча-
стлив, лишь предаваясь своим отвлеченным размышлениям,
думая о едином абсолюте и т. д. Он со своею оторванностью
второй сигнальной системы от конкретных образов был счаст-
лив...»3
8
Когда такой до педантизма добросовестный исследователь,
как Павлов, совершает подобные промахи и не замечает энцик-
лопедического интереса Гегеля ко всем формам проявления
действительности, то, естественно, возникает подозрение, что
эта типология недостаточно продумана, не подтверждается
полностью фактами. В другом месте он справедливо критикует
традиционную психологию за субъективизм, но при этом добав-
ляет: «Художники слова делают то же самое. Они занимаются
субъективным миром, мыслями, чувствами, настроениями. Это-
го мало. Надо не описывать явления, а вскрывать законы их
развития. Из одних описаний никакой науки не выходит»4.
Здесь Павлов не только игнорирует прекрасные изображе-
ния действительности, представленные в литературе, которые
ни в коей мере не ограничиваются описанием субъективных
отношений, но и высказывает представление о сущности лите-
ратуры, сходное с господствующим, как мы уже видели это в
иной связи, во многих идеалистических философских системах,
тогда как сам Павлов считает все это лишь несовершенным
подготовительным этапом к научному восприятию мира.
Более того, Павлов решительно и безоговорочно, как это
нередко делают крупные ученые, стремясь восполнить пробе-
лы, имеющиеся в их теории, ставит тип художника на один
уровень с животными, считая, что этот тип опирается не на
вторую, а на первую сигнальную систему. Он говорит: «А это
именно: тип художественный, следовательно аналогичный, при-
ближающийся к животному, которое тоже воспринимает весь
внешний мир в виде впечатлений только непосредственными
рецепторами, и другой тип — умственный, который работает
второй сигнальной системой»5. Естественно, Павлов настроен
слишком критически и слишком осторожен в том, что касается
открытия какого бы то ни было «искусства» при конкретных
исследованиях животных, что отличает его в этом вопросе от
Дарвина и его последователей. В подобных случаях он не от-
ступает от строгих, точно зафиксированных и описанных фак-
тов, и этой плодотворной, всеобъемлющей и гибкой строго-
сти он обязан богатыми результатами своих собственных ис-
следований. Открытие второй сигнальной системы, то есть
языка как рефлекторной системы в специфически человеческом
отношении к действительности, в определенной степени являет-
ся только границей этой основанной им области, источником,
из которого он черпал важные сведения, касающиеся патологии
человека. Конструктивный смысл его открытия второй сигналь-
ной системы объективно выходит за рамки этих чрезвычайно
важных областей: оно дает ключ к материалистически-психоло-
гическому анализу целостного нормального человека. Павлов
это понимал или по меньшей мере ясно чувствовал — отсюда
его определения художественного и мыслительного типа. Од-
нако он не разрабатывал на этой основе систематически дове-
9
денной до конца теории, и ему пришлось удовлетвориться этим
важным положением при анализе сложных проблем и .принятии
решений. Наши критические замечания, суть которых сводится
к тому, что невозможно основывать художественный тип и пси-
хологию художественного творчества и наслаждения на одних
только условных рефлексах, совсем не затрагивают методов и
результатов капитальных трудов Павлова. Наше понимание
художественного типа не затрагивает также и применения пав-
ловского учения о рефлексах к психопатологии человека, опре-
делению психастении и истерии как болезней, «которые связа-
ны с особенным частным человеческим типом»6 нервной систе-
мы, так как нарушения взаимодействия первой и второй сиг-
нальной систем могут получить решающе патологический ха-
рактер даже в том случае, когда противоположность этих двух
систем не признается достаточной для определения художе-
ственного типа. (Ниже [с. 70 и ел.] мы покажем на материале
некоторых конкретных патологических случаев, что предлагае-
мое нами определение этого типа, по-видимому, может иметь
значение и для области патологии.) Именно такого рода опре-
деление является поэтому единственной целью нашего после-
дующего изложения, которое никак не затрагивает результатов
рефлексологии Павлова, хотя и основывается на этих резуль-
татах как методологически, так и по существу. Таким образом,
мы здесь очерчиваем новую область научного исследования,
строящуюся на базе психофизиологии Павлова, указываем на
взаимосвязь целой группы явлений и предлагаем для их разъ-
яснения гипотезу, точнее сказать, даем описание задач и про-
блем.
Исследуемая нами группа явлений на основании наших
предшествующих философско-эстетических рассмотрений может
быть предварительно и не совсем точно определена при помо-
щи термина «эвокация». Поскольку в основе этого феномена
и в жизни и в искусстве лежит — спонтанно или осознанно,
субъективно или объективно — упорядоченный комплекс как воз-
будитель рефлексов, необходимо остановиться на такой стороне
павловского учения и практики, как критика гештальтпеихоло-
гии. Причем и в этом случае мы будем обсуждать не сами по
себе конкретные пункты их расхождений, но существо их ме-
тодологических различий. Павлов совершенно справедливо вы-
деляет основную тенденцию, характерную для этой школы:
рассматривать так называемые гештальты как имманентную,
изначальную данность и поэтому метафизически жестко про-
тивопоставлять их «целостность» «элементам», гештальт —
ассоциациям и с позиции одних отрицать психологическое су-
ществование и значимость других7. Со своей стороны мы мо-
жем дополнить критические замечания указанием на то, что
эта концепция в настоящее время получила широкое распро-
странение. Однако гештальтпсихология в своих некритически
10
воспринятых мировоззренческих и методологических предпо-
сылках неоригинальна. Она выражает общую тенденцию, ха-
рактерную для современной философии иррационализма, ис-
пользующей категорию целостности не только в тех случаях,
где она действительно играет важную роль, но и злоупотреб-
ляющей ею с целью элиминировать путем софистических рас-
суждений реально существующую причинность из нашего мыш-
ления о мире. Такой точки зрения относительно философии и
общественных наук придерживался уже Отмар Шпанн; ничего
иного не предлагают и те теоретики статистического метода,
которые противопоставляют статистическую вероятность при-
чинности. Позиция Павлова в этом вопросе вполне последова-
тельна: его неприятие гештальтпсихологии с методологической
точки зрения обусловлено тем, что «имманентность» гештальтов
оказывается полностью необоснованной; он был твердо убеж-
ден в первичности рефлекса (ассоциации), однако при этом он
никогда не упрощал проблем, возникающих в силу сложного
характера возбудителей рефлексов, считая их особыми явле-
ниями, сущность которых должна быть выяснена эксперимен-
тальным путем.
Стремясь правильно понять теорию рефлексов Павлова,
одновременно дающую и физиологическое объяснение ассо-
циативной психологии, нельзя приписывать ему вульгарно-ме-
ханистическое «атомарное» представление об условных рефлек-
сах. Прежде всего условный рефлекс по Павлову — это видовое
понятие для обозначения ассоциаций. «В случае условного реф-
лекса у вас существенные черты, постоянные черты известного
предмета (пищи, врага и т. д.) заменяются временными сигна-
лами. Это есть частный случай применения ассоциации... А вот
еще другой случай, когда связываются явления, которые и в
действительности постоянно связаны». Это и есть обоснование
причинности. Наконец, возможно, например, что «психологиче-
ски связываются два звука, между собой ничего общего не
имеющих, связываются только тем, что один повторяется за
другим, и они, наконец, связываются, один вызывает другой»8.
Но и этой четкой классификации оказывается недостаточно
для того, чтобы правильно понять сущность и функции услов-
ных рефлексов по Павлову. Они должны быть обоснованы в
своей конкретной взаимосвязи с действительностью, с объек-
тивно существующей средой обитания животного и человека.
Павлов говорит, «что всякий раздражитель непременно связан
со всей обстановкой и о нем нужно судить не как об одном, а
в общей констелляции»9. Чтобы точно определить такие взаи-
мосвязи, их возникновение, закрепление, смену, различные ти-
пы реакции на них и т. д., Павлов провел определенную группу
экспериментов, которые он в большинстве случаев обозначает
как опыты со стереотипом, то есть раздражители «находятся во
взаимно-индукционных отношениях и появляются в определен-
11
ном порядке», и «в конце концов дело сводится к концентрации
то раздражительного, то тормозного процесса».
Он справедливо указывает на то, что и в жизни — с соот-
ветствующими изменениями, mutatis mutandis — возникают и
воспроизводятся подобные стереотипы; при этом он упоминает
о чиновнике, всегда ведущем строго упорядоченную жизнь и
по выходе на пенсию не перенесшем перемены образа жизни10.
Все сказанное позволяет нам понять, как из простых условных
рефлексов — которые гораздо менее просты, чем это представ-
ляется высокомерным сторонникам иррационалистического
идеализма, — могут органически возникать единства, образы
и т. д. и как это происходит в действительности. Однако и са-
ми условные рефлексы могут возникать благодаря связанным
между собой раздражителям. Различные опыты Павлова осно-
вываются на использовании определенного ритма, например
определенного числа ударов метронома. Те же самые эффекты
могут достигаться и при замене метронома соответствующим
световым колебанием: в таком случае вместо ритмичных уда-
ров возникает «зрительный ритм». «Следовательно, — пишет
Павлов, — действительно как бы проявилась форма отноше-
ний между раздражителями, причем характер самого раздражи-
теля совсем не шел в расчет. Это в обрез пример, с которым
носятся гештальтисты, когда они говорят, что один и тот же
мотив может быть исполнен на разных регистрах тоновой шка-
лы, но производит он то же самое действие»11. Наконец, сле-
дует отметить, что именно Павлов называет генерализацией в
случае условных рефлексов. Это явление он характеризует так:
«Если вы образовали на какой-нибудь тон временную связь с
пищей, а затем пробуете другие тоны, не подкрепляя их пищей,
то сначала у собаки происходит временная иррадиация, .про-
исходит раздражение и ближайших пунктов. Это мы называем
генерализацией. Когда связь с этими другими тонами не оправ-
дывается действительностью, тогда присоединяется процесс
торможения. Таким образом, реальная связь ваша становится
все точнее и точнее»12. Отсюда Павлов делает правильный вы-
вод о том, что мы имеем здесь дело с группировкой многочис-
ленных конкретных предметов под рубрикой одного общего
представления. Для этого явления он предлагает очень ясное
и четкое описание: «Возьмите вы какой-нибудь определенный
звук, положим служащий животному сигналом, 'положим вра-
га, которого он избегает. Ясно, что тут непременно должен
быть групповой раздражитель, потому что звуки, которыми
животное руководствуется, могут меняться в силе от расстоя-
ния, от напряжений голосовых связок этого животного, могут
повышаться и понижаться в зависимости от того, как произво-
дится этот звук. Это есть жизненная потребность, необходимая
и для животных, что раздражитель должен быть обобщенный,
быть аналогом понятия»13. Тот факт, что по меньшей мере
12
высокоразвитые животные обладают не только восприятием,
ощущениями, но и представлениями, выступает здесь с полной
очевидностью.
К сожалению, здесь Павлов идет дальше, чем того требуют
наблюдаемые им факты, и определяет описанные представле-
ния как «аналог понятия». Если бы он удовлетворился анало-
гией, мы бы имели в данном случае дело с редкой — для Пав-
лова— неточностью; но он переоценивает сходство в этом от-
ношении и оказывается близок к отождествлению человека и
животного, которых он сам же ясно противопоставил, введя
вторую сигнальную систему. Тем самым он нивелирует им же
самим справедливо установленное и весьма значимое различие.
Перед тем как перейти к изложению этих соображений, он
говорит: «Между прочим, я думал о понятиях, т. е. группиро-
вании многих конкретных предметов в одно общее представле-
ние,— приобретены ли они нами благодаря нашей словесности,
нашим словам, отличающим нас от животных, или они изме-
няются и в конкретном мире у животных. Судя по всему, они
есть и у животных. Факт, который мне это доказал, — генера-
лизация условных раздражителей»14. В связи с рядом опытов
над обезьянами он подчеркивает еще решительнее: «Это уже
есть начало научного знания, потому что речь идет о более
постоянных связях. Они могут быть вначале довольно случай-
ными, но и вся наука состоит в том, что она сначала поверх-
ностна, потом становится все глубже и глубже, очищаясь от
случайного»15. Если бы такие преувеличения допускались
Павловым только на словах, можно было бы отнести их на
счет радости первооткрывателя примитивных психофизиологи-
ческих отправных точек для анализа понятийного, научного
мышления. Подробно останавливаться на них было бы мелкой
придиркой к этой грандиозной работе. Однако возникающие
при этом проблемы так неразрывно связаны со всем комплек-
сом психологических проблем, что критика становится просто
неизбежной. Во всяком случае, эта критика в большей мере
относится к определенному применению павловской рефлексо-
логии, чем к ней самой, в той форме, в какой ее разрабатыва-
ли Павлов и его коллеги. Поскольку именно в сфере ее при-
менения сделано пока еще слишком мало, здесь необходима
ясность в методологическом плане.
Коротко говоря, наше замечание или, точнее, дополнение
можно сформулировать так: Павлов правильно постулирует
неразрывную взаимосвязь между второй сигнальной системой
и мышлением в собственном, понятийном смысле как основу
для всякого научного мышления. Однако он не упоминает о
том, что вторая сигнальная система, язык, связана с трудом.
Правда, Павлов нигде не останавливается на проблемах исто-
рико-генетического характера. Он ограничивается утвержде-
нием факта взаимосвязи между возникновением человека и воз-
13
никновением языка: «Затем, когда наконец появился человек,
го эти первые сигналы действительности, которыми мы по-
стоянно ориентируемся, заменились в значительной степени
словесными»16. Отсутствие генетической связи между трудом и
языком создает, однако, учитывая всю важность этого обстоя-
тельства, некоторую расплывчатость в определении второй
сигнальной системы как специфически человеческого способа
самовыражения и понимания. Последствия этого мы могли
наблюдать уже в приведенных выше положениях Павлова.
Ф. Энгельс в своей работе «Роль труда в процессе превраще-
ния обезьяны в человека» говорит: «Начинавшееся вместе с
развитием руки, вместе с трудом господство над природой
расширяло с каждым новым шагом вперед кругозор человека.
В предметах 'природы он постоянно открывал »новые, до того
неизвестные свойства. С другой стороны, развитие труда по
необходимости способствовало более тесному сплочению чле-
нов общества, так как благодаря ему стали более часты слу-
чаи взаимной поддержки, совместной деятельности, и стало
ясней сознание пользы этой совместной деятельности для каж-
дого отдельного члена. Коротко говоря, формировавшиеся
люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то
сказать друг другу»17.
Нетрудно показать качественное различие между тем, что
Павлов в приведенной выше цитате называет «аналогом поня-
тия», и понятием в языке и выявить источник этого расхожде-
ния в свете их генезиса. В первом случае Павлов говорит, как
мы помним, о групповых раздражителях, которые, например,,
сигнализируют о появлении врага. Без сомнения, в том, что
вызывает эти раздражители, имеются какие-то явные свойства
врага, о приближении которого сигнализируется. Это должны
быть какие-то его признаки, известные субъекту. Гегель совер-
шенно справедливо говорит: «Известное вообще — от того, что
оно известно, — еще не познано»18. Человек в своей повседнев-
ной жизни сталкивается с бесконечно большим числом пред-
метов и данностей, причем при каждом новом их появлении он
в состоянии их распознать и отдает себе отчет в непосредствен-
ных следствиях контактов с ними. Только через труд и посред-
ством труда ранее всего ..лишь известное нам опознаваемое ста-
новится познанным, причем выявляются и поднимаются до>
уровня сознания его непосредственно не проявляющиеся и не
действующие свойства, внутренняя связь его взаимодействий,,
которая и создает конкретную предметность такого объекта..
Выше, в другой связи, мы неоднократно говорили о том, что-
субъектно-объектное отношение в собственном смысле слова
возникает только благодаря труду. Групповой раздражитель,,
составляющий единое целое как объект в себе, но не для нас,,
поднимается до уровня понятия только посредством труда,,
получая свое языковое выражение, причем без такого осознания
14
он не может выйти за рамки поверхностного ознакомления, а
осознание это возникает только через посредство труда. Таким
образом, никак иначе он не может развернуться до уровня дей-
ствительного распознавания и в субъективном и в объективном
смысле. И то, и другое связано с действительным полаганием
бытия-в-себе и бытия-для-нас. Ибо, когда объект переживает-
ся только через такую соотнесенность с субъектом (групповой
раздражитель), а не как существующий независимо от субъек-
та, опознаваемый сам по себе объект, тогда не только объект
группового раздражения подвергается субъективистскому ис-
кажению сравнительно со своим подлинным существованием-в-
себе, но и субъект, воспринимающий эти раздражители, не
может стать поистине действительным: он остается лишь при-
датком к своему «окружению». Поэтому труд есть основа субъ-
ектно-объектных отношений в их конкретно развернутом фило-
софском смысле. На более низких ступенях эти категории мо-
гут использоваться лишь в несобственном, переносном смысле.
Итак, поскольку Павлову неизвестна эта связь языка, вто-
рой сигнальной системы, и труда, он может представить себе
правильно их соотношение с условными рефлексами лишь там>
где оно не играет решающей роли. Если не принимается во
внимание роль труда, в некоторых случаях может не учиты-
ваться и искусственность условий проведения опытов над жи-
вотными, что соответственно приводит к неприемлемым или по
меньшей мере проблематичным выводам. Например, Павлов,
описывая эксперимент с обезьянами, когда подопытное живот-
ное по кличке Рафаэль научилось тушить огонь, отделяющий
его от желанной пищи, сперва открывая кран, а потом при
помощи бутылки с водой, добавляет: «Так мы ему (Рафаэлю)
оособили. Повернул он кран вовсе не с тем, чтобы вода потек-
ла. Однако он связал действие воды с тушением пламени»19.
Делая выводы из этого опыта, Павлов пренебрегает отмечен-
ным им же самим качественным различием между человеком
и животным. Человек именно благодаря своему собственному
труду, своему трудовому опыту устанавливает связь воды и
огня и постепенно переходит к формированию понятий. А жи-
вотному необходимо «помогать», то есть ему даются готовые
результаты длительного трудового опыта, которые он в состоя-
нии переработать в условные рефлексы при особенно благо-
приятных обстоятельствах. К числу этих благоприятных (и по-
тому не являющихся естественными для животного) обстоя-
тельств относится и то, что .подопытное животное не подвер-
гается опасностям и не должно заботиться о своем пропитании.
В этом состоянии искусственно созданной безопасности обезья-
на получает неограниченный досуг, о чем на свободе и речи
быть не может. Павлов приходит к следующему выводу: «Это
зачатки конкретного мышления, которым мы орудуем. Чем от-
личается опыт «Рафаэля» от наших опытов, когда мы пробуем
15
то, другое, третье и наконец натыкаемся на должную связь?
Какая тут разница? Я не вижу никакой»20. С этим можно бы-
ло бы согласиться, если бы в развитии человека миф о Про-
метее был реально засвидетельствованным историческим фак-
том, если бы в открытии огня Прометей сыграл ту же роль,
что и Павлов в этом опыте. Конечно, Павлов слишком само-
критичный и трезвый исследователь, чтобы не отдавать себе
отчет в искусственности среды экспериментов. Он так описы-
вает, например, приступ судорог у рдного из подопытных жи-
вотных: «Очень возможно, что припадки обусловливаются
именно нашими опытами. Странно, но что-то неизвестно, что-
бы у охотничьих или домашних собак случались частые судо-
рожные припадки, а у наших собак это весьма часто получает-
ся. Кто его знает, может быть, это есть результат трудного
состояния нервной системы, в которое мы приводим собак: мы
усложняем нервную деятельность, и она срывается»21. Но это
критическое отношение исчезает, как только Павлов обращает-
ся к более широкой сфере применения своего учения, то есть
к проблеме неразрывной связи труда и языка. Критика ошибоч-
ных представлений Павлова по этому вопросу важна нам
лишь постольку, поскольку она 'позволяет определенным обра-
зом осветить проблему, которую никак нельзя анализировать,
не учитывая труд.
Эта проблема встает уже при анализе феномена труда.
Выше мы говорили о необходимости разделения труда между
различными органами чувств и указывали на тот факт, кото-
рый был установлен Геленом: что в ходе развития труда глаз
все сильнее и все более и более дифференцированно перени-
мает функции осязания [см. т. 1, с. 66]. Осязание «разгружает-
ся» за счет зрительного восприятия тяжести, остроты и т. д.;
руки, освобождаясь от лишних нагрузок, получают возмож-
ность выполнять более точные и тонкие операции, чем они
были бы в силах выполнять, если бы не были освобождены от
изначальных видов деятельности. Эта способность, возникаю-
щая благодаря труду, по-видимому, отсутствует у высокораз-
витых животных. Гелен подчеркивает, что шимпанзе, которые
в первую очередь являются «зрячими животными», не в состоя-
нии зрительно различать предметы так, как это делают лю-
ди, — «по весу, тяжести, прочности», рни пытаются «пользовать-
ся всем, что им кажется движущимся и протяженным, — плат-
ками, проволокой, ветками, одеялами и т. д., несмотря на их
функциональную непригодность»22. В своем анализе специфи-
ческих черт человеческого труда Гелен, как это было показано
выше [см. т. 2, с. 23], выходит далеко за рамки этога
утверждения, описывая функции «моторного воображения».
Для нас важно, что в данном случае подчеркивается преиму-
щество целенаправленных видов движений в труде, спорте
и т. д.; в чем состоит этот преимущественный характер, будет
16
ясно из наших последующих рассуждений. Гелен рассматри-
вает «моторное воображение» как «образное» и видит в нем:
«способность производить осмысленные, символичные движе-
ния, что позволяет нам переводить движения друг в друга,,
продолжать одно другим, подразумевать одно под другим»23..
Моторное воображение связано с трудом, чем и определяется
его общественный характер. Гелен совершенно справедливо
ставит его в один ряд с эмоциональным воображением, о чем
мы будем говорить ниже. В обоих случаях человек настроен
на что-то новое, что связано с его установкой на конкретную*
цель действия, движения; та же самая интенция определяет
возможность адекватной реакции на неожиданности в преде-
лах определенного пространства. Гелен говорит об этом вполне-
однозначно, хотя, конечно, свойственным ему терминологически;
перенасыщенным языком: «Следует обратить внимание на тог
что всякое движение, поскольку оно передается, поскольку
оно развивает различные стороны содержания и тем самым
перенимается, само по себе уже содержит предпосылки для
ожидания чего-либо. В наводящих движениях их будущие
фазы содержатся с не меньшей определенностью, чем заклю-
ченные в них отгадки, изменения соответствующих предметов'
и т. д.»24. Наконец, основополагающая черта моторного вооб-
ражения— выделять определенные конкретные узловые момен-
ты из той континуальности, которая характерна для всякого
движения, и фиксировать »по возможности только их в реаль-
ном движении, ибо при правильном выборе этих основных;
точек связывающие их оптимальные движения следуют из
них спонтанно, сами по себе. Далее Гелен пишет: «Оно кон-
центрируется на формировании плодотворных основных этапов,
тогда как последующие этапы тем самым сокращаются и ав-
томатизируются. Сложная последовательность движений —
а поначалу всякое движение сложно — сперва на всем своем
Протяжении сопряжена со вниманием, так как она состоит из;
постоянных помех и торможений. На этой стадии такая после-
довательность еще не устоялась и не образовалась из пересе-
кающихся между собой двигательных импульсов. Она может
считаться состоявшейся и, когда это требуется, вводится в.
действие, если выработаны определенные узловые моменты,,
на основе которых она формируется и которыми связываются
осознанные движения. «Плодотворный момент» движения несет
в себе и представляет собой всю последовательность движений,,
необходимых для его реализации, то есть позволяет реализо-
вать все движение»25.
Таким образом, фиксируются и делаются привычными вновь
сформировавшиеся и разработанные движения. При этом ре-
зультат моторного воображения превращается в ряд условных
рефлексов. Правда, возможно также, что для окончательного
отбора оптимальных функций необходимо будет привлекать
2—102
17
вторую сигнальную систему. (Можно сравнить, например, на-
учное исследование движения по системе Тейлора.) Но если
исходное двигательное воображение и угасает, с тем чтобы
дать критическое направление условным рефлексам, даже в
их автоматической реализации наблюдаются большие расхож-
дения, в зависимости от того, фиксируются ли воображением
узловые моменты или весь процесс лишь копируется, пере-
дается во всех своих деталях. Гелен справедливо указывает на
различие между «каллиграфическим» почерком и почерком
леданта26. Но бывают случаи, когда фактически невозможно
лолностью фиксировать всю двигательную систему, в то время
как само действие создает все новые и новые ситуации, на ко-
торые следует реагировать ло-новому, чтобы достичь общей
цели. Здесь недопустимо угасание активности области неожи-
данного; здесь моторное воображение нельзя йолностью заме-
нить фиксацией в форме условных рефлексов. Естественно, при
этом также речь идет о том или ином конкретно определенном
пропорциональном соотношении. Никакая функция не может
быть с успехом выполнена, если условные рефлексы не играют
в ходе ее осуществления своей роли. Дилетантская халтура и
лустая рутина — две крайние, точки, возникающие в случае
полной неудачи, когда нарушается это пропорциональное отно-
шение. Гелен описывает психологическую сущность этого про-
цесса на типичном примере: «Высочайший взлет тактильного
воображения возникает именно тогда, когда речь идет о мелких
движениях, в которых реализуются минимальные виртуальные
проявления двигательного воображения. Умелый врач может
производить полостные операции, не видя, а осязая зондом
пли скальпелем. При этом мы имеем дело уже не только с
самим по себе замечательным феноменом — когда мы, осязая
через посредство неодушевленного предмета, считаем, что со-
ответствующие ощущения передаются нашим инструментам.
Речь идет о том, что предполагаются виртуальные осязатель-
ные ощущения, которые могли бы последовать за виртуальны-
ми мелкими движениями». И далее Гелен конкретизирует воз-
никающее при этом душевное состояние: «Всякое осуществлен-
ное движение, если оно не становится автоматическим, проис-
ходит в «ореоле» ожиданий его свершения и его воздействия,
оно оказывается окутанным образами того, как оно протекает,
и ожидаемого материального успеха»27. При этом речь опять-
таки идет о своего рода воображении, творческой фантазии
(для наших целей в данном случае неважно, какие здесь про-
водятся дифференциации). С одной стороны, решающее зна-
чение имеет тот факт, что воображение здесь становится дей-
ственным раньше, чем само движение, и новая ситуация не
может не учитываться в целостности функций или в их со-
ставных частях. Гелен приводит следующий пример: «Когда
мы решаемся перепрыгнуть через~широкий ров, наше решение
1Q •.*■ w****- f
зависит от вывода или допущения относительно результата
воображаемого прыжка». С другой стороны, решающим яв-
ляется и то, можем ли мы «вжиться, а не вдуматься в движе-
ние», которое надо совершить28.
Нам представляется, что и эти немногочисленные примеры
позволяют получить первоначальное, пусть огрубленное -пред-
ставление о том феномене,/который мы стремимся описать.
Речь идет о сигналах сигналов, которые, однако, по своим про-
явлениям не относятся ко второй сигнальной системе. Вторая
сигнальная система может играть важную роль в разработке,
обобщении, осознании этой системы сигналов. Об этом мы
уже говорили. Практическая польза описанной системы сигна-
лов для процесса труда заключается в том, чтобы превращать
данные моторного воображения и т. д. полностью или частич-
но через посредство привычек, тренинга, упражнений и т. д.
в условные рефлексы. Этот обусловленный самим существом
дела постоянный переход отмеченного нами нового вида сигна-
ла сигналов в описанные Павловым рефлексы сильно услож-
няет задачу восприятия этих сигналов и установления их осо-
бенностей, их своеобразия. При этом надо учесть следующее:
как связь условных рефлексов с воспринимаемым внешним
миром, так и специфическая роль языка — посредника для
второй сигнальной системы, распознается прямо и непосред-
ственно. Напротив, в данном случае речь идет о рефлексах,,
которые близки к первой сигнальной системе своей чувственной
непосредственностью и второй сигнальной системе своим сущ-
ностным характером, тем, что они являются сигналами сигна-
лов. При непредвзятом анализе этого факта последнее утверж-
дение легко подтверждается.
Чтобы понять определенные виды проявлений воображения
как особую сигнальную систему сигналов, надо прежде всего
сделать некоторые разъяснения. Они тем более необходимы^
пока мы еще находимся лишь в преддверии описания самого
интересующего нас явления, которое по своему охвату и шире,
и уже, чем воображение. Прежде всего следует сказать, что
сфера действия творческого воображения, творческой фантазии
выходит далеко за рамки эстетического. Мы уже видели, чта
Гелен считает ее необходимой для трудового процесса, для
развития деятельности человека в повседневной жизни. За-
долго до него Ленин писал об универсальном характере фан-
тазии: «Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слеп-
ка (=понятия) с нее не есть простой, непосредственный, зер-
кально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообраз-
ный, включающий в себя возможность отлета фантазии от
жизни; мало того: возможность превращения (и притом неза-
метного несознаваемого человеком превращения) абстрактного
понятия, идеи ,в фантазию {m letzter Instanz = бога). Ибо и в
самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее
2*
19
<(«стол» вообще) есть известный кусочек фантазии. (Vice
"versa: нелепо отрицать роль фантазии и в самой строгой науке:
ср. Писарев о мечте полезной, как толчке к работе, и о меч-
тательности пустой.)»29.
Здесь необходимо в первую очередь обратить внимание на
то, что Ленин подчеркивает необходимость фантазии даже в
самых абстрактных видах теоретической деятельности и ука-
зывает на то, что она может отрываться от жизни. Это послед-
нее утверждение удивительным образом созвучно определению
второй сигнальной системы, данному Павловым; согласно это-
му определению, и вторая сигнальная система также потен-
циально может быть далека от жизни. Так, например, Павлов
предлагает следующее описание важнейших признаков психа-
стении: «Автор указывает на потерю ими (психастениками)
-чувства реальности происходящего вокруг, причем они и себя
чувствуют точно ненастоящими; на склонность к отвлеченно-
му мудрствованию. Иван Петрович напоминает об описанной
им первой и второй сигнальных системах. Нормальное мышле-
ние, сопровождающееся чувством реальности, возможно лишь
•при неразрывном участии этих двух систем. При психастении
преобладает вторая сигнальная система (словесная), — отсюда
-вытекает неполнота чувства действительности, так как мыш-
ление лишено конкретных представлений»30. Естественно, па-
тологические проявления психастении — это крайнее выраже-
ние имеющейся и в повседневной жизни возможности отрыва
второй сигнальной системы от своей основы в первой сигналь-
ной системе. С другой стороны, следует отметить, что Ленин
•справедливо указывает на ту роль, которую фантазия играет
даже в самой строгой науке. В чем может заключаться эта
роль? Те факты жизни, которые известны человеку и даются
ему через посредство первой сигнальной системы, с помощью
фантазии обрабатываются, обобщаются, комбинируются и т.д.
таким образом, что новые взаимосвязи жизни, объективной
действительности и новые отношения к ним со стороны людей
могут получить научное освещение.
Возникающий таким путем синтез необходимо четко про-
тивопоставить явлениям типа групповых раздражителей. Боль-
шая заслуга Павлова заключается в том, что он преодолел
механистический подход к восприятию, ассоциациям и т. д.
Однако как бы ни были сложны и дифференцированны субъ-
■ектно-объектные отношения в случае условных рефлексов, те
явления, которые мы вкратце обрисовали как реализацию во-
ображения в жизни, невозможно объяснить только на основа-
нии условных рефлексов. Это ясно уже из следующего поло-
жения: с одной стороны, условные рефлексы непосредственно
соотносятся с внешним миром. Даже когда они, как это можно
видеть из описания, предложенного Павловым, могут связать
друг с другом два самих по себе гетерогенных явления дей-
20
ствительности, это происходит лишь потому, что одно из них
несколько раз выступает после другого; благодаря воображе-
нию при данных условиях устанавливаются связи между
•большим числом явлений, хотя они как субъективно, так и
•объективно далеки друг от друга, и ранее такая связь в дей-
ствительности не наблюдалась. Условные рефлексы, ассоциа-
ции, таким образом, становятся лишь материалом для вообра-
жения. Оно «свободно» располагает ими для достижения тех
делей, ради которых оно существует у человека и использует-
ся им в данном случае. Нетрудно распознать и его назначе-
ние— быть сигналом сигнала. С другой стороны, свобода об-
ращения с этим сигналом первой сигнальной системы относи-
тельна так же, как и в случае соотношения языка и мышления.
Ведь человек может «свободно» — в абстрактно-субъективном
смысле — комбинировать те элементы, которыми он овладе-
вает через посредство первой сигнальной системы. Но при этом
он рискует не выполнить своей задачи и даже подвергнуть
•опасности само свое существование. Итак, если он хочет
утвердиться в своем окружении, первичные сигналы (функции
сигналов от сигналов) — независимо от того, идет ли речь о
мышлении в строгом смысле этого слова или о различных
видах воображения, — должны быть обработаны так, чтобы
•иметь возможность правильно воспроизводить действитель-
ность применительно к мотивам, закономерностям и т. д., свя-
занным с поставленной задачей. Этот ряд можно продолжить —
ют приведенного выше примера с прыжком через ров и пред-
видением его результата посредством моторного воображения
fc. 19] — вплоть до самых абстрактных мыслительных опера-
ций.
Эта особого рода ложная реакция на действительность
качественно и принципиально отличается от так называемых
обманов чувств в области первой сигнальной системы, где
правильное определение конкретного источника раздражения
свидетельствует о нормальном течении процесса. При возник-
новении же сигнала от сигнала возможно, что совокупность
первичных сигналов, лежащих в основе высшего синтеза, пра-
вильно отражает действительность, тогда как в их комбина-
циях появляются ошибки, которые и приводят к отрыву от
действительности. Такая возможность существует также и для
воображения, и для мышления в строгом смысле этого слова.
Отсюда ясно, что и в том и в другом случае равным образом
речь идет о сигналах сигналов. В жизни, в области высшей
умственной деятельности, обе ситуации непрерывно наклады-
ваются друг на друга. Ленин указал на роль фантазии в мыш-
лении, а наш последующий анализ покажет, какую важную
роль мышление играет в художественной практике. Вообще
понимание сущности воображения, фантазии очень сильно
осложняется за счет того, что ее принято относить почти ис-
21
ключительно к сфере эстетического, а не рассматривать —
как это делаем мы — в качестве необходимого элемента всех
видов человеческой практики. Из-за (пренебрежения этим
фактом создается представление, затемняющее действитель-
ное положение дел, — когда метафизически противопостав-
ляются друг другу мышление и воображение. В действитель-
ности для субъективных процессов мышления, различных
форм человеческой деятельности вообще, как правило, ситуа-
ция прямо противоположна: условные рефлексы, воображение,
мышление постоянно накладываются друг на друга в субъек-
те; очень часто даже самый осознанно творящий мыслитель
или художник не знает, что достигнуто им в познании действи-
тельности благодаря воображению, творческой фантазии, а
что благодаря размышлениям. И естественным образом рабо-
чий или спортсмен, добившийся определенных конкретных ре-
зультатов с помощью моторного воображения, .его осозна-
ния в мышлении и его фиксации, и превращения в условный
рефлекс, и не подозревают о том, какую роль эти компонен-
ты— четко вычленяемые с теоретически-психологической точки
зрения — сыграли в его деятельности.
Этот характер воображения как сигнала от сигнала стано-
вится еще яснее, если мы рассмотрим его возникновение с субъ-
ективной точки зрения. Разумеется, память человека — это об-
щая основа постоянства функционирования всякой сигнальной
системы. Это четко определил Павлов уже на основании своих
экспериментов с собаками применительно к условным рефлек-
сам. Он резюмирует результаты группы опытов следующим
образом: «Время как бы смыло последнюю переделку, а старая
осталась целиком и почти такая же упорная, как первый раз.
Это яркий факт наслоения, а не искоренения прежних отноше-
ний. Недаром мы живем, переделываем отношения, а все про-
шлое мы помним, и оно дает себя знать. Все прошлое вовсе
не уничтожается новыми впечатлениями, а новые раздражения
складываются, суммируются с прошлым, образуя настоящее...
Таким образом, можно вывести одно из основных положений
деятельности коры, что там имеется наслоение раздражителей,
а не искоренение старых поздними впечатлениями»31. Гегель,
воззрения которого на психологию в настоящее время неспра-
ведливо забыты, правильно разграничивает запечатлевшийся
в памяти образ и созерцание, лежащее в его основе: «Образ
не имеет уже более той полной определенности, которую имеет
созерцание; он произволен или случаен, вообще изолирован
от внешнего места, времени и непосредственной связи, в кото-
рой находилось созерцание»32. Только благодаря этому пре-
ображению такой образ может обрести универсальность для
ассоциативной деятельности и тем самым послужить основой
для новых условных рефлексов и высших комбинаций мышле-
ния и фантазии. Вместе с тем и Гегель подчеркивает универ-
22
сальное значение творческой силы воображения, фантазии.
Развитие представления именно здесь достигает своей второй
ступени; первая — это припоминание. Сила воображения, по
Гегелю, здесь также проходит три стадии. Сначала она вызы-
вает к жизни, пробуждает в нашей памяти сами эти образы.
Здесь, как нам представляется, Гегель заходит слишком да-
леко, поскольку воображение, очевидно, не обладает подобной
всеобщностью. Но тем более он прав, уделяя особое внимание
воображению на второй ступени — на стадии ассоциаций; даже
«если на этой стадии воображение и не носит столь всеобъем-
лющего характера, как считает Гегель, все же несомненно, что
«его решающую роль для значительной части ассоциаций труд-
но переоценить. «Третья ступень в этой сфере — та, на кото-
рой интеллигенция отождествляет свои всеобщие представления
с тем, что есть особенного в образе, и тем самым дает им об-
разное наличное бытие»33. Тем самым закладывается основа
для деятельности воображения во всех областях духовной
жизни, и нам, по меньшей мере на этом уровне наших иссле-
дований, уже нет необходимости следовать за дальнейшим
ходом мысли Гегеля и противопоставлять ему наши рассуж-
дения.
Задача нашего анализа не в том, чтобы точно определить
назначение воображения в психической жизни человека. На-
против, мы, как уже было показано, лишь приступаем к опи-
санию самого явления. Необходимо установить эту более вы-
сокую сигнальную систему (сигналы сигналов), которая, как
и мышление и язык, основывается на условных рефлексах и
точно так же выходит за их границы, но так, что при этом
для системы сигналов от сигналов не создается последующей
системы sui generis, подобной языку; и, даже несмотря на
фактическую удаленность от условных рефлексов (возмож-
ность освобождения от них так же, как это происходит в мыш-
лении), она опирается на них более непосредственно, причем
представляется, что на поверхностный взгляд она и не отде-
ляется от них. Такое положение дел показывает нам, почему
Павлов не воспринимал этой разницы. Однако стоит нам об-
ратиться к проблеме эвокации как жизненного явления и су-
щественного компонента эстетического, и это своеобразие ста-
новится гораздо более явным, чем ранее.
То, что мы начинаем не с самого яркого способа проявле-
ния (с различных видов искусства как систем опосредования
и объективации той сигнальной системы, о которой идет речь),
а проходим мимо этих безусловно запутанных и ложных жиз-
ненных явлений, существенным образом связано с основной
установкой^ нашего анализа: мы не хотим догматически опи-
раться на эстетическое как на «вечное», исходное в жизни че-
ловека; напротив, мы стремимся генетически исходить в своих
рассуждениях из способностей и потребностей развивающихся
23
людей, человечества. Вследствие этого анализ данной сигналь-
ной системы должен опираться на ее первые, очень редко
отчетливо фиксируемые проявления, чтобы лишь постепенно
перейти к анализу «более чистых», самостоятельных форм. Но
мы полагаем, что, несмотря на все трудности, которые вызы-
вает такой непрерывный переход из одной системы в другую,
он позволяет — пусть еще и не вполне отчетливо — различить
общие контуры исследуемого явления. Эти переходы были
мотивированы также и физиологически в исследованиях Пав-
лова. Павлов, выделяя лишь две сигнальные системы, гово-
рит, однако, об основаниях для их взаимосвязей: «Но разделе-
ние сигнальной системы на первую и вторую нельзя представ-
лять себе насквозь анатомически, оно, вероятно, будет главным
образом функциональным»34. Это положение представляется
тем более очевидным, что человек после того, 'как он стал
действительно человеком, не подвергался никаким решающим
изменениям антропологического или физиологического харак-
тера. Именно то гигантское изменение, которое и вскрывает
бездну различий между человеком *й — даже высокоразвиты-
ми— животными, в первую очередь разыгрывается на социаль-
ной почве (труд, язык и т. д.). С физиологической точки зре-
ния новые виды деятельности в их всесторонних взаимосвязях
обосновываются функционально, а не анатомически. Это впол-
не согласуется со всеми фактами истории человечества. И хотя
человек получил все возможности своего самостановления
именно от природы, в своем по существу человеческом своеоб-
разии он есть не что иное, как продукт собственного труда.
Поэтому мы и подчеркивали так настойчиво субъективную
сторону становления труда: решающими остаются необходи-
мость и потребность адекватно, то есть в первую очередь твор-
чески, реагировать на новые, в основном возникшие самостоя-
тельно— благодаря труду, его -предпосылкам и .последствиям —
ситуации. Это новое может стать прочной основой собствен-
ного существования и плацдармом для новых завоеваний, и
так до бесконечности. Все это, разумеется, давно известный
основополагающий факт антропологии,- но именно благодаря
этому возникают некоторые следствия, важные для решения
нашей проблемы. Рассмотрим прежде всего то, что мы обозна-
чили как новое (принципиально новые ситуации, новые задачи
реакций на внешний мир, поведения и т. д.) применительно к
системе рефлексов. Существо, обладающее только безусловны-
ми рефлексами, вообще не в состоянии воспринимать новое-
Павлов справедливо подчеркивает, что «животное могло бы
жить, пользуясь лишь одними безусловными рефлексами, если
бы ничего вокруг не менялось»35. Он приводит в пример со-
бак, у которых был удален головной мозг, подчеркивая, что-
они могли жить, если их уберегали от неожиданностей. Он
указывает также в этой связи на функционирование безуслов-
24
ных рефлексов у пчел. Очевидная ограниченность сферы дей-
ствия таких безусловных рефлексов в повседневной жизни
проявляется, например, в абсолютной неспособности насекомых
понять, где находится окно. Пожалуй, еще более яркий при-
мер приводит Ганс Фолькельт, наблюдавший за пауком. Он
-описывает точность реакции паука, когда комар задевает его
паутину: паук перестает .поедать ранее пойманного комара,
как только подлетает другой, чтобы успеть захватить новую
добычу. Но стоило комару попасть в то место паутины, где
паук подкарауливал свою жертву, и «тот не обратил на него
никакого внимания, хотя уже давно ничего не ел, а когда
комар подлетел ближе, паук пытался защищаться до тех пор,
пока комар не отлетел. По всей вероятности, он просто не
распознал своей обычной лищи в новых обстоятельствах»36.
Павлов подчеркивает, что между проявлениями условных
и безусловных рефлексов нет непроходимой пропасти, что раз-
личие между ними обусловлено самим жизненным процессом37.
Однако — если рассмотреть процесс развития в его целост-
ности— не вызывает сомнения тот факт, что условные рефлек-
сы могут обеспечить животному более широкое пространство
для восприятия новых ситуаций, с которыми оно сталкивается
в жизни, чем безусловные. Важнейшим моментом в высшей
нервной деятельности Павлов считает то обстоятельство, «что
это ассоциация, т. е. временное соотношение деятельности
клеток, которые раньше были разъединены, между которыми
раньше никакой связи не было»38. В этом, несомненно, имеется
нечто новое, правда весьма относительное. Ибо уже сами
эксперименты Павлова показывают, что условные рефлексы
вырабатываются только при частых повторениях одного и тога
же и нередко угасают при исчезновении или долговременном
изменении раздражителей. Это означает, что при нормальных
условиях у высших животных имеет место приспособление к
изменениям в окружающей среде, которые носят регулярный
характер. Одно из важнейших достижений Павлова в его экс-
периментах с собаками — обнаружение явных различий типов
животных в зависимости от способности быстро или медленно,
«без труда или с нервными срывами и т. д. вырабатывать услов-
ные рефлексы, приспосабливаться к изменениям обстановки.
Широта охвата, богатство отношений такой системы условных
рефлексов могут быть весьма значительными; достаточно вспо-
мнить хотя бы перелетных птиц. Но границы их возможностей
достаточно четко очерчены именно благодаря нормальным
условиям жизни, частому повторению как основе для фиксации
условных рефлексов (и возможности их превращения в без-
условные). Если появляется нечто качественно иное, то выс-
шие животные могут оказаться такими же беспомощными
перед лицом новой ситуации, как и менее высокоразвитые;
достаточно вспомнить птиц — даже и перелетных, таких, как
25
ласточки, — как они себя ведут, например, случайно залетев в
комнату.
Естественно, все эти границы относительны. Птицы, долгое
время прожившие в клетке, привыкают к человеческому
жилью и чувствуют себя в нем свободно. В таком случае у них
вырабатываются новые условные рефлексы на новую среду,
в которой возникают постоянные, повторяющиеся раздражите-
ли. С другой стороны, человек также может попасть в такие
необычные ситуации, в которых и его высшая нервная деятель-
ность— всегда ориентированная на освоение нового — отказы-
вает. Эта относительность границ ни в коей мере, однако, не
уничтожает их и не устраняет их качественного значения.
Не случайно, что в мировой литературе начиная с «Одиссеи»,
«Робинзона» и включая романы Джозефа Конрада, столь
правдиво описываются победы человека над Неожиданными
опасностями. Нет необходимости особо подчеркивать здесь то*
что способность человека найти совершенно новый способ по-
ведения в совершенно новой ситуации основывается на широ-
кой системе условных и безусловных рефлексов. Сигналы сиг-
налов, мышление и воображение не позволили бы правильно
проанализировать это новое и адекватно отреагировать на не-
го, если бы в распоряжении человека не было обширных зна-
ний о старом, повторяющемся, постоянном. Здесь обнаружи-
вается, что жизненные явления могут быть поняты и освоены
только через диалектическое единство и противоположность
дискретного и континуального.
Это следует особо подчеркнуть, так как за последние деся-
тилетия в широких кругах научной общественности приобрела
популярность теория, в которой полностью искажается сущ-
ность отношений между жизнью и окружающей средой. Мы
имеем в виду теорию Икскюля о внутреннем мире и окру-
жающей среде животных. Он исходит из того, что органы
чувств и образ жизни каждого животного, обусловленный эти-
ми органами чувств, находятся в качественно различных отно-
шениях с определенными сторонами действительности, и толь-
ко с ними. И поскольку он отождествляет кантовское априори,
упрощенное по Шопенгауэру, с объективной действительностью,
то у него в различных «окружениях» возникают животные со
своим собственным пространством, своим собственным време-
нем и т. д. Ясно, что здесь Икскюль экстраполирует ограни-
ченность охвата восприятия действительности через условные
и безусловные рефлексы, о которых только что шла речь, на
различные «окружения», которые оказываются так же отделены
друг от друга и так же непроницаемы для взаимовлияния, как
и шпенглеровские «культуры». Даже когда паук пожирает
муху, между ними не возникает никакого соприкосновения,
потому что муха для паука есть только пища, а он для нее —
лишь гибель, то есть не живой фактор окружения, а лишь
26
соотнесенная с субъектом, сформированная биологическим ап-
риори материя. Подобные контакты с «окружениями» превра-
щаются, таким образом, в трансцендентные катастрофы умыш-
ленно приоткрытых, но на самом деле безнадежно запертых
тюрем; это тот мир, который часто описывала литература от
Метерлинка до Беккета. Эту теорию разрабатывает Ротхак-
кер, вовлекая в ее орбиту и факты истории культуры. Он де-
лает это следующим образом: «Самый наглядный пример
антропологических отношений дает многократно приводимая
схема: один и тот же лес для крестьянина — древесина, дере-
во; для лесника — лес, бор; для охотника — место охоты или
заповедник; для странника — прохладная тень деревьев; для
преследуемого — убежище; для поэта — благоуханная лесная
сень и т. д. ...Эту схему-можно продолжать и расширять до
бесконечности, например описывая каменоломню, которая
имеет совершенно различный облик для коммерсанта, воена-
чальника, художника, прохожего и т. д. Здесь удается выде-
лить самое существенное путем установления связи окружаю-
щей среды с различными профессиями и способами поведе-
ния человека»39. Так возникает «наивный, живой мир» челове-
ка, являющийся его «истинным окружением». Ротхаккер весь-
ма оригинальным способом пытается доказать, что объектив-
ное научное понимание не оказывает никакого воздействия на
это «истинное окружение»: «Еще никому не приходило в голо-
ву проглотить пучок электронов, как лакомый кусочек. Еще
никто не целовал электронный вихрь и не женился на нем.
И все это независимо от правильности результатов с точки
зрения физики»40. Естественно, эта теория совершенно бес-
смысленна. Однако на ней стоит остановиться. Ибо современ-
ные идеалисты обычно взирают с глубоким презрением на ма-
териалистическое учение Павлова о рефлексах, с его «упро-
щениями». Но такие 'простые сопоставления ясно показывают,
где на самом деле имеют место упрощения, то есть как раз
там, где снимаются все сложные переходы и взаимоотношения
с действительностью в угоду весьма вульгарной схеме, смоде-
лированной на основании застывших и искаженных непосред-
ственных впечатлений. Здесь такие схемы являют собой фата-
листически-механистическое априори «окружения», «гештальт»
без элементов в гештальтпсихологии, узкосхематичную типо-
логию Юнга, которая делит мир человека на экстравертирован-
ный и интравертированный и т. д. и т. п. Напротив, материали-
стическое учение Павлова о рефлексах открывает перспективы
познания самых сложных и запутанных взаимоотношений и
переходов. Оно позволяет понять сложные связи человека с
животными и одновременно его отличия от них.
Тот факт, что мы пытаемся делать некоторые предложения
по расширению и конкретизации учения Павлова, никак не
противоречит признанию превосходства этого учения над идеа-
27
листическими теориями. Сущность наших замечаний — в ука-
зании на то, что вследствие труда возникает необходимость
создания новых, более сложных способов и типов реакции на
действительность, ее восприятия во всей её сложности, форми-
рования новых способов поведения в соответствии с изменив-
шейся ситуацией. Как известно, Павлов выявил много важных
свойств языка (мьцнления). Но он не заметил того, что они.
генетически связаны с этой решающей ступенью развития че-
ловечества, и соответственно он. не : сумел ' распознать целого-
ряда существенных особенностей. Поскольку он не заметил
столь существенного различия между человеком и животным,
ему пришлось суммарно идентифицировать все рефлексы, вы-
ходящие за рамки чувственно-данного иным способом, чем это
свойственно вербальным абстракциям, с простыми условными
рефлексами. Мы надеемся, нам удалось доказать, что благо-
даря сущности труда уже в трудовом процессе должны выра-
батываться рефлексы, которые все же — в противоположность
утверждениям Павлова — не являются простыми условными
рефлексами, хотя они в отличие от языка не возвышаются как
абстракция над непосредственной чувственностью; в этом от-
ношении они, подобно языку, становятся сигналами сигналов.
Эти рефлексы мы предлагаем обозначать как «сигнальную си-
стему I'», чтобы отразить их промежуточное положение между
условными рефлексами и языком.
2. СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА Г В ЖИЗНИ
Функция этой сигнальной системы может быть исчерпывающе
представлена только при анализе искусства и феноменов искус-
ства. В наших попытках дать хотя бы приблизительное описа-
ние особенностей рассматриваемого явления мы находимся на
самой начальной стадии. Хотя мы должны идти от явлений
жизни к феноменам искусства, попутно необходимо заметить,
что в словоупотреблении у многих народов сохраняется ин-
стинктивное, а потому неясное, но во многих отношениях по-
учительное предчувствие, намек на описываемое нами явление.
Известно, что и в немецком языке слово «Kunst» — искусство,
мастерство, умение, — помимо своего специфического, узкого и
точного значения, имеет также и значение более общее. Можно
говорить об искусстве верховой езды, кулинарном искусстве
и т. д., не включая при этом верховую езду или приготовление
пищи в систему видов искусства. Обычно считается, что здесь
выделяется оттенок умения, мастерства. Мы же считаем, что
это не так. Ибо точный смысл этого слова содержит указание
на то, что как раз соответствующим образом выходит за рам-
ки обычного «умения», за рамки обычного овладения техникой.
Всякий может достичь определенного уровня профессионально-
28
го мастерства, то есть у всякого могут вырабатываться и фик-
сироваться необходимые для этого условные рефлексы. Но>
тогда мы будем говорить о человеке, используя такие харак-
теристики, как хороший, опытный, аккуратный, добросовестный:
и т. д., а не называть его деятельность искусством в отмечен-
ном широком смысле слова. Только когда человек проявляет
в своей области способность делать открытия, то есть обла-
дать особым чувством нового, только когда он молниеносно и;
правильно реагирует в совершенно непредсказуемых ситуациях,,
его действия можно назвать искусством. Об этом различии:
свидетельствует и распространенная реплика «Большого искус-
ства в этом нет» применительно к делу, которым может овла-
деть каждый человек. Если деятельность хирурга, футболиста,,
повара и т. д. называют искусством — в этом широком смыс-
ле, — имеется в виду именно умение реагировать на новые не-
ожиданные ситуации.
Эта сущность сигнальной системы Y проявляется яснее,,
когда мы переходим от труда самого по себе к тем условиям
жизни, к тем человеческим отношениям, которые возникают в-
силу совершенствования, расширения, развития труда. По-
скольку Павлов не остановился на роли труда в образование
сигналов от сигналов в языке, понятно, что он не уделил ни-
какого внимания и этим весьма сложным — с психологической"
точки зрения — связям. Напротив, Энгельс, как мы видели7
[с. 14 и ел.], подчеркивал, что возникновение языка следует
выводить лишь из социальных потребностей, сформировавшихся-
в 'Процессе труда, а именно вследствие того, что людям надо-
было что-то сообщать друг другу, и для этого уже недостаточ-
но было простых выразительных звуков и жестов на уровне-
условных рефлексов. Таким образом, язык стал решающим
средством и основным регулятором общения людей друг с
другом. Разумеется, нет такого этапа развития, на котором
люди пользуются только этим средством. Здесь должны также-
использоваться различные жесты, неартикулированные звуки
и т. д. Если бы мы сочли, что и тогда, когда язык стал основ-
ным средством человеческого общения, специфическое в языке
должно проявляться везде и всюду, это бы привело к искаже-
нию реальной ситуации. Всякое общество должно сохраняться-
и репродуцироваться в условиях, когда повторяющиеся момен-
ты составляют существенную часть жизни. Реакция на них:
принимает «поэтому все больше и больше характер условных:
рефлексов; это происходит даже в тех случаях, когда непосред-
ственный возбудитель реакции имеет речевую форму. Можно-
вспомнить, например, реакцию вышколенных солдат на коман-
ды начальства. Чем лучше они вымуштрованы, тем больше-
у них автоматических реакций. Тогда слово выступает уже как
непосредственный сигнал. Само по себе определенное звучание,
тон и т. д. вызывают определенные условные рефлексы. -Это
29*
-можно наблюдать в жизни — правда, не в такой резкой фор-
ме— гораздо чаще, чем считается обычно. Я приведу лишь
один пример. Нервный человек, страдающий бессонницей, мо-
жет уснуть только тогда, когда ему читают. По существу, он
засыпает под монотонно звучащий голос. Но нередко случает-
ся, что больной сразу просыпается, когда прекращается чтение.
В данном случае слова явно выступают как возбудители
определенных рефлексов торможения. Естественно, это еще
ярче проявляется в случае жестикуляции. В ходе обществен-
ного развития создаются стереотипы поведения, жестикуляции
и т. д. человека. У нас сформировался устойчивый условный
рефлекс — снимать шляпу при встрече с дамой, кланяться,
входя в комнату; ждать, пока дама или кто-либо старший
(в том числе и старший по чину) не протянет нам руку пер-
вым, чтобы лишь затем ответить рукопожатием, и т. д. и т. п.
Необходимо было бы описать весьма значительную часть че-
ловеческого поведения, чтобы охватить и выявить все слова,
жесты и т. д., которые превратились уже в простые условные
рефлексы.
Такие обычаи в человеческом общении часто получают
словесное оформление, и язык всегда используется для того,
чтобы передать эти обычаи детям, учащимся, новобранцам
и т. д. Команда может вызвать необходимые условные рефлек-
сы, только если солдаты ее правильно понимают; необходимо
не только точно выполнять соответствующие движения, но и
выработать нужное отношение именно к этой команде. Пред-
ставляется, что именно таким образом человеческие отношения
могут развиваться в рамках систем рефлексов по Павлову.
Но в действительности все обстоит намного сложнее, и в ходе
развития ситуация еще усложняется. На примитивной ступени
развития обычай, так сказать, регулирует все отношения людей
между собой. Но чем больше человек становится индивидуаль-
ностью, тем меньше твердые, установленные обычаи могут
регулировать общение и отношения людей друг с другом.
Вспомним ту социальную категорию, которая определяется
словами «хорошие манеры». При этом речь идет о выполнении
важных, отчасти даже и необходимых предписаний, благодаря
которым повседневные отношения между людьми становятся
•свободными от чрезмерных трений, столкновений, сложностей
и т. д. Эти манеры выучиваются, ими овладевают на 'практике,
и они превращаются в функционирующие почти автоматиче-
ски условные рефлексы, создавая тем самым возможности для
свободного общения между людьми.
Но нетрудно заметить, что оба эти полюса, которые можно
лонять и описать с помощью павловских категорий, не охва-
тывают всех возможных ситуаций. Вспомним понятие «такта»,
тесно связанное с понятием «манер». Под тактом понимается
правильное поведение в ситуации, для которой не может суще-
30
ствовать никакого заранее данного предписания; ибо если-
ее можно подвести под какое-либо общее предписание, то, для
того чтобы им овладеть, достаточно обладать хорошими мане-
рами. Естественно, тактичное 'поведение, например правильное
понимание и оценка сложного, запутанного положения, может
реализоваться и на уровне языка. Но это совсем не обяза-
тельно. Есть много случаев, когда движение руки, наклон го-
ловы и т. д. могут сыграть ту же роль, что и тактично сказан-
ное слово. Но и слово — подчеркнем это — оказывает воздей-
ствие не благодаря своему логическому смыслу, а в неразрыв-
ном единстве с тоном, с выражением лица, жестами. Кроме
того, нужное слово не является результатом логической после-
довательности мыслей, итогом логически непротиворечивого-
анализа, но — как и в вышеописанных случаях, только на этот
раз применительно к человеческим отношениям, — есть резуль-
тат молниеносной ориентировки в сложных отношениях по-
средством воображения, когда — как и ранее — самопонимание
уже предполагает решение, наличие выхода. И то, что при
этом вербальное или рационально-логическое утрачивает свой
приоритет, ни в коем случае не означает каких-либо уступок
иррационализму. Ибо затем всякий диктуемый чувством такта
поступок можно описать и проанализировать как словесно,,
так и рационально-логически. По своему содержанию этот
поступок совершенно разумен, лежащий в его основе психофи-
зиологический механизм — это не вторая сигнальная система,,
а сигнальная система I'.
В жизни и творчестве выдающихся писателей, глубоко по-
нимающих жизнь и соответствующим образом описывающих
ее, можно найти много подтверждений именно такого представ-
ления о такте, как данное нами выше. Например, Толстой так
характеризует Веру, старшую дочь графа Ростова: она «была
хороша, была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспи-
тана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было спра-
ведливо и уместно, но странное дело, все, и гостья, и графиня,,
оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказа-
ла, и почувствовали неловкость». И в тех немногочисленных
сценах, в которых появляется этот эпизодический персонаж,
с полной ясностью показано, как человек, обладая хорошими
манерами, может вместе с тем в каждой ситуации инстинктив-
но вести себя бестактно. Полной противоположностью Вере-
предстает у Толстого ее младшая сестра Наташа в слож-
нейшей жизненной ситуации. Наташа ухаживала за своим
бывшим женихом, Андреем Болконским, до самой его смерти
после ранения, и трагедия надвигающегося конца снова сбли-
зила их обоих после разрыва и отчуждения. После смерти
Болконского Наташа живет в полном душевном оцепенении,,
не принимая никакого участия в жизни семьи, и тут приходит
известие о гибели младшего брата, любимца матери. «Вдруг
31
как будто электрический ток пробежал по всему существу На-
таши. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почув-
ствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается
в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствова-
ла мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на
ней. Увидав отца и услыхав из-за двери страшный, грубый
крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе». Она
бежит к матери, обнимает ее, горячо произносит бессвязные
слова утешения и не покидает ее, пока на третью ночь старая
графиня не начинает плакать и не возвращается к жизни.
Само собой разумеется, душевное содержание этой "сцены вы-
ходит далеко за рамки того, что мы обычно называем тактом
в повседневной жизни. Те психические . моменты, о которых
мы говорили, действуют и здесь, но качественно иначе, силь-
нее. Хотя может показаться, что этот 'пример* уводит нас не-
сколько в сторону от непосредственного объекта нашего рас-
суждения, он все-таки представляется намного убедительнее,
чем любой другой, точно соответствующий предписанным рам-
кам.
Такие реакции людей друг на друга, естественно, издавна
известны. Подобные проблемы постоянно встают с возникнове-
ния цивилизации, и в силу своей значимости для человеческого
общения они не остаются только сюжетами поэзии; ими зани-
маются и мыслители, прежде всего исследователи этики, со-
циальных проблем и т. д. Но из самой природы сигнальной
системы Г следует, что ее рациональное понимание менее аде-
кватно и точно, чем понимание поэтическое. Ибо если эти типы
реакций на отношения, возникающие между людьми, должны
-быть упорядочены в виде единой абстрактной и чисто рацио-
нальной системы, то их подчинение какому-либо чисто этиче-
скому или социальному принципу очень часто 'Приводит к тому,
что они теряют свою специфику. С другой стороны, если при
этом чувство приводит к тому, что в реакциях как будто воз-
никает нечто противоречащее разуму, то само рассмотрение
становится чисто абстрактным и растворяется в шустоте. Диа-
лектическая тонкость и ум Аристотеля проявляются в том, что
он, сталкиваясь с этой проблемой, уделяет большее внимание
описанию окружения, пространства, в котором разыгрывается
это явление, чем самому явлению. Естественно, он не может
.полностью освободиться от античной этической традиции:
-стремления сводить все человеческое к чисто рациональным
категориям. Он пишет: «Так называемая совесть, которая по-
зволяет называть людей совестящимися и имеющими совесть,—
это правильный суд доброго («тактичного». — Д. Л.) человека.
:Это подтверждается [вот чем]: доброго мы считаем особенно
-совестливым, а иметь совестливость в иных вещах — это свой-
ство доброты. Совестливость же — это умеющая судить совесть
-человека, причем судить правильно, а правилен [тот суд],
.32
когда исходит от истинно [доброго человека]»41. Нетрудно за-
метить,« дао Аристотель подробнее говорит о том,,в какой си-
туации^ должен проявиться описываемый феномен . и где;исг
кать его критерии, чем о самом этом явлении, которое, как он
предполагает,, известно каждому на основании его социального
опыта. Выше он весьма решительно отмечает и подчеркивает,
что действующее здесь «простое понимание» не тождественно
ни научному познанию, ни обычному суждению. При этом
речь должна идти не-о какой-либо частной науке, а о понима-
нии в смысле обучения. Из приведенных выше рассуждений
он делает следующий вывод: «„.Мы применяем понятия «со-
весть», «соображение», «рассудительность», «ум» к одним и
тем же людям и говорим, что они имеют совесть и уже наде-
лены умом.и что они рассудительные и соображающие. Дело
в том, что все эти способности существуют для последних дан-
ностей и частных случаев. И если человек способен судить о
том, с чем имеет дело рассудительность, то он соображающий,
<добросовестный>, или совестящийся, ибо доброта—общее
свойство вообще всех добродетельных людей в их отношении
к другому»42. Комментируя эти высказывания Аристотеля,
Прантль говорит о том, что выходит за рамки «чистого акта
чувствования как инструмента» в специфически человеческом
зрении и слухе, и дает следующую интерпретацию воззрений
Аристотеля: «...видеть человек также должен учиться»43. От-
сюда становится еще яснее, что понимал Аристотель под «рас-
судительностью», «умом»: «восприятие единичных данностей».
Таким, образом, становится понятной, с одной стороны, тесная
связь чувственно отдельного, единичного, с обсуждаемым
здесь «соображением», а с другой стороны, что, хотя чувствен-
ность, обретающая при этом действенность, и является даром
природы, она вместе с тем через посредство жизненного опыта
выходит далеко за пределы своего изначально данного бытия.
Таким образом, Аристотель может заключить свои рассужде-
ния призывом: «Поэтому недоказательным утверждениям и
мнениям опытных и старших <или рассудительных> внимать
следует не меньше, чем доказательствам»44.
Вернемся к вышеприведенному примеру из «Войны и ми-
ра». Мы видим тесную, почти неразрывную связь между
двумя явлениями жизни: эвокацией как элементом общения
людей друг с другом (а также своеобразным «пробуждением»
от эвокативных воздействий как их снятием) и практической
проблемой познания человека. Мы убедимся, что оба эти яв-
ления не могут иметь места без постоянного участия сигналь-
ной системы V. Но сначала необходимо сделать несколько за-
мечаний о самой эвокации. Аффекты, чувства и т. д. можно
передать по меньшей мере живым существам того же рода —
это элементарный жизненный факт, который никак не ограни-
чивается лишь человеческим родом. Теоретически можно, по-
3—102
33
жалуй, утверждать, что всякое общение между животными
носит эвокативный характер. Это кажется вполне вероятным
на первый взгляд, поскольку определенные звуки, движения,,
способы поведения могут не только передавать аффекты, но-
и сообщать об их возбудителях, причем недвусмысленно; та-
ковы, например, страх, опасность, враг, от которого они исхо-
дят. Передаваемые при этом знаки понимаются безошибочно,
если речь идет о давно закрепившихся условных рефлексах.
Именно поэтому нам кажется, что здесь нельзя говорить об
эвокации в собственном смысле слова. Эвокация выступает
только тогда, когда она действует, с одной стороны, как па-
раллель, дополнение, замена и т. д. тех сообщений, «нормаль-
ной» лосредующей системой для которых является вторая сиг-
нальная система. С другой стороны, объект эвокации соот-
ветственно значительно более сложен, ибо здесь* не только про-
буждается чувство опасности, страха и т. д. в своей более
абстрактно-простой форме, но и возникает весьма конкретная
жизненная ситуация, во многом связанная с другими жизнен-
ными явлениями, так что эвоцируемое при этом чувство —
а только его и можно назвать эвокацией в собственном смыс-
ле этого слова — имеет своим содержанием важные моменты
всего общественного жизненного процесса. И здесь, естествен-
но, данности повседневной жизни обнаруживают многосторон-
ние переходы и взаимосвязи. Когда, например, в театре объ-
является пожарная тревога, то аффекты людей, разбегаю-
щихся в слепой панике, ничем особенным не отличаются от
простых реакций типа рефлексов, о которых говорилось выше.
Одно и то же событие может, однако, вызвать у его участни-
ков важные этически-общечеловеческие ассоциации, может
привести к тому, что люди проанализируют ситуацию при по-
мощи своей творческой фантазии, творческого воображения и
поведут себя так, что их решимость — в голосе, жестах и т.д.—
путем эвокативного воздействия заставит других быть спо-
койными, дисциплинированными, изменить свое поведение
и т. д.
При этом проявляются определенные конкретные черты
эвокации. Прежде всего это ее мгновенность. Ведь жизнь —
это не шахматная партия, в которой можно сколь угодно долго
обдумывать ходы, хотя, естественно, встречаются — причем
довольно, часто — и такого рода ситуации; их распутывают
благодаря тщательному анализу, и в их разрешении эвокация
играет весьма эпизодическую и даже вспомогательную роль.
Поэтому, как мы могли видеть из рассуждений Аристотеля, ин-
туиция приобретает такое большое значение в ситуациях, тре-
бующих немедленного принятия решения. Но интуиция эта
действует совершенно иначе, чем это представляют себе ее со-
временные интерпретаторы. Весьма характерно, что и Павлов
при анализе высшей нервной деятельности не мог не обратить
34
внимания .на интуицию. Однако существенно, что он видит в
ней —в противовес современной философии иррационализма
от Шеллинга до Бергсона и т. д. — не высшую форму пости-
жения действительности, своего рода «мерило» адекватности
мышления, а своеобразную форму протекания определенных
мыслительных процессов, для которых сохраняют действен-
ность те же критерии, что и для так называемого дискурсив-
ного мышления. Павлов пишет: «Теперь, в чем же состояла
моя интуиция? Состояла она в том, что я результат помнил, а
процесс мотивировки позабыл, в то время когда хотел сказать,
что должен быть нуль. Если ты наклонен к адетерминизму, то
ты долго этот случай не поймешь; а если его разобрать, то
очевидно, что дело сводится к тому, что я результат помнил и
ответил правильно, а весь свой ранний путь мыслей позабыл.
Вот почему и казалось, что интуиция..Я нахожу, что все интуи-
ции так и нужно понимать, что человек окончательное помнит,
а весь путь, которым он подходил, подготовлял, он его не под-
считал к данному моменту»45.
Говоря об интуиции, естественно, надлежит сделать ту же
оговорку, что л при описании воображения [с. 19 и ел.]. Ин-
туиция — это психологическое явление, которое может иметь
место как во второй сигнальной системе, так и в сигнальной
системе Г. Приведенные выше наши .рассуждения, как и вы-
воды Павлова, непосредственно затрагивают лишь вторую сиг-
нальную систему. Для полноты картины следует заметить, что
в данном случае мы, как и при описании воображения, будем
исследовать с психологической точки зрения, действует ли во
второй сигнальной системе внутренне присущая ей интуиция и
воображение, что здесь используется интуиция и воображение
сигнальной системы I', с тем чтобы потом полностью вопло-
тить во второй сигнальной системе достигнутые результаты.
Во всяком случае, сходные явления можно заметить уже в
процессе труда. Говоря о разделении труда между органами
чувств, Гелен в своем описании особо выделяет этот интуитив-
ный ход: «Но все эти явления глаз охватывает одним взгля-
дом»46. С точки зрения этих рассуждений результаты подобных
исследований и не могут быть затронуты. Мы уже неоднократ-
но подчеркивали, что все, что достигается через посредство
сигнальной системы I', может быть описано более или менее
адекватно через язык или через мышление. Но характерно и
важно то, что повсюду, где эвокация играет решающую роль
в мире словесного выражения, возникает тенденция сознатель-
но заменять чувства на интуитивное понимание. Ранее [см.
т. 2, с. 306—307} мы уже говорили о «Риторике» Аристотеля, в
которой категории энтимемы и парадейгмы играют важную роль
как авокативные сокращения для обозначения силлогизма и
индукции. Если исследовать эти категории в связи с пробле-
матикой наших рассуждений, становится ясен смысл самой
3*
35
трансформации: сокращение, опущение многих предпосылок и
промежуточных звеньев, сведение прямых и открытых высказы-
ваний к тому, что является самым необходимым для понима-
ния смысла, используется с целью отделить само по себе ра-
циональное содержание от его чисто мыслительного постепен-
ного вывода, придать ему форму, приводящую к интуитивному
пониманию в вышеописанном смысле, которая вызовет у слу-
шателя в первую очередь не только мысли, но и переживания,
чувства, ощущения и т. д. Характерно, что при этом Аристо-
тель отмечает благоприятное воздействие лаконических изре-
чений, загадочных, полных намеков речевых форм47.
Здесь следует — чтобы не исказить описываемое явление —
выступить против тех современных концепций, в которых чув-
ства человека метафизически противопоставляются миру его
мыслей. И в том, и в другом случае речь идет о целостном
человеке. Дело лишь в том, в каком направлении внутренняя
жизнь концентрируется в данное мгновение, на чем она сосре-
доточивается и какая мгновенная иерархия отдельных способ-
ностей создает эту концентрацию. Выше мы уже охарактеризо-
вали две группы тенденций в рассмотрении объектов как дез-
антропоморфирующее и антропоморфирующее поведение.
С психологической точки зрения первое ориентировано исклю-
чительно на бытие-в-себе объекта, а второе — на то значение,
которое объект получает по отношению к субъекту. Отмечен-
ные выше тенденции в наиболее чистом виде проявляются в
науке и в искусстве. В жизни же ^представлены в основном
смешанные формы, для которых, однако, характерно преобла-
дание того или иного принципа. Вышесказанное относительно
сформулированного Аристотелем преобразования мысли в
средство эвокации — жизненный факт. Достоевский дал точное
описание подобных явлений в романе «Бесы». Когда Кириллов
высказывает сомнения в новизне одной идеи Ставрогина, тот
сперва колеблется, но замечает: «Когда я подумал однажды,
то почувствовал совсем новую мысль». Кириллов возражает:
«Мысль почувствовали? Это хорошо. Есть много мыслей, ко-
торые всегда и которые вдруг станут новые». Пока что мы
рассматривали эту «мгновенность» лишь применительно к так
называемым серьезным ситуациям. Но, без сомнения, сюда же
относятся и шутки, ведь шутки перестают быть шутками, если
их приходится обдумывать, чтобы понять. Но поскольку в
шутке преобладает ее мыслительно-вербальный элемент, мы
не будем здесь подробно останавливаться на решении сложно-
го вопроса: действительно ли и в какой мере при этом работает
сигнальная система Г. Мы вообще не ставим здесь перед собой
задачи окончательно решить вопрос о психологической связи
между интуицией и воображением. Но нам представляется
весьма вероятным, что в отношении эвокативных воздействий
они конвергируют.
36
Одного мгновенного характера воздействия было бы явно*
недостаточно, чтобы дать полное представление о роли эвока--
ции в повседневной жизни человека. Ибо ясно, что человек,,
как правило, сразу реагирует и на самые простые условные-
рефлексы. Язык же, как вторая сигнальная система, имеет
следующую особенность и преимущество: он создает определен-
ную дистанцию, расстояние между человеком и миром объек-
тов. Гелен справедливо отмечает, что человек «разрушает сфе--
ру влияния непосредственного, в котором животное заключена
навеки со всеми своими непосредственными чувствами и мгно-
венными реакциями»48. В своих дальнейших рассуждениях
Гелен цитирует соответствующее высказывание Гоббса о 'Про-
тивоположности человека и животного: человека делает голод-
ным уже грядущий голод, побуждающий его как в мыслях,
так и в действиях заботиться об утолении грядущего голода,
то есть работать49. В дальнейших своих рассуждениях, которые
Гелен опустил, Гоббс указывает и на отрицательные послед-
ствия возникновения у человека этой дистанции: «...он лишь
способен следовать в своих действиях ложным правилам и
внушать их другим, с тем чтобы последние также следовали
им. Благодаря этому заблуждения распространяются среди
людей шире и более опасны у них, чем у животных. Человек,
если ему угодно... может также преднамеренно проповедовать
ложные цели, т. е. лгать, и тем самым подрывать сами пред-
посылки человеческого общения и мирного сосуществования
людей»50. Здесь возникает вопрос: имеется ли параллель этому
в сигнальной системе Г? Эта дистанция и ее последствия ни-
как не противопоставлены мгновенному характеру эвокативных
воздействий. Мгновенный характер воздействий может иметь
место и во второй сигнальной системе, что никак не снимает
возникающей в ней дистанции; можно вспомнить, например,
внезапно пришедшие в голову идеи, шутки и т. д. Ведь дистан-
ция касается функционирования всей сигнальной системы, ее
объекта, ее метода, самой сущности характера возникающего
при этом субъективного поведения. Если вопрос ставится та-
ким образом, становится стонятным, что сигнальная система Y
не может не обнаруживать весьма сходных свойств со второй
сигнальной системой. Мы уже отмечали, что собственно объект
сигнальной системы Y — это не просто тот объект, который
вызывает соответствующие реакции через непосредственные
аффективные связи с субъектом. И здесь сохраняется различие
между поводом и причиной. Вспомним наш пример [с. 34] —
панику при пожаре. Большинство поддавшихся панике подчи-
нено той непосредственной реакции, которую мы вслед за
Гоббсом определили как неспецифически человеческое поведе-
ние. Вполне оправданное преобладание условных рефлексов
есть вообще всего лишь .преобладание нормальной, повторяю-
щейся данности. Люди, охваченные паникой, похожи на беспо-
37
мощных птиц, случайно попавших в комнату [с. 25—26]. В силу
социально необходимых причин человек может фиксировать
многие из своих реакций на окружающую среду как условные
рефлексы (традиция, привычка, рутина и т. д.) ; его специфиче-
ски человеческое проявляется именно в том, что в тех чрезвы-
чайных ситуациях, где необходимо принять решение о чем-ли-
бо очень важном, но неожиданном, он не просто механически
отдается во власть отработанных привычек, но и соответственно
реагирует на новое. Это возможно лишь тогда, когда человек
не просто подвергается воздействию раздражителя—сколь бы
сложным оно ни было, — но когда в нем устанавливается це-
лая цепочка определенных мотивов, которая неразрывно свя-
зана со всей его жизнью, с его прошлым и будущим, когда,
одним словом, явление, вызывающее реакцию, воспринимается
человеком как повод к действию, а не как механически опре-
деляющая причина. Именно так обстоит дело у тех людей,
которые — в нашем примере — не поддаются панике, а сопро-
тивляются ей. Не вызывает сомнения и следующий факт: не-
обходимый здесь мгновенный анализ конкретной ситуации и
того, как в ней необходимо действовать (не только обуслов-
ленный сложившейся объективной ситуацией, но и выступаю-
щий как результат всей предшествующей жизни человека, его
целей, отношений с другими людьми и т. д.), возникает по
меньшей мере во многих случаях не на основании рационально-
моральных соображений. Здесь решающую роль играет, скорее,
эвокация эмоционального и моторного воображения через по-
средство повода и интуитивно-эвокативное воздействие на
окружающих. Это последнее может происходить и совершенно
осознанно. Так, в «Войне и мире» Николай Ростов вступает в
дом князя Болконского как раз тогда, когда крестьяне пы-
таются не дать княжне Марье Болконской уехать. Он прихо-
дит к ним с управляющим, чтобы навести порядок, и по дороге
ругает его; «и, как будто боясь растратить понапрасну запас
своей горячности, он оставил Алпатыча», поспешив к крестья-
нам.
Из всего вышеизложенного следует, что в случае, когда
кто-то ведет себя таким образом (например, борется против
паники), мы имеем дело — в отличие от простых условных реф-
лексов— не с простым, непосредственным чувством опасности,
страха за себя и т. д., а с проявлениями этих чувств в аб-
страктной форме. Более того, здесь одновременно проявляется
очень многогранный и сложный комплекс ощущений и воз-
зрений, убеждений, конфликтов и решений, воздействие кото-
рых охватывает всю жизнь целостного человека. При интуитив-
ном обобщении, где все, что интуитивно связано с переживания-
ми в настоящем, кажется, сокращенным и редуцированным, мы
должны — как в языке, так и в мышлении — улавливать сигна-
лы сигналов. Вернемся к отрицательному критерию Гоббса —
38
«привилегии» человека «следовать в своих действиях ложным
правилам» [с. 37]. Как мы видели, это предполагается и в-
павловском определении второй сигнальной системы. Теперь
мы можем обнаружить такую возможность и в сигнальнойе
системе I'. Джозеф Конрад в своем романе «Лорд Джим» опи-
сал молодого, смелого и честного моряка, жизнь которого обо-
рвалась из-за того, что в решающие минуты в нем 'победило-
воображаемое предвосхищение открывающихся в данной си-
туации возможностей, что и привело его к роковым ложным
решениям. Итак, «силлогизмы» сигнальной системы Г всегда
находятся на перепутье истинного и ложного, как правильные
следствия собственно мыслительного процесса.
Наверное, было бы чрезмерным еще раз указывать на пере-
ходный характер сигнальной системы Г в жизни. Однако мы
повторяем: во-первых, все перечисленные действия или реше-
ния можно дополнительно описать и средствами второй сиг-
нальной системы. В них нет ничего противоречащего разуму и
ничего такого, что могло бы выходить за пределы разума, за
рамки его критериев (в том числе и этических). Обе высшие
сигнальные системы — с заключенными в них возможностями
ошибок — есть лишь психологически различные субъективные
способы поведения, возникшие социальным образом для того,
чтобы люди могли постичь объективную действительность и
овладеть ею. Правда, разделение труда между этими система-
ми, как и всегда в жизни, не только формальное. Более того,
когда-то различными моментами одной и той же реальности
человек овладевает благодаря одной из двух высших сигналь-
ных систем. Различие этих моментов ничуть не менее важно,
чем тождество предметов. Ибо, как мы уже видели на других
примерах и еще не раз увидим, посредством каждой из этих
сигнальных систем достоянием человека делается нечто—■
компонент объективной действительности — гораздо более
труднодоступное или вообще недоступное для него, если бы в
его распоряжении имелась лишь одна из систем. Таким обра-
зом, наличие общего поля деятельности для обеих систем ни-
как не ликвидируется. С другой стороны, эти соображения
должны наложить свой отпечаток на различия между сигналь-
ной системой Г и условными рефлексами. Это не исключает
того, что обе рассматриваемые сигнальные системы основы-
ваются именно на условных рефлексах и что в остальном
между ними имеются самые разнообразные переходы. Вернем-
ся к ситуации паники, о которой шла речь выше: сущность не-
которых видов образования (например, военной и военно-мор-
ской подготовки) состоит как раз в том, чтобы фиксировать
такого рода условные рефлексы, препятствующие проявлениям
панических реакций страха. Закрепленная таким образом си-
стема условных рефлексов служит тому, чтобы обеспечить и
упрочить бесперебойное функционирование обеих высших сиг-
39
надышх. систем у обучаемых, людей. Можно, привести: также
целый ряд. такого рода примеров из жизни,,
.Теперь мы переходим.к анализу решающей проблемы;.;по-
вседневной жцзни — проблеме; человеческого .познания. Мы-по-
стараемся показать, что связанные, с этой проблематикой и
обладающие большой практической важностью задачи невоз-
можно было бы решить без участия сигнальной. системы Г.
При этом следует подчеркнуть, что' здесь мы также имеем де-
ло ... со специфической проблематикой бытия человека, сформи-
ровавшегося благодаря труду, а вовсе не с «извечно человече-
скими» проблемами. Это запрос, возникающий лишь в силу
дифференциации общественной жизни как результата разви-
тия труда, развертывания производительных сил, В жизни
животных мы. не находим этому аналога: любое животное лег-
ко и просто «понимает» другое животное, относящееся к. тому
же роду, и знает, в той мере, в какой это сопряжено с поддер-
жанием его собственного существования, важные для него
привычки представителей других родов и видов. (Насколько у
низших животных это знание может быть неадекватно, показы-
вает пример паука и комара [с. 25].) Коль скоро в примитив-
ном человеческом обществе родовое полностью подавляет-ин-
дивидуальное, проблема познания и понимания человека еще
не встает как важный вопрос взаимоотношений между людьми.
Естественно, вследствие развития труда подчинение индивида
роду; никогда не может быть таким же полным и абсолютным,
как.в животном мире. Но обычаи, традиции, условности и т, д.
могут, по существу, в такой степени управлять этими взаимоот-
ношениями, и регулировать их, что санкции против нарушите-
лей установлений охватывают все функционирование коллекти-
ва.; С концом эпохи первобытного коммунизма положение ме-
няется. Энгельс дает ясное и четкое описание человеческих и
нравственных последствий такой ситуации, полностью призна-
вая их необходимость и прогрессивный характер: «Самые низ-
менные побуждения — вульгарная жадность, грубая страсть к
наслаждениям, грязная скаредность, корыстное стремление к
грабежу общего достояния — являются воспреемниками нового,
цивилизованного, классового общества; самые гнусные сред-
ства—воровство, насилие, коварство, измена — подтачивают ста-
рое, бесклассовое родовое общество и приводят к его гибели»51.
Если человек хочет сохранить свое существование при из-
менившихся социальных условиях, ему необходимо выработать
новые способности для поддержания общения с другими людь-
ми: ему нужно научиться «искусству» (в приведенном выше
широком смысле) познания людей.
Как и во многих вопросах общественной жизни, потреб-
ность в этом давно уже назрела — практически эта потреб-
ность удовлетворяется и тем самым признается как существую-
щая, — прежде чем может возникнуть сознательное отношение
40
йМатои проблеме. Например, в Древнегреческое эШеёмнерёДко
выступают описанные-ЭнгельсомМоральные проблекы/'Ёстё-
• ствеййо, хитроств^ ■ обман, жестокости и т;; д. ïïo !№йошейй:к* ^ 'к
''ч$Щ$'№Щагам*$ШМ''%опустШы и распрострайенк и в'Древ-
них^ёообществах. В древних ск'азанйяхэти качества йроявйяют-
chÏ'hVS5 отношении собственных родственников.. Такие -образом,
проблема познания человека етавится сШой^зкизньЮ;- й Fo-Mëp
изображает в «Одиссее» совершенный тип человека,- которйй
мсМет'видеть людей насквозь и: соответственным образом«ш-
менять их реакций. Но здесь' эт^ умение остается лишь слу-
чайностью—правда^ удйвительйой;: нарйду судачами ОдйСсея
мьг^бйДйм, что в этой: способности отказано Ахиллу, Аяксу,
^Ага'йёййойу. Гомер не анализирует и не дает оценок; не ставит
проблем, он просто противопоставляет! один тий человеческих
реакций другим.Ф> «Фйлоктете» Софокла' нравственная'!îrpo-
блем'а : оказывается^ четко ^формулированйой:! Йеоптблем сйаад-
лà: йыступает против плана Одиссеяг йредать? Фйл<!>ктета и! !в
рёШаюЩий момент; отказывается выступить■• чего-СоШйиком.
Но проблема ставится, во-первых, с нравственной, Ф !не £ пси-
хологической точки зрения (Неоптолем, вообще'Ю1воря,,;спосо-
бен предать Филоктета); во-вторых, обман смышляется-в ад-
лях^ общего: благополучия, а не ради личйой выгоды^ в-трётних,
Софокл сам открыто считает конфликт неразрешимым;-1 по-
скольку он разрешается только благодаря deus ex machina.
Психологический вопрос познания человека-зде^ь оказывается
еще не поставленным. Напротив, в <<Оресте>> БвШпида .пробле-
ма ставится уже ясно и однозначно. Opecf жалуется на то, что
нет никаких ясных признаков, по которым можно было бы
распознать добродетельность человека. Ведь природа смертных
полна искажений и грехов. Ни происхождение, ни положение
в обществе не являются исчерпывающими критериями. Как же
можно принять правильное решение? ;i ' ■.-/■.
Такая постановка войроса в древнегреческой литературе
опирается на теоретически вполне понятные критерии: необхо-
димо вскрыть те социальные и антропологические связи, кото-
рые определяют действия различных типов людей. После этого
человек должен решить, какими отдельные люди созданы на
самом деле. Так рассматривает этот вопрос Платон и даже
Аристотель, относительно которого мы попытались показать
[с. 32], что он явно исходя из познания индивидуального, все
же находится под сильным влиянием древнегреческого искус-
ства. Для этого переходного периода в формировании познания
человека, когда, конечно, как показывает пример с Одиссеем,
могут фиксироваться и практически правильные, основываю-
щиеся на интуитивном понимании своеобразия индивида случаи,
характерна постановка в качестве новых ряда проблем чело-
веческих взаимоотношений, которые нам представляются чем-
то само собой разумеющимся. Такова, например, проблема
41
с^язи между внутренним и внешним в человеке. Так, Сократ
у Ксенофонта спрашивает Паррасия,,могут ли художники изоб-
разить хороший нрав. Ответ великого художника весьма лю-
бопытен: «Как же можно Сократ... изобразить то, что не имеет
ни пропорции, ни цвета и вообще ничего такого, о чем ты
сейчас говорил, и уже^совершенно невидимо?»52 Сократу уда-
лось убедить Паррасия, а в другом разговоре и скульптора
Клитона в правомерности и выполнимости своего постулата.
Мы здесь хотим показать лишь социально-исторический харак-
тер всего этого комплекса, причем речь в первую очередь идет
о том, что выдающийся художник — по крайней мере по сви-
детельству Ксенофонта — отнюдь не считает визуальное изоб-
ражение внутреннего мира чем-то само собой разумеющимся
и признает это весьма проблематичным. Здесь мы не имеем
возможности дать даже приблизительное описание этапов раз-
вития этой проблемы. Достаточно вспомнить — резюмируя на-
ши вводные замечания, прежде чем приступить к рассмотрению
собственной проблемы, — с каким гневным удивлением почти
две тысячи лет спустя Гамлет говорил о Клавдии, правда, по-
добное удивление может проявиться в кризисный момент жиз-
ни всякого человека, ведь в развитии отдельных людей, как
правило, повторяются основные этапы духовного развития че-
ловечества:
Подлец!
Улыбчивый подлец, подлец проклятый! —
Мои таблички, — надо записать,
Что можно жить с улыбкой и с улыбкой
Быть подлецом.
(Перев. М. Лозинского)
Эта проблема разворачивается во всей своей сложности
от Ореста до Гамлета, :по мере того как необходимое для по-
знания человека единство внутреннего и внешнего, выявление
внутреннего на основании внешнего превращается в свою про-
тивоположность: выражение внешнего связано с внутренним,
которое одновременно выступает как противоположность тому,
что обычно типологически выражает улыбка. Чем больше
развивается общество, тем диалектичнее, тоньше становится
эта связь; ее все труднее возвести к столь остроумно построен-
ной типологии. Понятным становится, что в новейшее время,
когда во всех областях познания наблюдается склонность к
агностицизму, и в этой сфере объявляется, что человек непо-
стижим, говорится о непреодолимом противопоставлении внут-
реннего и внешнего, о безнадежном инкогнито в существовании
каждого отдельного индивида (Кьеркегор, экзистенциализм).
Однако поскольку практическое познание человека существо-
вало и раньше, когда его никто еще не считал проблемой, то
в повседневной жизни человека оно действует и сейчас, неза-
42
висдао от того, оспаривают ли влиятельные философы самую
возможность его существования.
Если мы попытаемся следовать самой общей линии разви-
тия познания человека, то, с одной стороны, мы увидим, что
она сохраняет и момент подчиненности индивида, о котором
идет речь, какому-либо типу. Чем решительнее на первый план
выступает социальная сторона поведения, как, например, у
древних греков, тем в большей мере типология носит социаль-
ный характер и тем самым оказывается подчиненной чисто мыс-
лительной типологии. Уже отсюда возникают определенные
расхождения между теорией и практикой. Ибо общих призна-
ков и критериев такой типологии всегда оказывается недоста-
точно для того, чтобы вынести суждение о специфической ин-
дивидуальности. (В жизнеописаниях Плутарха эта проблема-
тика в сложных случаях становится весьма очевидной.)
На практике, напротив, такой тип находит гораздо более гиб-
кое выражение. Естественно, без обобщений обойтись невоз-
можно, но при этом всегда действует инстинктивное стремле-
ние не доводить их до величайших высот абстракции и систе-
матики53. G другой стороны, это развитие приводит к тому,
что в центре оказывается индивид, его частная жизнь и т. д.
При этом на первый план выступает категория, которая до
этого была скрыта: категория истинности. Пока что потреб-
ность в типизации формировалась у нас на .основании таких
свойств, как хитрость, обман, лицемерие и т. д. Естественно,
борьба каждого отдельного человека против последствий про-
явления таких свойств остается весьма важной; однако в раз-
личных условиях эта борьба ведется по-разному. Проблема
истинности ставится уже в повседневной жизни благодаря бо-
лее сложному отношению людей к той роли, которую они долж-
ны играть в обществе. Например, когда во время заключения
сделки один купец оценивает другого как честного торговца,
при этом не имеется в виду, что тот не может обмануть, про-
явить хитрость и т. д.; напротив, он в полной мере может
обладать подобными качествами, но проявляться они у него
будут в тех рамках, которые определяются господствующими
в это время среди купцов торговыми обычаями и установле-
ниями. Поэтому будущее поведение (в том числе проявления
хитрости и т. д.) кажется более предсказуемым и более вычис-
лимым заранее, чем в случае, если у человека еще не вырабо-
тались эти привычки и нормы поведения. Толстой с непревзой-
денным искусством описал психологию таких «обычаев» в
высших слоях общества. Так он показывает генерала Кутузова
во время беседы с одним из его коллег, представителей став-
ки австрийских союзников. Те хотели убедить его — против
его. желания — объединиться с австрийской армией. Кутузов
отвечал им вежливыми, ничего не значащими словами. И за-
тем : Толстой так описывает значение его улыбки: «Вы имеете
43
полное право не верить мне, и даже мне совершенно все рав-
но, верите ли вы мне или нет, но вы не имеете повода сказать
мне это. И в этом-то все дело». Непосредственно после этого
он передает своему адъютанту, Андрею Болконскому, различ-
ные доклады и записи, чтобы на основании их составить мемо-
рандум. Кутузов даже не намекает о содержании и основных
идеях этого меморандума, но «князь Андрей наклонил голову
в знак того, что понял с первых слов не только то, что было
сказано, но и то, что желал бы сказать ему Кутузов». А в при-
емной он отвечает на вопрос своего приятеля — другого адъю-
танта— так: «Приказано составить записку, почему нейдем
вперед». Здесь Толстой показывает, что Кутузов — истинно
светский человек, а Болконский — истинный адъютант. Подоб-
ных примеров можно привести очень много. Зд^сь мы должны
лишь показать, что функционирование такой системы обще-
ственных отношений (куда, естественно, относятся и истин-
ность и неистинность поведения, и соответствующие противо-
положные черты у противника и т. д.) требует более активного
участия сигнальной системы Г, чем раньше. Сюда же относит-
ся и чтение между строк в разговоре, когда интонация, почти
неуловимые акценты, паузы и т. д. часто приобретают большее
значение для понимания смысла, чем сам смысл слов.
Правда, следует добавить, что проблема истинности гораз-
до шире и глубже, чем это следует из вышеизложенного. Хотя
дифференциация в сфере общественного разделения труда
становится все тоньше и поэтому создает строго специализиро-
ванные формы познания человека, все-таки она не охватывает
всей его жизни; из бытия человека нельзя исключить дружбу
и товарищество, любовь и брак и т. д.; и чем меньше они на-
ходятся под властью общих социальных категорий, тем боль-
шее значение приобретает истинность или неистинность для
поддержания или краха этих отношений. Здесь мы ограничим-
ся лишь указанием на подобные явления. И вновь мы находим
у Толстого экстремальный, но именно в силу этого поучитель-
ный и полезный пример: старый князь Болконский, изображен-
ный типичным рационалистом и просветителем XVIII века,
проводит вечер с молодым Пьером Безуховым. Он выносит
о Пьере такое суждение: «Молодец твой приятель, я его полю-
бил! Разжигает меня. Другой и умные речи говорит, а слушать
не хочется, а он и врет, да разжигает меня, старика». Отсюда
совершенно ясно, что правильное понимание истинного харак-
тера собеседника создается в основном благодаря сигнальной
системе Y.
Распространенность такой ориентации выявляется уже в
самой манере письма, характерной для крупнейших морали-
стов, .«подробно останавливавшихся на проблемах истинности.
Достаточно сравнить стиль «Характеров» Лабрюйера с их
прообразом у Теофраста, чтобы ясно увидеть различия, при-
44
чем, как всегда, за стилем скрываются отчасти содержатель-
ные, отчасти категориальные проблемы. В этом случае речь
идет об инстинктивной тенденции ориентировать и типы, и
типологию на особенное, в противоположность тем античным
образцам, для которых целью познания типического было вы-
явление общего. Еще явственнее эта тенденция проявляется у
современника Лабрюйера — Ларошфуко, афористичный стиль
которого оказал большое влияние на моралистов XVIII века
вплоть до Дидро. В той мере, в какой вообще можно оценить
афоризм как способ выражения мыслей, правомерно утверж-
дать, что у Ларошфуко и его последователей функция афориз-
мов состоит в том, чтобы воплотить те колебания и шатания
от единичного до всеобщего, которые соответствуют сущности
тенденции находить логическое обоснование типическому в
особенном, а не во всеобщем. Поэтому каждый его афоризм
носит обобщающий характер, остроумен и часто парадоксален.
Ни один афоризм не создает систематики, а просто стоит ря-
дом с другими афоризмами, в которых обобщаются в том же
духе сходные или даже противоположные частные случаи, их
совокупность позволяет создать такое промежуточное царство
мысли, которое выходит за рамки чисто единичного, но не по-
зволяет превратить собственное непосредственное обобщение с
его оговорками, нюансами и контрастами в действительное,
систематизированное всеобщее. У Дидро это направление до-
стигает своего апогея. Занимающие его моральные проблемы
он стремится адекватно понять в их человечески типическом,
в их истинно особенном, и поэтому его описание этого круга
проблем затрагивает исключительно литературное выражение
и достигает своего идеала в морально-философском диалоге
«Племянник Рамо». Таким образом, рациональное объяснение
этих новых явлений жизни движется вперед спонтанными и
сложными, обходными путями, до тех пор пока, ,как мы видели,
во влиятельных течениях современной новейшей философии не
возникает нигилизм по отношению к проблемам познаваемости
и типизации человека.
Естественно, эта крайняя позиция так же ложна, как и та,
в соответствии с которой явления жизни, понимаемые при
помощи сигнальной системы V и необъяснимые иным образом,
рассматриваются как нечто иррациональное. Ибо те пути, ко-
торые мы наметили, показывают, напротив, постоянное и все
более имманентное сотрудничество обеих высших сигнальных
систем. Во всяком случае, фактуально-лрактически — а не осо-
знанно-теоретически— при этом признается, что ведущая роль
сигнальной системы Г для достижения максимально адекват-
ного познания необходима и становится еще необходимее.
По причинам, философски обосновать которые мы сможем
лишь в следующей главе, никакое (познание человека, никакое
понимание отдельного человека как отдельного невозможно
45
без типизации — пусть даже неосознанной. Всякое познание
человека есть составная часть континуальности индивидуаль-
ной жизни в обществе. Итак, невозможно познать человека
без учета предшествующего опыта во всей его полноте, опы-
та, который в каждом ^отдельном случае — осознанно или не-
осознанно— привлекается как материал для сравнения. По-
мимо этого, однако, именно своеобразие, несопоставимость
каждой индивидуальности, всякого человека закоснели бы в
неосмысленной замкнутости невыразимого словами, если бы
они не составляли континуальной целостности со своеобразием,
«инаковостью» других. Это само собой разумеется для рече-
вого выражения, ибо это выражение не могло бы состояться,
если бы все такие связи не лежали в основе жизненных пере-
живаний, причем именно таким образом, каким воспринимают
мир люди посредством сигнальной системы Г. Даже самые
внешние проявления человека, которые непосредственно фик-
сируются в условных рефлексах, вне этих сравнений не могут
подвергаться обработке рационально-речевым образом. Мы
не можем сразу сказать о человеке, высокого он роста или
нет, не сравнив его с другими людьми. Мы были бы совер-
шенно беспомощны перед лицом сложных явлений внутренней
жизни, если бы всякий новый опыт в общении с людьми—:
сознательно или неосознанно, с. сопоставлением или с оценкой —
не включался бы в последовательность данных предшествую-
щего опыта. Установить связь индивидуального с типическим
именно в его особенности — это элементарный факт человече-
ского общения, начиная с определенной ступени.
Стремление к истинности конкретизирует возникающие та-
ким образом связи в двойном направлении. С одной стороны,,
масштаб типизации остается в области чувственно восприни-
маемого человеческого и не поднимается до уровня абстракт-
но-рационального типического. В отличие от науки, которая
по своей методологии не может не стремиться к унификации и
сокращению числа типов, познание человека в повседневной
жизни оперирует бесконечно большим числом типов. С дру-
гой стороны — опять-таки в отличие от науки — типизация по-
вседневного познания людей обращена на субъект, поскольку
она создается и применяется отдельным человеком в интересах,
его собственной частной жизнедеятельности. Глубокие знатоки
людей, естественно, стремятся — в собственных, вполне понят-
ных интересах—к достижению возможно большей объектив-
ности, соответствия действительности. Однако сохраняющая
свою фундаментальность эмоциональная основа в большой
степени способствует сохранению ориентации на субъект, соот-
несенности с субъектом. Эту особенность типизации, опреде-
ляющую познание людей в повседневной жизни, охарактеризо-
вал Максим Горький, описывая свою юность: «Чистенький, ак-
куратный, Осип вдруг кажется мне похожим на кочегара Якова,,
46
равнодушного ко всему. Иногда он напоминает начетчика
Петра Васильева, порою в нем является что-то общее с де-
дом— он так или иначе похож на всех стлриков, виденных
мною. Все они были удивительно интересные старики, но я
чувствовал, что жить с ними нельзя — тяжело и противно.
Они как бы выедают душу, их умные речи покрывают сердце
рыжей ржавчиной»54. Легко видеть, что такие типы могут и
должны быть описаны вербально-рациональным способом, од-
нако они выделяются не в результате логического анализа.
Речь идет не о том, что «переживания» (сигнальная система Г)
дают только материал, который получает свою истинную фор-
му при обработке разумом. Типическая картина, синтез раз-
личных переживаний оказывается, по существу, завершенным,
хогда ему дается вербально-рациональное описание. По край-
ней мере именно так происходит во многих случаях. Тот факт,
что в процессе разработки, синтеза решающую роль часто по-
лучает мышление, ничего не меняет в этом основополагающем
факте. Мы уже говорили о постоянном сотрудничестве обеих
высших сигнальных систем как о характеристике этих типов
отношения к действительности.
Разумеется, в жизни пропорциональные соотношения этих
двух сигнальных систем могут быть различными в зависимости
от области рассмотрения и от каждого отдельного случая в
пределах данной области. В практической деятельности следо-
вателя, естественно, вторая сигнальная система играет домини-
рующую роль в большей степени, чем в похождениях Дон
Жуана. Достаточно обратиться к таким шедеврам реализма,
как «Преступление и наказание» Достоевского и «Опасные
«связи» Лакло, с точки зрения различия описанных в них пси-
хологических ситуаций, чтобы увидеть, что даже в таких край-
них случаях в принципе обе высшие сигнальные системы дей-
ствуют одновременно и переходят друг в друга. (Как и вооб-
ще в этой главе, здесь мы также рассматриваем произведения
искусства не в эстетическом шлане, а лишь как отображения
реальных психологических процессов, которые очерчены в них
более ярко и пластично, чем в добросовестно-подробных кон-
•статациях жизненных фактов; в силу известности этих худо-
жественных произведений наши выводы легче проверить.) По-
верхностному взгляду суть романа Достоевского предстает как
интеллектуальная дуэль между Раскольниковым и следовате-
лем на тему о рациональном истолковании определенных фак-
тов, связанных с убийством. Обычные детективные истории
•сводятся при этом к выявлению и сопоставлению сложных улик.
Тем самым они удаляются от жизненной реальности, так как
в них имеет место упрощение и низведение подлинной жизнен-
ной борьбы до уровня арифметической операции. Напротив,
Достоевский дает правильную картину развернувшегося про-
тивоборства. -С нашей точки зрения, при этом решающее зна-
47
чение имеет то, как понимается отдельный случай. Самая ар-
гументированная логическая цепочка не втыдержйвае! никакой
критики, если она в решающих звеньях оказывается психоло-
гически недостоверной, противоречащей личности соответствую-
щих людей. Познание каждого отдельного человека во ? многих
случаях —это проблема ■■■истинности в вышеописанном смысле.
Действительно, непротиворечивая цепочка зависимостей"не мо-
жет возникнуть, если улики, факты и психология подозревае-
мого не соответствуют друг другу. Нередко факты, лежащие в
основе улик, даже не полностью известны; например, в; «Пре-
ступлении и наказании» никто не знает, где спрятаны деньги.
Здесь неуместно было бы предлагать более точной" описание
возникающих таким образом противоречий. Можно и нужно
подчеркнуть лишь следующее: в таком случае обе высшие
сигнальные системы взаимодополняют друг друга, переходят
друг в друга. В основе этой диалектики лежит тот фак!т, что в
обеих системах сохраняется возможность отрыва от реаль-
ности. Как и каждая чисто логически обоснованная цепочка
улик может привести к совершенно неправильным решениям,
так и всякое познание человека, всякая психология, основан-
ная на сигнальной системе I', по удачному; выражению' До-
стоевского,— палка о двух концам. Это блистательно йоказано
в «Братьях Карамазовых». Адвокат и обвинитель на основании
улик и психологического портрета Дмитрия Карамазова вы-
страивают безукоризненную последовательность событий; и то
и другое логически и психологически взаимодополняет и прояс-
няет друг друга — но ни одна из версий не соответствует дей-
ствительности. Сотрудничество обеих высших сигнальных си-
стем, таким образом, создает больше возможностей для при-
ближения к объективной действительности, чем это была бы в
силах сделать какая-либо одна из них. Однако это сотрудниче-
ство не может 'полностью уничтожить основную структуру обеих
систем — потенциальную тенденцию к уходу от фактов (ослаб-
ление связи с условными рефлексами). Совершенствование си-
стем, которое диктуется настоятельными потребностями обще-
ственной жизни, может поэтому привести лишь к большему
приближению, но не к «полному соответствию их.
Эта диалектика взаимозависимости двух сигнальных си-
стем, естественно, неоднозначна для разных областей. Если мы
бегло останавливаемся здесь на вопросах сексуально-эротиче-
ского плана, мы делаем это лишь в интересах углубления
нашей проблематики. Ясно, что половая жизнь животных про-
текает исключительно в сфере условных и безусловных рефлек-
сов; и так называемые вторичные половые признаки (Дарвин),
что само собой разумеется, относятся к этой сфере. Обществен-
ная регуляция половой жизни сохраняет свою значимость лишь
на уровне второй сигнальной системы. Этот фундаментальный
факт не исчезает в силу того, что возникающие таким образом
48
правила, то есть обычаи, условности и т. д., нередко-преобра-
зуются в условные рефлексы, Ибо решения в отдельных спор-
ных случаях принимаются на основании рациональных крите-
риев (состояние, семейные связи и т. д.). Правда, отдельные
мифы, при (помощи которых человек явно ограждает себя от
модернизации, показывают, что с возникновением цивилизации-
индивидуальная любовь еще активнее пробивает себе дорогу.
Но для прежних представлений характерно, что эта индиви-
дуальная любовь не считается, «нсрмадьной». Она восприни-
мается, скорее, как ниспосланная богом награда или наказа-
ние. И как бы ни разнилась судьба гомеровской Елены от
судьбы Федры у Еврипида, как бы далеки друг от друга они
ни были, именно это их объединяет.
Здесь нас в первую очередь интересует то, что в ходе раз-
вития возникает все больше и больше вторичных и третичных,
моментов притяжения, которые все более далеки от непосред-
ственной сексуальности и . нередко вообще теряют плотский
характер. То, что мы обычно понимаем под термином «эроти-
ка», содержит определенную ауру, атмосферу сексуальности..
Если эта последняя в конечном счете, естественно, основывает-
ся на безусловных рефлексах, то нередко она пронизывает* все
жизненные проявления человека и лишает все, связанное с
полом, его изначально изолированного (положения в совокуп-
ной жизни людей (это с очевидностью обнаруживалось и рань-
ше, например в любви к мальчикам во времена античности)..
Для нас важно здесь то, что тем самым снова открывается
широкое поле деятельности сигнальной системы Г. Ибо те
приметы, по которым люди узнают, что они предназначены
друг для друга, что они дополняют друг друга, что они; необ-
ходимы друг другу для взаимного роста и совершенствования
и т. д., не могут быть отнесены к сфере действия простых
условных рефлексов. Люди во многих случаях приходят к та-
кому «выводу» — и это может быть сопряжено со страданием,—
прежде чем им становится ясно исходя из мира непосредствен-
но условных рефлексов, какие отдельные свойства другого
человека явились источником столь глубокого переживания.
Первичное содержание такого переживания — молниеносное
понимание сути целостного человека как такового через по-
средство другого целостного человека. И здесь интенция, с од-
ной стороны, направлена на истинность его сущности. С другой
стороны, однако, эта истинность проявляется не только в ее бы-
тии-в-себе по отношению к предмету интенции, но и — что нераз-
рывно связано с этим — в ее соотнесенности с собственным ^«Я».
Разумеется, здесь не представляется возможным дать да-
же приблизительное описание этого явления во всей его слож-
ности. Чтобы показать эту многогранность и универсальность
человека, мы приведем лишь признание Отелло в том, как за-
рождалась его любовь к Дездемоне и ее любовь к нему. Как
4—102
49
шзвестно, Отелло много рассказывал Дездемоне о своей бур-
ной, героической жизни; она просила его рассказать все по
порядку:
Я начал. И когда
Дошел до первых горьких столкновений
Моей незрелой юности с судьбой,
Увидел я, что слушавшая плачет.
Когда я кончил, я был награжден
За эту повесть целым миром вздохов.
«Нет, — ахала она, — какая жизнь!
Я вне себя от слез и удивленья.
Зачем узнала это я! Зачем
Не родилась таким же человеком!
Спасибо. Вот что. Если бы у вас
Случился друг и он в меня влюбился,
Пусть вашу жизнь расскажет с ваших слов
И покорит меня». В ответ на это *
Я тоже ей признался. Вот и все.
Я ей своим бесстрашьем полюбился,
Она же мне — сочувствием своим.
(Перев. Б. Пастернака)
Последующее словесное обобщение неизбежно упрощает всю
сложность ситуации. И так происходит всегда, когда мы пы-
таемся дать вербальное описание переживаний такого рода
post festum. Ибо все нравственные и интеллектуальные катего-
рии, которые были в данном случае затронуты у обоих персо-
нажей— по отдельности и сами по себе, — оказались недоста-
точны для объяснения. Но и такое высшее восхищение может
оставаться холодным, и такое глубокое сострадание может
'быть лишено любовной окраски. Именно соотнесенность по-
добных мыслей и чувств с конкретной личностью (облик, голос,
.взгляд и т. д.) важна для возникновения у людей таких спе-
цифических эротических переживаний; и та посредующая си-
стема, на базе которой они воспринимаются, перерабатываются
и синтезируются в единое чувство любви, и есть сигнальная
система Г.
Как мы видели, античные философы мифологизировали
такие чувства, воспринимали их как ниспосланные богами —
со злым или благим намерением. Да и сами любящие, а зача-
стую и их окружение склонны создавать об этом мифы — даже
^если они обходятся при этом без ссылок на вмешательство богов.
Вместе с тем все эти действия всегда можно — пусть даже и
постфактум — полностью выразить посредством мыслитель-
ных категорий, их можно разложить на общечеловеческие и
•социальные компоненты. Было бы интересно и важно рассмот-
реть более подробно историю возникновения этих чувств, этих
явлений в человеческих отношениях и в практическом позна-
нии человека. Мы же отметим лишь, что наиболее очевидные
дифференциация и синтез тесно связаны с формированием
моторного и эмоционального воображения, возникшего в ходе
50
развития труда, а также складывающихся на этой основе бо-:
лее сложных социальных взаимоотношений между людьми..
Это ясно выразил Гёте в «Римских элегиях» .непосредственно
в связи с эротикой: «...Закон постигаю в сравненьях: /Глаз,
осязая, глядит, чувствует, гладя, рука». Эта дифференциация
постепенно распространяется и на все жизненные проявления
человека. В античной культуре эта диалектика выражается
преимущественно в форме абсолютного превосходства транс-
цендентной духовно-нравственной красоты над плотской, чув-
ственной, так что для Плотина даже безобразная внешность
человека полностью заслоняется его внутренней красотой.
Лишь намного лозже применительно к эротической притяга-
тельности в более узком смысле ( очарование, привлека-
тельность и тому подобные формы beauté du diable получают
эротически положительную оценку, и интеллектуальные и
нравственные качества обретают значимость для эротики, од-
нако полностью противоположную той, что мы видели у Пло-
тина. История этого развития пока не создана, правда, Черны-
шевский специально исследует именно социальные основы
эротически-сексуальных предпочтений, описывая, в частности,,
что считается достойным любви среди крестьян, а что — в выс-
шем обществе, и его соображения именно потому очень ценны,
что они основаны на анализе таких важных явлений, как труд,
и праздность, однако они не вносят ничего нового в рассмот-
рение нашей проблемы55.
Естественно, следовало бы опираться на подобные фунда-
ментальные социальные факты. Но они позволяют создать
лишь реальное пространство для развития, реальный контекст
для тех телесных и душевных типичных свойств, из которых,
и происходит интересующий нас здесь индивидуально-эротиче-
ский выбор. Они же в определенной мере создают те условные
рефлексы, развитие которых как сигнальной системы Г здесь
и описывается. При этом, конечно, нельзя забывать, что те
условные рефлексы, которые фиксируются у людей благодаря
окружению, воспитанию и т. д., оказывают также большое-
влияние на их вкусы в эротически-сексуальной области, при-
чем это влияние намного более противоречиво (притягатель-
ность противоположности и т. п.), чем считает Чернышевский.
Даже и социально обусловленные формы общения между
людьми, связанные с этим 'привычки и обычаи оказывают
определенное воздействие на качественные особенности сферы
эротического — вскрывая новые, до сих пор недейственные
раздражители, нейтрализуя старые и т. д. И чем более индиви-
дуальна любовь, тем большую роль начинает играть мышле-
ние в «стратегии и тактике» любовных отношений. Упомяну-
тый нами выше роман Лакло — истинная энциклопедия опыта
такого рода. Но если мы и здесь устанавливаем взаимоотноше-
ния между обеими высшими сигнальными системами, тогда.
4*
51.
уже здесь мы видим резкое расхождение плана и исполнения.
Даже в таком крайнем случае — случае в основном интеллек-
туального превосходства, как у Лакло, на каждом конкретном
этапе происходит чувственная эвокация ожидаемых воздей-
ствий. Уже язык, вторая сигнальная система, здесь должен
рассматриваться лишь как система эвокаций, если мы хотим
-описать эротические устремления. В обыденной жизни, есте-
ственно, пропорции и соотношения оказываются настолько
различны, что они создают новые качества; а те случаи, когда
речь идет о том или ином сотрудничестве обеих высших сиг-
нальных систем, разумеется, следует признать столь же край-
ними и редкими, как и ситуации, описанные Лакло.
Таким образом, мы видим на достаточно высокой ступени
общественного развития сложное, противоречивое сотрудниче-
ство сигнальной системы Г и второй сигнальной системы.
Здесь нет необходимости перечислять даже важнейшие случаи,
следует лишь вкратце упомянуть педагогическую практику.
Разумеется, в конечном итоге педагогическая практика руко-
водствуется и регулируется социально обусловленными прин-
ципами, так что знание и продуманность должны играть в ней
решающую роль. Но всякая такого рода практика приводит —
и чем глуже она разрабатывается, тем в большей мере — к пре-
вращению в условные рефлексы целого ряда возможностей
применения принципов, изначально выработанных мыслитель-
ным путем. Типичные признаки хорошего или плохого, прилеж-
ного или ленивого, умного или ограниченного ученика посте-
пенно на (практике превращаются в условные рефлексы, спон-
танные реакции, позволяющие выносить то или иное решение.
И чем больше выработанные таким образом типы соответ-
ствуют осознанным принципам, выработанным рациональным
путем, тем более устойчивый вид условных рефлексов они
образуют. Истинный педагог ясно представляет себе, что
индивидуальности не всегда точно подходят под эти типовые
рубрики; исключения — одаренные люди, которые не подпа-
дают под нормальный тип хороших и прилежных учеников,
неясные стадии развития, которые нельзя отнести за счет не-
внимательности, рассеянности, могут восприниматься и оцени-
ваться только на основании проверки на истинность, проверки
человеческого «ядра», скрывающегося за обманчивой и (проти-
воречивой «поверхностью», то есть лишь при помощи сигналь-
ной системы I'. (Много примеров, подтверждающих это наше
положение, можно найти в романах Макаренко.) Итак, сиг-
нальная система Г работает как система контроля и коррек-
ции, препятствующая окостенению в виде условных рефлексов
тех (принципов, которые изначально были выработаны в ходе
рациональных рассуждений.
Возможно, покажется излишним еще раз подчеркивать, что
такая система контроля весьма важна и даже необходима,
52
но не может гарантировать ни подлинной близости к объек-
тивной действительности, ни открытия истины. Ибо возмож-
ности ошибок сохраняются в принципе как при сигнальной
•системе Г, так и при второй сигнальной системе. С абстракт-
ной и структурной точки зрения речь идет об одном и том
:же источнике ошибок: поскольку и в том, и в другом случае
мы имеем дело с сигналами сигналов, отношения между сиг-
налами, непосредственно указывающими на объективную дей-
ствительность, могут терять устойчивость, а затем сниматься.
Это ослабление связей происходит — являясь оборотной сто-
роной необходимых обобщений и синтеза — в обеих сигналь-
ных системах различным, часто даже противоположным обра-
зом; поэтому одна может позволить корректировать другую,
и положительное значение такого взаимоконтроля ни в коей
:мере не оспаривается, хотя его непреложность и подвергается
сомнению.
Это утверждение можно проиллюстрировать и на следую-
щем щримере, который мы приведем с тем, чтобы прояснить
весь сложный комплекс человеческого познания. Разумеется,
многие на опыте сталкивались с тем, что при первой же встре-
че с человеком возникает очень ясное представление о его
сущности, неразрывно связанное с явственным, соотнесенным
■с субъектом чувством «приятия» и «неприятия» его личности.
Часто оказывается, что при более близком знакомстве речи,
дела, действия этого человека настолько противоречат перво-
му впечатлению, что мы отвергаем его как ложное, а иногда
<и вовсе забываем. В таких случаях может возникнуть тесный
контакт, даже близкая дружба с этим человеком, пока при
случае вдруг не оказывается, что первое, отрицательное впечат-
ление в отношении истинного характера указанного человека
■было правильнее, чем весь позднейший опыт. Случается и об-
ратное: человек может шрервать отношения с другим челове-
ком, несмотря на благоприятное первое впечатление о нем,
и затем жалеть об этом, позднее же, при случайной встрече,
первое впечатление может вновь подтвердиться. Совершенно
неправильно было бы мифологизировать эти первые впечатле-
ния, истолковывать их как непреложные видения, проистекаю-
щие из глубоко заложенного в нас инстинкта. Они могут быть
столь же ошибочны, как и результаты длительного опыта.
Но сам факт, что длительный опыт может — применительно к
истинности — полностью опровергаться первым впечатлением,
ясно показывает роль сигнальной системы Y в повседневной
жизни: возможность посредством эвокативного синтеза узнать
нечто существенное о характере ближних.
Мы надеемся, что выше мы ясно описали функции специ-
фически эвокативного в повседневной жизни. Но с точки зре-
ния психофизиологической стороны познания людей также
ошибочно считать эвокацию исключительно эстетической кате-
53
горией, как это уже было показано применительно к фантазии,
воображению. Признавая эвокацию : особой — как активной,
так и пассивной — формой общения на уровне повседневности,
мы обобщаем множество явлений, которые и создают обще-
ственные отношения людей друг с другом и которые в ходе
развития этих отношений постоянно возрастают как количе-
ственно, так и качественно, расширяя тем самым даже и по-
нятие сообщения, сузившееся до всего того, что может найти
однозначное точное выражение в языке. Мы уже отмечали
признаки этой формы сообщений, общие и для второй сигналь-
ной системы: обобщение (удаленность < от непосредственных
впечатлений действительности, которые дают нам условные и
безусловные рефлексы) и тесно связанная с этим возможность
делать ложные выводы, вытекающие из слишком большой,
выходящей за рамки оправданного и необходимого обобщен-
ности элементов, их взаимосвязей, комбинаций и т. д. Исполь-
зуя выражение «ложный вывод» применительно к синтезу,
происходящему через посредство сигнальной системы Г, мы,
с нашей точки зрения, не совершаем механического переноса
форм из одной области в другую. Внимательные наблюдатели
приходят к сходным результатам, даже не ставя таких про-
блем. Вспомним, что говорил Аристотель об энтимеме и пара-
дейгме, а Павлов — об интуиции (см. т. 2, с. 307 и ел.; т. 3, с. ,35]*
Приведем еще одно интересное высказывание Жан Поля.
Он исследует комический эффект контрастов и говорит
о его формальных предпосылках: «...Всевластие и быстрота
чувственного созерцания вводят и вовлекают нас в эту ложную
игру». Но при этом он утверждает, что не всякий резкий конт-
раст вызывает комический эффект и находит своего рода
«силлогизм чувствований», который придает контрасту то или
иное воздействие56. Все это подтверждает тесную соотнесен-
ность эвокации с предметом. Обе высшие сигнальные системы
удаляются от той непосредственности, которую дают нам
условные и безусловные рефлексы, но происходит это с тем,
чтобы глубже, шире, многостороннее приблизиться к конкрет-
ной предметности внешнего и внутреннего мира, чем это
доступно для безусловных и условных рефлексов. Было бы
совершенно неправильным — в том числе и на уровне повсе-
дневной жизни — делать вывод о чистой субъективности эвока-
ции на основании ее необходимой укорененности в субъекте!
Предметная интенционированность обеих высших сигнальных
систем,.естественно, совершенно различна: в то время как вторая:
сигнальная система с самого начала создает абстракции (слова),
чтобы очень сложными обходными путями вновь вернуться к
постигаемой объективной действительности, сигнальная систе-
ма Г сохраняет и даже интенсифицирует связь с непосред-
ственными чувственными впечатлениями. Но и в этой интенси-
фикации, живет внутренняя тенденция сделать осознанными
64
предметность и ее взаимосвязи, скрытые в действительной не-
посредственности данного нам мира, особым образом пережи-
ваемыми через эвокацию. (Выше мы неоднократно подчерки-
вали, что .переживания, полученные эвокативным путем, впо-
следствии могут быть описаны с помощью категорий языка и
мышления и, следовательно, не носят иррационального харак-
тера. Ниже мы остановимся подробнее на особенностях этого*
перехода г понятие [с. 132 и ел.].) Наконец, с этим свойством
обеих сигнальных систем связана их ярко выраженная обще-
ственно-историческая сущность. Опять же в наши задачи не
входит изучение исторического характера других рефлексов.
Без сомнения, подавляющее большинство наших условных
рефлексов возникло в силу социально-исторических причин;
с другой стороны, есть много безусловных рефлексов, тесно
связанных именно с антропологической сущностью человека,
а возможно, и унаследованных им еще от животной стадии.
Обе высшие сигнальные системы есть, однако, лишь органы
"человека, которые позволяют осваивать постоянно возникаю-
щее новое в мире, изменяющемся по общественно-историческим
.законам. Даже когда мышление концентрируется только на
независимой от людей объективной реальности, природы,..выше-
перечисленные вопросы, как и теоретический и технический
«аппарат» их решения, обусловлены социально-исторически.
И поскольку сигнальная система Г прежде всего служит «по-
знанию человека (подчеркнем: прежде всего, но не исключи-
тельно) , ее общественно-исторический характер проявляется
-еще очевиднее.
В этом легко убедиться, обратившись к такому общеизвест-
ному явлению, как смех. В своей развитой форме это явление
представляет собой нечто специфически человеческое. Но нель-
зя забывать, что у человека смех может выступать и как безус-
ловный рефлекс: например, когда человека щекочут. Подобные
примеры приводит Дарвин на основании опытов над шимпан-
зе57; разумеется, такие реакции наблюдаются и у многих до-
машних животных — собак, кошек, лошадей, причем во всех
этих случаях остается открытым вопрос о том, насколько воз-
никающее при этом чувственное удовольствие можно рассмат-
ривать как смех. Говоря точнее, в человеческой жизни встреча-
ется смех, который следует понимать просто как результат воз-
действия условных рефлексов. Спонтанно возникающий смех —
при взгляде на людей, которые необычно выглядят, говорят или
одеваются, на тех, кого презирают в силу общественных пред-
рассудков, — ясный и очевидный пример такого положения ве-
щей, как и тот факт, что социальное развитие уничтожает та-
кую спонтанную «смешливость» (во многих отношениях пра-
вильное воспитание состоит в том, чтобы отучить детей от ка-
кого смеха), а также создает новые формы спонтанных и авто-
матических реакций. Сюда же относится и тот факт, что имен-
55
ш vämto рода Смешливость; в разлищшхгсложии огрулпажгсщга-
го'й! ;f ого же общества может проявлятьсяАразличн'ым щ даже
■ npèf йвгойоложкымг образом: внешность, даык^ жестыг одежда то-
рфжанйна могут показатьсяясмешными Клрестъяживу^ в наоборот.
! Все^ этчэ1 : следует учитывать как основу для v смеха: в i новее-
двойной:;жизни- чтобы распознать;-(интересующий »ае.-' 'здесь
феномен в : его истинном псвоеобр азш*.: Это. универсальный <рпо-
соб выражения, который! в ^состояний, отразить^ : щирочайщую
1Жа?лу-человеческих переживаний^ установок* способов поведе-
ниями т. д. без посредства «языка.^Общеизвестно,^;как велика и
разнообразна «стратификация», смеха; от: незаметной < усмешки
до^охота во все горло. Причем здесь речь-идеф'не просто« о
различиях в интенсивности, пусть.даже качественно^неодйна-
ковых; В каждом отдельном^ случае-смех имееаф прежде всего
различную направленность, молено- смеяться,!защищая^или*-.®т-
вергая что-либоу благосклонно или-враждебно, восторгаясь-:или
презирая и т. п.' Вместе с тем смех характеризует не только
спровоцировавший его объект, но и —в неразрывной хвязи с
незванньШ выше — сам^ субъект. Например, доброта или озлоб-
ленность человека мгновенно выражаются в его ckèxe. Но,-по-
мимо этого, смех —один из самых явных ;;сймптомов того/что
мы назвали «истинным» в человеке? заЖатость или--открытость,
простодушие или двуличность, доброжелателенооть или злоб-
ность;^ распахнутость миру или замкнутость й т. п. непосред-
ственно проявляются в различных видах смеха, йрйчём нё-в?ТОм
абстрактном виде,; к- которому нас принуждает такое словесное
перечисление, а скорее в точно конкретизированных нюансах,
че¥ко соотнесенных с дущевной целостностью смеющегося че-
ловека.. Все градации, которые имеются в развитой литературе
для выражения комического, от едкой сатиры, иронии и :ёамо-
ироний до добродушного юмора, сохраняются в смехе человека
в обыденной жизни и легко воспринимаются знатоками людей.
Наконец, во всем этом проявляется социально-исторический
характер смеха, правда, до сих пор ни его история, ни его со-
циологические аспекты не рассматривались исторически. Кое-
что мы знаем на основании изменения объектов осмеяния; уже
здесь отчетливо проявляется процесс развития культуры, гума-
низации, в первую очередь в том, что выбор вызывающего смех
объекта все в большей степени определяется его индивидуаль-
ными чертами. Это, естественно, не снимает непроизвольной
соотнесенности смеха с типическим. Такая соотнесенность обя-
зательно сохраняется в самом акте смеха; когда мы смеемся
над кем-то, мы при этом спонтанно и неосознанно зачисляем
его в определенную социально-человеческую рубрику. Прогрес-
сивным представляется нам здесь то, что все в большей мере
индивидуальное выступает на первый план; высмеивается уже
не нечто общетипическое (калека, чужак и т: д.)"; а определен-
ное- противоречивое,-личностное выражение такого типа. Протй-
56
войоотавляя здесь рада-;.-'•■ясности- лесеинговское- отношение-?-#•
его- Рйкко " -де< -yia>*»■ Ма'рлиньеру простому, высмеиванию ^?чуг
жа-föap мъ1 говорим^ об^ этом: '—+ как и в остальных г случаях;^.; »е
каК! о; художественном образе, а: как о новом способе чувство?--
в'ания: Этот последний проявляется в том, что смешным кажет-
ся уже не проста тип сам по себе, но определенные социально-
чело'веческие способы его проявления, которые подпадают тюд
этот fntï, на не связаньгмеханически и абсолютно с его сущест-
вованием. На первый" взгляд представляется, что сфера смешно-
го тем самым сужается; в определенном смысле это действи-
тельно так. Однако вместе с тем эта сфера и расширяется: та-
кие'дифференциации смешного не только уничтожают всеохват-
ный-абсолютный характер осмеяния определенных типов, но и
позволяют вместе с тем сделать объектами .смеха другие типы,
в которых ранеене видели ничего смешного, — в определенных
►случаях, при определенных соотношениях человеческих свойств
и т.:д. Алъцест в «Мизантропе» Мольера — явное снятие таких
чувств, возникших в ходе общественно-исторического развития;
полемика Лессинга против концепции Руссо относительно по-
добных тенденций у Мольера конкретно иллюстрирует именно
этот способ чувствования: даже определенные формы проявле-
ния добродетели могут производить комический эффект, если....
•они выражают эти способы чувствования извращенным, обра-
зом^ Мы, естественно, лишены возможности описать хотя бы
•бегло. : эти и подобные тенденции. Мы лишь упомянули'.о них,
чтобы дать какое-то представление о направлении развития сме-
ла в жизни. Мир объектов, на который человек реагирует сме-
хом,: постепенно становится все обширнее и все дифференциро-
ваннее, в силу чего, естественно, и его субъективная сторона
должна охватывать в акте смеха все более тонкие, сложные
жизненные ситуации, синтезировать их и развиваться далее.
И в этой общественно-исторической — а не просто антрополо-
гической — сущности смеха, в растущей способности человека
делать на этой основе спонтанные и правильные выводы и вы-
является то направление развития, которое ведет от исходных
•безусловных и условных рефлексов к формированию сигналь-
ной системы Г. (Далее, здесь нельзя не отметить, что люди, как
правило, в состоянии отдавать себе отчет — как рационально,
так: и вербально — в том, что является причиной и объектом
их смеха.)
На рассмотрении этого вопроса следует остановиться под-
робнее, потому что в данном случае мы имеем дело с таким
-способом выражения сигнальной системы Г в жизни, для кото-
рого не может быть и речи о возможной замене на вторую сиг-
нальную систему. (Понятно, что вербальные шутки вовсе не
охватывают всей сферы смешного.) Подобные виды реакций на
внешний мир нередки в общественной жизни человека. В каче-
стве примера можно привести плач: в данном случае имеет
57
место сходное дифференцирующее развитие; оно происходит
таким же образом, как в случае смеха. Можно упомянуть так-
же молчание как средство выражения межчеловеческого обще-
ния. Разумеется, оно играет важную роль с самого начала, на-
пример в случае презрительного молчания жертвы у позорно-
го столба, почтительного молчания юношей в присутствии стар-
цев и т. д. Естественно, и здесь речь часто идет о закрепленных
условных рефлексах, определяемых господствующими обычая-
ми. Не углубляясь здесь в вопросы общественно-исторического
развития, легко можно заметить, что дифференциация молча-
ния различных типов происходит постоянно как экстенсивным,
так и интенсивным путем. Его общественный характер прояв-
ляется уже в том, что оно становится важным или дополни-
тельным, вспомогательным компонентом непосредственного об-
щения людей друг с другом. От более или менее кратких пауз
в разговоре — служащих для того, чтобы ослабить или усилить
значение сказанного, — путь ведет к продолжительному молча-
нию, что провоцирует собеседника либо высказать то, о чем он
предпочел бы умолчать (как раз такую ситуацию описывает
Стриндберг в своей одноактной пьесе «Сильнейшая»), либо к
умалчиванию, непроизнесению чего-либо, молчанию, выражаю-
щему смущение и как внутреннюю, так и внешнюю неуверен-
ность, либо к молчанию, в котором выражается уже самоуве-
ренность. Здесь имеется огромное количество нюансов. С нашей
точки зрения, следует подчеркнуть, что, с одной стороны, на
этом уровне молчание не может быть полностью расшифрова-
но исходя из определенных признаков, как и в случае действую-
щих в общественной жизни и четко зафиксированных условных
рефлексов. Всякое молчание — если его рассматривать непо-
средственно, в отрыве от прочих явлений — можно анализиро-
вать по-разному. Вместе с тем всякое молчание обладает своим
собственным колоритом, своей собственной атмосферой, которая
позволяет точно понять его индивидуальный смысл в каждый
данный момент, а также подлинность или неподлинность при-
бегающего к молчанию человека.
Посредник, позволяющий однозначно понять молчание, —
это именно то настроение, которое оно вызывает. «Настроение»—
сравнительно современное слово. Но дошедшие до нас докумен-
ты показывают, что лежащий в основе этого понятия феномен
существенно старше, чем само это обозначение. Здесь важно,
что нечто точно определимое — и поэтому в дальнейшем осмыс-
ляемое вербально — может быть передано эвокативно без по-
средства языковых выражений. Вполне возможно даже, что в
определенных ситуациях язык, мысль, выраженная языковыми
средствами, сама будет подчинена такому эвокативному воз-
действию. Мы не будем возвращаться к описанному выше слу-
чаю, когда в целях утешения человека, при объяснении в люб-
ви или при попытках завоевать любовь слово становится чисто
58
эвокативиым средством пробуждения определенного чувства
или настроения. Достаточно привести более простые, прозаиче-
ские примеры. Готфрид Келлер описывает, как супружеская
пара Заландер собирается послать телеграмму дочери, с кото-
рой стряслось несчастье. Мартин Заландер составляет текст, но
его жена остается им недовольна и переписывает его заново.
«Она добавила к грубым кирпичам глаголов и существитель-
ных уместные, связывающие их словечки, больше ничего не
изменив». Заландер удивляется: «И внезапно все стало звучать
так сердечно и так тонко». Тот же самый смысл приобретает
совершенно новое звучание. Подобные ситуации пронизывают
все сферы человеческого общения. Мы говорим о том, произво-
дит ли комната впечатление обжитой или необжитой, бесцвет-
на она или несет на себе печать личности ее обитателя, уютна
юна или неуютна и т. д. Прежде всего речь идет здесь #е о том,
являются ли элементы структуры сами по себе замечательными
или никуда не годными, ибо даже комната, обставленная кра-
сивой мебелью, может производить отталкивающее, холодное
впечатление. Толстой совершенно справедливо пишет, что, ког-
да Константин и Кити Левины находят умирающего брата Кон-
стантина в грязном номере плохенькой губернской гостиницы,
Кити быстро удается буквально несколькими перестановками,
несколькими привезенными с собой вещами превратить оттал-
кивающе неуютную гостиничную комнату во что-то мило домаш-
нее.
Опять-таки здесь речь идет прежде всего о совокупности,
об ансамбле; здесь всякая деталь имеет лишь подчиненное,
•симптоматическое значение, и настроение возникает как кон-
кретная система, результат единого эвокативного воздействия,
на основании сочетания самых различных отдельных впечатле-
ний и ассоциаций. При этом надо заметить, что такое единое на-
строение далеко не всегда — как и в наших примерах, а зачастую
и в жизни — создается осознанно. Но следует учесть, что во мно-
гих случаях эвокативно возникшего настроения — даже если
это происходит осознанно — создается впечатление чего-то воз-
никающего «спонтанно», чего-то не «сделанного», и только в
этом случае достигается искомое воздействие. И нередко на-
строение возникает лишь тогда, когда субъективно оно не на-
меренно. Комната может, конечно, быть обставлена правильно,
именно с целью вызвать ощущение уюта, но такая целесооб-
разность не должна при этом вовсе быть оптимальной с объек-
тивно-технической точки зрения. Более того, она должна отве-
чать личным потребностям, которые как с точки зрения совер-
шенства в материальном отношении, так и с точки зрения един-
ства вызываемых ощущений не могут иметь случайного харак-
тера. Эвокация такой личностно-моментной сущности имеет
решающее значение для настроения и тогда, когда движущей
силой его создания является осознанное намерение. Настрое-
5»
ние может возникнуть естественным образом лишь тогда, когда
это намерение остается незаметным. Если же намерение обна-
руживает себя слишком явственно, воздействие часто оказыва-
ется разочаровывающим или вообще комическим.
Мы надеемся, что нам удалось ясно показать, что рефлексы,
объединяемые в сигнальную систему Г, не должны пониматься
как простые условные рефлексы в павловском смысле, что они,
как и сигналы второй сигнальной системы, являются сигналами
сигналов. Мы уже неоднократно указывали на определенные
важные черты структурного и функционального родства между
обеими высшими сигнальными системами. При этом следует
еще раз отметить, что и та, и другая вообще могут возникать
лишь в непосредственной связи с трудом. Само собой разумеет-
ся при этом, что труд создает для человека жизненные условия,
потребности, навыки, которые обязательно должны выходить
за рамки труда в узком смысле этого слова. Однако нам, как
мы надеемся, удалось показать, что в качестве основы сигналь-
ной системы Г следует рассматривать не только труд, но и до-
суг, который, конечно, может возникать лишь на основе труда.
Язык и значительно отличающиеся друг от друга гетерогенные
формы проявления и реализации сигнальной системы Г форми-
руются в ходе того общественно-исторического процесса, кото-
рый начинается с очеловечивания человека посредством труда.
Но в то время как язык с самого начала получает самостоя-
тельное воплощение и может однозначно распознаваться, формы
проявления сигнальной системы Г остаются рассеянными, не-
объективированными, связанными друг с другом лишь через
посредство субъекта переживания. Лишь благодаря искусству
возникает, как мы увидим, ясная объективация этих сигналов.
Выше мы говорили о плюралистической структуре сферы эсте-
тического {см. т. 2, с. 263 и ел.], так что.единство этой сигналь-
ной системы здесь не столь бросается в глаза, как в случае
второй сигнальной системы, для которой повседневный и науч-
ный язык и создают непосредственно очевидную объективацию.
Далее, в дополнение к психологическому аспекту следует от-
метить категориальную структуру объектов, охватываемых сиг-
нальной системой Г. Если обдумать приведенные нами выше
примеры, можно легко заметить, что при таком понимании
предметов господствуют такие категории, как субстанциаль-
ность и ингерентность, при том, что, если они осознаются по-
средством второй сигнальной системы, они прежде всего прояв-
ляются в форме причинно-следственных отношений; правда,
это не происходит всегда и исключительно таким образом, и
сами эти категории не утрачивают неизбежно и полностью
свой изначальный характер. Уже одно это подтверждает, что
эстетическое — высшая и наиболее адекватная реализация сиг-
нальной системы Г и еще раз показывает —о чем уже шла
речь ,при описании этих категорий [см. т. 2, с. 355 и ел.],— что
60
далеко идущий неизбежный разрыв субстанциальности и инге-
рентности посредством причинно-следственных отношений не
является доказательством их чисто субъективного характера, их
уничтожения или разоблачения как несуществующих, а лишь
демонстрирует неизбежное исторически и фактически разделе-
ние двух возможных способов восприятия мира человеком:
дезантропоморфного и, соответственно, антропоморфного. Отме-
тим еще раз, что сама функция сигнальной системы Г такова,,
что эта система все время переходит в другие сигнальные си-
стемы, и таким образом становится понятно, почему она до сих.
пор не признавалась в психологической науке единой системой..
Цель наших замечаний — дать самое общее описание, так.
сказать, определить чисто методологически место рассматри-
ваемой проблематики. Полностью нашу задачу нельзя выпол-
нить, не дав хотя бы приблизительного описания роли и содер-
жания, функций и взаимоотношений представления и понятия:
в человеческой психике. Общая исходная ситуация в высшей
степени проста. Известно, что и у высших животных могут фор-
мироваться понятия, в которых чувственные впечатления, их.
собственное отношение к своей окружающей среде достигают
максимально возможного — для данных животных — уровня,
обобщения. Нет никаких сомнений в том, что вторая сигналь-
ная система представляет собой качественно высшую абстрак-
цию, мир понятий. Применительно к интересующей нас здесь
проблематике при этом возникает вопрос: остается ли представ-
ление (а также и созерцание) неизменным, когда над ним над-
страивается система понятий, или же в этой новой психической
целостности возникают новые содержательные функции, новые-
структурные отношения, которые существенным образом изменя-
ют сам характер понятия (а также созерцания)? Мы полагаем,,
что лишь вторая гипотеза может соответствовать действитель-
ности. При этом решающее значение имеет динамическое един-
ство душевной жизни, необходимым следствием чего является,
то, что объективация отражаемых предметов, то, как они осве-
щаются через понятие, получающее свое собственное отобра-
жение в языке, бросает свой отблеск, свой свет на представле-
ния и воззрения, придает им духовный и объективный харак-
тер, которого они изначально, у животных, никак не могли,
иметь. Разумеется, многие представления животных исключи-
тельно остры и определенны. Например, Рудольф Мелль пишет,,
что дикие утки реагируют на различных хищных птиц (напри-
мер, на морского орла, сапсана, ястреба) совершенно по-разно-
му, то есть они в состоянии выработать четко дифференциро-
ванные представления о своих врагах. Конечно, мы не можем
точно знать охвата и содержания этих представлений. Но весь-
ма маловероятно, чтобы они выходили за пределы тех знаков,,
которые, как правило, позволяют отождествлять и опознавать
различных хищников и которые полностью определяют соответ-
6t
ствующие реакции. В случаях же, когда возникают понятия,
как это имеет место у людей, соответствующее животное фик-
сируется в качестве самостоятельного объекта, свойства кото-
рого распознаются независимо от соответствующей реакции.
Это содержательное обогащение и «доведение» до уровня поня-
тия оказывает обратное воздействие на представление о том
же самом предмете; и оно, как отражение, оказывается соотне-
сенным с целостностью предмета; направление этой связи ука-
зано в сформулированном Гегелем и приведенном нами выше
положении о превращении известного в познанное [е. 14].
Естественно, известность и вместе с тем то, что, как мы могли
видеть, подчеркивал Гегель — взаимопроникновение чувствен-
ных ощущений и созерцания, выделение особенного в противо-
положность всеобщему, — остаются лишь основными признака-
ми представления в отличие от необходимо абстрактного ха-
рактера понятия.
Но при этом представление (а также созерцание) по срав-
нению с его сущностью в чувственной жизни животного полу-
чает новые акценты, новые функции: более полное отражение
•объективно существующего предмета в значительном приближе-
нии к его бытию-в-себе и в многостороннем, многогранном, вы-
водящем за рамки чистой непосредственности конкретных ре-
акций бытию-для-себя преображает представление (и созерца-
ние), выводит его из просто подготовительных этапов понятий
до уровня дополнения и исправления абстрактного совершен-
ства понятия. Предметность объекта возникает для нас лишь
через возможность его адекватного наименования (слово) и
■определения (понятие). Однако этот генезис — постоянно обнов-
ляющийся, бесконечный, вечный процесс, в котором обогащение
•содержания производится из опыта «снизу» через посредство
созерцания и представления, а уточнение, однозначное опреде-
ление происходит «сверху», через понятие. В то время как пред-
ставление скрывает в себе более обширный материал, чем мы
умеем это описать посредством понятия, оно становится своего
рода источником коррекций для понятийного мира, таким конт-
ролирующим органом, который помогает проследить за возмож-
ным отделением понятия от действительности и воспрепятство-
вать этому процессу. Возникающие таким образом сложные
процессы взаимодействия «верха» и «низа» и vice versa обре-
тают в таком представлении свой узловой пункт и придают ему
относительно самостоятельные функции в душевной жизни,
в теоретическом и практическом освоении мира человеком. Эта
•функция представления будет ясна нам, если мы вспомним о
таких проанализированных выше явлениях, как такт, знание
людей и т. д. Точно так же и связь сигнальной системы Г с си-
стемой условных рефлексов и одновременно ее самостоятельное
существование получают при этом новое освещение. Естествен-
но, эти соображения могут быть последовательно доведены до
«2
конца лишь в ходе дальнейшего изложения, когда мы сделаем
попытку показать значение этой сигнальной системы для ис-
кусства.
3. КОСВЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
(ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, ПАТОЛОГИЯ)
Прежде чем перейти к описанию роли сигнальной системы Г
в искусстве, мы хотели бы прояснить описываемое нами явле-
ние с двух сторон, в определенной мере могущих служить отри-
цательными примерами, косвенным образом дополняющими«,
друг друга. Таким образом, мы обратим внимание, с одной сто-
роны, на сходные рефлексы у отдельных домашних животных,,
с другой — на следующую проблему: воздействуют ли опреде-
ленные душевные заболевания одинаково на обе высшие сиг-
нальные системы. Прежде всего рассмотрим домашних живот-
ных. Чтобы встать на правильную точку зрения для анализа
свойств и развития их системы рефлексов, мы должны в пер-
вую очередь оценить ту «революцию», которая происходит при*
одомашнивании диких животных, то есть при переходе их от
свободной жизни к жизни в йастоянном общении с человеком..
В первую очередь — и это касается любого домашнего живот-
ного и вообще всякого животного, которое содержится в пле-
ну, — в жизни таких животных перестают действовать два са-
мых существенных фактора, которые в нормальной жизни жи-
вотных порождают их условные и безусловные рефлексы: поиск,
пропитания и защита от опасности. Таким образом, возникает-
нечто вроде аналогии с досугом и «безопасностью», выводы из->
которой, однако, надо делать очень критически и осторожно, так.
как и досуг, и безопасность как результат своего собственного
труда и жизненных условий, созданных трудом, есть нечто ка-
чественно иное, чем то, что животному навязывается чужой во-
лей. К тому же иногда домашние животные — прежде всега
лошади и собаки, а также обезьяны, эксперименты с которы-
ми проводились в искусственно созданных условиях, — оказы-
ваются перед лицом совершенно новых задач, которые не воз-
никают органически в ходе становления личности, как это име-
ет место у людей, а навязываются им исключительно в силу-
потребностей человека. Естественно, животное в ходе своего
прежнего развития должно было приобрести определенные фи-
зиологические и психологические предпосылки к этому. Однако*
функции, которые оно должно будет выполнять, означают боль-
шой скачок, шаг вперед по сравнению с прежним развитием
животного. Разумеется, на практике резкость такого разрыва
смягчается за счет того, что многие поколения животных на-
тренированы и выведены именно для этой новой «профессии»-
(скаковые лощади, охотничьи собаки). Но и при этих условиях
6&
качественный :скачок не исчезает: не только задачи и .обстоя-
тельства, их реализации придуманы человеком и противопостав-
лены животным как готовый, не сотворенный ими самими.вдешг
<ний мир, но и психологические моменты обусловливаются эти-
ми же предпосылками (охота у диких лесных зверей и органи-
зованная охота в лесу, шаг рысью у лошади и т. д.).
Ясно, что при этом животным приходится вырабатывать и
^фиксировать совершенно новые рефлексы, которые зачастую
диаметрально противоположны инстинктам, присущим предста-
вителям данного вида от рождения и позволяющим им преодо-
левать трудности, часто выходящие далеко за.рамки очерчен-
ной им от рождения сферы действия. В своем описании одного
из экспериментов с собаками Павлов справедливо выделяет
типичность возникающих здесь сложностей. Дело в том,, что со-
баке приходится реагировать на световое воздействие таким
образом, что реакция три раза ничем не подтверждается (соба-
ка не получает пищи), а подтверждение должно наступить
лишь после четвертого появления светового сигнала; задача
«собаки — среагировать на этот сложный процесс, выработав
-правильный условный рефлекс. Павлов подводит такой итог,
своим исследованиям: «Человек рассудил бы своим общим поня-
тием о числе очень просто, а у собаки этого общего понятия нет.
'Ему ничего другого не остается, как отличить свет какими-то
ощущениями, аналогичными выработке тормозного процесса
при различных запаздывающих рефлексах. Очевидно, если бы
зся система состояла из повторных однообразных световых
раздражений, тогда он легко отличил бы первый, второй и тре-
тий свет от четвертого. В нашей же форме опытов световые
[раздражители были поставлены между другими раздражите-
лями, причем разными, сильными и слабыми, положительными
и отрицательными. Условия задачи были чрезвычайно тяжелы-
ми. Тем не менее собака эту задачу одолела и действительно на
первые три применения света развила торможение, а на 4-е —
полный, положительный раздражительный процесс»59. Здесь
-надо обратить внимание на два момента: во-первых, перед жи-
вотным ставится задача, которую человек может легко разре-
шить при помощи имеющегося в его распоряжении понятия
'числа (или в других случаях благодаря своим представлениям
о форме) ; для животных же эта задача невероятно сложна, по-
скольку у них нет этих понятий. Но Павлову совершенно ясно
m то, что объяснение этого явления посредством его учения о
рефлексах не так уж просто, гладко и очевидно. Относительно
опыта над собаками он говорит, как мы уже видели, намного
более общо и более обтекаемо, чем в других случаях: собаке
ничего не остается якобы, кроме как «отличить свет какими-то
ощущениями»; что же касается эксперимента с обезьяной, он
отмечает, что было бы «в высшей степени интересно добиться,
какими детальными физиологическими приемами она до этого
m
дойдет»60. Во-вторых, Павлов особо подчеркивает, что почти
всех собак постигала неудача при выполнений этого задания, за
исключением двух собак одного помета, отличающихся высоко-
развитой подвижностью реакций.
Естественно, животные одного вида и на свободе реагиру-
ют не вполне одинаково на окружающую среду. Одна из вели-
чайших заслуг Павлова заключается как раз в том, что он
конкретно и точно разработал классификацию различных ти-
пов нервной системы у собак. Мы уже говорили [с. 63 и ел.],
что «искусственные» условия опыта ставят перед животными
гораздо более сложные задачи, чем их нормальная жизнь в
качестве домашних животных, причем необходимо еще раз за-
метить, что и эта последняя оказывается для них намного слож-
нее, чем существование в естественной среде для зверя, живу-
щего на свободе. Очевидно, что различие в «одаренности» долж-
но проявляться намного более дифференцированно в связи с
усложнением условий реагирования. При этом мы все время
должны учитывать, что речь идет не только о чисто физических
различиях (сила и т. д.), но и — зачастую в первую очередь —
о различиях психического плана. Так обстояло дело в тех слу-
чаях, о которых писал Павлов. Томас Манн, которому мы обя-
заны замечательными наблюдениями над собаками, пишет,
например, что его пес Баушан очень хорошо умел брать пре-
пятствия в естественных условиях, однако было совершенно не-
возможно заставить его перепрыгнуть через жердь, он все вре-
мя пробегал под ней, и никакое наказание — которого он очень
боялся — не могло заставить его сделать это. Вот наглядный
пример типичной бездарности. Немалый материал по этому
вопросу наверняка имеется у знатоков лошадей, собак, у укро-
тителей. Так, известно, что некоторые лошади «любят» сорев-
новаться, прибегать к финишу первыми, а другие нет, что лов-
кость и умение легко брать барьеры и препятствия далеко не
всегда пропорциональны степени развития соответствующих
способностей (быстроты, выносливости) и т. д.
Поскольку автор не является специалистом по этому вопро-
су, он позволит себе снова обратиться к литературному приме-
ру, к роману Толстого «Анна Каренина». Толстой, который всю
жизнь, а особенно в молодости, имел дело с лошадьми, описы-
вает особенно «одаренную» лошадь Вронского Фру-Фру. Уже
перед скачками жокей говорит ему, что он не должен ни удер-
живать лошадь, ни понуждать ее брать препятствия: «...Давай-
те ей выбирать, как она хочет». Во время скачек Вронский ре-
шает обогнать одного из находящихся впереди него соперни-
ков, но этот последний никак не освобождает для него дорож-
ку. Едва только Вронский задумывает обогнать его с внешней
стороны, как Фру-Фру меняет ногу и начинает обходить именно
так, как нужно. Перед этим Толстой описывает следующий эпи-
зод: надо было перепрыгнуть через реку, но на той стороне ее
S—Î02
65
вместе с лошадью упал всадник, и оба они барахтались на зем>
ле, как раз в том месте, где Фру-Фру должна была приземлить-
ся после своего прыжка. «Но, — пишет Толстой, — Фру-Фру>
как падающая кошка, сделала на прыжке усилие ногами и
спиной и, миновав лошадь, понеслась дальше».
Мы полагаем, что все эти факты — знатоки могут еще умно-
жать их число — вряд ли можно объяснить ссылкой на обычные
условные рефлексы. В обоих случаях, особенно в последнем,
речь идет о новой, неожиданной, совершенно непредсказуемой
ситуации, на которую лошадь никак нельзя было натрениро-
вать. Лошадь должна была обладать чем-то вроде того, что мы
выше назвали, — воспользовавшись терминами Гелена, — мо-
торным и эмоциональным воображением, чтобы сразу правиль-
но отреагировать на такую качественно новую ситуацию. Само
собой разумеется, что определенное варьирование условий ха-
рактерно для проявления всякой реакции на внешний мир-.
Условные рефлексы — это отражение как раз той степени его»
которая обычно характерна для нормальной жизни высших жи-
вотных. Но мы видели, что задания, которые человек ставив
перед домашними животными, выходят за эти рамки, причем в
весьма различных направлениях. Не все домашние животные
в состоянии выполнять такие требования. Поэтому тем, кто
способен к этому, необходимо полнее развивать свои способно-
сти посредством тренинга. Тем самым система условных рефлек-
сов значительно усложняется. Однако, по логике вещей, что-
связано не с врожденными способностями домашних животных,
а с их приспособленностью к решению поставленных перед ними
задач, здесь возникают проблемы, для решения которых недо-
статочно и этих высокоразвитых условных рефлексов, отчасти
потому, что их простое и легкое решение предполагает наличие
понятий, присущих человеку (как в приведенном Павловым
примере с собакой), отчасти потому, что могут возникнуть не-
предсказуемые ситуации (прыжок Фру-Фру). Мы считаем —
проверить наше утверждение можно лишь в специальном, ком-
петентном исследовании, — что в таких случаях у некоторых
высокоразвитых животных условные рефлексы преобразуются^
выступают в роли сигнальной системы Г.
До сих пор мы исключали из нашего рассмотрения один
важный момент, имеющий решающее значение, а именно непо-
средственные взаимоотношения между человеком и домашним:
животным; это упрощение мы сделали затем, чтобы роль труда
предстала перед нами с полной ясностью, со всеми своими ка-
чественно новыми мотивами. Но теперь пора рассмотреть также
и связь человека с животным, ибо этот аспект может иметь
большое значение для решения нашей проблемы. На этом
вопросе подробно останавливается Энгельс в связи с пробле-
мой происхождения речи из трудовой деятельности человека:
«То немногое, что эти последние [животные]... имеют собощить
66
друг другу, может быть сообщено и без помощи членораздель-
ной речи. В естественном состоянии ни одно животное не испы-
тывает неудобства от неумения говорить или понимать челове-
ческую речь. Совсем иначе обстоит дело, когда животное при-
ручено человеком. Собака и лошадь развили в себе, благодаря
общению с людьми, такое чуткое ухо по отношению к членораз-
дельной речи, что, в пределах свойственного им круга пред-
ставлений, они легко научаются понимать всякий язык. Они,
кроме того, приобрели способность к таким чувствам, как чув-
ство привязанности к человеку, чувство благодарности и т. д.,
которые раньше им были чужды. Всякий, кому много приходи-
лось иметь дело с такими животными, едва ли может отказать-
ся от убеждения, что имеется немало случаев, когда они свою
неспособность говорить ощущают теперь как недостаток. К со-
жалению, их голосовые органы настолько специализированы в
определенном направлении, что этому их горю уже никак нель-
зя помочь»61. Единственный момент, в отношении которого этот
прекрасный анализ Энгельса вызывает некоторое сомнение, —
это последнее замечание о том, что неспособность домашнего
животного к артикулированной речи связана исключительно со
строением и негибкостью его голосовых связок. Мы считаем —
именно в свете приведенных положений самого Энгельса, — что
становление артикулированной речи у человека тесно связано
■с необходимостью вырабатывать систему понятий для трудовой
деятельности и что эта настоятельная потребность человеческо-
го существования постепенно привела к появлению артикуля-
ции звуков. Тот факт, что попугай, как замечает Энгельс, также
имеет органы речепроизводства, никак не противоречит нашему
рассуждению, так как попугай может произносить лишь отдель-
ные слова, максимум — фразы, и неспособен к речи в челове-
ческом смысле. Нам неизвестно, сколь долог был процесс воз-
никновения истинной артикулированной речи. Но наверняка
животное — вступив на той ступени, где все эти потребности
еще не выработались, в контакт с людьми, обладающими как
развитой речью, так и системой понятий, в связи с деятельно-
стью, в которой животному навязывается определенная само-
стоятельность в выполнении приказов человека, тогда как ус-
ловия и предпосылки своих действий, как мы видели, оно по-
лучает в готовом виде, — не может самостоятельно выработать
язык. Поскольку здесь можно говорить только о труде в ка-
вычках, о квазитруде, при этом не могут возникать и понятия,
и отражение действительности, требующее выражения посред-
ством артикулированной речи. Вспомним правильное утверж-
дение Павлова о том, что у животных нет понятий о числе,
причем надо еще отметить, что человеческая трудовая деятель-
ность и возникшие благодаря труду общественные формы долж-
ны были пройти долгий путь развития (собственно трудовой
деятельности), прежде чем человек оказался в состоянии сфор-
5*
67
мировать понятие числа. Такое развитие не может иметь места
у домашнего животного, очутившегося перед лицом законченной
системы совершенно нового способа существования и физиоло-
гически не подготовленного к нему.
Эта же ситуация проявляется и в том, что у человека связи,,
возникшие на основании собственно трудовой деятельности, их:
восприятие, способы их выражения получают общий, универ-
сальный характер; напротив, все то, что развивается у животно-
го, оказавшегося в среде готовой культуры труда, ориентирова-
но строго на потребности человека, ограничивается ими и по-
этому оказывается узкоспециализированным. В такой узкой
области могут иметь место и более сложные проявления, од-
нако в этой дифференциации внешний мир не принимает вооб-
ще никакого участия. Это явление верно описал »Теодор Фонта-
не. Когда героиня его романа Эффи Брист, сломленная тяже-
лыми переживаниями, возвращается к своим родителям, eft
очень недостает ньюфаундленда, который был почти что спут-
ником ее жизни. У отца Эффи есть охотничья собака, но она —
по ее словам — такая глупая, что вскакивает лишь тогда, когда
егерь или садовник щелкают затвором ружья. В развитии дей-
ствия романа эта охотничья собака не играет никакой роли, на
столь необъективно оцененная огорченной Эффи особенность
этой собаки — ее «глупость» — позволяет предположить, что на
охоте она может проявить способности, сходные с теми, что
обнаружила на скачках Фру-Фру Вронского. Это специфические
результаты тренинга, достижения которых в области психики не
оказывают универсального воздействия на все аспекты жизни
животного, как это естественным образом происходит у челове-
ка, который приобретает такие навыки в процессе труда, свя-
занного с его собственными потребностями и их удовлетворе-
нием.
Все это лишь подтверждает верность описанной у Энгельса
ситуации, когда в общении человека с животным это чувство вос-
принимается и выражается, выходя далеко за рамки сферы дейст-
вия условных рефлексов. Детально разработанная и проверен-
ная на практике система условных рефлексов лежит в основе
хорошего взаимопонимания между наездником и лошадью. (Од-
нако, как мы видели, точно так же дело обстоит и в случае
общения между людьми.) Томас Манн пишет о своем Баушане,
что он точно знал, когда хозяин собирается ехать в Мюнхен, а
когда идет погулять по окрестным местам; это обусловлено»
лишь тем — подробное объяснение мы находим у самого Тома-
са Манна, — что несколько раз собака тщетно бежала за трам-
ваем, заблудилась, и тем самым оба направления — в Мюнхен
и на прогулку — точно зафиксировались в форме условных ре-
флексов, а собака приучилась следовать за своим хозяином
только в последнем случае. Совсем иное дело — ситуация в ро-
мане Толстого «Анна Каренина», когда Левин возвращается к
68
себе в поместье, подавленный своим неудачным сватовством, а
его охотничья собака сразу чувствует, что хозяин опечален. Дар-
вин рассказывает о павиане, которого служитель дразнил, что-
бы потом помириться с животным, протянуть ему руку; когда
примирение произошло, павиан быстро задвигал губами и под-
бородком вверх и вниз: он смеялся62. Я сам знал одного сен-
бернара — он принадлежал моему хорошему знакомому, — ко-
торый различал гостей своего хозяина, относился к ним с боль-
шей или меньшей симпатией, большей или меньшей антипатией.
И все это — в рамках безупречного поведения, при том, что ему
было совершенно неважно, приносили ли ему любимые угощения
или нет. Животные могут испытывать и выражать и более слож-
ные чувства. Так, Павлов рассказывает, что его коллега, к ко-
торой одна из собак была особенно привязана, хотела вызвать
у этой собаки локальный рефлекс посредством слабого тока.
Собака при этом, отвернувшись, не реагировала ни на какие
ласковые слова, не выдавала никаких условных рефлексов и
отказывалась принимать пищу. Павлов объясняет это на языке
своей психологической системы тем, что собака чувствовала
себя обиженной. И действительно, когда тот же самый экспери-
мент был поставлен другим человеком, к которому собака не
испытывала нежных чувств, он прошел безукоризненно. Томас
Манн тоже пишет о такой обиде, злости, смешанной с презре-
нием, у своего Баушана. Следует отдать дань самокритичности и
высокой научной честности Павлова, который в таких случаях
редко выносит категорическое суждение. Так и здесь, отметив,
что собака чувствовала себя обиженной, он подчеркивает, что
антропоморфное объяснение было бы здесь слишком простым и
что поэтому-то здесь и нужна психология истолкования целого
ряда сложных психологических процессов. И затем добавляет:
«Мы не будем спешить переходить от наших физиологических
фактов к пониманию субъективных чувств. Когда-нибудь дой-
дем до этого и будем в состоянии их ПОНЯТЬ»63.'
Мы также остановимся на этом и не будем продолжать на-
ших рассуждений на эту тему. Нам хотелось только обратить
внимание на те факты, интерпретация которых на основании
одних только условных рефлексов представляется весьма проб-
лематичной, но которые становятся совершенно понятными, ес-
ли мы постулируем наличие определенных аналогий с сигналь-
ной системой Г, а также существование этой системы у живот-
ных при определенных условиях. Естественно, это не проясня-
ет всю проблему в целом и тем более не решает ее. Ибо, разу-
меется, сигнальная система Y в сотрудничестве со второй сиг-
нальной системой имеет другую функцию, чем в том случае,
когда она берет на себя все, что выходит за рамки чистых
условных рефлексов в жизни таких животных. Вместе с тем
появление таких психологических проблем легко объяснимо
как следствие противоречивости самого бытия этих животных,
69
йарадоксальности их положения в человеческом мире. И именно
учение Павлова о функциональной, а не анатомической фикса-
ции всех рефлексов, возникающая таким образом возможность
их взаимоперехода, неважно, сверху вниз или снизу вверх, в со-
ответствии с тем, как этого требует задача приспособления жи-
вого существа к внешнему миру, позволяет предположить —
правда, всего лишь предположить — в сигнальной системе V
орган для удовлетворения возникающих потребностей в подоб-
ном приспособлении.
Обратимся теперь к проблемам, возникающим в патологи-
ческих случаях. (И здесь автор должен сразу оговориться, что
на эти темы он также может рассуждать лишь как скромный
дилетант.) Павлов описывает со свойственной ему точностью и
объективностью очень интересный для нас случай эпилепсии с
последующими нарушениями речи, которые можно определить
как типичные для «моторной афазии». Больной был художни-
ком, и поскольку его правая рука не была повреждена, его
способности рисовать сохранились. После приступа он почти не
мог говорить, произносил только «бо-бо-бо», понимал речь он
также очень плохо. «Скоро обнаружилось, что он при помощи
рисунков может сноситься с окружающими, например: когда
он хотел купаться, то рисовал человека в ванне, когда хотел,
чтобы затопили печку, то рисовал печку, когда хотел, чтобы
ему дали лекарство, то рисовал бутылку с лекарством». Пав-
лов комментирует это таким образом: «Это как будто иллю-
страция возможности разделения первой сигнальной системы от
второй»64. Здесь снова встает проблема или, точнее, необходи-
мость дополнить учение Павлова о двух сигнальных системах.
Ведь не одно и то же — узнает ли тот, кто никак не реагирует
на слово «дерево», реальное дерево или его изображение, так
как во втором случае, вероятнее всего, мы имеем дело с сигна-
лом сигнала. Мы говорим «вероятнее всего», так как могут
быть люди, у которых определенные привычные картины созда-
ют простые условные рефлексы. Намного сложнее ситуация,
когда бессловесный пациент устанавливает контакт с окружа-
ющей средой посредством своих собственных, самостоятельных
знаков предметов. Знак предмета ни в коем случае нельзя —
вопреки мнению Павлова — понимать как простой условный
рефлекс. Если слово «дерево» следует рассматривать как сиг-
нал сигнала, то нарисованное дерево также содержит в себе
обобщенное представление о непосредственно воспринятом де-
реве, которое в своей непосредственности может вызвать услов-
ный или безусловный рефлекс.
Поскольку Павлов оставляет этот важный факт без внима-
ния, он и не замечает особенностей этого больного. Больной
понимает только одно слово кряду, а от двух слов он теряется.
Эта беспомощность, по-видимому, распространяется и на знаки,
на сигнальную систему Г в нашем понимании. Врач показыва-
70
ет ему на рисунке перчатки, шляпу и палку. «Он нарисовал
перчатки. Я спрашиваю- «Еще что?» Он рисует перчатки. Он
долго смотрит и говорит: «Палка». Он смотрит на рисунок, но
шляпу не видит. Когда же я закрыл перчатки и шляпу, тогда
он говорит: «Ага, есть», — и нарисовал шляпу,.. Выходит, что
он не может нарисовать двух самостоятельных предметов, но
воспроизведение отношений людей и предметов ему доступно.
Так, например, на фразу «женщина стирает белье», он хорошо
рисует женщину, которая стирает белье. На фразу «художник
рисует портрет» он воспроизводит художника, который занят
своим делом. Так что значит, когда мы даем ему больше слов,
но эти слова представляют одну зрительную картину, тогда он
их может вместе нарисовать»65. Павлов не останавливается на
этом последнем наблюдении, хотя, с нашей точки зрения, оно
дает ключ к решению поставленной нами проблемы. Ибо в слу-
чае шляпы, палки и т. д., когда между изображенными предме-
тами нет никакой видимой связи и каждый из них следует вос-
принимать по отдельности, действует механизм расстройства
речи. В то же время в случае прачки и художника все пред-
меты даны в зрительном и живописном единстве, которое мо-
жет реализоваться при относительной сохранности собственно
сигнальной системы V. Итак, мы считаем, что для понимания
специфических особенностей описанного случая недостаточно
павловского предположения, что здесь остается сохранной толь-
ко первая сигнальная система.
Существует огромная литература о художественном твор-
честве душевнобольных. Правда, к результатам проведенных
исследований надо относиться с большой осторожностью. Ибо,
во-первых, вследствие догматически предвзятого отношения к
определенным новейшим художественным тенденциям (напри-
мер, к сюрреализму) возникает повальная переоценка резуль-
татов творчества шизофреников, как, например, это происходит
у Принцхорна. Во-вторых, мировоззренческие установки отдель-
ных исследователей часто ориентированы в том же направле-
нии: так, Кречмер считает безумие благоприятным условием
для художественного творчества, а Ясперс полагает, что оно
позволяет устранять определенные преграды при художествен
ном творчестве. В-третьих, именно история болезни крупных
художников, на чьем примере можно было бы сделать ряд поу-
чительных наблюдений, по понятной причине мало изучена:
нередко известны лишь даты острых приступов болезни и часто
неизвестно, не создавались ли художественные произведения
лишь в промежутках между острыми состояниями, при непо-
врежденном сознании и т. д. (Эти лакуны особенно ощутимы,
например, при исследовании Ван Гога.) В случае больных, ко-
торые лечатся в закрытых психиатрических больницах и имеют
подробную историю болезни, ориентироваться проще. Тот факт,
что эстетическая ценность плодов такого художественного твор-
71
^ества также в той или иной мере весьма проблематична, не
является серьезным препятствием для хода наших рассуждений.
Мы будем исследовать лишь то, остается ли сохранной и непо-
врежденной предлагаемая сигнальная система Y или поврежда-
ется ли она в меньшей мере, чем вторая сигнальная система,
в определенных, рассматриваемых нами случаях. Точно так же,
как, анализируя правильную работу сигнальной системы Г, мы не
обязательно имеем в виду Канта или Гегеля, и здесь мы не
обязаны сравнивать каждого с Рембрандтом, Микеланджело
или Ван Гогом; тот факт, что картина или рисунок — с психо-
логической точки зрения — имеет эстетический характер, что
создание ее невозможно объяснить исходя из сигнальной систе-
мы Г или второй сигнальной системы, никак не связан с проб-
лемой эстетической ценности такого произведения.
При всех существующих на этот счет заблуждениях, мы
считаем, что имеются явные указания на то, что отдельные пси-
хические больные, в первую очередь шизофреники, — хотя их
мыслительные способности и речевое выражение этих послед-
них, то есть вторая сигнальная система, полностью разруше-
ны, — все же в состоянии самовыражаться посредством живо-
писи, так как их сигнальная система Г не подвергается столь
же полному разрушению и деформации, как другая, высшая
система рефлексов. Такая возможность представляется нам
весьма вероятной. Ибо из этого следует еще один аргумент в
пользу самостоятельности нашей системы рефлексов. При этом
мы делаем упор на слове «возможность», так как в вопросах
патологии дилетант не может брать на себя риск выносить
точное и определенное решение. Однако, даже когда в отдель-
ных случаях с очевидностью проявляется эта самостоятель-
ность, эта относительная независимость функционирования вто-
рой сигнальной системы, наша гипотеза получает важное подт-
верждение. При этом тот факт, что число психически больных,
занимающихся живописью, по имеющимся данным, невелико
(так, по оценке Принцхорна, такие больные составляют всего
около 2%), не столь уж существен66. Наконец, следует сделать
еще одно замечание методологического характера: до настоя-
щего момента мы занимались способами выражения и прояв-
ления сигнальной системы Г в жизни и только в следующем
разделе собираемся перейти к описанию ее роли в искусстве.
Вероятно, напрашивается вопрос о том, почему мы не хотим
рассмотреть нарушения в области духовной жизни именно в
том разделе. Ответ, как нам кажется, однозначно следует из
наших рассуждений. Мы уже подчеркивали, что в жизни эти
рефлексы характеризуются чрезвычайной лабильностью, они
часто переходят и преобразуются в сигналы первой и второй
сигнальных систем. Потребовалась бы профессиональная обра-
ботка очень большого материала для того, чтобы добиться хотя
бы в какой-то мере однозначных результатов в этой области,
72
до сих пор не имеющей четких границ. Напротив, живопись —
это область, которая определяется объективно и однозначно, и
в ней дилетант, опираясь на профессиональные исследования,
в состоянии разобраться в целом ряде моментов.
Часто психически больные люди хватают карандаш или кисть,
чтобы выразить то, что они чувствуют; они предпочитают это
устному или письменному рассказу. Естественно, есть больные,
которые одновременно рисуют и пишут. В таких случаях часто
имеет место очевидное несоответствие между их способностями
к самовыражению как теми, так и другими средствами. Само-
выражение посредством рисунка обычно понятно, тогда как за-
писи психически больных нередко непонятны и не связаны меж-
ду собой67. Такое стремление к самовыражению посредством
живописи часто возникает у больных спонтанно и лишь спустя
много лет. Так, Ирен Жакаб пишет о больном, который после
двенадцати лет пребывания в больнице вдруг начал рисовать68;
нередко желание рисовать исчезает у него так же ' спонтанно,
как и возникает. Во многих случаях при этом осознание своей
деятельности находится на достаточно низком уровне. Больные
не замечают, что их рисунки стереотипны; один больной, на-
пример, не отдавал себе отчета в том, что на его рисунках об-
наженные; когда его спросили об этом, он возразил, что якобы
на даме есть крест или цепочка69. Сюжеты таких рисунков ред-
ко бывают связаны с какими-либо определенными идеями и
никогда не связаны с местом и временем своего создания70.
В отношении формальной стороны этой живописи Ирен Жакаб
отмечает, что рисунки больных часто двухмерны, не имеют пер-
спективы, не содержат третьего измерения; причем не только
у тех, кто не умел рисовать ранее и поэтому не владеет техни-
кой, даже профессиональные художники утрачивают умение
передавать перспективу71. Ниже мы еще вернемся к этому во-
просу [с. 74 и ел.].
Особый интерес представляет случай Франца Поля, описан-
ный и обработанный Принцхорном72. Этот больной овладел
техникой рисунка, окончив художественные школы в Мюнхене
и Карлсруэ. Его речевая деятельность нарушалась все больше
и больше, его высказывания становились все менее и менее по-
нятны. Принцхорн пишет: «Разговаривать с ним уже давно
стало невозможно». Напротив, его художественное мастерство
непрестанно развивалось, и в этой области он прошел путь от
обычных «реалистических» рисунков до удивительных и фанта-
стических изображений. Не останавливаясь на весьма предвзя-
тых оценках Принцхорна, следует отдать должное его психоло-
гическим наблюдениям о том, что рисунки первого периода
производят впечатление работы ремесленника, способного даже
в состоянии безумия продолжать делать свое дело; именно по-
тому, что и в этом состоянии первая сигнальная система оста-
ется сохранной. Психологический аспект его позднейших опу-
73
сов существенно иной. Если — опять же отвлекаясь от ценност-
ных суждений Принцхорна — попробовать непредвзято рас-
смотреть такие приводимые им иллюстрации, как «Сказочные
звери» (илл. 160) и «Мадонна с вороной» (илл. 161), в них
следует отметить ощущение общего настроения, которое нель-
зя не считать художественным, а также последовательные по-
пытки найти способ композиционного выражения этого настро-
ения. (Как и во всех случаях, здесь необходимо понять это
психологическое свойство интенции, независимо от эстетической
оценки ее сущности, удачи или неудачи и т. д.) Обращаясь к
более поздним работам Франца Поля, которыми Принцхорн
особенно восхищается, можно заметить, что этот общий взгляд
становится еще более смутным, искаженным, что композиция
становится запутаннее, но, несмотря на это, и ç этих картинах
сохраняется — двухмерная, декоративная — гармония цвета.
Таким образом, по утверждению Принцхорна, Поль раз-
Ейвает «свою привычную технику, уже полностью утратив
речь»73.
Аналогичный случай — больной Йозеф Зелль74. И здесь
развитие начинается с картин, относительно реалистических.
В плане содержания они связаны с некоторыми садистскими
представлениями (например, «Садистский мотив», илл. 149), ли-
бо с передачей определенных настроений через изображения
внешнего мира («Городской пейзаж», илл. 153). В них прояв-
ляется определенная композиция красок и движения — в том
смысле, о котором мы говорили выше. И здесь развитие идет
в направлении двухмерной, декоративно-цветовой композиции,
целью которой в некоторых случаях является однозначная пе-
редача того или другого настроения. Примечательно здесь по-
стоянное нарастание аллегоричности сюжета в его отношении
к живописному выражению («Мотивы изображения бога», илл.
154). Сам Зелль объясняет содержание картины так: «Это бог,
он выглядит как обезьяна в пурпурной шапочке; справа его
хрустальный глаз, которым он оглядывает вселенную; внизу
его потайной глаз, которым он смотрит на землю»75. В то вре-
мя как «содержание», особенно будучи сформулировано словес-
но, полно явно бредовых представлений, для картины, напротив,
характерна двухмерная декоративная цветовая композиция, в
художественном характере которой — опять-таки в плане пси-
хологической, а не эстетической оценки — сомневаться не при-
ходится. Связь между содержанием и изображением чисто ал-
легорическая, то есть ее можно понять только по пересказу, а
не из. самой картины. В позднейших работах Зелля эта тенден-
ция проявляется с еще большей очевидностью.
Если мы хотим правильно понять возникающее здесь пси-
хологическое явление, мы должны полностью отвлечься от вос-
торгов Принцхорна по поводу новейшего искусства (сюрреализ-
ма и т. д.) — откуда и следует абсолютная переоценка живо-
74
писи психически больных, — а также на время забыть о нашем
собственном неприятии авангардистского искусства. Повторя-
ем: здесь мы обсуждаем не эстетическую ценность или отсут-
ствие таковой у данного вида художественного творчества, но
то, в какой мере эти произведения (чисто психологически) име-
ют эстетический характер, что позволит нам точно ответить на
вопрос о том, может ли сигнальная система Г продолжать ра-
ботать без сбоев — хотя бы относительно — в условиях серьез-
ного нарушения или полного искажения работы второй сигналь-
ной системы. Чтобы конкретно осветить этот вопрос, необходи-
мо сделать несколько замечаний о возрастающем господстве
двухмерного декоративного элемента над реалистическими тен-
денциями— здесь речь идет опять-таки о психологическом
смысле, вне эстетической оценки, и тенденции эти анализиру-
ются как тенденции к правильному отражению объективной
действительности путем использования таких средств изобра-
зительного искусства, возникших в ходе исторического разви-
тия, как перспектива и т. д. Чтобы исключить возможное влия-
ние эстетической позиции автора этих строк на описание и ин-
терпретацию подобного феномена в психологическом аспекте,
мы хотели бы остановиться на анализе этой проблемы, опираясь
на точку зрения известного историка искусств Бернарда Берн-
сона, не критикуя его позиций как таковых. Бернсон выделяет
в искусстве два решающих принципа: принцип иллюстративно-
сти и принцип декоративности. Он говорит: «Ценность иллюст-
ративкой живописи заключается, следовательно, не в ее внут-
ренних художественных достоинствах, форме, колорите или ком-
позиции, а в точном воспроизведении зрительных образов, заим-
ствованных как из внешнего мира, так и из нашего, внутрен-
него»70. Декоративный элемент как дополняющую противо-
положность иллюстративному он определяет так: «Под деко-
ративностью я подразумеваю все те элементы художественного
произведения, которые непосредственно взывают к нашим чув-
ствам, гаг: колорит и тон...»77. Мы не собираемся в этой свя-
зи критиковать течку зрения Бернсона; более того, для нас
его концепция — лишь способ описания ситуации с эстетиче-
ской точки зрения истинным знатоком живописи, причем этот
способ описания, даже если бы его теоретическая база и
выводы были недостаточно сбоснованы, должен осветить
определенный аспект художественной практики. Нам представ-
ляется, что этот аспект в части, относимой Бернсоном к деко-
ративному, охватывает те элементы художественной практи-
ки, где действует исключительно или по преимуществу сиг-
нальная система I', а то, что он считает иллюстративным,
нацелено на те стороны этой практики, в которых получают
свое значение такие формы и такие виды содержания действи-
тельности, для обработки которых по меньшей мере отчасти
используется вторая сигнальная система, и она, следовательно,
75
«отвечает» за это. Всякое истинное искусство — этого не отри-
цает и Бернсон — создает органический синтез; то есть — как
мы уже отмечали выше и как мы покажем в следующем разде-
ле, где специально остановимся на этой проблематике, — полу-
ченные с помощью второй сигнальной системы формы и содер-
жания должны быть еще раз обработаны сигнальной системой
Г в соответствии с закономерностями эвокативного. Для нас
здесь не имеет решающего значения такой вопрос, как пони-
мание перспективы Бернсоном и т. п. История искусств пока-
зывает, что в ее становлении решающая роль принадлежит
именно науке (второй сигнальной системе), и по работам ве-
ликих художников, которые одновременно были выдающимися
учеными (например, Пьеро делла Франческа, Леонардо да Вин-
чи и т. д.), можно легко видеть, какого напряжения сил стоила
им переработка научных методов и результатов в органические
составные части истинного искусства.
Если рассмотреть творчество душевнобольных с этой точки
зрения, уже не представляется столь трудным, как раньше,
понять принципы происходящих процессов — по меньшей мере
в плане общего представления о них. В типичных случаях ока-
зывается, что их живопись либо полностью лишена всего воз-
никающего посредством эстетической обработки содержания и
формы, исходно полученных как результат функционирования
второй сигнальной системы, либо постепенно утрачивает эти
качества, если даже они каким-либо образом еще сохраняются
на начальных стадиях. Напротив, все то, что относится к ис-
ходной, так сказать, имманентной, области сигнальной системы
Г, остается более или менее сохранным, даже когда способно-
сти к мышлению или к его речевому выражению полностью или
почти полностью утрачиваются вследствие психического забо-
левания78. Концепция Павлова о возможности сохранения пер-
вой сигнальной системы при повреждении второй сигнальной
системы не может полностью объяснить все эти явления хотя
бы потому, что такого рода живопись нельзя описывать исходя
из обычных условных рефлексов. Фантазия шизофреников лег-
ко отделяется от системы условных рефлексов, она может уста-
навливать связи между условными рефлексами, причем эти
связи в своей целостности даже имеют определенный смысл,
решительно выходящий за рамки первой сигнальной системы
(декоративное воздействие, настроение, цветовая композиция).
При этом ясно, что духовные и душевные потенции могут здесь
сохраняться, то есть именно те потенции, которые не связаны с
условными рефлексами. Правда, и связь между первой сигналь-
ной системой и сигнальной системой V оказывается смещенной,
как об этом свидетельствуют наши последние рассуждения; эта
связь становится беднее, одностороннее, запутаннее, искажен-
нее и т. д. Сигнальная система V оказывается — именно в силу
возможности отрыва от своей «базы» — системой сигналов от
76
сигналов. Ее связь с условными и безусловными рефлексами
не только намного теснее и ближе, чем в случае второй сигналь-
ной системы (в этом и заключается причина ошибочного сужде-
ния Павлова по данному вопросу), но и, очевидно, качественно
и структурно иная, чем связь между первой и второй сигналь-
ными системами. Вопрос о конкретном устройстве этих свя-
зей — это опять-таки одна из проблем, которые не могут быть
решены на основе психофизиологического анализа; здесь не
может быть и речи даже о приблизительном их решении — по
причинам, которые неоднократно упоминались.
Наконец, мы считаем, что способ рассмотрения, предлагае-
мый нами, позволит методологически прояснить весьма слож-
ный и запутанный вопрос о принципиальной равнозначности
«искусства» душевнобольных, первобытного искусства, детского
художественного творчества и самых современных течений в
изобразительном искусстве. Подчеркнем, что такая тенденция
к поиску исторических аналогий изначально восходит к опре-
деленным современным художественным направлениям. Здесь
следует отметить общераспространенное и особенно характерное
для всех новых направлений в искусстве явление; когда они с
полным на то основанием или совершенно безосновательно
усматривают в истории искусства параллели своим эстетиче-
ским установкам, ведущим стимулом, подлинным tertium com-
parationis становится при этом потребность в самовыражении,
выступающая как нечто первичное, а не только как аргумент.
Так английские прерафаэлиты создают своего собственного
Боттичелли, свое собственное искусство кватроченто, точно так
же как «японские мотивы» у некоторых импрессионистов порож-
дены сложившимся у них представлением о Японии. Теперь
каждому понятно, что было бы заблуждением пытаться предста-
вить себе сущность кватроченто, исходя из теоретически, искус-
ственным образом сформулированных тенденций Россетти или
Бёрн-Джонса. Гораздо менее ясен вопрос с искусством совре-
менности. В этом случае закон подобных соответствий — уме-
ние брать свое всюду, где его можно найти, «je prends mon
bien ou je le trouve» — применим в еще меньшей степени79. Пусть
это свое, это «mon bien», о котором здесь идет речь, выводимо
из общих враждебных разуму тенденций, характерных для пе-
риода империализма, однако все это находит столь однозначное
выражение, например в манифестах Бретона, что здесь можно
считать его уже известным. В чем именно проявляется внутрен-
няя проблематика такого искусства, мы здесь анализировать не
будем. Необходимо отметить только то качественное различие,
которое существует между «еще не» в освоении мира посред-
ством трудовой деятельности и формирующегося в процессе
труда разума у древних народов и у детей (причем и в том и
в другом случаях эти процессы также различны, поскольку
первый имеет общественно-исторический, а второй — психофи-
77
зиологический характер) и тем «больше не», которое возника-
ет как результат психического заболевания; оба эти явления не
только различны, но и противоположны, и противоположность
эта легко может быть вскрыта благодаря непредвзятому и под-
робному анализу. Что же касается сюрреализма, то он созна-
тельно, так сказать методологически, исключает все разумное;
однако оно проявляется в общем плане, в выводах, контроле и
т. д., и обнаружить его нетрудно; здесь не место останавливать-
ся на том, к какому суждению можно прийти относительно
«аутентичности» сюрреализма в ходе подобного исследования.
В этой связи необходимо лишь вскрыть источники определен-
ных широко распространенных предрассудков, которые, как
мы видели, внесли большую путаницу даже в специальное опи-
сание патологических феноменов.
Завершая наше рассмотрение этих проблем, %мы отметим па
возможности коротко несколько примеров патологических явле-
ний из жизни и творческой деятельности некоторых известных
художников, основываясь на фактах, приводимых в специальной
литературе. Мы имеем в виду Стриндберга, Ван Гога и Гёль-
дерлина. Жизнь Стриндберга в интересующем нас аспекте не-
достаточно исследована. Ясперс утверждает, что во время ост-
рых приступов болезни Стриндберг не мог писать80. Вместе с
тем можно считать, что его произведения, написанные в такие
периоды, например «Инферио» и т. д., дают ясную картину
его состояния, то есть его способность к самовыражению сохра-
няется, несмотря на обострение, причем не только чисто фор-
мально, как у описанного Принцхорном Йозефа Зелля, на ко-
торого мы ссылались выше, но и в существе своего содержания.
Изменение стиля его позднейших драм, причем гораздо более
значительное, чем считает Ясперс, не имеет отношения к нашей
проблематике, поскольку оно как по своему содержанию, пси-
хологическим мотивировкам, так и формально, в части разви-
тия сценического действия, хотя и свйзано с его заболеванием,,
однако в целом в своих объективных художественных особенно-
стях может быть полностью объяснено исходя из социальных
и эстетических тенденций своего времени.
Ситуация с Ван Гогом аналогична. В данном случае нам
представляется важным, что он сам вполне осознанно^ и крити-
чески описывает свое состояние, почти как сторонний незаин-
тересованный наблюдатель. Ясперс приводит интересные вы-
держки из его писем как пример этой его психологической осо-
бенности; так, например, он пишет о том, как удивлен был Ван
Гог, что ему, при его безверии, его современных убеждениях,
«приходят в голову безумные религиозные идеи»81. Итак, в
данном случае можно говорить о сохранности — за исключе-
нием периодов острых приступов — высших систем рефлексов.
Примечательно, что в картинах, созданных во время пребыва-
ния в лечебнице, мы видим стремление дать художественное
78
выражение вызванному болезненным состоянием чувству тоски
и страха. Так, в письме Эмилю Бернару Ван Гог рассказывает
о полотне, которое только что закончил (вид больничного пар-
ка): «Направо — серая терраса, часть дома; налево — несколько
кустов отцветших роз и земля — красная охра, — выжженная
солнцем, устланная опавшими иглами сосен. Эта окраина «парка
окружена высокими соснами; стволы и ветви — красная охра,
явоя — зеленый, омраченный смесью с черным. Эти высокие де-
ревья вырисовываются на вечернем небе с лиловыми прожилка-
ми на желтом фоне; желтое вверху переходит в розовое, затем в
зеленое. Замыкает вид стена (опять красная охра), а над ней
фиолетовый и охристо-желтый холм. Гигантский ствол первого
дерева расщеплен молнией и опилен, но одним из боковых суков
возносится вверх и низвергается вниз каскадом темно-зеленых
ветвей. Этот исполин, мрачный, как поверженный титан, контра-
стирует (если смотреть на него как на живое существо) с блед-
ной улыбкой последней розы на увядающем кусте. Под деревья-
ми пустые каменные скамьи, темный самшит; желтое небо отра-
жается в луже: недавно был дождь. Последний отблеск солнца
усиливает темную охру до оранжевого. Между стволами там и
сям бродят черные фигурки. Как видишь, вся эта комбинация
красной охры, зеленого, омраченного серым, и черных штрихов,
«обозначающих контуры, вызывает ощущение тоски, от которой
часто страдает кое-кто из моих товарищей по несчастью и кото-
рую они называют «черно-красной». А мотив огромного дерева,
пораженного молнией, и болезненная зелено-розовая улыбка
последнего осеннего цветка еще больше акцентируют это наст-
роение»82.
Мы привели эту обширную цитату не только потому, что тут
Ван Гог — в отличие от тех больных, о которых мы писали
выше, — сознательно исходит из своего нынешнего внутрен-
него tH внешнего состояния и в своих работах объективирует это
состояние, возводя его до уровня творческой темы, но и потому,
что такое письмо пластически ярко показывает, что для .проник-
новенно художественного описания достаточно, чтобы отдельные
стороны восприятия оставалась незатронутыми и сохранными
(в понимании Павлова). Напротив, картина становится карти-
ной, объектом эстетического описания, лишь в силу того, что
каждое из этих отдельных отражений внешнего мира получает
•определенную функцию в рамках конкретной целостности, при-
чем сущность этой последней так же невозможно вывести из
подобных деталей, как и научное произведение составить из от-
дельных фрагментов действительности, нашедших отражение в
тех словах, из которых оно непосредственно строится Дто есть
опять-таки — сигнальная система Г предстает как система сиг-
налов от сигналов).
В свете интересующих нас проблем гораздо показательнее
й важнее для нас творчество Гёльдерлина и влияние на него
79
характера его болезни. Здесь вопрос сложнее, чем в описанных
выше случаях, поскольку художественным средством самовыра-
жения является язык. Нарушение работы второй сигнальной
системы должно получить здесь более непосредственное и яр-
кое выражение, чем в случае живописных изображений. Неслу-
чайно, что вся обширная литература о художественном творче-
стве психически больных ограничивается описанием их занятий
живописью. И хотя при такого рода заболеваниях пишут и
стихи, но нарушение работы второй сигнальной системы часто
приводит при этом к возникновению столь очевидной бессмыс-
лицы, что даже самое горячее сочувствие сюрреализму не по-
зволяет признать ее серьезным поэтическим достижением. (На
связи языка с сигнальной системой Г мы подробнее остановим-
ся в последнем разделе настоящей главы [с. 144 и ел.].) Гель-
дерлин и его творчество так интересны нам именно потому, что
в его стихах периода болезни эти чрезвычайно сложные взаимо^
отношения обеих высших сигнальных систем весьма своеобраз-
ны и показательны. Нас менее интересует здесь творчество на-
чального периода его болезни (1800-^-1801; болезнь явно про-
является уже с 1802 года)83, так как, без сомнения, в это врет
мя были созданы его наиболее значительные стихотворения; мы
подробнее остановимся на более позднем периоде полного ду-
ховного упадка. Составитель подробной истории болезни Гёль-
дерлина Вильгельм Ланге считает эти стихи как раз «не толь-
ко «худшими» по сравнению с сочинениями Гёльдерлина, создан-
ными, когда он был еще здоров, но и направленными, ориенти-
рованными на себя, что и позволяет идентифицировать их как
результат душевной болезни»84. Правда, Ланге дает весьма
слабое обоснование подобным оценкам; он не приводит почти
никаких однозначных указаний на патологические проявления»
рассуждает он слишком общо и вполне по-обывательски как
с эстетической, так и с медицинской точки зрения. Его мало-
обоснованные эстетические оценки («Больной теряет способ-
ность последовательно доводить свою мысль до конца...») мож-
но применить и к рапсодическому поэтическому творчеству со-
вершенно здоровых поэтов. В какой мере можно — и можно ли
вообще — говорить об этих стихах Гёльдерлина как о прояв-
лении патологического состояния, позволит понять лишь ана-
лиз на совершенно ином уровне научности. Пока же мы будем
считать, что содержание и форма этих стихов объяснимы исхо-
дя из современных Гёльдерлину событий и его реакции на них
(mutatis mutandis подобно тому, как это происходит в поздних:
драмах Стриндберга).
Единой картины не позволяют создать и переводы, сделан-
ные поэтом в этот период. Дильтей, однако, полагал, что ситуа-
ция ясна: «Он перевел «Эдипа царя» и «Антигону» Софокла,,
перевод был опубликован в 1804 году. Его чувство ритма со-
храняется, его язык звучит, ему удается передать потрясающие
80
звуки боли, но он утратил знание греческого языка, он путает
известные слова с другими, похожими по звучанию, и, когда
терпение отказывает ему, он трактует текст весьма произволь-
но»85. Анализ Геллинграта, который очень подробно изучил пе-
реводы Гёльдерлина, показывает, что проблема значительно-
сложнее. Он устанавливает целый ряд расхождений в отноше-
нии Гёльдерлина к греческому языку с самого начала, то есть
тогда, когда он был еще здоров: «...Итак, по-видимому, возни-
кала противоречивая смесь — преданность греческому языку,.,
живое понимание его красоты и характера и полное незнание
простейших правил и полное отсутствие точности в переводе
грамматических конструкций»86. Насколько описание Дильтеж
как свидетельство усиления этих тенденций не противоречит
действительности, могут — хотя бы отчасти — объяснить лишь
результаты подробных специальных исследований.
Поэтому целесообразно сконцентрировать наше внимание
на периоде после второго обострения. Весьма полную и ясную-
картину состояния Гёльдерлина в этот период дает нам точное
и любовно бережное описание Вайблингера: когда Гёльдерлив.
остается в одиночестве, он без конца говорит, все время чита-
ет вслух, не понимая ничего из прочитанного87. О его записях.
Вайблингер говорит: «Он еще в состоянии записать одну фра-
зу, как бы обозначающую тему, которую он собирается разви-
вать. Эта фраза ясная и правильная, тем более что в основном
это воспоминание. Но когда ему приходится разрабатывать^
развивать эту тему, становится понятно, что он не в состоянии)
продумать это еще сохранившееся у него воспоминание и соче-
тать его с вновь возникающими мыслями, тут он оказывается^
бессилен; вместо одной нити, которая должна связать воедино
все разнообразие, он хватается за множество нитей, которые
таким образом теряются в этой .хаотичной пряже, как в паути-
не». Вайблингер особенно подчеркивает, что ^Гёльдерлин писал-
и стихи, лишенные смысла, однако, добавляет он, «с правиль-
ным размером». Еще интереснее замечание Вайблингера, почти-
непосредственно касающееся вышеприведенных рассуждений о-
его мышлении: «...У него еще сохранилось определенное чувство
поэтического, ощущение оригинальности выражения»88.
Эти утверждения Вайблингера подтверждают и некоторые-
стихи Гёльдерлина, написанные в этот период. Здесь нас инте-
ресует возможность поэтического выражения при духовном:
упадке; тот факт, что остальные стихи совершенно лишены;
смысла, с этой точки зрения для нас неважен. Зозьмем знаме-
нитое трогательное четверостишие:
Земные радости и я вкушал когда-то.
Давно! Давно! Но в юность нет возврата.
Апрель и май умчало дней теченье.
Меня уж нет, и к жизни нет влеченья.
(Перев. Р. Минкус)
6—102
81
Мли стихотворение:
Когда струится благостный свет с небес,
Приходит к людям, ибо они
Полны восторга перед чем-то
Сладостным, высшим, видимым ставшим.
О, как священные песни нежно звучат,
Как истине радо в песнях сердце, и вот
Восторг перед этой картиной:
Вот всходит на мост вереница овец,
Скрываясь в сумерках дальнего леса.
Луга же, зеленью нежной покрыты,
Лежат, как лесные поляны,
С которыми всегда по соседству
Темные чащи. Там, на просторе лугов,
Овцы пасутся. Там вершины кругом.
Голые склоны их покрыты
Редкими соснами и дубами.
Там, где волнами бурный кипит поток,
Тот, кто дорогой мимо него идет, —
С радостью взглянет на милый облик
Гор, устремленных ввысь, и лоз виноградных.
От виноградных лоз ступени ведут, —
Вниз, туда, где стоят деревья в цвету.
И над садами нежный запах
Там, где тайком расцветают фиалки.
Но воды струятся, нежно и тихо журча,
Целыми днями слышится легкий шум,
Лишь деревушки погружены
В тихий безмолвный полуденный сон.
(Перев. А. Айхенвальд)
Эти стихи показывают, что способность к поэтическому вос-
приятию мира и в первую очередь возможность преобразовать
воспринятое и увиденное в речь эвокативного характера сохра-
няется у Гёльдерлина — по меньшей мере в некоторых случа-
ях — и на последней стадии болезни. Это особенно показатель-
но, ибо речь как средство художественного выражения долж-
на «реагировать» намного более чутко и намного быстрее на
нарушения второй сигнальной системы, чем такие лишь чисто
визуальные средства, как рисунок и живопись. Наша концеп-
ция, то есть тезис о возможности относительной самостоятель-
ности функционирования сигнальной системы Г, определенным
образом находит здесь свое подтверждение. Примечательно, что
Ланге приводит один факт аналогичного плана из позднего
периода жизни Гёльдерлина. Он пишет: «Быстрое, инстинктив-
ное действие удавалось пациенту лучше, чем запланированное
и обдуманное. Так, однажды он быстро оттащил ребенка, ко-
торый лежал на окне и мог упасть, и, наверное, тем самым
спас его от падения». Этот случай, конечно, не совсем однозна-
чен. Это может быть и проявление ранее закрепившегося здо-
рового рефлекса, хотя, учитывая жизнь Гёльдерлина, и в осо-
82
бенности его образ жизни в последние годы, можно считать^,
что фиксация именно такого условного рефлекса маловероятна^
По меньшей мере столь же вероятно предположить здесь функ-
ционирование моторного и эмоционального воображения. Ланге:
добавляет: «Но если у него было время подумать, его мысли
спутывались и смешивались, накладывались друг на друга, m
единого действия не получалось»89.
4. СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА Г
В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ
До сих пор мы рассматривали сигнальную систему Г вне соб-
ственно эстетического. Когда же речь шла об искусстве, она
выступала частично как точное отображение фактов жизни*,.
частично как деятельность человека, которую мы исследовали,
в связи с патологическими изменениями у целостного, здорово-
го человека, учитывая занимаемое ею место и ее динамику в.
системе его способностей. Это было необходимо с методологи-
ческой точки зрения для того, чтобы проанализировать различ-
ные функции сигнальной системы Y в самой жизни. Однако-
это привело к известному искажению, которое следует испра-
вить путем ряда дополнений. Способы проявления сигнальной,
системы Г в повседневной жизни столь разнообразны, что они.<
кажутся даже гетерогенными по своему характеру. При неиз-
бежных в жизни весьма многосторонних взаимоотношениях,
между различными системами рефлексов может возникнуть впе-
чатление, что в данном случае мы имеем дело лишь со своеоб-
разным «усовершенствованием» или «уточнением» первой сиг-
нальной системы или что сигнальная система Y есть не что-
иное, как необходимый подготовительный этап ко второй сиг-
нальной системе. Последнее, как мы видели, соответствует не-
которым фактам жизни, в особенности процессу труда, однако-
такое объяснение не является исчерпывающим. Более важное
структурное и функциональное различие между обеими высши-
ми сигнальными системами состоит именно в том, что — даже-
не касаясь науки — невозможно анализировать вторую сигналь-
ную систему в жизни, не анализируя одновременно то, каким,
образом она объективируется в языке; без языка нет второй
сигнальной системы. Так, искусство — мы надеемся доказать-
это положение ниже — является соответственно средством объ-
ективации сигнальной системы Г, но по самой своей сущности:
оно не может приобрести такого универсального характера, как
язык. Искусство — высшая, наиболее адекватная форма прояв-
ления этих сигналов, значение, формирование и раскрытие ко-
торых невозможно переоценить. Сами же эти сигналы образу-
ются — относительно независимо от искусства — в повседнев-
ной жизни. Это своеобразное формирование сигналов, возник-
6*
83
еовение новых потребностей в них, усовершенствование уже
имеющихся сигналов и т. д. и составляют предпосылки разви-
тия искусства, которое, даже будучи высшим средством объек-
тивации, не может преодолеть гетерогенности, проявляющейся
в жизни. В другой связи мы неоднократно указывали на не-
избежный плюрализм сферы эстетического. Психологический
анализ еще более отчетливо выявляет плюралистический ха-
рактер его структуры. Ибо именно плюрализм искусства позво-
ляет каждому индивиду приобщиться к различным видам ху-
дожественной объективации; можно, например, очень тонко
разбираться в изобразительном искусстве при полном отсутст-
вии музыкальности, и наоборот, точно так же, как человек, в
жизни исключительно тактичный, вовсе не обязан иметь высо-
коразвитое моторное воображение и т. д. Плюрализм коренит-
ся в самой сущности этой сигнальной системы, которая карди-
нальным образом отличается от универсального по своему ха-
рактеру языка как средства выражения, объективация второй
сигнальной системы. Возникающие в этой связи сложности ис-
следования такой структуры делают необходимым изучение
сигнальной системы Г на уровне высших форм ее объективации.
Мы уже описывали подобную ситуацию в самых различных
аспектах. Но до настоящего момента мы подходили к ней лишь
с философской точки зрения, то есть исходя из самого искусст-
ва, так что субъективность — в ее психофизиологической непо-
средственности— рассматривалась и понималась лишь исходя
из высших форм объективации. Здесь же мы исследуем эту
взаимосвязь с прямо противоположной точки зрения: мы долж-
ны исходить из субъективного момента, а средства объектива-
ции, эстетические образы, понимать как реализацию субъек-
тивных потребностей и способностей. Точнее, мы попытаемся
описать ту роль, которую играет сигнальная система Y в созда-
нии и восприятии произведений искусства. Мы уже говорили о
взаимодействиях в ходе генезиса искусства и доказывали, что
возникновение искусства, так же как и развитие техники, дол-
жно иметь в жизни определенные предпосылки [см. т. 2, с. 33].
Эти последние показывают связь жизни с искусством и одно-
временно расхождение между ними, в чем как раз и проявля-
ется принцип их взаимоотношений. Ясно, что и на самых при-
митивных ступенях развития не могло бы возникнуть никакого
искусства (например, даже пантомимического танца), если бы
общение людей друг с другом не имело — намеренного или не-
намеренного — эвокативного действия и не приводило к осоз-
нанному восприятию. Это непосредственное понимание жестов,
движений и т. д., как мы могли видеть выше, выступает необ-
ходимой составной частью общения людей друг с другом. По-
нимание движений, жестов, голоса, интонации и т. д. в отноше-
ниях людей друг с другом так же необходимо, как сам язык;
мы могли видеть также, что это понимание имеет особый ха-
84
-рактер, оно воссоздается и воспринимается именно через по-
средство сигнальной системы I'. Если оно используется не толь-
'.ко для достижения какой-либо определенной цели в жизни
(например, угрожающие жесты, рассчитанные на то, чтобы
-вызвать страх у другого человека), но для «подражания» со-
ответствующим явлениям жизни, причем так, что при мимети-
ческом повторении не только выступают отдельные моменты, а
^воспроизводится целый комплекс жизненных процессов, то при
.этом целесообразность подражания не сводится полностью на
нет. Выше мы уже показали, что такие единства, как мимети-
ческие отображения жизненных процессов, могут служить и
зполне конкретным магическим целям. Однако именно с точки
зрения интересующей нас здесь психологии творчества и его
воздействия можно говорить в данном случае о качественном
различии, скачке: во-первых, отдельные эвокативно-мимётиче-
<ские процессы направлены и ориентированы не на действитель-
ную практику, а на другую миметическую эвокацию. Так, за
эвокацией страха или угрозы не следует убийство или нападе-
ние, также могущее вызвать аффекты и в самой жизни, но от-
нюдь не с целью возникновения эвокации как таковой. Когда
же имеет место подражание этим действиям в пантомимиче-
ском танце, вызывание чувств и т. д. становится истинным сред-
ством соединения отдельных моментов; то, что в жизни было
-реальной целью и завершением действия, превращается лишь в
звено в цепочке эвокации, конечная цель — стоящая «извне»,
^предложенная магией — оказывается вне этого процесса. Ибо
магически-миметическое целеполагание требует, как мы виде-
-ли [см. т. 2, с. 27 и ел.], двойного исполнения: с одной сторо-
ны, трансцендентного, для которого совокупность миметического
•изображения есть лишь средство воздействия на духов или на
потусторонние силы в нужном направлении; с другой стороны,
имманентного и непосредственного, а именно эвокативного воз-
действия на зрителя посредством исполнения. Для нас здесь
важно лишь последнее, так как если первая цель и ее выпол-
нение субъективно результативны, то возникающие при этом
чувства и т. д. оказываются неразрывно связанными с непо-
средственно вызванными эвокациями.
Уже из этого следует решающее различие между жизнью и
искусством: в жизни человек постоянно противопоставлен са-
мой действительности, в искусстве — ее миметическому отобра-
жению. Основное различие, с точки зрения субъекта, заключа-
ется в непосредственном доминировании практики в жизни и
непосредственном исключении практики из сферы эстетических
образов. В результате применительно к области как творческой,
так и рецептивной деятельности мы можем отметить качествен-
ное и количественное усиление роли сигнальной системы Г: от
чисто вспомогательного участия в практике ее роль возрастает
до роли ведущей и руководящей, определяющей силы в бытии
85
и в установлении связи между отдельными моментами мимеси-
са. Тем самым отдельные пропорции, которые, как правило,,
продуцирует жизнь, преобразуются до прямо противоположных
или претерпевают существенные изменения. Ибо умение быстро-
создать убедительное впечатление смертельной угрозы и после-
дующей насильственной смерти отнюдь не равнозначно действи-
тельной угрозе и убийству. Здесь также под давлением объек-
тивных фактов возникает эвокативный эффект, и настоящее
убийство должно — как это всегда и происходит — оказывать
воздействие уже в силу этой своей фактуальности. В тот мо-
мент, когда действующее лицо и зритель точно знают, что пе-
ред ними лишь изображение действительных событий, а не они
сами, убедительность возникает лишь под влиянием эвокатив-
ного воздействия движений, жестов и т. д., и при этом факти-
ческая сторона дела уже не имеет никакого значения. Но это
ни в коей мере не означает разрыва с действительностью, как
считают представители современных субъективистских направ-
лений, гипостазирующие необходимое различие между ориги-
налом и изображением. Для зрителей, следивших за этим пер-
вобытным танцем, изображаемые явления составляли их повсе-
дневную практику, и эти люди, следовательно, могли «профес-
сионально» судить о том, правильно ли изображено то или иное
действие или нет, то есть насколько оно похоже на то, чта
происходит в реальной практике и т. д., и изображение не мог-
ло бы оказывать на них эвокативное воздействие в случае, ес-
ли бы оно погрешило против общей достоверности конкретного»
процесса. Необходимое стремление к эвокативной убедительно-
сти для зрителя имеет своей обязательной предпосылкой пра-
вильность отображения. Выбор может иметь место только в гра-
ницах обозначенного таким путем пространства по меньшей
мере с двух точек зрения: с одной стороны, необходимо выбрать
те жесты из большого числа правильных, которые лучше и быст-
рее всего позволили бы сделать явственным и очевидным явле-
ние в целом посредством моментально действующих признаков,,
что совершенно не тождественно оптимальным условиям прак-
тической и технической деятельности; с другой стороны, следу-
ет сделать выбор таким образом, чтобы обеспечить фактически
правильный, но вместе с тем и прежде всего убедительный по
своему настроению переход к соответствующей ситуации.
Эта ориентация на эвокативное воздействие, это формиро-
вание последовательности моментов на основе их взаимосоот-
ветствия и единства настроения — что, разумеется, не исклю-
чает самых острых противоречий и контрастов в ходе их подго-
товки и реализации, — организует и подчиняет сигнальной си-
стеме Г все средства отображения и передачи действительно-
сти. То, что мы выше с точки зрения объективного анализа
произведений искусства назвали гомогенной посредующей си-
стемой, получает здесь психологическое основание и эквивалент.
86
Поэтому здесь мы находим новое подтверждение того, что воз-
никновение и действие гомогенной системы опосредования,
подчинение условных рефлексов и второй сигнальной системы
•сигнальной системе Г не означают простой субъективации. На-
против, это предполагает точное и достоверное отображение
объективной действительности. Такое отображение обрабаты-
вается лишь постольку, поскольку с помощью сигнальной систе-
мы Г возникает сознательное управление его эвокативным воз-
действием. Это не означает отрыва от действительности, ибо
юна — намеренно или не намеренно — воспроизводится в отдель-
ных непрерывных эффектах подобного рода, причем таким об-
разом, что ранее выступавшее в ней часто всего лишь как по-
бочное, хотя и очень важное воздействие, становится здесь цент-
ром и связующим динамическим принципом целого. Мы счита-
ем необходимым выделить и подчеркнуть при этом двойствен-
ный .характер такой реакции на действительность: с одной сто-
роны, такие образы вырастают из нее, из потребностей живу-
щих в ней, постоянно взаимодействующих с ней людей, причем
в период становления и возникновения границы представляют-
ся весьма расплывчатыми; с другой стороны, этот тип форми-
рования изначально выступает как качественный скачок срав-
нительно с нормальным взаимоотношением человека и действи-
тельности. С психологической точки зрения это выражается в
том, что сигнальная система Г — в повседневной жизни служа-
щая лишь дополнением к другим рефлексам и почти во всех
случаях переходящая в эти рефлексы — достигает здесь своего
апогея., не имеющего и не могущего иметь аналогий в повсед-
невности. Само собой разумеется, что проецировать наше се-
годняшнее сознание, возникшее как результат тысячелетней
практики, на начальные стадии развития значило бы полно-
стью противоречить фактам. Применительно к практике чело-
века также можно сказать: они не сознают этого, но они это
делают.
Сходное, но существенно более слабое соответственно об-
щей ситуации изменение и перестановка происходит у воспри-
нимающего. Исходную точку образует здесь тот факт, что ес-
тественное для повседневной жизни отношение к действитель-
ности, которая по своей сути является практической, требую-
щей принятия решений, выбора позиций, понимания и т. д.,
снимается за счет отображательного характера предлагаемого.
Такая созерцательная позиция, такая полная самоотдача зри-
теля отображаемому в повседневности редко встречаются в
столь чистом виде. (Опять-таки подчеркнем, что мы не должны
проецировать на эпоху зарождения искусства сформировавше-
еся у нас — не без влияния развития искусства на протяжении
нескольких тысячелетий — отношение к досугу как к обычной
составной части жизни.) Естественно, ,труд, борьба с силами
природы, дружественные или враждебные отношения с окру-
87
жающими людьми требуют и наблюдательности, и вдумчивости
созерцателя, и внимательного анализа объекта и т. д. Мы уже
отметили, что при таком отношении к внешнему миру сигналь-
ная система Г получает все большее и большее значение. Од-
нако само существо повседневной жизни обусловливает тот:
факт, что такое рецептивно ориентированное отношение к дей-
ствительности в целом обычно выступает лишь как подготови-
тельный этап при переходе к практике. Именно в этой способ-
ности и готовности к восприятию отчетливо обнаруживается
сущность сигнальной системы Г, ее производный характер как.
системы сигналов, и в том числе ее структурная близость вто-
рой сигнальной системе, в противоположность простым услов-
ным и безусловным рефлексам. Эти последние служат лишь
посредниками при установлении непосредственной связи с са-
мой действительностью. Естественно, что эта связь имеет место*
и в высших рефлекторных системах, однако там это проявляет-
ся гораздо менее непосредственно. Ибо слово даже в своем
простейшем использовании содержит элемент абстрагирования1,
от всех конкретных случаев, относящихся к данному понятию.
Мы уже указывали [с. 11 и ел.], что и простые рефлексы пред-
полагают определенную степень обобщения, иначе мы не могли-
бы непосредственным образом отождествить столы, собак, ро-
зы и т. д. как таковые, так как отдельные представители этих
классов значительно отличаются друг от друга, а без этого
рода подготовительной работы никогда не смогли бы сформи^
роваться слова и, понятия. Мы имеем здесь дело с качест-
венным скачком, в результате которого происходит объектива-
ция сходных элементов, их обобщение, и именно в силу этого
они предстают как звенья в цепи абстракций более высокого
уровня — что было бы недостижимо исходя из простых рефлек-
сов. Отсюда возникает возможность — на которую Павлов
указывал лишь в связи с психическими заболеваниями, но ко-
торую можно использовать и гораздо шире — отделения вто-
рой сигнальной системы от первой, мышления от действитель-
ности. Обычно, напротив, эта абстракция «возвращается» на-
зад, к действительности, тем более что эта последняя понима-
ется правильнее, объективнее, точнее, шире, глубже, подвиж-
нее, всеохватнее и т. д., чем это было бы возможно без такого
длинного окольного пути.
В сигнальной системе Y как отделение от непосредственной
действительности, так и возвращение к ней проявляется намно-
го менее ясно. На первый взгляд кажется, что отражения дей-
ствительности посредством сигнальной системы Г вообще никак
не отделяются от отражений по типу первой сигнальной систе-
мы: слово «стол» противостоит реальному столу как совершен-
но самостоятельное, оба стола очевидным образом — как с
объективной, так и субъективной точек зрения — сделаны из
различного материала и лишь соотносимы друг с другом; на-
88
против, нарисованный стол, как нам представляется, намного
ближе к реально видимому, и лишь в танце или в театрализо-
ванном представлении между реальным и миметическим объ-
ектом не обнаруживается никакого воспринимаемого различия.
Представленную здесь психологическую проблему не сле-
дует упрощать, исходя из того, что человек, искушенный в со-
временном искусстве, очевидно, устанавливает это различие ин-
стинктивно. Отправная позиция совершенно иная: можно — и
эстетически это вполне оправдано — посмеяться над известным
историческим анекдотом о состязании Зевксиса и Паррасия, од-
нако он отражает изначально-наивное отношение к излагае-
мым событиям, причем одновременно здесь проявляется и тот
существенный момент эстетического мимесиса, который эстети-
чески верно передает один из немаловажных аспектов процес-
са возникновения и воздействия искусства. Мы имеем в виду
правдивость деталей. Энгельс, который в своих определениях
типичного резко отграничивает реалистическое искусство от не-
посредственно данной действительности, справедливо подчер-
кивает, что «правдивость деталей» есть необходимая составная
часть реализма90. Это глубокое созвучие детали и действитель-
ности в значительных произведениях искусства, позволившее
Тургеневу высказать афористически тонкое замечание о том,
что гениальность художника проявляется именно в описании
деталей, привело Павлова, помимо всего прочего, к некоторому
смешению достоверно переданной художественной детали —
как и в упомянутом нами рассказе о двух греческих художни-
ках— с действительной 1жизнью. Но наша повседневная
практика зачастую следует в этом же направлении, не впадая
при этом в ту же ошибку: чтобы уяснить себе то или иное об-
стоятельство действительной жизни, мы постоянно ссылаемся
на детали великих произведений искусства, считая их состав-
ными частями нашего собственного жизненного опыта, так как
они отображают важные для нас моменты жизни яснее и вы-
разительнее, чем то представление о них, которое мы можем
составить себе на основе большинства наших собственных пе-
реживаний.
Именно в этом и выражается то обобщение, для эстетиче-
ского воплощения которого используется сигнальная система
Г: полученная таким путем картина охватывает несравненно
большее число жизненных фактов, чем это позволяет нам сде-
лать знакомство со значительными фактами самой жизни. Речь
идет не только о том, что благодаря такому обобщению опре-
деленные жизненные явления кажутся нам уже знакомыми,
включаются в систему наших знаний и нашего опыта; это свой-
ственно и многим условным рефлексам. Здесь речь идет о боль-
шем: мы уже подчеркивали, опираясь на «Феноменологию»
Гегеля, качественное различие между известным и познанным
[с. 14]. Аналогичная ситуация складывается и при разграниче-
89
нии сигнальной системы Г и условных рефлексов: сигнальная*
система Г расширяет наш опыт и знания путем характерного-
для нее обобщения чувственно-непосредственных намеков и ука-
заний до уровня типического в явлениях жизни, тогда как ус-
ловные рефлексы могут передавать лишь отдельные факты
жизни с той степенью абстракции, которая характерна для со-
стояния «знакомства» с предметом. Конечно, мы говорили до*
этого не о специфически эстетических художественных впечат-
лениях, а лишь о различиях между первой сигнальной системой,
и сигнальной системой Г в жизни. Ясно, однако, что даже са-
мое примитивное художественное отображение усиливает имен-
но эту тенденцию к обобщению сигналов сигнальной системы Г.
Описанная замена [с. 84 и ел.] непосредственной практики на
ее эвокативное отображение объективно содержит в себе —
независимо от того, насколько субъект осознает*свои собствен-
ные действия, — тенденцию к такому обобщению. Тот факт, что
такое самоустранение условных рефлексов не происходит столь
же однозначным образом, как и обобщение мышления посред-
ством языка, не меняет существенным образом положения дел.
Но однажды сделанное, это обобщение проникает в систему
чувственных впечатлений, смешивается с ними, расширяет сфе-
ру их воздействия, обогащает и углубляет их и т. д. Метамор-
фоза, которую переживает человек благодаря возникновению
и развитию сигнальной системы Г, по-видимому, особенно ярко
и непосредственно проявляется в таком развитии чувственно-
сти человека. Маркс, завершая свой анализ взаимодействия
искусства и эстетического чувства, справедливо говорит о зна-
чении искусства именно в этой связи: «Образование пяти внеш-
них чувств — это работа всей предшествующей всемирной исто-
рии»91. Естественно, движущей силой в этом процессе является,
не одно лишь искусство. Наряду с повышением роли сигналь-
ной системы Г в жизни — в том числе и под значительным
влиянием искусства — мышление и наука также оказывают
воздействие на совершенствование наших способностей чувст-
венного восприятия. Именно таким образом сигнальная систе-
ма Г проявляется как своеобразная система сигналов от сиг-
налов.
Вместе с тем нам следует раздвинуть рамки рассматривае-
мой проблемы — воздействия деталей в искусстве, — ибо неза-
висимо от того, осознанно эти или неосознанно, уже в эвокатив-
ном впечатлении от детали содержится нечто такое, что явно>
расширяет ее значение. При анализе творчества мы уже указы-
вали, что даже самое примитивное произведение искусства
представляет собой динамическую систему эвокативных эффек-
тов, в которой всякая деталь, независимо от того воздействия,
которое она оказывает как верное отражение фактов жизни
самих по себе, имеет функцию подготовки новых аналогичных
впечатлений; ее самостоятельная на первый взгляд значимость
90
также является следствием подготавливаемых эвокативных воз-
действий. Так, уже в самых примитивных эстетических образах
возникает конкретная целостность, части которой строго соот-
носятся между собой, как моменты, позволяющие создать еди-
ную эвокацию. И только благодаря такой структуре конкретной
целостности отражение реальности, опосредованное сигнальной
системой Г, возвращается к ней назад «так же», как должны
в нее возвращаться понятие, умозаключение и суждение. Ана-
логии здесь могут быть продолжены, но слово «так же» целе-
сообразно поставить в кавычки. Возьмем неоднократно исполь-
зованный нами пример военного танца у первобытных народов.
Само по себе человечески-земное отражение как способ прояв-
ления трансцендентно-магического целеполагания создает эво-
кативный эффект у каждого наблюдателя, пробуждает у него
воодушевленность, уверенность, растущую решимость по отно-
шению к грядущему реальному событию, прообраз которого
разыгрывается.
Здесь можно выделить три основных признака, позволяю-
щих отличать события душевной жизни, которые определяются
сигнальной системой Г, от тех, которые определяются первой и
второй сигнальными системами. Во-первых, хотя эвокативное
переживание связано с действительностью, но при этом речь
идет совсем о другом ее аспекте, чем в случае второй сигналь-
ной системы. С одной стороны, эта действительность пережива-
ется как конкретная целостность, и тем самым она отличается
ют переживаний объективной действительности как таковой,
возникающая здесь дистанция оказывается эмоционально под-
черкнутой: сущность действительности как бы противопостав-
ляется самой действительности; то, что в этой последней рас-
сеяно, рассредоточено, подвержено воздействию случайностей
и т. д., проявляется концентрированно, в наиболее разумной
форме. С другой стороны, это переживание получает также от-
тенок чего-то окончательного, завершенного. В то время как
•отображения действительности, в том виде, в каком их осуще-
ствляет вторая сигнальная система, в принципе дополняют друг
друга и в своих связях все более приближаются к самой сущ-
ности, это непосредственное взаимодополнение отсутствует в
•сфере сигнальной системы Г; всякое эстетическое изображение
существует само по себе, и эвокативная связь с субъектом вос-
приятия либо возникает как внезапное потрясение, либо вообще
отсутствует. Во-вторых, объективация, которая здесь имеет мес-
то, не снимает ориентации изображаемого мира объектов имен-
но на субъект. Уже в таких простейших словах, как «собака»,
«стол» и т. д., содержится тот смысл, что эти объекты сущест-
вуют независимо от мыслящего субъекта; нет совершенно ни-
какой необходимости додумывать какого бы то ни было субъек-
та при воспроизведении — устном или письменном — этих слов.
Напротив, всякое эстетическое изображение именно в своей
91
объективной верности действительности соотносится с воспри-
нимающим субъектом. Его существование как эстетического*
образа связано с возможностью эвокативного воздействия на
воспринимающего субъекта, а тот в свою очередь переживает-
предложенный ему «снимок» с действительности как свой соб-
ственный мир, как мир, который противостоит ему, независим-
от него, но с которым он неразрывно связан как субъект вос-
приятия. В-третьих, этот субъект носит общественный характера
причем не только сам по себе, но и для себя. Ибо сама по себе
всякая деятельность человека как такового носит общественный;
характер, однако, не выступает с необходимостью как духовная:,
сущность действия в психологическом аспекте этого действия..
Эстетическая же рецепция, напротив, выносит глубинную со-
циальность человека на поверхность, делает ее*предпосылкой:
переживания. Естественно, каждое слово, которое мы произно-
сим, каждое движение, которое мы совершаем, предполагает'
их понимание в социальном, общественном смысле. В искусст-
ве это понимание предполагает непосредственность эмоциональ-
ного воздействия, соотнесенность с субъектом, причем субъект*.,
воспринимающий данное произведение искусства, в процессе
этого восприятия должен чувствовать себя членом общества.
Имманентное произведению искусства мгновенное эвокативное-
понимание — ив особенности с психологической точки зрения —
невозможно представить себе без такого аффективного привне-
сения общественного характера объекта и его переживания.
В нашем примере первобытного пантомимического танца это
само собой разумеется. Чувство, возникающее здесь как ре-
зультат миметического воздействия, появляется у субъекта
именно как у части целого, коллектива. Углубление и обогаще-
ние, достигаемое благодаря функционированию сигнальной си-
стемы I', проявляется не только в том, что новые черты, взаи-
мосвязи объективной действительности, которые были не осоз-
нанными до этого момента, становятся очевидными, но и в;
углублении самосознания субъекта, в осознании им — на уровне
эмоции — своей причастности к определенному сообществу. На
начальных этапах развития искусства это происходило просто-
и естественно. В определенные периоды цивилизации это ощу-
щение причастности значительно слабеет и даже может полно-
стью исчезнуть. Вместе с тем именно здесь обнаруживается,,
что только в обществе человек может стать одиноким, сущест-
вующим обособленно [см. т. 2, с. 405]. Чувство одиночества,,
описанное в произведениях искусства, остается — именно в сво-
ем негативном аспекте — неразрывно связанным с обществен-
ным характером человека: именно в чувстве отверженности или;
в самоизоляции эта связь и проявляется в подобного рода пере-
живаниях. Маркс в своем описании этого феномена обобщает
его самые существенные черты: «Лишь благодаря предметно-
развернутому богатству человеческого существа развивается, а
92
частью и впервые порождается, богатство субъективной челове-
ческой чувственности: музыкальное ухо, чувствующий красоту
формы глаз, — короче говоря, такие чувства, которые способны
к человеческим наслаждениям и которые утверждают себя как
человеческие сущностные силы. Ибо не только пять внешних
чувств, но и так называемые духовные чувства, практические
чувства (воля, любовь и т. д.), — одним словом, человеческое
чувство, человечность чувств — возникают лишь благодаря нали^
чию соответствующего предмета, благодаря очеловеченной при-
роде»92.
Только исходя из этого общественного характера психоло-
гии искусства, можно понять его самостоятельное бытие, его
развитие. Как мы видели [см. т. 2, с. 63], окончательное — но
не всегда осознаваемое как таковое — основание художествен-
ного творчества привносится «извне», являясь само по себе
общественной потребностью, социальным заданием. Но искус-
ство может удовлетворить эту общественную потребность лишь
в том случае, если его образы будут выступать как имманентно*
завершенная конкретная эвокативно-ориентированная система.
Об этом мы уже говорили при описании магически-трансцен-
дентных целеустановок (социальное задание на самой прими-
тивной стадии развития) в связи с их художественным вопло-
щением [см. т. 2, с. 27 и ел.]. Мы обратили внимание и на то,
что это противоречие, которое на начальных стадиях находит
свое выражение в чисто аллегорическом характере трансцен-
дентного целеполагания, может выявиться лишь в отрыве —
реально-объективном, но не обязательно субъективно осозна-
ваемом— эстетических образов от их первичной цели, в росте
их самостоятельности. Объективно с этим отрывом начинается
чисто эстетическая «обработка» привнесенного «извне» социаль-
ного задания в произведение искусства через посредство завер-
шенной системы направленных эвокативных воздействий, ре-
флексов сигнальной системы Г. В другом контексте [см. т. 2Г
с. 34] мы дали исчерпывающее описание того факта, что и
самый примитивный эстетический образ, например миметичес-
кий танец, строится начиная с конца, то есть каждый отдель-
ный момент, каждая деталь должны быть организованы таким
образом, чтобы убедительно привести к заранее запланирован-
ному финалу. Тем самым разрыв с действительностью увеличи-
вается, ибо каждая деталь рассчитана на определенное пере-
живание и соответственно на возбуждение определенных сиг-
налов сигнальной системы Г, тогда как верность отражения
действительности снимается — сохраняясь — с той целью, чтобы
она могла лечь в основу эвокативного воздействия и усилить
его. Этот расчет на переживание, с одной стороны, дает отдель-
ным, эвокативно воспринимаемым моментам отражения более-
ярко выраженную, очевидную предметность, чем это происходит
в обычной жизни; с другой стороны, именно таким образом
93»
:тежду ними возникает более внутренняя, более ощутимая связь.
1В свое время мы полемизировали с Гартманом [см. т. 2, с. 302
-и ел,], так как он не признавал — и в музыке и в архитекту-
ре — чувственный, эмоциональный характер этой взаимосвязи
и взаимозависимости моментов. Своеобразие сигнальной систе-
мы Г показывает, как снимается эта мнимая антиномия. Спо-
собы восприятия чувственного мира через простые условные
рефлексы должны были синтезироваться «нечувственно». Уста-
новление таких связей уже и в повседневной жизни составляет
одну из функций сигнальной системы Г; достаточно вспомнить
сказанное нами выше о такте, понимании людей и т. д. При
.восприятии действительности через посредство сигнальной си-
стемы Г, через происходящую таким образом обработку ее в
художественном творчестве, естественно, возникает такая вза-
имосвязь между отдельными, получившими эстетическое отоб-
ражение фрагментами действительности. С образованием такой
.вполне завершенной системы возбудителей переживаний свой-
ство сигнальной системы Г быть системой сигналов от сигналов
проявляется значительно отчетливее, чем в самой жизни. Ибо
эстетический образ становится таковым именно благодаря тому,
что он в принципе всегда вызывает подобные воздействия; ина-
че мы имели бы дело лишь с полотном, измазанным красками,
куском дерева, камня и т. д.
Функционирование сигнальной системы Y в искусстве отли-
чается от ее функционирования в жизни как раз за счет этого
-фиксированного характера ее. Естественно, такая фиксирован-
ность могла образоваться лишь постепенно, в ходе последова-
тельного развития. По всей вероятности, она начинается с ми-
метических танцев, которые, конечно, не осознавались и не
.возникали как искусство; но в этих танцах, как мы видели,
конкретное очеловечивание аллегорически-трансцендентной ма-
гической цели неизбежно реализовало эту имманентную сущ-
ность образа, гомогенную ему систему опосредования ,или — в
плане психологическом — континуальность подчинения и руко-
водства на уровне сигнальной системы Г. На более позднем
этапе эта гомогенная посредующая система объективируется в
образах, которые самообособляются от физического бытия че-
ловека. Гелен справедливо утверждает: «Есть основания пола-
гать, что мимическое изображение in vivo в форме подражания
всему необычному восходит к глубокой древности, и вполне
вероятно, что оно предшествовало развитию объективных изо-
бразительных средств, то есть графическим, живописным изо-
бражениям и пластике»93. Говоря о пещерной живописи, о ко-
торой мы писали выше, он добавляет: «О том, что у них еще
существовали мимические ритуалы, сохранились их же собст-
венные свидетельства: в пещере Камбарелль имеется выграви-
рованное на камне изображение танцующего человека, в пеще-
ре, называемой пещерой «Трех братьев», появляется колдун,
*<94
одетый в шкуру бизона, или та выгравированная и обведенная?
черным контуром фигура в позе танцующего, с лошадиным,
хвостом, головой й рогами оленя и медвежьими лапами, кото-
рая так пристально смотрит на нас»94.
Здесь мы видим решающее усиление действенности сигналь-
ной системы Г в сфере психической жизни как творящего, так
и воспринимающего субъекта. Ибо объективация сигналов этой;
системы обретает вид длительно устойчивой, неизменной фик-
сации. Эстетическая необходимость спонтанного, мгновенного
воздействия сохраняется, но подвергается следующим сущест-
венным изменениям: с одной стороны, субъект творчества отде-
ляет эвокативное отражение мира от своего собственного ду-
шевно-телесного бытия, придает ему совершенно отличную от
этого последнего, в принципе завершенную форму; с другой
стороны, субъект восприятия противостоит уже не мимолетным,,
преходящим, однократным событиям, а такому образу, который
делает возможным новые, углубленные переживания, дополни-
тельные углы зрения. Естественно, это различие не следует
метафизически абсолютизировать. Уже отображение «in vivo»,,
как говорит Гелен, ни в коей мере не означает действия людей,
таких, каковы они в повседневной жизни. Независимо от рас-
смотренного выше телеологического аспекта их движения, же-
сты, слова и т. д. с самого начала имеют свой определенный
ритм. Этот последний при посредстве трудовой деятельности
стал жизненной потребностью человека; однако здесь упроще-
ние и облегчение движений человека благодаря упорядочива-
ющей силе ритма вступает в качественно новый этап, предпо-
лагающий, правда, определенный уровень развития трудового
опыта, но со своей стороны ритм оказывает обратное воздейст-
вие и на этот опыт, и на жизнь вообще.
Павлов ясно указал на психологическую основу этого, ко-
торая проявляется здесь весьма элементарным образом. Исходя
из опытов с собаками, он констатирует: «Но у этой собаки
был прекрасный условный рефлекс на ритм, значит, при непре-
рывном чередовании возбуждения и торможения система очень
быстро устанавливалась»95. На примере других экспериментов
он делает важное сообщение в дополнение к этим фактам:
«Звонки строго по очереди (всего восемь звонков) то подкреп-
лялись, то нет. Такую задачу на ритм раздражителей собака ре-
шала без особых хлопот. Известно, что ритм применяется для
упрощения всяких движений и вообще для упрощения всей
жизни»96. Слово «упрощение» применительно к жизни вообще
(и к жизни животных в частности) указывает непосредственно
на то, что установил Бюхер, говоря о трудовой деятельности,,
то есть на повышение результативности при меньшем физиче-
ском и душевном напряжении; это означает, что ритм, даже
самый простейший, который, например, использует Павлов в-
своих опытах, способствует правильному чередованию раздра-
95
жения и торможения. Уже в ходе самой трудовой деятельности
ритм выступает на более высокой ступени взаимодействия с дей-
ствительностью, приспособления к ней, участия в ее формиро-
вании. Качественно новый момент заключается в том, что здесь
речь идет уже не только о прямых взаимоотношениях между
человеком и окружающей средой, но и об опосредовании их
орудиями, созданными цивилизацией. В результате этого воз-
никают новые, более сложные ритмы, обладающие неограни-
ченным потенциалом качественного и количественного разви-
тия. В субъективно-психологическом плане можно утверждать,
что простое приспособление к действительности превращается во
все более активное ее освоение. Человек развивается столь
всеобъемлюще, что он оказывается в состоянии приспособить
все более усложняющиеся ритмы повседневности к своим все
менее и менее связанным с практическими целыми комплексам
движения; его способность упорядочивать, создавать гармонию
и разрешать проблемы получает доселе невиданный простор
для развития. Именно здесь сфера освоения и покорения стано-
вится подлинно безграничной как качественно, так и количе-
ственно. Ибо речь здесь идет не только о расширении реаль-
ного взаимодействия человека с окружающей средой (в том
числе и вне сферы трудовой деятельности в узком смысле сло-
ва), но и о развитии всего комплекса субъективных способов
организации этого процесса. Итак, с одной стороны, ритм ле-
жит в основе своеобразной «иллюстративности» эстетических об-
разов, их верности действительности и в то же время нетожде-
ственности ей; с другой стороны, он становится эффективным
средством их эстетической ориентации, стимулом непосредствен-
ности переживания их телеологической упорядоченности. Осно-
вополагающее проявление эстетического, своеобразие такого
способа отражения действительности, его психологическая осо-
бенность как сигнала сигналов, а также его самообособление от
непосредственной действительности и воссоздание новой непо-
средственности в творимой человеком образной системе полу-
чают в ритме, в ритмической организации важную поддержку:
прежде всего это происходит от того, что ритм уравнивает,
приводит в согласование подчиненные ему предметы и их взаи-
мосвязи, причем осуществляется это не только само по себе,
но и применительно к возможности переживания их бытия, их
взаимосвязей, их объединения в конкретную целостность. То,
что уже в обыденной жизни выявилось как своеобразие сиг-
нальной системы Г — синтез, объединение целого ряда самих
по себе, возможно, гетерогенных жизненных проявлений в их
■органическое единство, внезапно высвечивающее важные сторо-
ны объективной действительности и вместе с тем остающееся
неразрывно соотнесенным с человеком как субъектом, — обре-
тает тем самым новую, качественно более высокую характерн-
ости ку.
«6
В трудовой деятельности ритм необходимо соотнесен с кон-
кретным своеобразием представленных так или иначе отдель-
ных функций, однако при этом он фиксирует в них и упорядо-
чивает практически существенное и целесообразное. Это тяго-
тение к специфическому своеобразию феноменов не растворя-
ется в описанной выше универсализации ритма, оно выступает
подчиненным моментом, причем основной функцией ритма ста-
новится упорядочение образа в целом, ориентация его восприя-
тия, превращение, его структуры в более динамичную. Только
таким путем ритм организованно включается в сигнальную
систему Г как ее составная часть. Чем полнее мы представим
себе изначальное единство ритма, музыки, танца, пения и речи
в примитивных миметических образах, тем очевиднее для нас
будет именно такое представление. Ибо в простой трудовой
деятельности через посредство простого наблюдения и осозна-
ния обнаруживается потребность в ритме и практически осуще-
ствляется его применение; если в этом процессе особую роль
начинает также играть моторное воображение, то окончатель-
ное его завершение происходит путем рационального осознания
и его фиксации, путем превращения оптимально продуманного
в прочно закрепленные условные рефлексы. (Здесь необходимо
упомянуть, что этот процесс неизбежно происходит и в случае
миметического танца; как мы помним, рассматривая этот воп-
рос с эстетической точки зрения, мы ссылались на глубокий
анализ &го в «Парадоксе об актере» [см. т. 2, с. 77 и ел.].
Сформулированная им дилемма звучит в переводе на язык на-
шей проблематики следующим образом: актер либо фиксирует
бывшие когда-то оптимальными, открытые посредством сиг-
нальной системы V эвокативные жесты и т. д., преобразует их
во всегда готовые к использованию условные рефлексы и тем
самым становится настоящим художником, либо он отдается во
власть «настроения» или «вдохновения», то есть позволяет
эвокативным эффектам заново возникать в себе с помощью
сигнальной системы Г, и тогда результат его игры зависит от
случайности.)
Исчезновение упомянутой необходимости указывает на бо-
лее высокий уровень объективации, который достигается, когда
человек в своей душевной и физической непосредственности пе-
рестает быть единственным посредником при передаче эвока-
тивной «иллюстративности», образности. Отдаление от этой не-
посредственности растет: изобразительное искусство и литера-
тура отражают мир человека в непосредственно данных фор-
мах его предметности, тогда как в орнаментике, а еще более
в архитектуре и в музыке непосредственная система отображе-
ния значительно отдаляется от этих конкретно-непосредствен-
ных форм предметности и только на последнем этапе формиро-
вания эвокативного эффекта она оказывается на одном уровне с
остальными видами искусств97. Очевидно, что при таком удалении
7—102
97
посредующей системы отражения от непосредственно отобра-
жаемой предметности характер сигнальной системы Г как си-
стемы сигналов от сигналов должен проявляться еще явствен-
нее. Возникающая тем самым психологическая иерархия и от-
четливая выраженность сигнальной системы Г, естественно, не
имеют ничего общего с какой бы то ни было эстетической иерар-
хией, например с определением места в системе или с системой
оценки какого-либо вида искусств. Ибо чем дальше эвокатив-
ная образность удаляется от предметных форм обыденной жиз-
ни, тем всеохватнее и интенсивнее должен стать тот синтез, ко-
торый позволяет пережить в эвокации ощутимое единство внеш-
него мира, позволяет воспринять связанную с данным моментом
конкретную целостность в ее одновременной соотнесенности с
общечеловеческим. Тот факт, что для достижения подобных
целей людям может служить особым образом обработанный
камень или дерево — вопрос об их практической полезности
относится к иному кругу проблем, — что, таким образом, они
могут оказывать глубокие эвокативные воздействия, может
быть результатом лишь весьма длительного развития. Точно
так же и музыка выделяется из первоначально слитного ан-
самбля, где она выступала в единстве с танцем и пением, по-
степенно обретая свой самостоятельный эвокативный образ.
Если сравнить эти формы синтеза, осуществляемые при по-
средстве сигнальной системы I', с подобного рода проявления-
ми, которые мы можем наблюдать в повседневной жизни, на-
пример говоря о чувстве такта или о смехе, легко убедиться,
сколь долгий путь ведет к формированию самостоятельного
бытия сигнальной системы Г, к становлению ее как образной
системы. Естественно, здесь речь идет не об историческом ге-
незисе, ибо такт как результат воспитания, смех во всем мно-
гообразии его форм—это по меньшей мере столь же поздние
продукты исторического развития, как и музыка или архитек-
тура.
Нашей задачей не является здесь даже приблизительное
описание этого хода исторического развития или хотя бы важ-
ной роли ритма, ритмической организации в ходе этого разви-
тия. Необходимо лишь констатировать, что этот путь вовсе не
является прямолинейным, одноколейным. Мы повторяем в ином
контексте сформулированные нами ранее выводы, подчеркивая,
с одной стороны, что мимесис может и не иметь ритмической
организации; так, она почти полностью отсутствует в сфере
чистого изображения объектов, в достигшей высокого уровня
развития пещерной живописи. Естественно, пещерная живопись
представляет собой своеобразное исключение, и отсутствие пре-
емственности, имеющее под собой весьма конкретные истори-
ческие основания, в данном случае — в соответствии с эстети-
ческим принципом — связано именно с этим отсутствием ритми-
чески упорядоченной композиции. С другой стороны, в орна-
98
ментике очень рано формируется ритмическая организованность
геометрических фигур, и в этом ритме, как мы видели [см. т. 1,
с. 269 и ел.], геометрия как дервое могучее орудие, помогающее
человеку овладеть миром, воплощается в эстетически пережи-
ваемые чувственные образы. Именно здесь очень рано проявля-
ется имманентная универсальность сигнальной системы Г, коль
•скоро ее рассматривать как соответствующий автономный ор-
ган искусства.
И в свете того, что этой системе удалось завоевать и осво-
ить абстрактные и высшие достижения человеческого духа свое-
го времени, менее поразительным кажется тот факт, что она
преобразует простые рефлексы — ставшие сигналами сигналов —
в компоненты сферы своего действия. Естественно, что человек
тогда испытывал гордость и радость обретения этого великого
орудия покорения действительности. В обыденной жизни эти
чувства должны быть отнесены к конкретным методам, пред-
метам, результатам, которые в своей объективности не могли
иметь ничего общего с подобными чувствами как таковыми. Но
вместе с тем орнаментика — в силу своей поначалу достаточно
простой ритмической организации, путем переноса самой по
себе пространственно-временной ритмики в чистую видимость
пространства, путем создания лишенной предметности и не
фиксируемой ни одним из органов чувств взаимосвязи, где
упорядочивающая движения ритмика становится законом ста-
тики,— создает нечто ранее не существовавшее в действитель-
ности, но тем не менее представляющее собой отображение
существенного отношения человека к этой действительности;
орнаментика создает также носителей переживаний, которые
могут адекватно выразить это новое, горделивое отношение к
действительности. И если орнаментика очень часто, а поначалу
почти исключительно выступает как декорирование повседнев-
ных орудий труда, это вовсе не означает снижения, недооценки,
но является углублением ее универсального характера: первая
движущая сила освоения мира людьми становится тем самым
обычной, постоянной принадлежностью его повседневной жизни
и ее утверждением. Тот факт, что орнаментика часто — возмож-
но, и вообще всегда — при аллегорическом ее понимании, воз-
никая, получает трансцендентно-магический смысл, не имеет
отношения к делу. Аллегорическое значение оказывается здесь
таким расшатанным и при всей непосредственности чувств до
такой степени лишенным непосредственной переживаемости,
что оно не может устранить описанного нами характера орна-
ментики. Мы можем говорить в данном случае лишь о примыс-
ленном дополнении к эвокативному переживанию; это послед-
нее как сигнал системы Г ощутимо отличается от первого как
сигнала второй сигнальной системы.
Как бы ни был сложен этот процесс развития, каким бы пу-
таным путем он ни протекал, неизменным остается его решаю-
7*
99
щий регулирующий принцип: необходимо общественный харак-
тер всех эвоцированных искусством переживаний. Такой их ха-
рактер проявляется с неизбежной , непосредственностью не
только на начальных стадиях становления искусства, но и на
всех этапах его дальнейшего развития, включая его современ-
ное состояние. Правда, лирические и эпические формы стихо-
сложения уже утратили эту непосредственность социальности,
однако она сохраняется, хотя и с целым рядом модификаций,
в той неразрывной связи, которая существует между драмати-
ческой композицией и характером воздействия театральных
постановок. Это же можно сказать и об архитектуре, а также —
если говорить о сравнительно поздно сформировавшихся видах
искусства — о симфонической музыке, кино и т. д. И в тех
случаях, когда отдельные направления современьюго искусства
сознательно ориентируются на так называемую интимность
воздействия, как, например, камерная музыка, лирико-роман-
тические песни XIX века, интерьер жилых домов, это отнюдь
не уничтожает социальности и всеобщности искусства, но лишь
снимает непосредственность его проявлений. Ибо независимо
от того, охватывает ли непосредственное воздействие произве-
дения искусства большие или меньшие области — симультанное
действие на всю социальную общность в целом возможно лишь
на ранних этапах общественного развития, — оно необходимо
предполагает его общепонятность для данного общества. При-
веденное выше замечание Маркса [см. т. 2, с. Д05] о том, что
человек может изолироваться, обособиться, только находясь в
обществе, — и добавим: для общества, — получает здесь бли-
стательное подтверждение. Когда такая книга, например, на-
печатана и находит своих читателей (иногда даже многочис-
ленных), художественное отображение одиночества, изолиро-
ванности индивида в обществе выступает как социальное
явление, которое, получив выражение в искусстве, может встре-
тить понимание в рамках данного общества.
Конечно, гомогенное общество существует лишь на началь-
ной стадии развития, так что при конкретизации нашего тези-
са социальной общепонятности искусства эту временную рабо-
чую гипотезу снова приходится снимать. Чем сильнее развива-
ется цивилизация по мере развития производительных сил, тем
резче разделяются между собой классы в обществе, поскольку
оно остается классовым. Применительно к нашей проблематике
это означает, что представители различных классов будут реа-
гировать по-разному на различные факты жизни, причем эти
реакции могут даже быть противоположными; например, они
могут совершенно разные вещи считать грустными или смеш-
ными, достойными или недостойными и т. д. В результате
этого возникают резкие границы для социальной общепонятно-
сти искусства; правда, это понятие, определенное нами весьма
абстрактно, не утрачивает содержания, ибо даже и возможность
100
воздействия в рамках одного класса сохраняет ту же самую
структуру связи чистой субъективности с социальной общезна-
чимостью. Это примерное определение социальной общепонят-
ности искусства, которое, как и всякое определение, содержит"
элемент отрицания, в действительности, однако, реализуется не-
полностью. Само собой разумеется, существует множество слу-
чаев, когда такая классовая обусловленность—национальные-
моменты нередко проявляют себя аналогичным образом — огра-
ничивает сферу воздействия произведений искусства в соответ-
ствии с социальными и национальными hic et nunc их генезиса;
с чисто количественной точки зрения, которая, конечно, не яв-
ляется адекватной точкой отсчета для. эстетики; к этой группе
относится подавляющее большинство произведений, имеющих
интенцию стать произведениями искусства. Но часто и тогда,
когда речь идет об истинных произведениях искусства, оказы-
вается, что гих воздействие не в состоянии преодолеть эти соци-
альные границы, поставленные самим их происхождением. Бы-
вает, что люди теоретически (вторая сигнальная система) по-
нимают национальное или социальное значение определенных
произведений искусства, но при этом эстетического воздействия
(сигнальная система Г) не возникает. Для понимания психо-
логических пружин этого явления нам представляются гораздо
более важными примеры противоположного характера, когда
определенного рода произведения искусства «инстинктивно»
(на уровне условных рефлексов) или рационально отвергаются,
но такое противостояние ликвидируется благодаря их эвока-
тивному воздействию.
Значение последней ситуации становится особенно очевид-
ным, если мы подумаем о том, что большая часть сохранивше-
го свою действенность искусства прошлых эпох социально и
национально связана с тем, что находится вне вышеупомянутых
границ, возможно, коренится даже во враждебной основе (роль
феодального искусства для буржуазии, буржуазного искусства
для пролетариата). Здесь следует только заметить, что при этом
тенденция к обобщению сигнальной системы Г выступает с еще
большей ясностью: она, конечно, в состоянии создавать эвока-
тивные отображения не только непосредственных моментов
жизни когда-либо существовавшего класса и нации, но и — не
выходя за рамки своей чувственной непосредственности — де-
лать очевидными и чувственно данными самые отдаленные
связи человека вплоть до общечеловеческих. Именно таким
образом можно понять причину сохранения действенности ху-
дожественных отражений жизни давно прошедших или без-
возвратно канувших в вечность эпох. Неопровержимость этого
факта свидетельствует прежде всего о высоком уровне обобще-
ния, производимого сигнальной системой Г, ибо с ее помощью
осуществляются те черты человека и те его отношения с дей-
ствительностью, которые не осознавались людьми, жившими в
101
непосредственно преобразованном мире, и которые они выра-
жали в своих делах, точно не понимая и не зная, что они де-
лают. Тем самым мы освещаем не только сущность и способ
воздействия сигнальной системы Г, но и ее объект отражения:
людей в их отношении к человеческому роду. Положение дел
становится еще яснее, если вспомнить, что такое воздействие
искусства, а с ним и сигнальной системы Г, понимается как
постоянно растущее экстенсивно и интенсивно. Уже Гёте спра-
ведливо говорил о «мировой литературе», и отныне для нас
прошлое и настоящее искусства в целом становится интенсивно
переживаемым достоянием. Здесь возникает необходимость по-
нять историзм такой ситуации. Разумеется, в ее основе лежит
развитие экономики, превратившее землю, ранее разделенную
на маленькие, более или менее автономные области, в — опять-
таки более или менее — единую сферу хозяйствования. Приме-
нительно к нашей проблематике одним из важных следствий
такого развития стала постоянная универсализация, совершен-
ствование и углубление сигнальной системы Г через посред-
ство художественной практики и формирующейся на ее основе
рецептивной сферы. Лишь таким путем многое из того, что в
свое время оставляли без внимания, становится воспринимае-
мым и получает свое выражение. Искусство и понимание ис-
кусства не присущи человеку от рождения, они в большей сте-
пени являются продуктом длительного общественно-историче-
ского развития. Формирование сигнальной системы Г, как и ее
генезис, есть результат такого же процесса. При этом не сле-
дует— признавая, разумеется, примат общественных потребно-
стей— недооценивать роль самого искусства в становлении ис-
кусства, развитии сигнальной системы Г.
Этой способностью повышать эстетическую восприимчивость
искусство обязано непосредственно той гомогенной посредую-
щей системе, которую несет и содержит в себе каждое произ-
ведение искусства. Мы говорим здесь о непосредственности,
ибо в конце концов и эта детерминация исходит извне, оттуда,
где это развитие получает свою направленность. Лишь посколь-
ку изменения в обществе постоянно ставят людей перед необ-
ходимостью решения новых задач, которые формируют у них
новые способности (а также и потребность в пробуждении и
развитии новых способностей), художественная деятельность
никогда не стоит на месте, ибо она постоянно оказывается пе-
ред лицом новой задачи: так разработать гомогенную посре-
дующую систему соответствующего вида искусства, так преоб-
разовать ее, чтобы через ее посредство новые явления жизни
переживались бы как органические составные части человече-
ского существования и тем самым стали неотъемлемым достоя-
нием людей. Мы уже дали с философски-эстетической точки
зрения подробный анализ очень сложного процесса эстетиче-
ского отражения действительности, мимесиса, и результаты
102
этого анализа, естественно, должны лечь в основу наших ны-
нешних рассуждений. Социальное задание применительно к:
искусству прямо и непосредственно носит содержательный ха-
рактер: изображение тех проблем и конфликтов, которые соз-
даются новыми отношениями между людьми, новой связью
между природой и обществом. Но даже когда эти изменения
получают рационально-осознанную форму в голове человека—-
что в большинстве случаев, особенно в начале важного, глубоко-
затрагивающего бытие людей преобразования, происходит
очень редко, — такая теоретическая формулировка проблемы,
имеющая целью выразить все, что способствует неуверенности
или пробуждает надежду у людей в такой ситуации, оказыва-
ется явно недостаточной. Роль, которую играет искусство как
выразитель этого невыразимого иными средствами, можно объ-
яснить лишь благодаря действию сигнальной системы Г. Ее
функцию — в особенности в случае осознания и восприятия но-
вых жизненных ситуаций:—мы уже проанализировали, и в этой
связи становится понятной решающая роль гомогенной посре-
дующей системы: новое, тем более если оно считается доста-
точно значимым, прежде всего выступает как неясное ощущение,
которое именно поэтому как бы не имеет соответствующей по-
нятийной формулировки.
В то время как гомогенная посредующая система, во-пер-
вых, сужает и специализирует отражение действительности в
эмоциональном плане, например сводит его до уровня видимого,
слышимого и т. д., во-вторых, поднимает этот специфический
аспект видения мира до уровня универсальности, глубоко при-
сущей человеку, в-третьих, реализует ставшие при этом необ-
ходимыми обобщения не как понятийные абстракции, но таким
образом, что в каждом отображенном единичном случае выяв-
ляется типическое и преобразуется в очевидное; именно такими
обходными путями можно продемонстрировать «невыразимое»,
придав ему своего рода удобовоспринимаемое выражение.
Здесь можно сослаться на то, что уже в повседневной жизни
эта ориентация на новое была одной из важнейших черт сиг-
нальной системы Г. Но здесь речь идет уже не только о фак-
туальности нового — эта сторона воспроизводится самой обще-
ственной жизнью — и не только об «инстинктивном» знании о
нем, чувственном раскрытии этого знания, как это происходит,
например, в случае проявления такта, но об упомянутой выше
специфической форме наглядно-чувственного обобщения. В этом
и состоит существо работы истинного художника: в рамках
своей гомогенной системы опосредования «выразить себя»
(излюбленные слова Сезанна) теми средствами, которые в со-
стоянии отобразить социально общепонятным способом такое
обобщение нового, то есть его связь с предшествующими
достижениями в развитии человечества, и его отличие от преж-
них эпох, его соотнесенность как с континуальностью представ-
103
ления о человеке, так и с изменяющимися компонентами этого
представления. Говорим ли мы при этом о Джотто или Курбе,
Эсхиле или Томасе Манне, Моцарте или Бартоке — конечная
структура их поисков и открытий как процесса выходит за
пределы самого этого принципа. Они обобщают новые явления
в развитии человечества, вскрывая их конкретно-типический
характер, они делают свои открытия вечным достоянием чело-
веческого рода, переводя то, что еще представляется хаотиче-
ским или — по отношению к человеку — сформулированным не-
достаточно исчерпывающе, на язык новых средств выражения
используемой ими гомогенной посредующей системы.
Тем самым для каждого вида искусства возникает своего
рода «язык», обладающий двумя основными признаками вто-
рой сигнальной системы: он является в принципе общепонят-
ным, однако ему необходимо обучаться, и, следовательно, он
не является врожденным, подобно определенным безусловным
рефлексам, и не возникает — хотя бы отчасти — спонтанно в
ходе жизненной практики, подобно основным условным реф-
лексам, но его следует в буквальном смысле слова изучать.
В этой возможности овладения языком и проявляется суще-
ственное различие между обеими высшими сигнальными си-
стемами. Язык может и должен изучаться; хотя немало слов
имеют по нескольку значений, у каждого человека с каждым
словом ассоциируется предметный комплекс, для которого это
слово выступает как сигнал сигнала. В сигнальной системе Y
не может быть таких однозначных связей между знаком и объ-
ектом, ибо воплощаемое здесь изображение уже в обыденной
жизни, но по-настоящему в искусстве ориентировано именно
на новое, неповторимое, на своеобразно типичные черты этого
единственного в своем роде. Здесь следует также иметь в виду
еще и соотнесенность с субъектом, эвокативную тенденцию
каждого знака, так что научиться можно лишь готовности к
воспроизведению и восприятию, а не алфавиту, синтактике и т. д.
возможных в данном случае сигналов и взаимосвязей между
ними. Это скорее упражнение или тренинг, чем обучение в бук-
вальном смысле слова. При этом важно подчеркнуть здесь
качественное различие между жизнью и искусством. Сигналы
в искусстве сознательно ориентированы на эвокацию, тогда
как в жизни человек в определенном смысле попадает под воз-
действие данностей, которые и вызывают такие реакции, и эво-
кативное воздействие такого способа реагирования обычно тем
сильнее, чем менее ощутима эвокативная интенция. Вместе с
тем следует особо выделить именно эту сторону обучаемости,
так как, во-первых, при этом вновь проявляется характер рас-
сматриваемой системы как системы сигналов от сигналов, во-
вторых,— в противовес многим прежним и в особенности со-
временным концепциям — здесь выделяется своеобразно объек-
тивированное и в своем роде точное значение таких сигналов.
104
Сложность этого обучения проявляется в том, что эстети-
ческие сигналы сигналов по самому своему принципу призваны
эвоцировать новые отношения и взаимосвязи и возникающие
на их основе новые комплексы переживаний, а поэтому все
выученное и уже усвоенное может и в дальнейшем стимулиро-
вать и тормозить развитие творческих и рецептивных способ-
ностей. Поэтому само по себе необходимое и в данном случае
понятие техники следует использовать здесь с большой осто-
рожностью, со значительными оговорками. Ибо в своей соб-
ственной области — в производстве — сущность техники состоит
именно в том, чтобы по возможности механизировать и рацио-
нализировать необходимые процессы, делать так, чтобы они
функционировали «сами по себе». В результате возникает пси-
хологическая тенденция — фиксировать возможно большую
часть трудового процесса субъективно в форме условных
рефлексов. Конечно, правильно функционирующая техника
предполагает и способность к наблюдению, контролю, мгно-
венной реакции на сбои и помехи в инструментарии и т. д.
В таких случаях, разумеется, вступают в действие высшие
сигнальные системы. Но при этом не следует забывать об опре-
деленных неоднократно повторяющихся ошибках, нерегулярно-
стях, реакция на которые осуществляется через посредство
условных рефлексов. По-настоящему отработанная техника
включает в себя и такую ситуацию, когда «сами по себе» дей-
ствующие условные рефлексы у человека в процессе труда
имеются наготове. Несмотря на наличие определенных анало-
гий, было бы в принципе неверно без всяких оговорок приме-
нять понятие техники к художественной продукции. Здесь мы
не будем перечислять все моменты, общие для техники в том
и в другом понимании, достаточно вспомнить неоднократно
приводившийся пример из «Парадокса об актере» Дидро, рас-
суждениям которого мы можем подыскать — с известными ого-
ворками— множество аналогий из самых различных видов ху-
дожественной практики [см. т. 2, с. 77 и ел.].
Однако нам представляется, что здесь следует хотя бы
вкратце остановиться на общем процессе творчества. При этом
для нас существенна именно его неповторимость. Как бы ни
было велико техническое мастерство художника (каковым оно
и должно быть), самая сущность эстетического заставляет его
все начинать заново в каждом своем произведении, так воспри-
нимать и воспроизводить действительность, как если бы он ее
ранее никогда не видел и не изображал. Здесь отчетливо про-
является плодотворная, действительно движущая противоречи-
вость сферы эстетического: «умение» художника, которое ни-
когда не может быть достаточно велико, достаточно отработано
и готово к использованию, является истинным лишь тогда,
когда оно неразрывно связано с готовностью радикальным об-
разом переучиваться ввиду всякого по сути своей нового явле-
105
ния. Если это противоречивое единство разрушается, то блестя-
щая и хорошо отработанная техника становится препятствием
для истинного творчества, а художник превращается в виртуо-
за в дурном смысле этого слова, его способ изображения —
в маньеризм и т. д. Этот процесс нетрудно описать, используя
психологические категории: как только отношение художника
к действительности и способ ее миметического отображения
перестают следовать принципу «умри и восстань», как только
из определенных форм художественного отражения возникает
прочно закрепленная система условных рефлексов, которая при
наличии любого кажущегося аналогичным объекта реагирует
«сама по себе», произведение искусства перестает быть под-
линной картиной действительности, а становится лишь прояв-
лением определенных прихотей, предрассудков, привычек и т. д.
определенного субъекта. (То, что мы говорим здесь о роли
условных рефлексов, не следует смешивать с тем, что было
сказано выше о теории Дидро. Что касается Дидро, то мы
утверждали, что определенные оптимальные способы выраже-
ния у актеров, которые раскрываются посредством сигнальной
системы Г, должны фиксироваться как условные рефлексы,
чтобы иметь возможность повторяться сколь угодно часто на
одном и том же исполнительском уровне. Таким образом, это
специфическая проблема для тех видов искусств, в которых
психофизиологическое бытие человека есть функция гомогенной
системы опосредования. Этот процесс происходит, вообще гово-
ря, аналогично письменной фиксации стихов или музыки и не
имеет ничего общего с обсуждаемой проблематикой. Ибо в по-
следнем случае речь идет о том, что миметическое отображе-
ние действительности не воспроизводится сигнальной систе-
мой Г постоянно заново, но что из более ранних, более старых,
аналогичных способов выражения фиксируются определенные ти-
пы субъективных реакций в форме условных рефлексов, выступа-
ющие вместо необходимо и постоянно обновляющихся отноше-
ний художника к действительности и к своему произведению.)
Сходные проблемы, правда, в сильно модифицированном
виде возникают и при восприятии искусства. Мы уже указыва-
ли на те случаи, когда содержательные, прежде всего классо-
вые мотивы препятствовали социальной общепонятности про-
изведений искусства, общему пониманию их «языка» [с. 101
и ел.]. Такие проблемы могут возникать и непосредственно,
причем, конечно, не следует забывать о том, что обе эти обла-
сти методологически могут рассматриваться по отдельности, но
никогда не существуют отдельно друг от друга. За социально
содержательным отклонением определенных произведений ис-
кусства стоит явное неприятие их формального языка, и, на-
оборот, многочисленные отрицательные суждения относительно
формы — часто неосознанно — содержат протест против того
социального содержания, которое находит в ней свое эстетиче-
106
ское выражение. Учитывая эти сложности, можно поставить
вопрос о помехах восприятию, пониманию нового «языка» ху-
дожественной формы. Именно потому, что всякое истинное
искусство не может просто и прямо воспроизводить новое яв-
ление, а ищет новые средства выражения, чтобы представить это
явление с художественной достоверностью, возможны случаи,
когда протест обращается против возникающего таким образом
нового «языка» искусства. Лишь по истечении длительного вре-
мени определенные формы отражения действительности стано-
вятся столь привычными — здесь мы имеем дело на рецептив-
ном уровне со своеобразной аналогией художественному мань-
еризму на уровне творчества, — столь четко зафиксированными
условными рефлексами, что всякая попытка перейти к «языку»
новых форм инстинктивно воспринимается отрицательно, вы-
зывает резкое неприятие. Мы в свое время — вслед за Викхо-
фом — отмечали, какую революцию в живописном отражении
действительности вызвало открытие локального цвета предме-
тов [см. т. 2, с. 112 и ел.]. Как только — после долгого подго-
товительного этапа — французские импрессионисты решительно
отказались от локального цвета, поставив себе целью передать
средствами живописи свето-воздушную среду, публика высту-
пила с бурным протестом, который мы не можем не принимать
во внимание как исторический факт, но который мы уже не
в состоянии ощутить во всей его непосредственности. Именно
за последние десятилетия люди научились понимать этот новый
«язык» как рациональную форму мимесиса, расширившую и
углубившую наши способности к восприятию не только искус-
ства, но и самой действительности; однако, чтобы такое воз-
действие стало возможным, эта новая форма должна быть
освоена. Такое освоение нового художественного «языка» —
часто длительный и противоречивый процесс, ибо прочно за-
фиксированные условные рефлексы, преграждающие доступ к
этому «языку», а следовательно, й к той преображенной дей-
ствительности, которую он отражает, труднопреодолимы, ибо
путь достижения новой открытости миру очень непрост.
Было бы поучительно исследовать эти проблемы примени-
тельно к современности, как если бы речь шла не о каком-то
полностью новом явлении. В истории мы находим немало тому
примеров — начиная с отношения Платона к тогдашнему кри-
зису в музыке [см. j. 4, гл. 14, § 1], вплоть до решительной
вольтеровской критики Гомера и Шекспира, искусство кото-
рых в силу ряда причин эстетического и социального характе-
ра— на этом мы не будем подробно останавливаться здесь —
он признавал новым, революционным. Стремительность преоб-
разований новейшего времени проливает более определенный
свет и на факты прошлого; более частые и'острые конфликты
на более поздних этапах развития проясняют £' известной мере
существо более медленных преобразований, в ходе которых
Г07
конфликты меньше бросаются в глаза. При этом следует под-
черкнуть: нас интересует только психологическая сторона воз-
никающей в данном случае контроверзы. Поэтому обсуждаемая
проблема принимает вид формально-абстрактного столкновения
новых средств выражения в их новизне-с «привычным», взятым
также с формально-абстрактной точки зрения. В этой связи мы
не будем затрагивать вопрос об эстетической оправданности
нового, о том, подлинная ли это новизна или всего лишь за-
блуждение. Напомним лишь о том, что точное историко-эсте-
тическое исследование этого комплекса психологически также
должно исходить из этой двойственности — представленной
здесь в значительно упрощенном виде. Ибо, во-первых, новое
в виде сигнальной системы Г не противостоит %с необходимостью
укоренившимся условным рефлексам; достаточно вспомнить
натурализм, в котором доминировал своего рода эрзац этой си-
стемы, частично в виде непереработанных изолированных на-
блюдений (по преимуществу на уровне условных рефлексов),
частично в виде художественно не переработанных теорий
(вторая сигнальная система). Это, конечно, лишь один из воз-
можных примеров; в различных течениях могут реализоваться
разные комбинации. Во-вторых, в силу общественно-историче-
ских причин различные направления могут сталкиваться между
собой как старое и новое, причем и в том и в другом случае
действительность будет обработана подлинно художественным
образом (сигнальная система I'); таковы выступления Аристо-
фана против Еврипида, которые вполне можно критиковать как
необоснованные, если не включить их в схему, подобную опи-
санной выше. Точное психологическое исследование возможных
общественно-исторических способов борьбы старого и нового во
всей их полноте, естественно, выявило бы еще большее число
вариантов. Здесь же мы лишь подчеркнем нашу оговорку, поз-
воляющую ограничить типический характер выделенного нами
конфликта его объективно обоснованными рамками, что, однако,
отнюдь не снимает его в данных рамках.
•Применительно к нашей проблематике имеет смысл рас-
сматривать преимущественно явления современной жизни, так
как здесь конфликты проявляются в более секуляризованной
форме. В чисто психологическом плане не имеет решающего
значения, сталкиваются ли возникающие новые содержания
и — непосредственно — с ними связанные новые формы выра-
жения с сопротивлением магических или религиозных ритуаль-
ных предписаний либо это сопротивление есть лишь выраже-
ние застывших социальных условностей и т. п. Но поскольку
в первом случае затрагивается также эстетически и философ-
ски важный комплекс отношений искусства и религии, нам
представляется более уместным рассмотреть секуляризованную
форму, так как именно тут оппозиция предстает в более чистом
виде;. взаимодействие материальной заинтересованности, моды
108
и. т. п. позволяет выявить с особенной ясностью такие психо-
логические существенные моменты, как трудности овладения
новым художественным «языком», страх перед необходимостью
«переучиваться». Франк Ведекинд в своем «Артисте» охаракте-
ризовал эту ситуацию с психологической стороны со свойствен-
ной ему художественной выразительностью. Композитор хочет
сыграть свое новое музыкальное произведение главному герою,
а тот отклоняет это предложение, рассуждая следующим обра-
зом: «Я скажу вам только одно: еще нигде нет действительной
потребности в новой опере. Все художественные предприятия,
все художники, да и почти вся публика относятся к новой му-
зыке враждебно. Если вы хотите попасть на сцену, то напиши-
те что-нибудь такое, что совершенно, до мелочей было бы по-
хоже на современную музыку. Ограничьтесь простым копиро-
ванием, составьте оперу из всех вагнеровских опер, и тогда у
вас много шансов на то, что вас поставят. Мой колоссальный
успех вчера может доказать вам, что старая музыка будет
властвовать еще многие годы. И я смотрю на дело так же, как
всякий директор, как и платящая публика: зачем мне без особой
нужды брать еще новую музыку, когда и со старой столько
хлопот?»
Еще более ярко эта связь обнаруживается на примере двух
историй, которые приводит Бела Балаж в одном из своих
киноведческих исследований. Мы приведем их полностью, по-
скольку в них проблема «языка» искусства выступает в осо-
бенно чистой форме, так как непонимание этого «языка» носит
здесь исключительно формальный характер и даже неосознан-
но не имеет никакого социально-содержательного основания.
Сначала Балаж рассказывает о достаточно образованном чи-
новнике колониальной службы, который всю первую мировую
войну в силу особых обстоятельств жил вдали от городов и
поэтому несколько лет не видел ни одного фильма. Вместе с
детьми своего знакомого он смотрит простенький фильм. Ког-
да по окончании показа знакомый спрашивает его мнение о
фильме, он вежливо отвечает: «Очень интересно. Но скажи, по-
жалуйста, о чем шла речь в фильме?» В своем незнании «язы-
ка» он не в силах понять ход даже простейшего действия.
Еще нагляднее другой случай. Много лет назад в Москве
домработницу, приехавшую из далекого сибирского колхоза
и даже закончившую там дшолу, но ни разу не видавшую ни
одного фильма, хозяева отпустили в кино, где шла попу-
лярная комедия. Девушка шла домой, потрясенная тем, что в
Москве могут показывать такие ужасы. На вопрос, что
ее возмутило, девушка ответила: «Я.видела людей, разорванных
на куски. Где голова, где руки, где ноги». Балаж добавляет,
что, когда в Голливуде Гриффит впервые показал свои съемки
крупным планом, среди публики возникла паника98. Здесь с
полной очевидностью проявляется тот факт, что кино — как и
109
всякое искусство — имеет свой собственный «язык», который:
надо «выучить», чтобы получить возможность воспринимать
произведения киноискусства. Вместе с тем понятно, что такое
«выучивание» — это не столько освоение соответствующих «во-
кабул», которых в искусстве гораздо меньше, чем в естествен-
ном языке, но в большей мере — выработка восприимчивости
вкуса, способности понимать произведение в его своеобразии,,
следовать законам его существования. Это означает формиро-
вать у себя особые рефлексы сигнальной системы Г, возбуж-
даемые гомогенной посредующей системой соответствующего-
искусства. Плюрализм сферы эстетического обнаруживается
здесь с особой ясностью: всякий вид искусства имеет свой соб-
ственный «язык», который необходимо «выучить». Это также
можно осуществить посредством упражнений, хотя речь здесь
идет о чем-то гораздо большем, чем в только что приведенных
случаях, которые, правда, указывают на необходимые—«вы-:
учиваемые» — предпосылки.
Таким образом, мы вкратце охарактеризовали проблему,.
в свое время сыгравшую столь большую роль в истории искус-
ства и эстетики, где ложный психологический подход выступил-
преградой на пути к правильному решению. Мы имеем в виду
проблему сознательного и бессознательного в художественном
творчестве. Чтобы выяснить этот вопрос, мы должны преодолеть
трудности двоякого рода. Во-первых, истинная взаимосвязь
сознательного и бессознательного в душевной жизни человека
исследована еще очень мало. И если превращение психологии
в самостоятельную науку было процессом необходимым и не^
избежным, то метафизическое искажение, гипертрофирование
этой самостоятельности стало губительным для этой науки.
С одной стороны, во многих исследованиях не учитываются
связи психологических явлений с физиологическими, образую-
щими их материальную основу, постулирование независимости
психики от физиологии нередко становится исходным пунктом
всей методологии. С другой стороны, чаще всего не принимает-
ся во внимание неразрывная связь: отдельного человека— а по-
тому и. его психологии1—с его социальным бытием. Там же,,
где эти компоненты присутствовали, ориентация делалась на
такую всеобщую и потому в высшей степени неясную-концеп-
цию социального, что из нее совершенно невозможно было вы-
вести плодотворные заключения для описания психологии от-
дельного человека, либо появлялись исследования по массовой:
и социальной психологии, которые как-то выявляли определен-
ные средние тенденции и таким окольным путем могли внести^--
редко используемый — опосредованный вклад в решение этой'
проблемы, но по большей части вовсе ее не затрагивали. Во-
вторых, за последние десятилетия так называемая «Глубинная»
психология огульно мифологизировала и фетишизировала1 бес-
сознательное. Оно оказывалось угрожающим или опасным, та-
110'
инственным особым космосом в человеке (который также рас-
сматривался как самостоятельная космическая сила), так что
открытие и исследование бессознательного с подобных позиций
ни в коем случае не способствовало, а, напротив, препятство-
вало правильному пониманию действительных связей между
сознательным и бессознательным в психологии человека.
В нашу задачу не входит анализ всего этого комплекса
проблем; мы ограничимся лишь кратким изложением тех воп-
росов, которые — прямо или косвенно — облегчают понимание
специфического осознавания в художественной практике и спо-
собствуют ему. Но для того чтобы четко ориентироваться в
этом вопросе, необходимо отказаться от следующего предрас-
судка: что якобы сознательное и бессознательное в душевной
жизни человека соотносятся как две метафизические единые
силы, соприкасающиеся друг с другом лишь как самостоятель-
ные замкнутые целостности. Такие метафизические противо-
поставления имели место в истории человеческой мысли неод-
нократно и в разных планах, причем бессознательное либо
характеризовалось чисто негативно, как полное отсутствие со-
знания, либо представлялось загадочной движущей силой все-
го и вся, по сравнению с которой сознательное оказывалось
обреченным на беспомощность, всего лишь на регистрацию
того, что было создано бессознательным. В качестве примера
первого подхода можно сослаться на Канта, второго — на Шел-
линга. Кант при описании гения обращается к природе; в этой
ситуации метафизичность его подхода заключается не только
в том, что он подчеркивает у гения лишь «врожденные» черты,
тогда как культуру, труд саморазвития гения он полностью не
учитывает, но и прежде всего в том, что, с его точки зрения,
это «врожденное» есть лишь предрасположенность, «посред-
ством которой природа диктует правила искусству». Даже если
считать, что понятие природы в тот отмеченный влиянием Рус-
со период было гораздо шире, чем в настоящее время, то все
же тем самым в сфере проблематики сознательного — бессозна-
тельного воздвигается метафизический барьер между художе-
ственной деятельностью гения и прочей — сознательной—чело-
веческой практикой. Тот факт, что, выдвигая на первый план
изначальность и в качестве ее конкретизации образцовый ха-
рактер творчества гения, Кант в содержательном отношении
стоит на почве прогрессивной эстетики XVIII века, подтверж-
дает обусловленность временем кантовского понимания приро-
ды. Однако такая глубокая укорененность гениальности в при-
роде должна иметь весьма важные последствия для его кон-
цепции взаимосвязи сознательного и бессознательного в обла-
сти эстетического. Кант подводит следующий итог своим рас-
суждениям: «Гений сам не может описать или научно показать,
как он создает свое произведение; в качестве природы он дает
правило; и поэтому автор произведения, которым он обязан
111
своему гению, сам не знает, каким образом у него осуществля-
ются идеи для этого, и не в его власти произвольно или по
плану придумать их и сообщить их другим в таких предписа-
ниях, которые делали бы и других способными создавать
подобные же произведения»99. Эти весьма противоречивые поло-
жения Канта связаны не только с вышеописанной его концеп-
цией природы, но и с общими основами его эстетики, с опреде-
лением прекрасного как того, «что без понятий представляется
как объект всеобщего удовольствия», причем Кант добавляет
также, что такое восприятие эстетического объекта, хотя оно
и носит субъективный характер, как правило, выступает в той
форме, «как если бы красота была свойством предмета и суж-
дение... логическим»100.
Принципиальная ложность подобных рассужДений — причем
здесь искажается даже интуитивно правильно понятое, как это
часто происходит у Канта, — проявляется в том, что они окон-
чательно идентифицируют сознательное с понятийным, даже с
выражаемым средствами науки. Независимо от того неодно-
кратно исторически подтвержденного факта, что большое число
художников вполне могут дать себе точный отчет в том, каким
образом у них «осуществляются идеи», и в том, как они «соз-
дают свои произведения», мы не можем говорить о бессозна-
тельности художественного творчества, даже если в отдельных
случаях его осознанность не констатирована. В противном слу-
чае нам пришлось бы даже в научной жизни, не говоря уже
о повседневной практике, расценивать как знак «неосознанной»»
«естественной» гениальности то, что, по существу, создается»
безусловно, сознательным путем. Кант правильно считал, что
в художественной практике правила или предписания непри-
менимы, но это не имеет никакого отношения к вопросу взаимо-
связи сознательного и бессознательного. Все эти несоответствия
в ходе рассуждений Канта связаны, с одной стороны, со значи-
тельной недооценкой критериев сознательного (научно точный
подсчет), с другой стороны, прежде всего с тем, что он возво-
дит бессознательный характер творческого процесса к природе
и поэтому делает его лишь продолжением процессов, происхо-
дящих в природе, необходимо протекающих без участия созна-
ния. Насколько важно для теории познания провести по воз-
можности четкую границу между природой и человеческим
сознанием, не принимая в расчет возможные переходные явле-
ния, настолько же усложняется ситуация, когда предметам че-
ловеческой культуры просто приписывается свойство «природ-
ное™». По самой своей сущности философские воззрения Канта
не имеют ничего общего с современными теориями, которые
превращают бессознательное в единую космическую силу,,
имеющую внечеловеческую природу. Но эта его ложная и не-
верная постановка проблемы сближает его с представителями
таких течений.
112
Еще отчетливее это противоречие выступает в эстетике Шел-
линга, находящегося под сильным влиянием «Критики спо-
собности суждения», по меньшей мере в том, что касается*
постановки проблемы. Это противоречие в ранних работах:
Шеллинга еще острее из-за наличия двух — на уровне его рас-
суждений— принципиально несоединимых тенденций в его мыш-
лении этого периода. Первая из них находит свое выражение
в определенном сближении с материализмом, проявившемся &
период его размежевания с Фихте, и непосредственно после
этого очевиднее всего в его «Эпикурейском символе веры». Эта
же тенденция обнаруживается и в его натурфилософии тех лет,,
когда он находился также под сильным влиянием Гёте; она
достигает своей кульминации применительно к природной пред-
метности в следующем утверждении: «Совершенно невозможна
представить сознательное порождение объективного... объектив-
но только то, что возникает бессознательно»101. Здесь, без со-
мнения, присутствуют еще элементы побочных материалисти-
ческих тенденций раннего Шеллинга; поскольку, однако, и тут
он отказывается пойти на уступки «гилозоизму» (то есть мате-
риализму), у него возникает сложная — чуть ли не софистиче-
ская — терминологическая система, причем бессознательное
в естественных природных процессах содержит оттенок пси-
хологической неосознанности, отсутствие всякого — осознан-
ного или неосознанного — человечески-психического элемента
обретает характер «неосознанного» творения силами природы..
Только таким образом эта материалистическая побочная тен-
денция может уместиться в рамках системы объективного идеа-
лизма с его отождествлением субъекта и объекта; искусство
для Шеллинга при этом становится прежде , всего как бьв
органом философии, так как в нем якобы наличествует и дей-
ственно проявляется это единство сознательного и бессознатель-
ного. Генезис и существование искусства должны, таким обра-
зом, быть отображением этого процесса с обратным знаком,,
делая его тем самым понятным для философии в целом: «При-
рода начинает с бессознательного и приходит к сознательности,,
созидающий процесс нецелесообразен, целесообразно же взамен
то, что создается. Я, осуществляя ту деятельность, о которой
здесь идет речь, должно приступать к ней с сознанием (субъ-
ективно) и заканчивать бессознательным, то есть приходить
к объективному. Это Я сознает свою созидательную деятель-
ность, но бессознательно в отношении созданного произведе-
ния»102. В последнем суждении опять-таки содержится двой-
ственность, утверждение о неоднозначности бессознательного,,
ибо, конечно, произведение искусства не может обладать со-
знанием точно так же, как любое искусственное изделие; в этом
отношении оно ничем не отличается от прочих результатов че-
ловеческой практики. Сложный многослойный и многокрасоч-
ный понятийный аппарат Шеллинга объективно не выходит,.
8-102
113
но существу, за рамки кантовских категорий, а провозглашен-
ная им связь бессознательного и объективного как признаков
природы лишь отражает ложность его попыток представить
бессознательное как монолитно-единую потенцию, возникаю-
щую еще на дочеловеческой стадии развития.
Не опираясь непосредственно на Шеллинга или романтиков,
современная так называемая глубинная психология доводит
эту тенденцию до абсолюта. Исторически разветвленное и мно-
гостороннее распространение такой тенденции трудно понять,
если не рассматривать ее в связи с тенденциями к мифологи-
зации, созданию «научных» мифов, прославлению дионисийского,
хтонического начал и т. д. Во всех этих теориях сознательная
жизнь людей предстает как тонкий, хрупкий поверхностный
слой, непонятным образом возникший над п^рвоистоками и
безднами бессознательного; для большинства авторов — в силу
различных оснований — оказывается роковой ситуация, при ко-
торой полное господство бессознательного над сознательным
не реализуется. (Противопоставление бессознательной души
и сознательного духа у Клагеса — наиболее показательный при-
мер такого рода оценки.) То, что в эпоху классицизма и на
заре романтизма выступало всего лишь как противопоставле-
ние бытия и становления в природе, с одной стороны, мышле-
ния и действия человека — с другой, теперь становится единым
и непременно космическим основанием всякого человеческого
бытия; сексуальное либидо у Фрейда было первой, сравнитель-
но простой формой такой структуры связей между сознатель-
ным и бессознательным. Уже у относительно более трезвого
и — по крайней мере в своих сознательных намерениях — в боль-
шей мере ориентированного на научный подход Фрейда наблю-
дается тенденция рассматривать все возможные способы про-
явления человека как своего рода зависимую «надстройку» над
этой космической силой. Можно, например, вспомнить о том,
что Фрейд видит ценность труда, профессиональной деятельно-
сти и т. д. в том, что это доступные и при соответствующих
условиях эффективные средства и способы сублимации либи-
до103. У позднейших представителей глубинной психологии..
у которых метафизическая недооценка сознания приводит к бо-
лее или менее антинаучным выкладкам, мифологизирующая
тенденция выступает еще более явственно. Здесь мы не можем
•ставить перед собой задачи дать даже краткое описание таких
ложных представлений о душевной жизни. Упомянем лишь о
том, что психологическая категория торможения (у Фрейда —
вытеснения) получает негативный ценностный акцент, в силу
чего происходит разрушение всей структуры и динамики психо-
логических процессов, основанной в действительности на вполне
конкретном равновесии между раздражением и торможением,
и замена их произвольными мифологизированными конструк-
циями. (К вопросу о торможении мы еще вернемся [с. 119 и ел.].)
114
Попытаемся хотя бы вкратце охарактеризовать конкретные
и реальные взаимоотношения между процессами, протекающи-
ми осознанно или неосознанно в душевной жизни человека с
тем, чтобы посредством проникновения в многообразие форм
ее проявления конкретно поставить вопрос о сознательности или
бессознательности возникающих в сигнальной системе Г фено-
менов— прежде всего в связи с процессом художественного-
творчества. В первую очередь следует указать на то, что сами
физиологические процессы и их преобразование в психические
явления всегда и необходимо остаются неосознанными. Так, мы
в принципе не можем осознать, каким образом световые волны,,
соприкасаясь с нашим глазом, проявляются в нашем сознании
в виде красного цвета; при большом количестве таких процес-
сов сознание регистрирует только внешние или внутренние по-
мехи как болевые точки, причем в большинстве случаев оно
не в состоянии даже сделать правильные выводы относительно
данной ситуации. В этой специфической области бессознатель-
ного фактически речь может идти о «наследственном характере»
связи с природными состояниями, так как физиологические
процессы и проявляющиеся в них в снятом виде физические и
химические процессы выработались в ходе целого ряда этапов
развития, на которых сознания как такового еще не существова-
ло ни в одной из его форм. Даже самое исчерпывающее научное
обоснование не может ничего изменить в сложившейся ситуации,,
так как оно вскрывает всеобщие объективные связи, которые
именно поэтому не могут быть преобразованы для переживаю-
щего их субъекта в сознательно воспринимаемые. Точно так
же бессознательно функционируют безусловные рефлексы, хотя'
их принадлежность к сфере природного уже не столь очевидна
и безоговорочна; многие из них носят именно такой характер,,
но вполне возможно, что в общественной жизни людей в тече-
ние столетий или даже тысячелетий, по существу, сходным об-
разом повторяющиеся раздражители сформируют безусловные
рефлексы. Во всяком случае, речь идет, как' всегда в случае
генезиса, о психологическом явлении, которое в целом харак-
теризуется как инстинктивное.
Прочно закрепившиеся условные рефлексы —явление совер-
шенно иного порядка. Здесь мы впервые сталкиваемся с тем
фактом, что между сознательным и бессознательным происхо-
дит постоянное взаимодействие, так что человек —в данном
случае это имеет решающее значение — может преобразовать
многие вполне осознанно функционирующие процессы в бес-
сознательные. Конечно, и у высших животных наблюдается
большое число условных рефлексов. Можно даже утверждать,
что описанный процесс до известной степени имеет место и у
них--Вспомним игры молбдня-ка животных, обучение полётам,
например' то, как ласточки учат летать своих птенцов. И здесь;
речь идет-о том, чтощельш'ряд движений^ способов поведений
8*
115
*и т. д. у животных фиксируется как условные рефлексы. Ана-
логичные процессы нередко происходят и у людей. Явление,
на которое мы хотим обратить здесь внимание, представлено
.лишь на качественно более высокоразвитой ступени. Во-первых,
исходная точка — это часто полностью осознанный, при соот-
ветствующих условиях даже полученный путем научных иссле-
дований конкретный оптимум в сфере современных методов
труда, систематических занятий спортом и т. д. Во-вторых —
ж это в данном случае самое существенное — это сознательное
превращение в бессознательное целого ряда движений, дейст-
вий и т. д. используется для того, чтобы расширить психоло-
гическое пространство для формирования, углубления, развития
'более высокоразвитого сознательного действия. Когда тен-
нисист или бегун изучает все возможности вынолнения целесо-
образных движений и путем тренинга превращает их в отрабо-
танные условные рефлексы, он делает это в первую очередь
для того, чтобы в ситуации серьезного состязания сконцентри-
ровать все свое внимание на тактике. Лишь уверенность в том,
что его руки и ноги в нужном случае «сами собой» сделают
требуемое движение, позволяет ему сконцентрировать внимание
на выборе наиболее действенной тактики для победы над про-
тивником. Конечно, достижение оптимального физического со-
стояния— это область тренинга, но тем самым не умаляется
решающее значение отмеченного нами момента. Здесь для нас
существенна следующая констатация: этот процесс способству-
ет взаимосвязанному умножению как сознательных, так и бес-
сознательных элементов в психике его участников, причем речь
идет именно о том бессознательном, которое является исключи-
тельно продуктом культуры, сознательно направляемой дея-
тельности человека, а отнюдь не свойством, данным ему от при-
роды. Здесь следует упомянуть и тот факт, что такое освобож-
денное от контроля сознания осознанное действие по меньшей
мере в основном протекает через посредство сигнальной систе-
мы V; говорить здесь об инстинктивной деятельности только
потому, что решения формулируются не вербально, не понятий-
но, было бы упрощением и данью модной терминологии, ибо
новизна таких способов действия исключает в данном случае
возможность формирования инстинкта; сущность же их состо-
ит именно в постоянном приспособлении к новым ситуациям,
в выработке умения мгновенно принимать рациональное ре-
шение в такой ситуации, в подготовке к ней и ,т. д. Здесь оче-
видно качественное различие сигнальной системы I' и ин-
стинкта.
Неинстинктивный характер подобных способов реагирования
на внешний мир, неосознаваемых человеком, проявляется в не-
избежной конфликтности, постоянно и необходимо создаваемой
самим их применением. В то время как инстинкт возникает
© долговременных, в основном неизменных условиях, искусствен-
116
мо создаваемое здесь бессознательное выступает для человека
как средство целенаправленного приспособления к тем ситуа-
циям, в которых изменения, новое и т. д. неизбежны. Поэтому
закрепленные таким образом условные рефлексы должны под-
чиняться направляющему сознанию (независимо от того, функ-
ционирует ли это сознание на уровне сигнальной системы V
:или второй сигнальной системы). Но в действительности такой
идеальный случай — исключение. Здесь чаще возникают край-
ние точки, полярные проявления нецелесообразного соотношения
между сознанием и создаваемым им бессознательным: с одной
стороны, формируются типы дилетанта, халтурщика и т. п.,
неспособного выработать в достаточном количестве и на доста-
точном качественном уровне условные рефлексы и поэтому вы-
нужденного слишком многое осуществлять при полном осозна-
нии того, что он делает, вместо того чтобы довериться этим
-рефлексам; с другой стороны, образуется тип педанта, рутине-
ра и т. п., у которого система фиксированных условных рефлек-
сов работает с определенным автоматизмом, что препятствует
сознательной оценке той или иной конкретной, новой ситуации
и действию в соответствии с ней и тем самым провоцирует
.ложные реакции на нее. Таким образом, фиксация условных
рефлексов выгодна для практической деятельности человека
лишь до тех пор, пока она в данном случае зависит от сознания
действующей личности, независимо от того, стремится ли эта
последняя их использовать или нет. Однако в таком случае
предполагается наличие системы торможения, действующей и
используемой одновременно с процессом выработки условных
рефлексов, что в еще большей мере определяет своеобразное
воздействие осознанных и неосознанных (ставших неосознан-
ными) компонентов жизни человека.
Здесь мы имели дело с сознательно созданным взаимодей-
ствием между сознательным и бессознательным . в жизни. Но
сфера этих взаимодействий намного шире, чем одна лишь от-
меченная нами фиксация условных рефлексов. Многие из таких
процессов протекают, по крайней мере по большей части, в бес-
сознательном. Достаточно упомянуть о феномене памяти. Никто
не мог бы думать или действовать, если бы все, о чем он мо-
жет вспомнить в каждом данном случае, постоянно присутство-
вало в его сознании. Поэтому у каждого нормального человека
возникает тенденция к живому и реальному взаимодействию,
причем память возвращает в сознание лишь то, что данному
человеку необходимо в данный момент из.всего достояния его
предшествующего опыта. Мы намеренно использовали при этом
слово «тенденция», так как речь здесь идет о механически
четком, безошибочном функционировании памяти —как в по-
ложительном, так и в отрицательном смысле. С одной стороны,,
воспоминания часто приходят в голову, всплывают в^сознании
как нечто мучительное, как помеха и т. д., с другой стороны,
117
нередко случается, что необходимое для человека именно в ре-
шающий момент прошлое не обретает отчетливости осознанно-
го. Оба случая свидетельствуют не о противопоставлении «ми-
ра» сознательного «миру» бессознательного, но скорее о непре-
рывном взаимодействии между ними, закономерности которого,
впрочем, нам пока еще малоизвестны. Хотя процесс взаимо-
действия, разумеется, протекает в основном спонтанно, было
бы ошибкой недооценивать значение сознательного элемента.
Общеизвестно, что можно «тренировать» память, и, хотя воз-
можности таких упражнений не безграничны, в этом отноше-
нии память ничем не отличается от других сфер взаимодействия
сознательного и бессознательного, где всегда решающую для
успеха или неудачи роль играет индивидуальная установка,
правильность применяемых методов и т. д. Успешное во многих
случаях использование методов мнемотехники показывает, что
вполне возможно превращать определенные воспоминания в
закрепленные условные рефлексы. Такой их характер прояв-
ляется также и в том, что они лучше всего сохраняются при
постоянном использовании, если же долгое время к ним не
обращаться, они нередко отказывают. К этому же комплексу
явлений относятся описанные выше феномены вдохновения, ин-
туиции и т. д. |[см. т. 1, с. 71 ,и ел; т. 3, с. 34 и ел.]. Чтобы!не
повторяться, заметим только, что это всегда бессознательное
продолжение сознательных ходов мысли, а их «внезапность»
предстает таковой лишь в психологическом смысле, при их буд-
то бы неожиданном появлении из сферы бессознательного-в
данный момент; объективно и содержательно между сознатель-
ными мыслительными усилиями и интуицией существует' оче-
видная преемственность. Хотя наука еще не открыла психо-
физиологический механизм этой континуальности, преемствен-
ности, ее наличие — надежное доказательство наличия и пер-
манентного функционирования взаимодействий между созна-
тельным и бессознательным.
Мы можем взглянуть на это взаимодействие с другой, сек
вершённо новой стороны, если обратимся к отмеченной нами
выше социальной обусловленности сознания как истинного
или.'ложного [см. т. 1, с. 72 и ел.]. Сознание в той же мере,
в какой мы его рассматривали, является категорией социаль-
ной, то есть оно выражает содержательную связь между обще-
ственно-историческим бытием и его адекватным или неадекват-
ным отражением в соответствующем общественно-историческом
сознании; применимость этой категории в социально-исторйче-'
ском аспекте основывается как раз на том, что она не ноойт'
психологического характера. Однако в любом случае необхо-
димо учитывать и психологические аспекты, поскольку каждое'
общественно-историческое событие может реализоваться лишь
в, индивидуальной деятельности, а отсюда возникает сама" по
себе Широкая сфера взаимодействий. В соответствии с нашей
118
общей задачей мы здесь не будем останавливаться на такой —
с объективной точки зрения, возможно, более важной — части
этих отношений, как реальное влияние проявлений индивиду-
альности на формирование истинного или ложного социального
«сознания. Мы будем заниматься исключительно вопросом того,
как это последнее обнаруживает себя в душевной жизни отдель-
ных людей. И здесь психологическая наука приводит нас в не-
доумение; пренебрегая, как правило, физиологической основой
психического, она отвергает также и его обоснованность обще-
ственным бытием, исследуя в основном искусственным образом
изолированную душевную жизнь индивидов, тогда как обще-
ственное рассматривается ею в основном в своей непосредст-
венности в качестве среды, окружения и т. д.
Но для всякого человека вопрос о том, насколько и действи-
тельно ли в данное время у его класса господствует ложное
сознание, глубочайшим образом воздействует на всю его пси-
хологию. Речь идет не о том, получает ли эта проблематика
•осознанную или даже мировоззренчески четкую формулировку,
в повседневной жизни человека она зачастую играет роль не-
писаной системы запретов и приказов, положительных и отри-
цательных примеров. И хотя виды, связи и т. д. рефлексов и
торможений возникают непосредственно, причем у каждого че-
ловека исходя из его личных потребностей, однако поскольку
не только возможности их удовлетворения зависят от социаль-
ной ситуации и положения соответствующих людей, но и пра-
вильность или неправильность той картины, которую данный
человек составил себе об этих связях, имеет большое влияние
на выполнимость его желаний, это весьма сложное сочетание
не может не воздействовать на структуру всякого участвующе-
го в подобном процессе сознания, на связь сознательного и
бессознательного в нем, тип их взаимосвязи. Конечно, невоз-
можно даже перечислить возникающие здесь противоречия, не
говоря уже о том, чтобы подвергать их анализу. Представля-
ется достаточным сделать лишь ряд общих замечаний относи-
тельно столь модной проблемы «вытеснения» (торможения).
Безусловно, чем более однозначно ложным является сознание
человека в социальном отношении, тем вероятнее для него воз-
можность возникновения конфликта с социальным окружением.
Тип конфликта, естественно, зависит от свойств самого челове-
ка. Один полюс составляет кихотический тип, у которого —
в крайнем его выражении, описанном Сервантесом, — все тор-
можения подвергаются социально неразумным преобразовани-
ям. Другая крайность — попытка по возможности полного при-
способления к тем связям, которые резко противоречат потреб-
ностям данного человека. В таких случаях человек должен
выработать у себя возможно более сильные торможения, в пер-
вую очередь относящиеся к важнейшим для его сознания аспек-
там: он должен сделать противное себе предметом своего осоз-
119
нанного поведения, тогда как то, что ему действительно дорого,
должно быть вытеснено, перейти в бессознательное. Сформу-
лированная здесь самая общая структура такого способа пове-
дения, естественно, охватывает большую шкалу всевозможных
переходов. Это может быть жизнь, построенная на лжи, как у
Ялмара Экдала в «Дикой утке» Ибсена, либо «двойная жизнь»,
по Готфриду Бенну, и это же может привести к различным
формам настоящих и мнимых душевных заболеваний («уход в
болезнь») и т. д. и т. п. Психологически такая ситуация ведет
к нарушению равновесия в системе рефлексов. Постоянное при-
нуждение к поведению, вызывающему неприязнь субъекта, по-
стоянное торможение аффективных воздействий, важных для
личности, создает такое состояние, в котором сознательное и
бессознательное в человеке враждебны и противопоставлены
друг другу, вместо того чтобы — пусть даже нередко и проти-
воречиво— взаимодействовать друг с другом. Итак, эти формы
психических нарушений есть в первую очередь явления соци-
альные. Конечно, такого рода процессы могут иметь также по
преимуществу физиологические причины, но, поскольку обе эти
объективно существующие основы душевной жизни еще недо-
статочно исследованы, мы слишком мало можем сказать о пред-
полагаемом взаимодействии этих двух факторов.
Понимание неразрывности взаимосвязей между изначально
социальными и изначально психофизиологическими компонента-
ми психики человека и их функционированием будет еще более
полным, если мы обратимся к вызвавшему столь острые дис-
куссии вопросу о страстях. Пока окружающий мир описывает-
ся лишь в самых общих категориях — соответственно more geo-
metrico Спинозы, — пока в центре стоит идеал абсолютного
господства осознанной мудрости, ясное и безусловно отрица-
тельное решение по данному вопросу представляется несомнен-
ным. По Спинозе, «аффект, составляющий пассивное состояние,
перестает им быть, как скоро мы образуем ясную и отчетливую
идею его»; этот аффект, по существу, есть «идея смутная», ко-
торая поэтому, став осознанной, должна утратить свой исход-
ный характер104. Исключительное этическое значение этой тео-
рии мы обсуждать здесь не будем. Нас она интересует с пси-
хологической точки зрения, поскольку действительность,
согласно этому идеалу, с одной стороны, несет с собой усовер-
шенствованное господство сознания в душевной жизни, а с дру-
гой— способствует развитию широкой системы торможений,
причем здесь не возникает психологической дисгармонии. На-
против, чем менее потусторонен и аскетичен такой идеал —
у Спинозы он в той же мере не таков, в какой он не таков у
Эпикура, — тем сильнее он тяготеет к внутренне богатой, гар-
моничной жизни. Ибо душевное богатство — это интенсивная
переработка того, что человек получает от внешнего мира и
чем он располагает сам по себе как данностью. Обесценение,
120
отвержение многого из того, что люди, как правило, считают
важным, не может нарушить этой внутренней полноты. Есте-
ственно, этот вопрос лишен смысла, если он ставится чисто
формально, а не содержательно (причем именно в общественно-
историческом смысле): узость или широта, глубина или поверх-
ностность, масштабность или ограниченность такого поведения
зависят от значимости утверждаемых или отрицаемых — уда-
ленных из сознательной душевной жизни под воздействием тор-
можений — содержательных аспектов.
Такое истолкование и даже признание спинозовского отно-
шения к страсти не означает, однако, что в нем следует видеть
единственно возможный подход. Напротив, для обыденной жиз-
ни людей это вовсе не типично, что вполне обоснованно, если
принять во внимание его идеальный характер. Роль сознания
как руководящего принципа человеческой деятельности в ос-
новном проявляется в более сложных формах. При этом мы
можем учесть лишь теоретически решающие моменты. Прежде
всего надо отметить, что действительная личность человека
обычно оказывается намного разнообразнее, чем та осознанная
человеком картина, которую он сам себе создает. Если же мы
исключим из нашего рассмотрения такие общераспространенные
тщеславные заблуждения на свой счет и т. д., остается лишь
такая ситуация, когда человек узнает, чего он, собственно, хочет
и что он представляет собой на самом деле, лишь тогда, когда
жизнь ставит его перед выбором, в котором его прежнее, спон-
танно сформировавшееся бытие утверждается или отвергается,
изменяется или продолжается. Шоу .в своем «Ученике дьявола»
рисует ситуацию, когда Ричард Даджен и пастор Андерсон
к своему собственному удивлению, однако с полной внутрен-
ней убежденностью и нравственной определенностью в решаю-
щий момент своей жизни выбирают как нечто само собой разу-
меющееся пути, полностью противоположные их прежней жиз-
ненной ориентации, их прежнему осознанному мировоззрению.
Подобная ситуация даже в ее поэтически заостренной форме
не имеет ничего общего с иррационализмом или нигилизмом
как выражением абсолютной загадочности всякого человека,
с его «вечным» инкогнито, здесь можно говорить лишь об об-
разцовом практическом подтверждении устойчиво скептическо-
го отношения Гёте к призывам «познать самого себя», никогда
не приводившего его, однако, к агностическим выводам [см. т. 1,
с. 195 и ел.].
Представляется, что здесь мы имеем дело с такой — в дан-
ном случае охватывающей жизнь человека во всей ее широте
и глубине — структурой, с которой мы сталкивались при ана-
лизе памяти [с. 117 и ел.], а именно: осознанные мысли и дей-
ствия, их спонтанные проявления и т. д. не просто накаплива-
ются, но и имеют относительно самостоятельное бытие, которое
при попытках осознать его обнаруживает целый ряд самых раз-
121
личных противоречий. При этом вполне возможно, как и в слу-
чае, описанном Шоу, что форма жизни, которую человек вы-
брал однажды в согласии со своими ближними, со своими окру-
жением, которую он выработал, поддерживает и даже иногда
решительно отстаивает, окажется вовсе не той,, какая бы глу-
боко соответствовала всей его личности. У Шоу представлена
экстремальная ситуация, весьма показательная, поскольку пси-
хологические мотивы, управляющие всеми поворотами в жизни
людей, корректирующие и их прежнюю жизненную линию, лик-
видирующие ложные тенденции и т. п., демонстрируют здесь
в концентрированном виде то, что в переходных случаях про-
является лишь в скрытой форме. Эти факты следует иметь в
виду, чтобы не упрощать и не огрублять человеческую жизнь.
Но констатация фактов — это еще не ответ, ибо они свидетель-
ствуют не о мистерии бессознательного, но о постоянном воп-
росе к жизни, о постоянной потребности все более полного по-
знания самого себя и других людей. Большая редкость, чтобы
во взаимодействии с окружающим миром человек сразу же,
мгновенно нашел свое истинное дело, соответствующую себе
форму жизни. Поиски таковых происходят очень часто вполне
сознательно, и многие примеры подведения итогов, поворотов
в жизни и т. д. являются плодами сознательных мыслительных
усилий. Но именно потому, что человек — это не только индиви-
дуально-конкретное существо, но и существо, участвующее в
конкретно-данной общественно-исторической действительности,
описанная коррекция ложных представлений о самом себе име-
ет жизненно важное значение. Истоки этой коррекции не сле-
дует искать ни в темных глубинах Ничто, ни на светлых высо-
тах загадочно независимого бессознательного, она скорее в той
или иной степени есть продукт собственной деятельности чело-
века. Даже в таком крайнем случае, как упомянутый пример
Ричарда Даджена, нравственное возрождение, окончательное
выявление своей подлинной личности подготавливается в тече-
ние долгого времени, и если потребность в нем ранее не осоз-
навалась, то в основе незнания своих собственных глубинных
тенденций лежит ложное представление о них, а оно всегда
обусловлено также и историческим временем, и положением
индивида в его границах.
Только такой подход позволяет лишить страсти их мнимой
загадочности. Если мы обратимся к создаваемым Тэном обра-
зам Бальзака или Шекспира, мы увидим, что для Тэна страсти
как бы живут совершенно самостоятельной, обособленной
жизнью в человеке, подчиняются собственной фатальной необ-
ходимости, увлекающей его, как волны в бурю уносят безза-
щитную рыбацкую лодку. Точно таким же образом люди перво-
начально— и мифологизированно — представляли себе страсти
как результат действия сверхъестественных сил; достаточно
вспомнить посланную Афродитой греховную любовь еврипидов-
122
ской Федры. То, что у Тэна, у Золя и ряда других авторов фе-
тишизированные «трансцендентные» силы выступают в форме
современных мифов, как мистифицированная наследственность
и т. п., не меняет существа дела. Именно здесь мы убеждаем-
ся, сколь тяжко сказывается на психологии проявленное ранее
невнимание ко всем социально-историческим определениям и
обоснованиям. Ибо с объективной точки зрения страсти отли-
чаются от обычных аффектов прежде всего количественно: они
не просто составляют такую часть внутренней жизни, которая
под влиянием внутренних и внешних обстоятельств может быть
подавлена или пробуждена, но вырастают в исключительную
по своему могуществу силу, которая тиранически требует реа-
лизации и часто оказывается непреоборимой, преодолевающей
все внутренние и внешние препятствия. При правильном пони-
мании страстей необходимо учитывать это их качественное свое-
образие, возникшее как результат количественного развития,
ибо существует целый ряд случаев, когда чистые аффекты и
пустые фантазии реализуются беспрепятственно из-за недоста-
точной разработанности или патологической ослабленности си-
стемы торможений. Если эта слабость имеет физиологическое
основание, мы имеем дело с патологическими явлениями, кото-
рые находятся за рамками нашего анализа. Однако эта сла-
бость может иметь исключительно или преимущественно соци-
альный источник, ибо определенные социальные ситуации раз-
вивают в людях спонтанно или сознательно невнимание к со-
циально диктуемым запретам, связям и т. д., что психологиче-
ски аналогично ослаблению или полному исчезновению связан-
ных с этим торможений. У сформировавшихся таким образом
людей даже не очень сильные аффекты не встречают на своем
пути никаких препятствий, что открывает полную свободу для
самых абсурдных форм их проявления. Это подтверждают об-
разы Лафкадио и молодых людей в «Фальшивомонетчиках»
Андре Жида. И именно потому, что подобных людей в физио-
логическом отношении можно назвать нормальными, и потому,
что теория «action gratuite» есть строго социально-исторически
обусловленная нравственная доктрина, в таких пограничных
случаях значение социальных компонентов самих страстей сле-
дует обязательно и детально изучать.
Что же касается страсти в собственном смысле слова, то
прежде всего здесь необходимо учитывать рассмотренную выше
проблематику, а именно то, что человек стремится установить
соответствие между своей индивидуальной жизнью, своими
личными устремлениями и теми объективными возможностями,
которые предлагает ему соответствующее общество, его клас-
совая принадлежность и т.д., зачастую на ощупь, неравномерно,
через кризисы. В таких столкновениях между человеком и дей-
ствительностью у человека на уровень пробужденного сознания
поднимается многое из того, что проявилось ранее — положи-
123
тельно или отрицательно — как смутное желание или страст-
ное стремление, как неудовлетворенность или бессознательное
отвержение, то есть выступало более или менее ясно, но на
уровне известного, а не на уровне познанного. Такие процессы —
это обычно процессы осознания, и, по существу, здесь следует
отличать «еще не осознанное» от «бессознательного» Фрейда.
Осознание еще не осознанного в жизни человека есть соответ-
ственно необходимый психологический продукт активного взаи-
модействия между человеком и окружающим миром, выявляю-
щий— в противоположность глубинной психологии — истинную
душевную структуру действующего человека. Описанные нами
в этой связи конфликты образуют благоприятный фон для про-
буждения страстей. Но необходимо мимоходом подчеркнуть,,
что, хотя нередко страсти выявляются именно в крллизиях, не
может быть и речи о том, чтобы устанавливать между ними
неразрывную связь. Столкновения с миром, внутренние расколы
могут возникать из самого глубинного стремления человека!
жить в соответствии со своими истинными потребностями, но
они совсем не обязательно должны .привести к этому. Любовь
супругов Браунинг, тихая жизнь многих ученых, художников
и т. д. — непререкаемое свидетельство в пользу правильности
нашего положения. Вместе с тем точное знание социальных
основ столкновения между индивидом, охваченным страстью,
и его окружением может представлять интерес для психологии
лишь тогда, когда социальные компоненты выступают как мож-
но конкретнее. Так, недостаточно просто вскрыть мотивы когда-
то острого противоречия, следует также выяснить, каким обра-
зом воздействуют существующие общественные условия, направ-
ления развития, противоречия и т. д. на людей, насколько
данная ступень их развития предназначена для того, чтобы
преобразовать социальные препятствия на пути конкретных
страстей в эффективные торможения у самого индивида. Во
всем этом конкретизируется взаимоотношение между истинным
и ложным сознанием в историческом плане и в плане индиви-
дуальных желаний, потребностей, устремлений.
Исходя из вышесказанного, становится понятным следую-
щее общеизвестное положение: эпохи общественных кризисов
(и их подготовки) создают благоприятные условия для возник-
новения разрушительных страстей. Ибо кризис (и уже сама
его подготовка) ослабляет внутренние препятствия, с которыми
социальное предписание или запрет обычно психологически
сопряжены для индивида. Естественно, такой процесс проявля-
ется весьма по-разному, и уровни его проявления в действи-
тельности могли бы привести к полностью противоположным
психологическим последствиям. Например, Шекспир в «Ромео
и Джульетте» несколькими штрихами ясно показывает, что
феодальная рознь между семействами Монтекки и Капулетти
воспринимается и народом, и правителем Вероны как анахро-
124
низм, как нечто чуждое современной жизни. И поэтому у влюб-
ленных уже почти не действует внутреннее торможение, их:
страсть выступает в трагическом конфликте лишь как борьба?
внутренней необходимости человека с роковыми внешними пре-
пятствиями. Совершенно иная ситуация представлена в романе
«Принцесса Клевская» маркизы де Лафайет. Здесь изобража-
ется общество, где индивидуальная эротика уже пробила глу-
бокую брешь в условном феодально-придворном представлении'
о браке, где часто лишь внешние приличия скрывают разнуз-
данное распутство, однако еще не достигнута стадия полного*
отказа от системы старой морали. Поэтому у героини возника-
ет внутренняя борьба со своими собственными страстями, ко-
торая оканчивается патетической резиньяцией; эти чувства и
внутренние конфликты оказываются уже совершенно чуждыми*
тому дворянскому миру, каким его ярко описывает Лакло„
а тем более Бальзак. Именно на почве этих конкретных взаимо-
связей— между индивидом и обществом — развиваются глубо-
чайшие характерные свойства страстей. Такие взаимоотноше-
ния могут, впрочем, как препятствовать, так и способствовать
развитию и возникновению страстей. В последнем примере они?
явно являются помехой, но, как я писал в одной из своих работ,,
и в содержательном отношении, и с точки зрения особенностей
испытываемого чувства для любви Вертера позитивные клас-
совые цели поднимающегося бюргерства играют существенно-
определяющую роль 105-106.
Для истинной страсти в противоположность чистому аффек-
ту, ставшему господствующим в силу простого отсутствия тор-
можения, характерно, что она, как правило, способствует более
высокому уровню развитости сознания у индивида, который ее*
проявляет. Именно серьезная борьба против общества — воз-
можно, и против тех внутренних торможений, которые оно соз-
дает у людей,—действует в направлении усиления роли созна-
ния.
Подобная тенденция представлена уже в «Федре» Еврипида..
Это относится не только к героям трагедии, где и сама форма>
требует такой направленности; когда Готфрид Келлер перено-
сит сюжет Ромео и Джульетты в крестьянскую среду, тенден-
ция к осознанию сохраняется, естественно, в соответствии с*
конкретным уровнем развития сознания героев. Пока что мы
говорили о проблематике страстей исключительно на примере
любовных конфликтов. Однако, хотя Фурье совершенно прав,,
видя в положении женщины и в формах проявления любв№
своего рода эталон для определения особенностей данной куль-
туры, хотя именно поэтому не случайно в искусстве данный
круг тем оказывается на первом месте, — анализ осознания-
страсти был бы односторонним и неточным, если бы мы огра-
ничились лишь такого типа страстями. Расширение круга об-
суждаемых тем имеет важное значение для понимания самого*
125>
сознания. Ибо при этом оказывается, что не только истинная
страсть может психологически способствовать осознанию, но и
что истоки и содержание самой страсти могут проистекать из
мира осознанного. Естественно, страсть понимается здесь в
чисто психологическом смысле; ее истинность или ложность, ее
справедливость или софистически обманчивый либо ведущий к
самообману характер психологически равным образом должны
подлежать осознанию. Необязательно вслед за Гегелем пони-
мать всю сферу действий частных интересов человека как поле
битвы страстей, чтобы увидеть то безграничное пространство,
где происходит столкновение самых различных страстей, и ко-
торое охватывает всю жизнь человека — от повседневности,
профессиональной деятельности, искусства, науки и т. д. вплоть
до политики. Начиная с -Ричарда III Шекспира до Гамлена в
романе Анатоля Франса «Боги жаждут» литература дает нам
целую галерею примеров того, что сознательно понятые, усво-
енные и использованные мысли могут вызвать столь же силь-
ные страсти, что и обычная любовь. Тот факт, что при этом —
повторяем: в психологическом смысле — страсти вовсе не за-
темняют сознания, не уничтожают его, а, напротив, поднимают
его иногда на высокий уровень ясности видения и тонкости по-
нимания (который, впрочем, может иметь и софистические
свойства), достаточно четко, как мы надеемся, характеризует
их сущность, так что отпадает нужда в умножении числа ил-
люстраций.
Этот подробный, хотя в содержательном плане весьма об-
щий экскурс, касающийся различных форм сознания, был не-
обходим, потому что сфера отношения людей к искусству из-
давна выступала своего рода «инкубатором», в котором взра-
щивались мифы о «бессознательном»; мы видели, что такого
рода попытки делал даже Кант [с. 111 и ел.]. Поэтому посто-
янное, очень различное, но всегда конкретное и рационально
объяснимое взаимодействие сознательного и бессознательного
по меньшей мере в ряде случаев следует истолковать подробнее,
чтобы по возможности отвергнуть всевозможные легенды и
приблизиться к этой проблеме в ее истинном виде.
Выше мы рассматривали сигнальную систему Г в ее раз-
личных проявлениях, чтобы из всей совокупности установлен-
ных нами фактов вывести ее сущность — тот факт, что она есть
своеобразная форма сознания. Уже ее сущность как системы
сигналов от сигналов позволяет установить ее параллелизм со
второй сигнальной системой и отделить ее от системы условных
и безусловных рефлексов. Ее роль в жизни, как мы видели,
юднозначно показывает, что она представляет собой специфи-
ческую форму сознания, которая в состоянии функционировать
в ситуациях, когда отказывает нормальная и привычная форма
сознания — в силу определенных условий и обстоятельств. До-
полнительные примеры, которые мы приведем, свидетельствуют
126
в пользу правильности такого рода суждений: спорадическое
возникновение сигнальной системы Г у некоторых домашних:
животных и есть, без сомнения, первое проявление сознания
у живых существ, условия развития которых не дают им воз-
можности развертывать другие формы своего поведения. Наря-
ду с этим у отдельных категорий душевнобольных отражение
действительности через посредство сигнальной системы Г и по-
пытка пояснить то, что понято таким образом, есть последние
отчаянные усилия удержать сознание, которое иначе может
погрузиться в полную, бессмысленную тьму уже ничем не
управляемого бессознательного.
На примере жизненных явлений мы могли отметить боль-
шую лабильность сигнальной системы Г: плавные взаимопере-'
ходы, с одной стороны, между нею и второй сигнальной систе-
мой. Правда, при этом мы могли видеть, что подобный харак-
тер рассматриваемого феномена затрудняет понимание его как
самостоятельной сущности, причем в большей степени, чем при-
знание в таком качестве второй сигнальной системы, однако
его самостоятельность здесь полностью не исчезает: достаточно*
вспомнить соотношение тактики (сигнальная система Г) и тех-
нического опыта (фиксированные условные рефлексы) в спорте.
Применительно к искусству эта связь носит качественно иной
характер: гомогенная посредующая система каждого произве-
дения искусства .создается для того, чтобы воспринимающий1
мог постоянно участвовать в переживании отображаемого и
направлять свои переживания по тохму руслу, которое опреде-
ляется самим произведением, с заранее заданными усилениями,,
замедлениями и т. д. Это происходит путем погружения вос-
принимающего в мир отражения, где восприятие отображенно-
го мира осуществляется исключительно посредством сигнальной
системы I'. Он — на некоторое время — теряет свои отношения
с самой действительностью и отказывается от попыток рацио-
нально упорядочить все воспринятое в ней; он полностью от-
дается—в соответствии с идеалом восприятия — отображению,
«живет» в «мире», созданном произведением. Само собой на-
прашивается— и нередко это происходит именно так — опреде-
ление такой связи как неосознанной. Но прежде всего нельзя
забывать, что даже в самом наивном восприятии сохраняется
сознание того, что это восприятие противостоит не самой дей-
ствительности, а ее отображению. Если такое сознание отсут-
ствует, то эстетическое отношение к произведению прекраща-
ется; правда, и тогда может возникать осознание, но в этом
случае оно имеет совершенно иной характер, как, например,,
в ситуации, когда Дон Кихот читает рыцарские романы или
следит за кукольным представлением. Возникающее при этом
эстетическое сознание воспринимающего субъекта может быть
весьма критическим и трезвым, даже если оно не получает
сразу же вербального и рационального выражения либо и не
127
может таким образом выражаться: оно очень чутко реагирует
«а склу или слабость эвокативно-направляющего начала в про-
изведении и предъявляет — не выходя из границ действия го-
могенной посредующей системы с ее эвоцирующим переживания
специфическим характером — строгие требования к последова-
тельности, взаимосвязям, «логике» художественно отображен-
ного. Говоря о преддействии и последействии применительно
к восприятию, мы неоднократно останавливались на том, что
это специфически эстетическое сознание, сознание господства
сигнальной системы Г в психике, возникает из крайне неодно-
родной в этом отношении повседневной жизни и снова возвра-
щается к ней же. При таких процессах речь идет не о том,
'что нечто не осознанное осознается, а лишь о том, что чело-
век— часто это можно видеть и на примере других его жиз-
ненных проявлений — переходит от одной фо^мы осознания к
другой £с. 139]. Пока что мы можем ограничиться простой
констатацией этого факта. О специфике этого осознания и его
значении в совокупности жизни человека мы будем говорить
ниже [с. 132 и ел.].
Легенды о рае бессознательного воистину господствуют в
сфере изучения творческого процесса в искусстве. Эти легенды
восходят к самым истокам, к своему, первому воплощению в
мифах о божественном вдохновении; но они продолжают жить —
tB секуляризованной форме — и в наши дни. (Тот факт, что
иногда божественный дар у противников искусства может счи-
таться дьявольским, демоническим, не меняет ничего в психо-
логической стороне дела.) Стремясь как можно быстрее перей-
ти из области психологических мифов к действительности, сле-
дует подчеркнуть: процесс художественного творчества — это
своеобразная, чрезвычайно сложная деятельность, имеющая
ярко выраженный телеологический характер. С абстрактной
точки зрения он едва ли принципиально отличается от прочих
видов деятельности человека, в первую очередь от труда; исто-
рически подтвержден факт, что долгое время границы между
[ремеслом и искусством были весьма зыбкими, нечеткими. И здесь
осознание выступает как общий психологический признак те-
леологической деятельности, в первую очередь труда. Разуме-
ется, вполне возможно, что целый ряд его регулярно повторяю-
щихся моментов и даже протекающих таким образом целост-
ных процессов может осуществляться совершенно неосознанно,
^благодаря упражнениям (закреплению условных рефлексов).
В этом отношении художественное творчество отличается от
прочих видов творческой деятельности не за счет какого-то
усиления роли бессознательных рефлексов — как это следует
из легенд о бессознательном творчестве, — а, напротив, за счет
^постоянного критического анализа и соответственно сокращения
их. Ибо фиксация определенных «технических» фрагментов
трудового процесса в форме условных рефлексов могла бы в
128
художественной практике легко привести к выработке особого
рода маньеризма и существенным образом снизить эстетическую
ценность результата. Так что всякий подлинный творец будет
постоянно наблюдать за своим творческим процессом трезвым
и острым глазом, заботясь о соответствии тех или иных момен-
тов (слова, штриха и т. д.) конкретным требованиям, которые
предъявляет к ним данное произведение, конкретному .месту и
роли их в его композиционном решении и т. д., и стремясь из-
бежать использования ранее выработанных приемов, ставших
технической «рутиной». Конечно, каждое искусство должно
иметь специальный аппарат, функционирующий «сам собой»,
то есть именно бессознательно; так обстоит дело с освоением
грамматики и синтаксиса у писателя, с формированием его сло-
варного запаса и т. д. Но и здесь постоянно работает созна-
тельный контроль, с тем чтобы правильные, но истрепанные
выражения не снизили бы стиль произведения до уровня ба-
нальности. Острота сознания художника — преобладание сиг-
нальной системы Y над системой условных рефлексов, дейст-
вующих бессознательно за счет того, что они уже закреплены,—
должна быть здесь намного более развитой, чем в других видах
производственной деятельности.
Мы подчеркнули в данном случае доминирующую роль сиг-
нальной системы I', так как на других стадиях весьма разветв-
ленного процесса творчества, без сомнения, имеются этапы,
области и т. д., которые как минимум частично оказываются
подчиненными второй сигнальной системе. Речь идет прежде
всего о понимании художником своего значения в связи с по-
следними проблемами искусства, его видов и жанров, которые
важны для него в плане его конкретной работы или перспек-
тив его собственного творчества. Разумеется, эти вопросы воз-
никают на основе художественной практики, но часто дости-
гают значительной высоты чисто мыслительного, рационально-
го обобщения. Независимо от того, выражаются ли такие мыс-
лительные процессы в более прямой, чисто теоретической
форме — как это нередко происходит у Гёте и Шиллера — или
предлагается более косвенный, обходной путь, когда теоретико-
эстетический анализ других произведений искусства помогает
художнику обрести необходимую ясность относительно собст-
венных творческих проблем, как это имеет место во многих
статьях Томаса Манна, — в любом случае здесь непосредствен-
но преобладает нормальное рациональное сознание, вторая
сигнальная система. Но при этом ,ни на мгновение нельзя за-
бывать о том, что возникающая таким образом мысль или це-
лая система мыслей получают свою подлинную основу, свои
критерии истинности, свое подтверждение лишь в действитель-
ном и возможном опыте, который обрабатывается через посред-
ство сигнальной системы Y и поднимается на высоту обобще-
ния, чтобы затем с большей надежностью возвратить ставшее
9—102
129
осознанным сознательной художественной деятельности, сиг-
нальной системе Г. (Тот факт, что при этом такие мысли могут
оказать сходные услуги и возможным субъектам восприятия,
лишь подтверждает общезначимость нашего положения.)
Эту специфическую вспомогательную функцию второй сиг-
нальной системы можно прояснить, исходя из другого, проти-
воположного полюса. Часто оказывается, что академически на-
строенные рутинеры, фанатичные приверженцы определенных
модных художественных течений, просто дилетанты, а иногда
и настоящие художники, не достигшие ясности в своем твор-
честве, в общих вопросах искусства могут с большой уверен-
ностью развивать как логически последовательные, так и не-
редко лишь остроумные или неостроумные общие теории ис-
кусства в целом и своего собственного искусства в частности.
Осознание, возникающее таким образом, не имеет никакого
плодотворного действия на художественное творчество. Мы не
будем здесь говорить о теоретиках типа Готшеда, но драмати-
ческие фрагменты столь одаренного и эстетически глубоко
мыслящего писателя, как Отто Людвиг, показывают, что даже
достаточная ясность в общих вопросах искусства и верное по-
нимание истоков эстетической ценности конкретных произведе-
ний искусства могут стать плодотворными для собственно твор-
ческого процесса лишь тогда, когда все это преобразуется во
внутренне стабильную, конкретную сигнальную систему Г. Бес-
порядочное нагромождение, которое представляют собой дра-
матические фрагменты Людвига, .его постоянные колеба-
ния между полностью противоположными вариантами одного
и того же наброска показывают — в данном случае с трагиче-
ской стороны — непродуктивность чисто общетеоретического
сознания для того решающе художественного осознания, кото-
рое по-настоящему актуализируется лишь в творческом про-
цессе.
Эту последнюю форму мы до сих пор рассматривала лишь в
абстрактном, общем виде. Чтобы конкретизировать наш ана-
лиз настолько, насколько это необходимо для наших нынешних
рассуждений, носящих скорее психологический, чем философ-
ский характер, необходимо исходить из того процесса, который
преобразует беглый набросок в законченное произведение. Ду-
шевная структура, возникающая при этом, может быть описана
с интересующей нас точки зрения следующим образом: у ху-
дожника объективируется весь комплекс его нынешних или
предшествующих отражений действительности, непосредствен-
ных или опосредованных личностных навыков до уровня само-
стоятельности. Этот комплекс носит субъективный характер,
и поэтому он может существовать только в качестве содержания
подобного осознания. Но вместе с тем соотносительно с пере-
живающим его субъектом он обладает объективностью, так как
развитие зачатка, зародыша в завершенное произведение во
130
всей интенсивной целостности его определений не зависит от
воли и замысла художника, который скорее вынужден тяжким
трудом давать эксплицитное выражение тому, что имплицит-
но содержится в исходном зародыше. Этот труд, без сомне-
ния, телеологичен, и он не может проводиться без участия
сознания. Ибо в зародыше одновременно содержится и не со-
держится все произведение, и художнику приходится использо-
вать очень тонко реагирующее сознание, чтобы овладеть еще
неэксплицитным, неосознанным и соответственно его объекти-
вировать. За этим еще не осознанным стоит тот факт, который
Гегель описал следующим образом: всякое явление — он гово-
рит преимущественно об истории — сначала проявляется в аб-
страктной форме, чтобы затем обрести свою конкретность лишь
постепенно, путем борьбы и кризисов. Мы считаем, что с со-
ответствующими изменениями эта общая структура получает
свое выражение и в жизни отдельных людей, и то, что с психо-
логической точки зрения можно назвать еще не осознанным,
часто есть не что иное, как отражение и попытка реализации
этого объективного положения дел. В ^возникающем произведе-
нии искусства эта ситуация выступает одновременно и нераз-
дельно и как субъективная и как объективная: объективная,
поскольку в конечном итоге речь идет об определенном отра-
жении действительности, причем всякое отклонение от истины
мстит за себя неудачей, субъективная, поскольку это отраже-
ние является произведением данной личности художника, а
его объективация как процесс должна происходить в границах
самого субъекта. Гомогенная лосредующая система произведе-
ния искусства — объединяющий фактор для обеих этих ориен-
тированных друг на друга взаимосвязанных тенденций. Эта
система, с одной стороны, черпает свою субстанцию из самых
глубоких — личностных —- источников субъекта творчества,
а с другой стороны, это единственный способ, позволяю-
щий возвысить такое отражение, коренящееся в субъек-
те, до уровня общей объективации, до возможности эвокатив-
ного воздействия на всех людей.
Тем самым телеология творческого процесса состоит в
превращении имплицитных возможностей эвокативного отраже-
ния мира в эксплицитную действительность произведения
искусства, ставшего «миром». Если мы рассмотрим возникаю-
щие таким образом процессы с нашей нынешней, психологиче-
ской точки зрения — их анализ с точки зрения философии
искусства может быть предложен во второй части настоящей
работы, — мы убедимся, что отражение действительности, ко-
торое должно стать верным отображением ее сущности и имеет
своей целью «полное совпадение и отождествление сущности и
явления в новой непосредственности, создаваемой гомогенной
посредующей системой, может быть лишь результатом осознан-
но телеологичной деятельности. Органически неразрывное,
9*
131
представляющееся непосредственным единство верности дей-
ствительности и эвокативной силы не может быть непосред-
ственным образом вскрыто ни в реальности, ни в ее спонтан-
ных отражениях. Зачатки этого единства могут быть интуитивно
дарованы творцу — мы уже останавливались на связи между
сознанием и интуицией, — но эта связь станет эксплицитной
лишь в ходе сознательной трудовой деятельности, имеющей
осознанную цель. Еще очевиднее это осознание выступает
применительно к субъекту. Внимательно изучая свидетельства
об этом крупных художников, мы увидим у них постоянное
единоборство, кажущееся на первый взгляд противоречивым,
а именно одновременно как высшее раскрытие, так и исклю-
чение своей .собственной субъективности. Это ощущение про-
тиворечивости снимается, когда мы начинаем понимать, о ка-
кой субъективности идет речь. С одной стороны, в процессе
творчества — что психологически неизбежно — должна участво-
вать и личность самого автора («le monsier», как насмешливо
говорил Флобер). В рамках творческой субъективности должно
поэтому выработаться ясное сознание, чтобы на каждом этапе
творчества контролировать, возникает ли вдохновение и т.д.
в силу внутренней необходимости органического продолжения
самого произведения или оно есть лишь выражение тех или
иных индивидуальных прихотей, причуд. С другой стороны,
этот процесс означает непрерывное обобщение непосредственно
воспринятых и художественно репродуцированных явлений.
Но это обобщение может либо носить чисто мыслительный ха-
рактер, то есть непосредственно разделять сущность и явление,
чтобы потом снова объединить их, либо быть обобщением на
уровне сигнальной системы Г, где сущность выступает как
нечто ингерентное явлению, близкое ему в своей новой непо-
средственности: на этой основе исходя из зачаточных состоя-
ний могут быть сделаны выводы, которые будут и логичными,
и репродуцирующими действительность, но вместе с тем не
соответствующими необходимым требованиям, следующим
отсюда как художественно, так и ортанически-эвокативно. Воз-
никающие здесь противоречия распространяются на все содер-
жания, предметы и связи данного произведения искусства. Яс-
но, что всех этих опасностей для эстетического содержания
произведения также можно: избежать лишь благодаря постоян-
ной критической настроенности сознания. У субъекта творче-
ства, как правило, такое сознание может выработаться лишь
постепенно, как результат тяжелой борьбы и кризисов. То,
что художники, а с ними вместе и мы обычно называем зре-
лым, не в последнюю очередь заключается в углублении и со-
вершенствовании такой постоянной самокритики, которая —
само собой разумеется—может также выражаться в столь же
острой критике результатов творческих усилий других
людей.
132
Но должно ли это сознание получать непременно рацио-
нальное, вербальное выражение? Это вполне возможно, и чаще
всего так и происходит, а следовательно, мы не имеем здесь
дело с чем-то иррациональным. Бальзак в «Неведомом шедев-
ре» описывает, как художник Френхофер приходит к своему
коллеге Порбусу. Он находит одну из его картин очень хоро-
шей, но считает некоторые ее детали недостаточно жизненны-
ми и пытается их улучшить: «Видишь ли, молодой человек,—
говорил старик, не оборачиваясь, — видишь ли, как при помо-
щи двух-трех штрихов и одного голубовато-прозрачного мазка
можно было добиться, чтобы повеял воздух вокруг головы этой
бедняжки, которая, должно быть, совсем задыхалась и погиба-
ла в столь душной атмосфере. Посмотри, как эти складки
колышутся теперь и как стало понятно, что ими играет вете-
рок! Прежде казалось, что это накрахмаленное полотно, зако-
лотое булавками. Замечаешь ли, как верно передает бархати-
стую упругость девичьей кожи вот этот светлый блик, только
что мною положенный на грудь, и как эти смешанные тона —
красно-коричневый и желтой охры — разлились теплом по это-
му большому затемненному пространству, серому и холодному,
где кровь застыла, вместо того чтобы двигаться?» Если мы
хотим сделать из приведенного примера правильные выводы
применительно к нашему материалу, мы должны — признав,
что Бальзаку удалось перевести художественно значимую
сущность проблемы осознания с живописного языка на язык
мыслей и слов и тем самым еще раз подтвердить выступаю-
щие здесь в высшей степени рациональные связи, — учитывать
также, что у Бальзака необходимо находит отражение не толь-
ко сам процесс, но и его мыслительная транспозиция. И дело
здесь совсем не в том, что Бальзак преследует при этом свои
собственные писательские цели, так как и в приведенном нами
выше описании Ван Гогом его собственной картины 'представ-
лена та же ситуация [с. 79 и ел.]. Ибо в собственном изна-
чальном сознании художника речь идет не об абстрактных
красках — они остаются абстрактными даже при самой точной
транспозиции в вербальное выражение, — но о конкретнейших
нюансах собственно колорита применительно к каждой отдель-
ной краске, как и к тому, какое место она занимает, где она
расположена в картине (как в двухмерном, так и в трехмер-
ном пространстве), каковы размеры красочного пятна, и так
до бесконечности. Собственное, исходное сознание художни-
ка— это точное, полное осознание всех сторон такого слож-
ного комплекса. Художественная деятельность является осо-
знанной, сознательной именно как точное совпадение и соответ-
ствие возникающих здесь связей и обстоятельств. В этом смы-
сле хороший сонет является таким же точным, как и математи-
ческий вывод, и должен возникать в той же степени созна-
тельно.
133
Вышеописанный факт можно легко проверить на примерах
из жизни. Когда во время уроков рисования мастер останав-
ливается перед ученическим этюдом и одним лишь штрихом
вносит упорядоченность в хаос, когда человек, обладающий
музыкальным слухом, сразу улавливает отклонение исполни-
теля или дирижера от той «трактовки», которую они сами
предложили, если эта трактовка не продумана до конца или
импровизационна и т. д., то очевидно, что во всех приведенных
примерах господствует сознание sui generis, которое остается
если не полностью безразличным по отношению к транспозиции
в вербальное выражение, то по меньшей мере вторичным.
Вполне возможно, что средней руки художник будет точнее от-
давать себе отчет во всех этапах своего творчества и творче-
ства других, и все же — именно в художественном смысле —
он создает свои произведения без действительного осознания,
то есть он оказывается не в состоянии развить те конкретные
возможности, которые заложены в его абстрактном наброске,
в известных условиях не столь уж плохом и нестоящем.
И в противоположность этому можно представить себе высоко-
развитое художественное сознание, лишенное потребности, а
также и способности выразить себя иначе, чем через посред-
ство художественной деятельности. Здесь ясно видно, что
сигнальная система Г состоит именно из сигналов от сигналов,
как и вторая сигнальная система. Поэтому мы считаем иска-
жением истинного положения дел говорить об осознании толь-
ко и исключительно в последнем случае. Этот односторонний
рационализм приводит не только к непониманию сущности
искусства, но и способствует развитию — именно за счет своей
односторонности — иррационализма в психологии искусства и
тем самым также в эстетике.
Гёте дал очень точное определение сущности той ситуации,
которую мы пытаемся описать, с точки зрения объективного
произведения искусства; четко разграничивая аллегорию и
символ, он говорит об этом последнем так: «Символика пре-
вращает явление в идею, идею — в образ, причем идея остает-
ся бесконечно действенной и недосягаемой и, даже будучи
выраженной на всех языках, остается невыразимой»107. С тео-
ретической точки зрения здесь для нас важнее всего то, что,
согласно Гёте, отображаемое в подлинных произведениях искус-
ства, «даже будучи выраженным на всех языках, остается не-
выразимым». Поскольку в данном случае речь идет о Гёте,
очевидно, нет необходимости подчеркивать особо тот факт, что
«невыразимость» не имеет у него ничего общего с иррациона-
лизмом. Но поскольку Гёте был «иррационализирован» всеми,
от Зиммеля до Клагеса и др., нам представляется, что следует
хотя бы в общих чертах охарактеризовать различия между
взглядами сторонников иррационализма и позицией Гёте, опи-
раясь на его высказывания. Так, Гёте говорит о лирическом
134
стихотворении (для Кодуэлла и других оно равнозначно сфере
интравертированного иррационализма) : «Лирика — в целом —
должна быть весьма разумной, в частностях же немного про-
стоватой»108. И еще одно, не менее ясное добавление: «Разли-
чие, которое ничего не дает разуму, — это не различие»109.
«Невыразимость» у Гёте как существенная форма явлений не
только не имеет — в негативном смысле — ничего общего с ир-
рационализмом, но и должна — в позитивном смысле — выра-
жать тенденции, ориентированные на освоение объективной
действительности, как и всякая объективная наука, однако
вместе с тем обладающие внутренними возможностями и, сле-
довательно, имеющие задачей вскрыть новые стороны, новые
моменты действительности, недоступные другим средствам,
находящимся в распоряжении человеческого духа. Гёте гово-
рит: «Прекрасное — манифестация сокровенных сил природы,
без его возникновения они навсегда остались бы сокрыты-
ми»110. Лишь в этой связи «невыразимость» и получает свой
истинный и в то же время объективно верный и подлинно гё-
тевский смысл.
Не вызывает сомнения, что смысл этот состоит в расшире-
нии сферы сознания. В общем отождествляя сознание с осо-
знанным рационально-вербальным выражением, философия и
психология превращают описанную здесь его форму в своеоб-
разное — часто мистифицированное — бессознательное, которое
следует искать «рядом» с царством сознательных проявлений
человеческой души или «ниже» его. Из таких безосновательных
предпосылок могут возникнуть лишь искаженные конструкции,
тогда как гениальное прозрение Гёте указывает на дальнейшее
развитие в прямо противоположном направлении. С его по-
мощью можно окончательно искоренить лжепроблемы, возник-
шие в силу ложности предпосылок, — к таковым, как мы уже
видели, относится и теория художественного гения Канта
[с. 111 и ел.]. Поскольку «невыразимость» художественного
отображения имеет простой, но истинно рациональный смысл,
который обусловлен бесконечной действенностью этого отобра-
жения, недосягаемостью его идей, непреодолимостью, несни-
маемостью невыразимости даже за счет точного выражения в
языке и в понятии, объект такого рассмотрения вполне очеви-
ден: это и есть то, что мы неоднократно называли интенсивной
бесконечностью реальности и ее миметически-эвокативных
отображений в искусстве. Наше стремление обосновать само-
стоятельность сигнальной системы Г основывается именно на
желании найти в психофизиологической организации челове-
ка— которая уже на этом уровне есть продукт общественно-
исторического развития — такой специальный орган, который
отвечал бы за восприятие этой стороны действительности и ее
репродуцирование в искусстве. Уже при описании того, как эта
сигнальная система функционирует в повседневной жизни, мы
135
сталкиваемся с проблемой интенсивной бесконечности; то же
самое происходит и в случае таких феноменов, как такт, зна-
ние людей и т. д. [с. 30 и ел., с. 49 и ел.]. Здесь, естественно,
невыразимость в смысле Гёте весьма относительна. Но уже в
этих случаях мы отметили, что вербально-мыслительная выра-
зимость наблюдаемых на этом уровне явлений и действий имеет
вторичный и вспомогательный характер, то есть вопрос о том,
насколько действия носят осознанный или неосознанный ха-
рактер, должен всегда оставаться открытым. Эта структура,
как мы стремились показать, проявляется в создании и вос-
приятии художественных образов качественно еще более яв-
ственно. Мы постарались также установить, что — в особен-
ности в области созидания — понимание и изображение именно
интенсивной целостности предметов не могут происходить без
участия сознания sui generis [с. 128 и ел.}. Ибо художествен-
ная подмена понятой таким образом действительности мимети-
ческим отражением ставит перед субъектом такие задачи, ко-
торые могут быть выполнены лишь путем постоянного сравне-
ния «модели» (устройство которой часто очень сложно и кото-
рую невозможно, как правило, воспринять как точно определен-
ный единичный объект) с ее отображением, путем постоянной
оценки значимости, пропорциональных соотношений и т. д.
средств выражения, постоянных поисков гармонии между со-
ставными частями и целым. Но выше мы указали и на тот
факт, что было бы грубым упрощением видеть в этом творче-
ском акте лишь ухищрения технического порядка, осознанный
характер которых оспаривается гораздо реже, хотя, как уже
было сказано, именно в этом случае осознание намного более
проблематично, чем в художественной деятельности в соб-
ственном смысле этого слова. Напротив, мы полагаем — и по-
лагаем, что нам удалось это показать, — что интенция этих
осознанных актов художественного творчества должна быть
ориентирована именно на адекватное понимание и адекватную
передачу интенсивной целостности действительности.
Тем самым мы вернулись опять к «невыразимости» по Гёте.
Итак, точный смысл этого понятия таков: это нечто такое, что
не выразимо никакими другими средствами, кроме использо-
ванных, но именно с их помощью может обрести ясный, одно-
значный смысл. Дело обстоит таким образом уже в приведен-
ных нами 'примерах из повседневной жизни. Но в повседнев-
ности восприятие действительности посредством сигнальной
системы V часто имеет лишь переходный характер, то есть то,
что познается таким способом, часто может стать привычным
объектом практики, привычкой (тогда сигналы V фиксируются
как условные рефлексы, например, когда определенные способы
поведения, которые в переходные периоды требуют особенного
такта, превращаются в элементы обычая, хороших манер),
либо же вербально-мыедительный, исконно вторичный смысл
136
такого восприятия фиксируется на этом уровне, входит как
составная часть в общую сокровищницу труда или науки (так,
однажды проведенный в таком случае медицинский диагноз —
рационализированный посредством мыслительной обработки —
становится общим достоянием науки). В повседневной жизни,
таким образом, этот путь вверх — ко второй сигнальной си-
стеме и вниз — к условным рефлексам выступает как обычная
направленность апперцепции 'посредством сигнальной систе-
мы Г. Правда, лишь усредненно обычная; существует, раз-
умеется, много случаев, когда достигнутое таким путем пере-
живание в своем изначальном виде становится внутренним
достоянием человека. В подобных случаях у человека — на
уровне сигнальной системы Г — фиксируется сходный с пере-
живанием отблеск бесконечности мира, с особенным упором
на то, что этот отблеск, это воспоминание относится и к самому
человеку, к его собственной личности; таков познавательный
опыт людей, особенно когда он непосредственно не связан с
отдельными практическими целями и их достижением, таковы
впечатления от природы и т. д. Чем более высокоразвита ци-
вилизация, чем больше досуг и чем сильнее воздействие искус-
ства на повседневность, тем сильнее и интенсивнее эти пережи-
вания. В этом одно из самых важных воздействий искусства
на повседневную жизнь людей: повышение их собственной
культуры, расширение и углубление их восприимчивости ко
всему, что может дать жизнь для обогащения человеческого
рода через развитие индивидов.
Последний из перечисленных компонентов такого жизнен-
ного опыта, накопленного при участии сигнальной системы Г,
указывает на важнейший содержательный аспект гётевской
«невыразимости» художественного отображения. Сравнивая
сигнальную систему I' со второй сигнальной системой, нельзя
не заметить, что одной из них неизвестна специфическая фор-
ма абстракции, которую другая постоянно воспроизводит. Эта
абстракция, которая содержится в самом простейшем слове,
даже и независимо от желания говорящего, имеет дезантропо-
морфирующие тенденции, исконно ей присущие, которые, прав-
да, полностью проявляютсй лишь в ходе трудовой деятельности
и прежде всего в науке. Но эти тенденции относятся к самой
сущности образования слов (образования понятий). Когда я
говорю «стол» или «собака», то при этом имеется в виду объ-
ект, существование которого не зависит от того, воспринят ли
он субъектом. В то же время понимание предметов и отноше-
ний между ними с помощью сигнальной системы Г неотделимо
от субъекта, который их переживает, хотя, конечно, объекты и
тут существуют сами по себе, независимо от субъекта. Своеоб-
разное обобщение, которое при этом происходит, позволяет не
только выделить из мира предметов нечто объективно суще-
ственное, но делает это так, что и в объектах сохраняется
137
соотнесенность с субъектами — по существу на этом основы-
вается конкретность и однократность этой связи — и субъект
возвышается над своей непосредственной партикулярностью.
В функционировании сигнальной системы Y в жизни все это
содержится, как правило, лишь в виде тенденции, в зачаточном
состоянии. В то время как эта система получает временное
господство над душевной жизнью за счет своей включенности
в гомогенную посредующую систему произведений искусства,
именно в этом отношении здесь возникает качественный скачок
и эти тенденции превращаются в носителей действительности
человека, действительности для человека: все, что ранее в
иной связи было констатировано относительно общечеловече-
ского в искусстве, его миссии — быть самосознанием и родовой
памятью человека — обретает теперь психологическую основу.
«Невыразимое» Гёте предстает при этом перед нами в но-
вом аспекте. Мы знаем глубоко отрицательное отношение Гёте
к любым ориентированным лишь вовнутрь, чисто мыслитель-
ным или рационалистически-морализаторским призывам «по-
знать самого себя» [т. 1, с. 195 и ел.]. Это, конечно, не озна-
чало, что тем самым человек должен остаться для самого себя
непознаваемым, точно так же как «невыразимость» искусства
не означает у Гёте иррациональности, вытекающей из неиссле-
дованных глубин бессознательного. Простой смысл гётевского
выступления против всякого абстрактного самопознания, на-
против, свидетельствует лишь о его доступности посредством
самопроявления, самоиспытания человека на практике. И «не-
выразимое» в искусстве будет выражено общепонятным язы-
ком, если мы подойдем к нему как к увековеченному посред-
ством художественного изображения, всеобъясняющему лето-
писанию важнейших деяний человечества. Эти деяния и их
субъекты должны, однако, представать в их специфической
конкретности, чтобы это самопознание, это самосознание чело-
вечества было реализовано истинным, настоящим образом.
Такая истинность может состоять лишь в исключительной
конкретности. Самосознание, самопознание может проявляться
в своем подлинном виде только в том случае, когда практика
и лежащая в ее основе, создающая ее и создаваемая ею изна-
чальность получают ту конкретизацию, которая в своей обоб-
щенности вовсе не порывает с непосредственной конкретностью
жизни, а, напротив, усиливает ее посредством такого обобще-
ния. Такое конкретизирующее обобщение способствует разви-
тию искусства, причем это происходит именно благодаря тому,
что не существует — изначально эстетически — всеобщего искус-
ства, а есть лишь конкретные, специфические виды искусства,
единственная в своем роде индивидуальность каждого произ-
ведения. Скульптура Микеланджело, картина Рембрандта вы-
ражают истинную интенсивную бесконечность лишь как скульп-
тура или соответственно как картина, причем она может аде-
1:38
кватно восприниматься лишь в такой форме. Можно и .должно
попытаться осознать это содержание и в рационально-вербаль-
ной форме. Но следует отдавать себе отчет, с одной стороны,
в том, что при этом может иметь место лишь попытка при-
близиться к неисчерпаемой бесконечности, а с другой стороны,
и в том, что основой такой рациональной транспозиции остает-
ся сама вещь (скульптура, картина) и эта транспозиция может
черпать свою истинность только из адекватного переживания
исходного изображения, а также гомогенной ему посредующей
системы. Необозримая литература о произведениях искус-
ства слова (например, Данте, Шекспира, Гёте), где по-
средующая система — взятая непосредственно — остается той
же самой при ее вербальной транспозиции, показывает, что
и в данном случае речь идет фактически о приближенном по-
нимании бесконечности, о выражении невыразимого. При этом
следует также подчеркнуть, что дело тут не только в прибли-
жении к феномену действительности с его бесконечными опре-
делениями, как в случае природы, которая должна быть поня-
та с научной точки зрения, но что всякое время, всякое поко-
ление и всякий субъект восприятия — как продукт определен-
ной культуры — должны каждый раз заново устанавливать
связь с соответствующим произведением искусства, чтобы по-
нять это невыразимое и быть в состоянии сообщить нечто по-
длинное и существенное об этой невыразимости. Но поскольку
в каждом произведении имеется сознательно осуществленная
форма отражения действительности, мыслительная транспози-
ция вовсе не означает возвышения чего-то «бессознательного»,
существующего вне сознания, еще не осознанного и т. д. до
уровня сознания; транспозиция здесь должна пониматься в
буквальном смысле этого слова — как перевод одной формы
сознания в другую. Она всегда равным образом включает как
приобретения, так и потери. Ее положительные стороны связа-
ны с тем, что понятийное осознание, перевод на язык понятий
делают эксплицитным нечто такое, что было ясно уже на
уровне сигнальной системы Г, но воспринималось лишь импли-
цитно. Подобно тому как в произведении, искусства проявляют-
ся все сложные связи с историческим развитием человеческого,
рода, имплицитным путем («невыразимо») воплощенные в. нем
и становящиеся действенными, оставаясь в границах завершен-
ной индивидуальности самого произведения и обособляясь
лищь в понятийной транспозиции сознания, ведущей к проясне-
нию их объективных взаимосвязей, — так как.уже в повседнев-
ной жизни эти связи выступают в познавательных актах, чело-
века, в свойственных ему проявлениях такта, когда место и
значение в известных обстоятельствах единичного и единствен-
ного в своем роде действия могут аналогичным образом про-
ясниться в этике и т. д. Однако вместе с тем мы можем гово-
рить и о потерях, а именно об утрате кажущегося непостижи-
139
мым иным образом единства человека и мира объектов, кото-
рое порождается осознанным воздействием сигнальной систе-
мы Г, воспринимается через ее посредство и проявляется толь-
ко в категориях обычного жизненного ощущения. Без этого
двойственного характера транспозиции, ее одновременно аде-
кватного и неадекватного характера, невозможно понять пси-
хологическую ситуацию, описанную Гёте. (Выше, в различных
контекстах, мы говорили частично об эстетическом сознании в
более узком смысле этого слова, частично о проблемах поня-
тийного истолкования исходно эстетических ситуаций [с. 126
и ел., 132 и ел.]. То, что здесь нет взаимоисключающего про-
тивопоставления, но наличествует лишь плодотворная противо-
речивость, видно из нашего анализа. Этот вопрос может быть
более подробно рассмотрен лишь при построении конкретной
типологии видов эстетического поведения и эстетической прак-
тики.)
При этом следует еще раз настоятельно подчеркнуть: речь
идет именно о своеобразной форме сознания. И дело не только
в том, что произведения ремесленников и дилетантов отличают-
ся от творений истинных мастеров отсутствием такого созна-
ния (следует еще раз подчеркнуть, что первые могут работать
вполне осознанно с точки зрения повседневной жизни или на-
уки, но при этом не иметь эстетического сознания, осознанности
в использовании сигнальной системы Г) ; не только рецептивные
переживания различаются по тому же самому принципу, это
осознание постоянно проявляется в ходе исторического разви-
тия своей континуальностью, повышением роли искусства при
освоении мира. На некоторые факты мы уже указали, в част-
ности на то, что художественное развитие в целом открыло
для человечества огромную гору фактов и точек зрения отно-
сительно внешнего мира и внутренней жизни людей; для на-
ших целей в данном случае несущественно, идет ли здесь речь
о новых фактах или же о новых способах рассмотрения. Все
эти факты и точки зрения, однако, как мы уже видели [с. 104
и ел.], только будучи переведенными на особый «язык» искус-
ства, остаются понятными на протяжении столетий или даже
тысячелетий. А этот язык — что опять-таки представляет ту
же самую ситуацию в ином аспекте — должен «изучаться»,
чтобы быть понятным. Тот факт, что многие истинные или
только называемые таковыми произведения искусства могут
использоваться в науке и в повседневной жизни лишь как до-
кументы, никак не связан с нашей проблематикой, так как
подобная «документация» не относится к подразумеваемым в
данном случае видам содержания, но лишь к тем содержа-
ниям, которые отдельные произведения искусства — истинные
или неистинные — непосредственно разделяют с объективация-
ми повседневной жизни. Однозначность формального языка в
истинных произведениях искусства — ясное доказательство та-
140
кого осознания sui generis: искусства как самосознания, как
памяти человеческого рода —как это мы видели выше, в дру-
гом контексте — его постоянного и неизменно воспроизводяще-
гося функционирования в родовой жизни, которое было бы
непредставимо без такого осознания.
б. поэтический язык
И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА V
Наше описание структуры сознания в рамках сигнальной си-
стемы Г — которое в принципе неизбежно следует из самой ее
сущности как системы сигналов от сигналов и предполагает
неоднократно упоминавшуюся нами возможность отрыва от
своей жизненной основы, отхода от нее — было бы неполным,
если бы мы хотя бы вкратце не остановились на том, каким
образом эта система оказывается в состоянии использовать
для выполнения своих специфических задач другую высшую
сигнальную систему — язык. До тех пор пока мы говорили о
чисто зрительных и слуховых сигналах сигнальной системы Г,
было ясно, что в качестве такого рода сигналов использова-
лись лишь безусловные и условные рефлексы, что тем самым
вторая сигнальная система получает новую функцию: транс-
понировать однажды осознанный рациональный смысл ориги-
нала в вербальное, понятийное выражение. Но это лишь один
из аспектов отношений между обеими системами. Ибо помимо
тех многочисленных, частично уже рассмотренных нами фак-
тов, когда язык — как активно, так и пассивно — играет роль
посредующей системы для сигнальной системы I', помимо тех
случаев, когда культура мысли проявляется путем целого ря-
да опосредовании в «видимых» и «звучащих» искусствах (Лео-
нардо, Микеланджело, Бетховен и др.), мы имеем дело также
с особым поэтическим языком, в котором вторая сигнальная
система как материал для художественной эвокации, для функ-
ционирования в этой сфере сигнальной системы V столь же
(необходима, как зрительные или слуховые рефлексы для изоб-
разительного искусства или музыки.
Психологическая основа такого рода отношения очевидна
уже на уровне повседневной жизни. Самые различные явления,
характеризующие общение людей друг с другом, подтверж-
дают, что язык — как и те взаимосвязи людей, установлению
которых он служит, — лишь в редких случаях используется ис-
ключительно в целях элементарного понимания и передачи
сообщения. Сама практика, в ходе которой возникает необхо-
димость в чем-то убедить кого-то, привлечь на свою сторону
для достижения определенных целей и т. д. — не говоря уже
о более сложных связях, — спонтанно вынуждает и язык обы-
денной жизни к использованию эвокативных средств. Мы уже
141
исследовали этот вопрос [см. т. 2, с. 20 и ел.]. При этом са-
мый существенный результат заключается в том, что слова,,
выражения и т. д. постоянно или окказионально получают
своего рода «ауру» дополнительных значений, ассоциаций,
эмоциональной окрашенности, даже эмоциональной нагрузки,
причем эта их функция усиливается за счет тона, жестов и
других средств языкового и неязыкового характера, так что,
помимо прямого сообщения, передачи информации, постоянно
используются описания, картины, эпизоды, побочные эффекты
и т. д. В общем, можно сказать, что языковое выражение на-
учного сообщения не в последнюю очередь состоит в том, что-
бы уничтожить эту «ауру», ореол, возникший в ходе такой
практики, эту двусмысленность и эмоциональную нагружен-
ность, придав каждому слову, каждой конструкции точно опре-
деленный, совершенно однозначный, неизменный смысл. Такого
рода воздействия на язык, естественно, возникают в повседнев-
ной жизни не только в области научной терминологии; раз-
личные формы деловой жизни, условности и т. д. привносят —
правда, совершенно иначе, специфически-практически — эле-
мент рутинной однозначности в повседневный язык, воздействуя
на него так, чтобы способствовать исчезновению его многознач-
ности, чтобы язык обрел однозначность разменной монеты. Ко-
нечно, и здесь имеются весьма различные промежуточные ком-
поненты. Например, существует множество «разменных монет»
пропаганды, которые — намеренно — окружаются эвокативным
ореолом многозначности и т. д.
Еще раз в этой новой связи отмечая сходство и различие
между искусством и повседневностью также и в психологиче-
ском отношении, мы убеждаемся, с одной стороны, в том, что
все используемые в повседневной жизни способы эвоцирую-
щего применения языка образуют предпосылки его использо-
вания в поэзии, так как без такой всеобщей и широкой жиз-
ненной основы было бы невозможно упорядочить создание
поэтического языками сделать понятным сам этот язык; с дру-
гой стороны, в том, что и здесь результаты художественного
формообразования, и развития постоянно вливаются в жизнь
и оказывают сильнейшее воздействие на способы ее языкового
выражения. Это исключительно многообразные взаимосвязи
между языком (и психологическими особенностями процесса
говорения; и слушания) в повседневности и в поэзии, литера-
туре все же не могут нивелировать качественного скачка, ко-
торый имеет место между ними обоими, причем этот скачок1
одновременно и связывает их между собой, и разъединяет.
Прежде всего речь идет об удалении от партикулярности, от
частного как в субъективном, так и в объективном смысле,
об интенсивной целостности поэтического выражения, возни-
кающей благодаря его специфической обобщенности. Отто
Людвиг в своих исследованиях творчества Шекспира верно
142
описывает новизну его художественных приемов: «Персонажи
Шекспира все мыслят вслух. В действительности произносится
вслух лишь часть того, что постоянно оказывается в сфере
мышления, чувствования и т. д.; он же заставляет их выска-
зывать все. И он оказывается непревзойденным мастером вы-
сказывать невысказываемое, выражать такие бурные чувства,
испытывая которые человек обычно умолкает, поскольку он
не может найти слов, передающих его чувства»111. Кардиналь-
но новое при этом — целостный характер выражения. Он не
ограничивается переводом в языковую сферу того, чему обыч-
но в повседневной жизни человека суждено пребывать безмолв-
ным, невысказанным или в крайнем случае проявляться в язы-
ке столь неадекватным образом, что сущность его не может
не остаться непонятой, не вызывающей сопереживания. Люд-
виг правильно определяет то, что выходит за эти рамки: все,
что внутренне трогает человека, получает языковое выражение,
независимо от того, может ли оно вообще выразить себя в
жизни. Речь здесь идет о таком понимании целостности, кото-
рое Готфрид Келлер находит у Шекспира, хотя и не в плане
языкового выражения, а с точки зрения результата, эвокатив-
ной структуры отображения в целом. Мы уже приводили его
высказывания такого рода в другом контексте [см. т. 2, с. 434],
теперь же сошлемся и на некоторые другие его замечания,
чтобы еще более прояснить положение дел. Келлер находит
изображение жизни у Шекспира абсолютно правдивым, добав-
ляя, однако, что это лишь в том виде, в каком она есть в цель-
ных людях, которые в дурном и хорошем характерным для
себя образом и полностью отдаются призванию своего бы-
тия и своим склонностям, причем каждый из них прозрачен,
как кристалл, как чистейшей воды алмаз в своем роде.
У Бальзака слова художника Френхофера в цитированном
выше отрывке подтверждают, что при этом речь идет об общей
тенденции всякого искусства, но на этот раз в сфере гомоген-
ного опосредования языковой системы. Френхофер говорит о
картине Порбуса: «Вы схватываете внешность жизни, но не
выражаете ее бьющего через край избытка; не выражаете то-
го, что* быть может, и есть душа».
Уже и эта первая абстрактная характеристика поэтического
языка демонстрирует в рамках рассматриваемой сферы то яв-
ление, которое мы неоднократно отмечали в общем виде связи
с повседневностью, наукой и искусством, а именно тот факт,
что повседневная жизнь содержит в себе все используемые на
практике категории в их пестром переплетении, отвечающем
частнопрактическим целеустановкам, тогда как науки и искус-
ство — соответственно их противоположным функциям — сни-
мают, уничтожают гетерогенный характер языка, правда, дей-
ствуя в различных направлениях. Нам уже известна направ-
ленность языковых преобразований в системе научного отра-
143
жения. Неоднократно повторяя, что в обыденном языке имеют-
ся следы и намеки на поэтическое выражение, мы тем самым
не умаляем качественного различия между обеими этими сфе-
рами: такие намеки в повседневной практике характерны и
для научного языкового обихода, и это настолько явственно,
что Павлов, говоря о языке, выделяет преимущественно эту
сторону. Чтобы дать описание этой проблемы, не отступая от
фактов, необходимо видеть в повседневном языке (в языке в
собственном смысле этого слова) общую основу для диффе-
ренциации в обоих направлениях и ясно представлять себе,
что обе дифференцированные формы языка содержат опреде-
ленные намеки на повседневность, ее особенности, но что при
этом — в обоих противоположных направлениях — возникают
качественные скачки. Признавая, что поэтический язык воз-
никает из развившегося до него (и одновременно обобщенного
до уровня научности) языка, нельзя не видеть ошибочности
тех концепций, согласно которым поэтический язык считается
«родным языком» человечества. Выше мы уже критиковали
такие точки зрения [см. т. 1, с. 181 и ел.).
Мы наметили некоторые отличительные черты этого каче-
ственного скачка. Самым важным моментом здесь является
соотнесенность с завершенным, целостным, полностью развив-
шим присущие ему типические черты и свойства человеком.
В своеобразном формировании поэтического языка эта общая
основная тенденция эстетического, наверное, проявляется еще
явственнее, чем в гомогенной посредующей системе других
искусств, потому что здесь постоянно присутствует контраст
с научным преобразованием того же языка (того же словарного
состава, той же грамматики и т. д.), что совершенно не так в
отношении других видов искусства.
Это же противопоставление отчетливо прослеживается в
психологии различных видов искусства. Чтобы полнее охарак-
теризовать его, сошлемся на наши замечания относительно
связи восприятия (созерцания) и представления с понятием
[с. 61 и ел.]. В изобразительных искусствах и в музыке вто-
рая сигнальная система несколько повисает в воздухе, ее
действие приостанавливается. Термин «приостанавливается»
получает при этом двойное значение: с одной стороны, вторая
сигнальная система вообще не имеет в строгом смысле слова
непосредственного отношения к проявляющейся здесь второй,
художественной непосредственности, а с другой стороны, ее дей-
ствие лишь приостанавливается, а не уничтожается совсем,
ибо субъект и творчества, и восприятия в этих искусствах
может проявить себя лишь на основе функционирующей вто-
рой сигнальной системы. Таким образом, в первом случае
«приостановка» относится к творческому процессу, в самом
буквальном его понимании, а во втором — к чистому восприя-
тию в его строжайшей непосредственности. Как только воаник-
144
шие в том и другом случае переживания становятся достоя-
нием динамически целостной личности, эта приостановка пре-
кращается и вторая сигнальная система снова занимает пред-
назначенное ей место в душевной жизни. (О проблемах, воз-
никающих в этой связи, мы уже подробно говорили при ха-
рактеристике преддействия и последействия в творчестве и вос-
приятии.)
Подобная «приостановка» основывается на том, что в гомо-
генной системе опосредования изобразительных искусств m
музыки не существует непосредственной интенционирован-
ности на вторую сигнальную систему. Система опосредования*
в этих видах искусства основывается на непосредственном:
восприятии (чисто визуальном и соответственно чисто аудитив-
ном). Если и то и другое рассматривать в их диалектическою
связи, сразу же оказывается, что непосредственное восприя-
тие всегда стремится к живому, наглядному представлению..
Это особенно очевидно в изобразительных искусствах. Уже из;*
процесса труда нам известен тот факт, что зрительное восприя-
тие обогащается за счет накопленного в его ходе опыта и толь-
ко таким образом оказывается в состоянии решить проблемы*
овладения конкретными формами и отношениями предметности.
Это развитие играет в формировании нашей картины мира —
в живописи и скульптуре — роль, которую трудно переоценить;.,
достаточно вспомнить хотя бы значение познаний в области!
анатомии, перспективы и т. д. для живописи. Таким образом,..
всякая форма предметности изобразительных искусств содер-
жит постоянную движущую тенденцию, направленную от непо-
средственного восприятия к представлению и придающую ему
по возможности чисто зрительный образ. Полнота духовности,,
характерная, например, для Микеланджело и Рембрандта w
отображаемая у них чисто зрительными средствами, общече-
ловеческое значение их искусства были бы невозможны без*
подлинно живой действенности подобного рода тенденций.
Такая же ситуация складывается и в отношении психологиче-
ской структуры музыки. Все специфические категории музы-
кальной композиции основываются на сходных тенденциях воз-
ведения непосредственного восприятия на уровень чувственного*
представления. Возникающие при этом специфические про-
блемы музыкального мимесиса мы сможем охарактеризовать
подробно лишь в четырнадцатой главе, где речь пойдет а
своеобразии музыкального отражения действительности. И без^
дальнейших объяснений очевидно, что, например, уже любая*
мелодия предполагает возведение непосредственного восприя-
тия до уровня представления. Ни один сколько-нибудь серьез-
ный мыслитель не прошел мимо достигаемой таким путем оду-
хотворенности; но многие из тех, кто спонтанно и ложно*
идентифицировали духовность с миром понятий, впадали в не-
разрешимое противоречие, так как они могли представить
10-102
14S
-себе одухотворение лишь как по меньшей мере частичное
отрешение от чувственных впечатлений (как, например, Нико-
лай Гартман, с концепцией которого мы полемизировали выше
[см. т. 2, с. 302]). Значение сигнальной системы Г для психо-
логии искусства проявляется и в том, что только с ее помощью
ставшие традиционными догматические антиномии сами по
себе могут разрешаться в плодотворных противоречиях. Так,
выше мы останавливались на проблеме сознательного и бес-
сознательного в искусстве [с. 109 и ел.] и нашли в нем вы-
ражение для сознания, осознания sui generis [с. 128 и ел.];
мы видели, что здесь возникает столь же своеобразное одухо-
творение, духовность sui generis, которая не имеет ничего об-
щего с каким бы то ни было возвышением над чувственностью,
чувственным миром. *
В искусстве слова положение совершенно иное. В нем имен-
но вторая сигнальная система является неуничтожимой основой
его гомогенной системы опосредования, единственным сред-
ством его формообразования и становления. Здесь мы должны
вспомнить наши общие рассуждения о понятии, представлении
и непосредственном восприятии. В этой связи решающим ока-
зывается то, что представление — обогащенное непосредствен-
ным восприятием — выступает как контроль и коррекция по-
нятия, воплощая в противовес его содержательной обеднен-
ности, возникающей вследствие стремления к точности выра-
жения, полноту жизни, в противовес его дезантропоморфиро-
ванной абстрактности — конкретную соотнесенность предметов
с людьми. Мы, конечно, знаем, что и вторая сигнальная си-
стема, и сигнальная система Г могут отрываться от действи-
тельности. В практической жизни, где реальной задачей чело-
века является реальное освоение действительности, обе выс-
шие сигнальные системы дополняют друг друга, они — именно
тогда, когда они друг друга корректируют, — направлены на
достижение одних и тех же целей и поэтому, как мы уже
видели, нередко перекрывают друг друга. В поэтически-всече-
.ловеческом мире, напротив, сигнальная система Г, которая
опирается на трансформированные человеком свойства непо-
средственного восприятия и представления, является — в твор-
ческом отношении — положительным противовесом абстракт-
ным дезантропоморфным тенденциям второй сигнальной си-
стемы в мышлении и языке. Но не состоит ли великая миссия
искусства как раз в том, чтобы преобразовывать мир познан-
ной и освоенной человеком в-себе-сущей объективности в мир,
существующий для людей, для человеческого в человеке. Это
превращение проявляется естественнее всего (и вместе с тем
наиболее очевидным образом) там, где в качестве миметиче-
ского посредника выступает язык. В то время как искусство
слова создает плодотворную напряженность между представ-
лением и понятием как новую гомогенную посредующую систе-
146
му поэтического языка, завоевания сферы понятий, служащие1
освоению действительности, сохраняют свое значение; невиди-
мому снятию подлежит лишь ее аб.страктно-дезантропоморф-
ная форма (то есть те же самые слова используются. в повсе-
дневности, науке и стихосложении); таким образом, объек-
тивный характер действительности подвергается миметическому
преобразованию лишь постольку, поскольку в центре оказы-
вается самое существенное для. человечества, его сущность.
Мир человека как отображение действительности предпола-
гает, следовательно, в качестве гомогенной посредующей систе-
мы слово, тяготеющее к образованию чувственно данных пред-
ставлений. Эта двойственность: снятие дезантропоморфирован-
ной абстракции и одновременное сохранение истинного отра-
жения объективной действительности — и создает сущность
поэтического языка. Самая скромная простота, кажущаяся
близость к повседневному языку, может стать поэтичной, если
она содержит это противоречие как движущую силу; высшая
формальная виртуозность изобразительности, музыкальность,
оригинальность и т. д. остаются мертвыми, если это противо-
речие не движет ими и не способствует их постоянному движе-
нию и росту.
Чтобы возможно более полно представить своеобразие
поэтического языка, мы хотим особо выделить ту область-
поэзии, в которой это содержательное соприкосновение являет-
ся самым проникновенным: поэзию мысли, а именно философ-
ской мысли. Мы уже указывали на тот факт, что между мыш-
лением и эмоциями в жизни не существует непреодолимой7
преграды, ссылаясь на Достоевского [с. 48]. Естественно,
именно из поэтически-динамичного противоречивого единства
человеческой личности следует постоянное взаимодействие
мышления и эмоций; именно это единство формирует чувствен-
но воспринимаемые через посредство коммуникации характер-
ные признаки людей, человеческих отношений, картины мира,
развития человечества и т. д. Именно это единство превращает
последовательности мыслей в эвокативные цепочки эмоций и
тем самым способствует поэтическому воплощению в языке
напряженности между представлением и понятием.
Само собой разумеется, здесь нельзя упускать из виду
миметическую точность. Бесконечные мысли и цепочки мыслей
хотя и могут играть важную роль в поэзии, но лишь тогда, ког-
да они используются эстетически осознанно как средство вы-
ражения определенных общественно-исторических тенденции
развития человечества (как, например, в софистических рас-
суждениях Лео Нафты из «Волшебной горы» Томаса Манна);
и здесь правильность мышления выступает в качестве пред-
посылки как неточного, так и верного вербально-поэтического
отображения. Это и есть высшее выражение именно того слу-
чая, когда мыслительный аспект оказывается в центре данной"
10*
147
тематики. Но какой бы необходимой ни была эта мыслитель-
даьмиметическая правильность, она дает лишь ограниченные —
-отрицательные — критерии. Прежде всего не учитывается —
а это имеет решающее значение — возможность передачи мыс-
лей. Здесь правильность имеет необходимо соотносимый с
субъектом и тем самым связанный с социальными и истори-
ческими условиями характер. Итак, если мысль, поэтически
выраженная в стихотворении, правильна в этом отношении,
то есть если во всякой мыслительной проблематике эта мысль
имеет важную, положительную функцию в развитии человече-
ства, то ее отображение пронизано пафосом пережитой таким
образом истины и тем самым последующее преобразование
нашего непосредственного восприятия не может ничего изме-
нить в поэтическом отображении мыслительной правильности.
Развитие человеческой мысли шагнуло далеко за рамки поня-
тийного мира Данте или Лукреция Кара, но не за рамки их
поэтической мощи, именно — и это трудно выразить более
убедительно — как поэтической мощи человеческой мысли.
Эта оговорка ни в коей мере не означает релятивистского
^субъективизма. Ибо чистая абстракция, беспредметная субъ-
ективная правда здесь оказалась бы полностью бессильной,
Огромное число ученических стихотворений столь же безвоз-
вратно канули в Лету литературы, были преданы забвению,
как и множество любовных стихотворений. Критерий поэтиче-
ского бессмертия всегда и везде один и тот же: значительное,
типическое — как общественно-исторически, так и с чисто че-
ловеческой точки зрения — отражение действительности; сти-
хотворение, воздействие которого основано на глубине его
поэтической мысли, отличается от других стихотворений толь-
ко более высоким уровнем требований, предъявляемых к его
:истинности в противовес его субъективной и объективной сто-
роне. Это повышение требований проявляется также и в необ-
ходимости сильной, интенсивно действующей индивидуаль-
ности, чтобы те мысли, которые активизируются в силу ряда
-объективных причин, полностью и одновременно получили
»свое выражение как неотъемлемое достояние, глубочайшее
-самораскрытие личности. Та напряженность между субъектив-
ностью и объективностью, которая по-разному — в зависимости
ют жанра — характеризует всякое поэтическое произведение,
их взаимопроникновение и взаимообусловленность, достигает
здесь своего апогея. Эта напряженность и есть психологическое
опосредование, которое переводит материю — сигналы второй
сигнальной системы — в форму сигнальной системы Г. Основу,
возможность такого формообразования составляет жизненная
правда, заключающаяся в том, что мысли, которые возникают
у нас о мире или, сливаясь в единый поток, выступают решаю-
щим моментом нашей индивидуальной жизни, мы воспринимаем
и перерабатываем не как объективные познания, но именно в
348
своей объективной истинности они становятся мотивами роста,
кризисов, дальнейшего развития страстей и т. д. для нашей
личности. Тот факт, что в самой жизни, для того чтобы сде-
лать мир мыслей достоянием нашего «Я», должна приводиться
в движение сигнальная система I', указывает на жизненную
основу этого требования поэтики. В словесном отношении речь
идет не о создании нового языка, а «лишь» о некотором кон-
кретном изменении всех его элементов и отношений. С тенден-
цией к однозначности, к четкой определенности значений слов
в науке мы уже знакомы [с. 142]. Высказывание Метастазио
ясно указывает на диаметрально противоположное направле-
ние, с которым связан этот процесс преобразования. В одном
из своих посланий он пишет: «Ибо вы знаете так же, как и я,
что одни и те же слова в зависимости от обстоятельств могут
выражать радость, боль, сострадание, гнев или скрывать их»112.
Это высказывание в негативной форме может быть распростра-
нено и на возможности. Именно господство сигнальной систе-
мы Y образует конкретную форму для плавки этого металла.
Правда, речь идет всего-навсего о возможности. Поэтиче-
ское формообразование в том и заключается, чтобы выделить
из этой направленности и заставить действовать гомогенную
посредующую систему такого рода поэзии. Способы достиже-
ния этой цели обладают — как и всегда в искусстве — весьма
широкой социальной индивидуальной вариативностью. Здесь
напряженность превратилась в формальную категорию отобра-
жения, принимающую всевозможные обличья. Она может вы-
ступать в ярко выраженной субъективной, трогательно-идил-
лической форме, как, например, в гетевских «Метаморфозах
растений», где остается неосознанным — и делается это с пол-
ным поэтическим осознанием, — действительно ли глубокое
проникновение в законы развития природы прокладывает путь
к самовыявлению своего «Я» в любви двоих или это познание,
венчающее любовь, органически вырастает из нее самой.
О, припомни тогда, как рос зародыш знакомства
В нас — и вот к концу милым обычаем стал,
Как раскрылась в нас внутри окрепшая дружба,
Как Амур наконец создал цветы и плоды,
Как во многих чертах, раскрывшись тихо, природа
Чувствам нашим дала образ один за другим.
Радостью будь и нынешний день! Стремится святая
Наша любовь к плоду высшему родственных чувств,
Взглядов родственных, чтобы в воззреньи на вещи согласном,
Связь упрочив, чета высший нашла из миров.
(Перев. В. Недовича)
Эта плодотворная напряженность между объективностью и
субъективностью, между миром мыслей и внутриличностным
может выступать и как страстное желание революционера об-
новить мир, ставшее предметом и содержанием его глубочай-
ших внутренних устремлений, как мы это видим, например,
149
в заключительных строках «Оды западному ветру» Шелли:
Развей кругом притворный мой покой
И временную мыслей мертвечину.
Вздуй, как заклятьем, этою строкой
Золу из непогасшего камина.
Дай до людей мне слово донести,
Как ты заносишь семена в долину.
И сам раскатом трубным возвести:
Пришла Зима, зато Весна в пути!
(Перев. Б. Пастернака)
И там, где эта напряженность непосредственно поднимается
надо всем чисто личным, где столь же непосредственно возни-
кает необходимость пережить чисто человеческую судьбу как
историко-философскую участь человечества, как это происхо-
дит в «Богах Греции» Шиллера, там непосредственно отобра-
женный объект выступает с точки зрения поэзии в качестве
необходимого, затрагивающего глубочайшие слои внутреннего
мира личности отношения человека, приводимого в действие
мыслительным расширением исторического горизонта и вновь
преобразуемого в силу глубины и непосредственности его пере-
живания в факты индивидуальной человеческой жизни. То, что-
в мышлении было бы чисто абстрактно-теоретическим, раство-
ряется в этом пламени, превращается в единый поток, в кото-
ром сливаются мысли и жизнь, человечество и индивидуаль-
ность, не теряя при этом своих различий и противопоставле-
ний.
Человеческое поведение, человеческая практика являются
во всех таких случаях существенным объединяющим принци-
пом, и как только мысль включается в эту практику, стано-
вится ее составной частью, она перестает отражать в-себе-су-
щее и моделировать таким способом человеческое мышление;
более того, она включается все более полно в динамику жизни.
Вместе с тем именно за счет этого та человеческая практика,
которая реализует этот процесс, на основе которой он воссо-
здается, выходит за рамки чисто частной индивидуальности.
Можно считать установленным фактом — если признать записи
Эккермана точными,—что Гёте написал свое стихотворение
«Завет», полемизируя и одновременно исправляя свое соб-
ственное стихотворение «Одно и все»113. Диалектическую про-
тиворечивость и соотнесенность мыслительного содержания
обоих стихотворений («И все к небытию стремится! Чтоб бытию
причастным быть» и «Кто жил, в ничто не обратится») можно
«доказать», опираясь на ту человеческую практику, из которой
вырастают эти мысли, с помощью которой (соответственно)
они обнаруживаются в действительности: через человеческую
практику, возникающую и обретающую действенность в силу
познания действительности.
. Здесь по-новому проявляется то, о чем мы говорили в дру-
гих, самых различных контекстах: многие высказывания об
150
отношениях между субъектом и действительностью, которые
на своем собственном месте в теории познания были бы не чем
иным, как идеалистическим искажением действительных фак-
тов, в сфере эстетического и только в ней становятся верными
изображениями структуры и связей этих фактов. Применитель-
но к нашей проблематике можно вспомнить известное выска-
зывание Протагора, утверждавшего, что человек «есть мера
всех вещей, — существующих, что они существуют, несуще-
ствующих, что они не существуют»114. Здесь нет никакого
смысла говорить об идеалистическом характере этого выска-
зывания с точки зрения теории познания; он очевиден, ибо
немало идеалистических философских течений основывалось
именно на этом высказывании. Но если воспроизвести это по-
ложение применительно к тому, о чем только что шла речь, —
к связи эстетической ценности поэтически выраженной мысли
с той преображенной человеческой практикой, на основе кото-
рой эта ценность возникает, то здесь роль человека как меры
всех вещей становится совершенно очевидной. Разумеется, дело
обстоит таким образом не только в этом случае. Освоить и
подчинить себе внешний мир, действительно, можно лишь пу-
тем познания его бытия-в-себе; отсюда и возникают дезантро-
поморфирующие тенденции во всяком полностью или хотя бы
полунаучном мышлении; отсюда и проистекает тот факт, что
идеализм ставит здесь все с ног на голову. Естественно, в сфе-
ре повседневности противоположные тенденции смешиваются:
наивный стихийный материализм непосредственной практики и
столь же стихийно наивная отнесенность к своему собственно-
му «Я» в мировоззрении. «Человек никогда не поймет, на-
сколько он антропоморфен»115, — говорит Гёте. Мы до сих пор
с самых различных точек зрения пытаемся показать, что искус-
ство, преображая мир в связи с развитием человечества и по
мере этого развития, создает из наивного, спонтанного, а пото-
му эмпирического и носящего частный характер антропоморфиз-
ма повседневной жизни новую — именно антроморфную —
форму обобщения человеческих судеб в мире. Если мы теперь
рассмотрим эту деятельность искусства с точки зрения вер-
бально-поэтического отражения действительности, мы придем
к следующему обобщению: все принципы формирования и раз-
вития литературы состоят из такого возведения и внутренних,
и внешних событий к типично человеческим способам поведе-
ния. Гёте именно об этом и говорит — причем очень решитель-
но— применительно к случаю, который на первый взгляд ка-
жется лишь чисто формальным: «То, что называют мотивами,
есть, таким образом, собственно феномены человеческого духа,
которые повторялись и будут повторяться и исторический ха-
рактер которых доказывает лишь поэт»116.
К сути поэтического искусства и поэтики относится тот
факт, что по своей значимости этот принцип формообразова-
151
ния охватывает все аспекты вплоть до поэтического словоупот-
ребления и что именно в этом и должно состоять его конкрет-
ное соблюдение. В познании этой взаимосвязи мы пока еще на-
ходимся на начальной стадии. Ибо ясно, что правильность,
удачность, глубина, красота и т. д. поэтического словоупотреб-
ления не следует непосредственно из выбора слова, а состав-
ляет последнюю кульминационную точку глубинных взаимоот-
ношений между формой и содержанием. Истинная выразитель-
ность слова или конструкции изначально детерминирована со-
держанием, причем сюда включается и ситуация, в которой
эти слова произносятся как выражение конкретного, в высшей
степени определенного содержания; далее, эта сила опреде-
ляется жанром, так как красота данного выражения в драма-
тическом искусстве подчиняется иным закономерностям, чем
в лирической поэзии; она и далее конкретизируется в зависи-
мости от ее места и роли, ибо экспозиция, например, должна
получать совсем иное языковое выражение, чем кульминация,
и т. д. и т. д. Все эти посредующие компоненты структуры худо-
жественного произведения словесного жанра должны исследо-
ваться, прежде чем мы перейдем к плодотворному анализу
чисто языкового аспекта. В настоящее время еще не дано
общетеоретического олисания этих взаимосвязей, не говоря
уже о том, чтобы они хоть раз были удачно использованы при-
менительно к анализу даже одного стихотворения. Анализ,
начинающийся с последнего компонента, происходящий без
учета предпосылок, подобный тому, что дает так называемая
школа интерпретации в наши дни, неизбежно остается субъ-
ективистским, казуистически-формальным и может соответ-
ствовать действительности лишь по чистой случайности117.
При такой ситуации с эстетическим анализом мы должны
ограничиться лишь установлением общей соотнесенности каж-
дого такого преображения с человеком, его поведением. То-,
что возникает при этом в смысле языкового выражения, кон-
кретизируется до определенной степени, если мы попытаемся
ближе рассмотреть используемые при этом категории. Неодно-
кратно повторенные нами утверждения относительно предпочти-
тельности использования такой примитивной — с научной точки
зрения — изначальной категории, как категории аналогии, по-
лучает при этом более конкретное освещение. Ее рациональ-
ная примитивность проявляется лишь в том, что возможность
чисто субъективного соотнесения нескольких явлений друг с
другом должна постоянно преодолеваться за счет дезантропо-
морфного отражения. Однако, в то время как в поэтическом
языке этот субъективный момент не только может привести
к большему развитию терпимости, но и лежит вполне осознан-
но в основе преобразований аналогии в представление, метафо-
ру и т. д., возникает такое движение в языковом отражении,
в преображении действительности, где предлагается считать
152
научным прямо противоположное направление. В основе это-
го— сущность самой категории. Гёте, который, вероятно, пол-
нее и яснее всех представлял себе решение этого вопроса^,
говорит о роли аналогии в отношениях людей с объективной
действительностью, находя, что существующее имеет аналог
во всем существующем; поэтому бытие нам всегда представ-
ляется одновременно и обособленным, и взаимосвязанным.
Если следовать аналогии чересчур, то все совпадает, как иден-
тичное; если избегать ее, все исчезнет в бесконечности. В обоих
случаях перед нами неверное представление, в первом случае
слишком полное жизни, во втором случае умерщвленное118.
Эта объективная ситуация, по Гёте, определяет всеобщее ис-
пользование аналогии, прежде всего в самой жизни. Не говоря
при этом о поэзии, Гёте признает, что мышление по ана-
логии вовсе не предосудительно; аналогия имеет то преимуще-
ство, что она ничего не заключает и не стремится ни к чему
окончательному119. Сходным образом он говорит о применении
аналогии в сообщении, и здесь не останавливаясь на непосред-
ственной связи с поэзией и считая использование аналогии
и приятным, и полезным; аналогия не навязывает себя, она
ничего не доказывает; один аналогичный случай ставится ря-
дом с другим, не вступая с ним ни в какую связь. Несколько
аналогичных случаев не образуют закрытых законченных ря-
дов, они как хорошая компания, которая больше возбуждает,
чем дает сама120.
В обоих последних случаях применения аналогии как поло-
жительный момент выделяется не связанное ни с чем, ни к че-
му не обязывающее, мимолетное.
Итак, то, что с научной точки зрения является самой слабой
стороной аналогии, а именно что она, исходя из одного лишь
мимолетного сходства явлений, позволяет делать выводы отно-
сительно их объективных взаимосвязей, с точки зрения поэти-
ки может стать ее сильной стороной, может, но не должно.
Ибо, конечно, чисто преходящее, случайное сходство само по
себе не ведет к установлению какой-либо связи в сфере поэти-
ческого; такая связь должна быть более глубокой и иметь под
собой чисто объективные основания. Требуемое серьезное обос-
нование всегда соотнесено с субъектом. Самое мимолетное на-
строение может стать глубоким, если оно приводит к глубин-
ным сдвигам мощных пластов душевной жизни отображаемого
субъекта; а вполне обоснованное объективно, проникнутое
истинной необходимостью сходство остается безразличным и
ничего не говорящим, если оно не в состоянии пробудить та-
ких рефлексов в субъекте. Язык поэзии тяготеет к своего рода
единственности, единичности всего в нем отображаемого, и,
коль скоро в нем используется категория аналогии, следует
разрабатывать именно эти ее стороны, именно они должны
стать существенными, вынесенными на первый план. Если пони-
153
мать это лишь как отношение одного объекта к другим или
как взаимоотношение комплекса объектов, то возникает по-
верхностность, объективизм. Эта ориентированность на своеоб-
разие данного явления как собственный и истинный поэтиче-
ский принцип проявляется лишь в том, что всякий объект или
комплекс объектов, образующий замкнутое, законченное един-
ство, постоянно и неразрывно связан с субъективностью, соот-
несен с человеческой практикой, поведением и по сути своей
приобретает такой образ, который позволяет сделать это пове-
дение, эту практику более гибкой.
Поскольку все эти тенденции поэтического языка возникают
из повседневной жизни и поэтому из обиходного языка, без
этого источника они оказались бы как содержательно, так и
формально невозможными (а потому и непонятными); однако
же поэтический язык представляет собой качественный скачок
по сравнению с языком повседневности. Из этого с необходи-
мостью следует, что поэтический язык одновременно ведет не-
прекращающуюся борьбу с повседневным языком. И если те-
перь мы отвлечемся от всех тех условностей, которые иска-
жают язык, лишают его пластичности, мы обнаружим тот
факт, что каждое слово по самой своей сущности не может не
представлять собой некоторую абстракцию, даже самое обыч-
ное, самое конкретное слово — таксе, как «стол», «собака»
и т. д. Это основополагающее явление в языке как второй сиг-
нальной системе имеет, естественно, спонтанную, развивающую-
ся в процессе труда тенденцию к научности, к объективности,
дезантропоморфизации. (Сюда же могут быть отнесены также
условности, но в данном случае их обобщения направлены на
более поверхностные свойства предметов и нередко лишь на
отчуждение человека.) Правда, этот спонтанный характер не
отменяет того факта, что получившее вербальное выражение
научное отображение действительности должно вести непре-
рывную борьбу за очищение языка, уничтожение многознач-
ности слов и выражений, которую язык повседневности — ис-
ходя из своих собственных потребностей — не только не мо-
жет преодолеть, но, напротив, непрерывно заново репродуци-
рует на более высокой ступени. Тот факт, что эта тенденция к
неоднозначности, создаваемая и осуществляемая и в науке, и
в труде, постоянно проникает в повседневный язык, одновре-
менно очищая, упрощая и обогащая его, делая его многогран-
нее (и тем самым опять-таки увеличивая его многозначность),
есть лишь одно из многочисленных проявлений давно известной
ситуации.
Выделенная нами тенденция поэтического языка — отражать
специфические и значимые детали в вещах и отношениях, их
единственность в своем роде — исходит из тех особенностей
языка повседневности, которые стремится преодолеть наука.
И здесь, как мы видели, можно отметить спонтанный характер
154
обиходного языка. Но при этом и здесь речь идет не о прямо-
линейном, простом достраивании этой спонтанности, но о каче-
ственном скачке, о «преодолении» той абстрактности, которая
содержится в каждом слове в силу самой его сути. Слово
«преодоление» мы поставили в кавычки по двум причинам.
С одной стороны, эта тенденция к абстракции внутренне при-
суща языку как второй сигнальной системе. Шаг вперед в
мировой истории, связанный с возникновением языка, соб-
ственно, превращение человека в человека не может и не дол-
жен игнорироваться. Мы уже обращали внимание на то, что
способы выражения на «примитивных» языках, которые ка-
жутся нам очень живописными, образными, не имеют ничего
общего с описываемой тенденцией языка поэзии [см. т. 1, с. 44
и ел.; т. 2, с. 122]. Во всяком случае, не в том виде, в каком
они обычно представляются: значительное напряжение вначале,
при переходе от представлений — еще глубоко укорененных в
непосредственных реакциях на определенный внешний раздра-
житель— к понятию, к истинно развитому языку как второй
сигнальной системе. То, что кажется в них сравнимым сегодня,
всего-навсего еще не полностью разрешенная связь с чистыми
условными рефлексами. Возникающие таким образом пред-
ставления несут на себе многочисленные следы своего живот-
ного или полуживотного происхождения, находятся лишь на
пути к превращению в истинно человеческие представления.
Тенденция к описанному нами «преодолению» абстрактности,
напротив, исходит из уже разработанной понятийности. «Об-
разность» примитивных языков представляет собой лишь свое-
го рода «зацепку», лишь не полностью реализованный выход
за рамки чувственно-непосредственной связи с конкретным
определенным раздражителем, тогда как поэтический язык
стремится возводить мир четко фиксированной понятийности—
и поэтому отчетливо различимой предметности — к тому непо-
средственному восприятию, которое лежит в основе понятий.
С другой стороны, — но именно на этой основе — в поэтическом
языке дело всегда в единственности всего ансамбля, а не в
•единственности отдельного предмета. При этом многозначность
слов теряет свой негативный с точки зрения познания харак-
тер. В таких новых условиях многозначность, та «аура», о ко-
торой мы говорили в связи с повседневностью и повседневным
языком, превращается в одну из особенностей, способствую-
щих словесному, языковому выражению своеобразия — всегда
соотнесенного с субъектом — комплекса объектов и отношений
между ними. Из многозначности слов возникает бесконечная
сеть качественных взаимоотношений между словами.
Это превращение, правда, происходит не само собой; боль-
шая предварительная работа проводится и в повседневном ре-
чеупотреблении. Сюда относится сознательно создаваемая си-
стема отношений, основу которой составляет именно такая
155
трансформация, а кроме того, еще целый ряд латентно прису-
щих слову возможностей, актуализируемых на уровне действи-
тельности. При этом необходимо остановиться и на звучании.
Тот факт, что звуки могут иметь некое значение, значимость*
не вызывает сомнений. Конечно, эта значимость не есть про-
стое проявление природных акустических характеристик; если
мы, отираясь на Канта и Гёте, подчеркивали в случае эмоцио-
нально-нравственного воздействия цвета социально-историче-
ский элемент [см. т. 2, с. 118 и ел.], здесь такой подход тем
более очевиден, так как, с одной стороны, цвета могут высту-
пать по отдельности и становиться «сигналами» предметов,
тогда как звуки, коль скоро существует язык, могут быть
осмысленными для людей лишь в словах, будучи связаны с
определенными значениями слов. Это приводит к тому, что
исходные выражения аффектов в звуках, когда они проявляют-
ся в письменном языке, могут получать истинно однозначный
смысл лишь в контексте фразы. Гердер правильно отметил и
описал это явление: «Эти звуки, однако, первобытны; и когда
они бывают произносимы или изображаемы на бумаге в виде
грамматических междометий, то замечаем, что противополож-
ные чувствования почти одинаково выражаются. Ничего не
обозначающее «ах» служит звуком изнеженной любви или
отчаяния утопающего; огненное «о» представляет как внезап-
ный взрыв радости, так и дикой ярости, как усиливающегося
удивления, так и жалобного воиля сожаления»121.
Наряду с этим в последнем случае не наблюдается столь
очевидной физиологической упорядоченности, какую можно от-
метить, например, в случае дополнительных цветов. Кроме то-
го, связь звука и значения изначально сохраняется лишь в
рамках того или иного определенного языка; тем самым диф-
ференциация намного теснее связана с содержанием и весомее
обусловлена им, чем в случае цветовых сочетаний, где подобная
физиологическая упорядоченность лишь постепенно получает
свой социальный характер.
Поэтому нам представляется, что любые утверждения об-
щего характера — как, например, остроумные парадоксы в
«Гласных» Рембо — никак не приближают нас к сути дела.
Э. По затрагивает этот вопрос — также в форме остроумно-
го парадокса — в своей «Философии творчества», где он как бы
описывает и анализирует возникновение своего стихотворения
«Ворон». Он исходит от рефрена задуманных стансов и подби-
рает слово, которое отвечало бы требованиям благозвучия и
вместе с тем обладало способностью к долгой эмфазе. Таким
образом он приходит к звукам «О» и «Р», которые и должны
стать господствующими в рефрене; отсюда возникает слово
«nevermore», и отсюда как бы следует весь сюжет стихотво-
рения. Мы не касаемся здесь вопроса о достоверности этих вы-
водов, так как ясно, что лишь сочетание конкретной истории и
156
реальной ситуации, визуально-нравственного воздействия обра-
за ворона, значение повторяющегося слова «nevermore» прида-
ет звукам «О» и «Р» в рефрене именно ту суггестивную окра-
шенность и то настроение, к которому По стремился и которого
он достиг. Здесь мы не можем подробнее останавливаться на
более конкретных, а потому и более тонких вопросах непосред-
ственно-эвокативной взаимосвязи звучания и значения слова.
Разбор большинства значительных стихотворений показал бы>.
что именно это звучание и составляет важный, нередко решаю-
щий момент в той гомогенной посредующей системе, которая,
лежит в основе преобразования повседневного языка в поэти-
ческий. Лучше всего это можно проиллюстрировать знамениты-
ми строками Верлена:
О струнный звон,
Осенний стон,
Томный, скучный.
В душе больной
Напев ночной
Однозвучный.
(Перев. Ф. Сологуба)
При этом, однако, наш анализ не затронул ни одну из сто-
рон предполагаемой здесь неповторимости, единственности того
ансамбля, который был воссоздан поэтическим словом. Описы-
вая вышеупомянутый элемент поэзии, часто говорят о «музы-
ке» стиха; так же поступает и сам Верлен. Но это выражение
столь же метафорично (будучи основано на аналогии), сколь ю
выражение «образность», «живописность», а буквальное пони-
мание здесь скорее запутало бы нас, чем внесло ясность в на-
ши рассуждения. (Вспомним замечания Гёте по поводу исполь-
зования аналогии.) Трудности, возникающие при попытках;
дать точное определение возникающей здесь гомогенной систе-
мы опосредования или хотя бы описание ее, объясняются внут-
ренней сложностью тех средств, в которых первое приближе-
ние выступает как чисто зрительное или слуховое впечатление..
И в этом случае более подробное исследование подтверждает,,
что без тенденции к универсализму гомогенная посредующая,
система принесла бы с собой обеднение, а не обогащение срав-
нительно с повседневной действительностью. В искусстве словам
эта ситуация проявляется еще яснее. Ибо редукция, сведение к.
тому, что может быть выражено, передано, вызвано и т. д. сло-
вами, действует лишь на основе целостности, универсальности;:
и только таким образом эта интенсивно бесконечная взаимная«
соотнесенность связанных между собой слов может стать эвока-
тивной системой, ибо лишь в силу этого своеобразие, неповто-
римость того или иного объекта состоит не только в его присо-
единении к тому или иному единичному ансамблю, но и в том,,
что эта единичность, единственность одновременно соотносится*
с конкретным, определенным (своеобразным) человеческим по-
157
•ведением. Важный формальный момент индивидуального свое-
абразия отдельных стихотворений обусловлен тем, какие ком-
поненты из бесконечного числа составляющих такой системы
являются непосредственно доминирующими (как, например,
звукопись у Верлена). С внешней стороны чисто предметное
описание окружающего мира, даже и человека, может уже
составлять тему поэтического произведения, и именно так это
:и происходит во многих важных случаях; но если каждая черта,
каждое душевное движение не указывает на собственный пред-
мет лирического отображения, на неповторимое человеческое
поведение, то опредмечивание остается мертвым и холодным и
не имеет эвокативного воздействия. В стихотворении Гёте «По-
сещенье» образ спящей девушки воссоздан с таким любовным
восхищением, что трепетность этого чувства "передается нам
задолго до того, как восторг и любовь поэта открыто воплоща-
ются в слова; и даже пейзажи и интерьеры в их предметности,
которая, конечно, должна быть объективно верно отображена,
неизбежно несут на себе печать субъективности такого рода,
какую, например, мы видим в прелестном описании вечернего
лейзажа у Стефана Георге:
Холм, где мы бродим, уж в тени лежит,
Мерцает свет вдали среди холмов,
И месяц белым облаком парит,
Встает над нежной зеленью лугов.
Дороги в полутьме уходят вдаль...
(Перев. А. Айхенвальд)
Мы полагаем, что было бы излишним указывать и на дру-
гие компоненты поэтического преобразования слов. Здесь нам
важен лишь общий принцип эстетического словотворчества. До-
статочно сослаться на то, что выше было сказано о ритме [см.
т. 1, с. 222 и ел.], особенно о его эстетической связи с просо-
дией. Решающий момент состоит именно в том ритмическом
акцентировании, в тех образах, которые характеризуют единст-
венность, своеобразие поэтической темы; строго говоря, всякое
настоящее стихотворение имеет свой собственный — своеобраз-
ный, единственный в своем роде — ритм, даже если с точки
зрения чистой просодии оно и имеет много общего с другими
стихами, и в нем строго соблюдена именно данная давно сло-
жившаяся просодическая форма. Маньеризм, стилизация и под-
линно своеобразный стиль, абстрактная и охватывающая мир
в целом субъективность проявляются именно здесь во всем
•своем различии, ибо в первом случае мы имеем не более чем
непосредственное выражение единичного, частного субъекта,
который стремится загнать самые различные предметы в про-
крустово ложе этих частностей, а во втором случае мы видим
возрождение объектов, как бы новое рождение их в каждой
новой предметной задаче и в том числе в плане формально-
ритмическом.
158
Мы считаем правильным в связи с этим противопоставить.
вторую сигнальную систему сигнальной системе Г, объясняя1
это противопоставление и различие их на примере такого край-
него выражения стихотворной формы, как лирика. Несомненно,
установленные здесь общие принципы действуют и примени-
тельно к эпическому и драматическому искусствам. Здесь нас
не должно останавливать то, что конкретное отношение мира:
субъектов и мира объектов всегда различно в зависимости от
жанра, при наличии одинаковой эстетической основы. Решаю-
щее значение имеет то, что развитие языка как средства отобра-
жения интенсивной бесконечности и целостности человеческого
мира и в эпическом и в драматическом жанрах происходит на
основе конкретной предметности. Оно обусловлено субъектив-
ной практикой, лежащей в основе этой предметности, и исходя
из нее создает ту бесконечную систему отношений между сло-
вами, которая позволяет преодолеть — правда, идя по пути,,
уводящему от повседневности, — многозначность обиходных
слов, чему способствует и тенденция к определенности и одно-
значности, свойственная дезантропоморфическому отражению-
действительности.
Отто Людвиг, самым подробным образом изучивший связь
языка драмы Шекспира с принципом мимического, резко про-
тивопоставляет его языку греческой трагедии. Он и здесь исхо-
дит из конкретных условий театра: «Поскольку театр был та-
ких огромных размеров, а публика была столь многочисленна,
что здание не имело над собой крыши, следовало подумать о
том, как укрупнить образы, усилить звучание того, что произ-
носится. Понадобились маски, и длинные, широкие одежды.
Лицо должно было оставаться неподвижным, и тогда его де-
лали скорее красивым, чем уродливым. И коль скоро говоря-
щий на сцене не мог продемонстрировать никакой мимической-
игры, не мог использовать никаких утонченных мимических
нюансов, зачем было тогда сопровождать речи изменением вы-
ражения лица и мелкими мимическими приемами? Гармониче-
скому чувству греков было бы совершенно противно установле-
ние столь неправильной связи между речью и зрительным эф-
фектом. Шекспир же не писал ни для масок, ни для колоссаль-
ного античного театра. Поэтому язык у него неразрывно свя-
зан с мимикой, он не превращается в застывшую речь масок,
напротив, каждый компонент имеет свой, особый масштаб для
величины, силы или тонкости отдельных черт и приемов, по-
степенного или внезапного характера движений. Каждая из его
трагедий имеет свой собственный стиль, то есть полное созву-
чие и соразмерность отдельных мотивов, материала и исполне-
ния»122.
То, что те же самые принципы — а именно конкретизация с
учетом отдельных случаев, с концентрацией именно на них —
действуют и в эпических произведениях, показал Теодор Фон-
159
тане на очень интересном примере использования слова «и» в
шачале предложения. Его замечания уже в силу своей конкрет-
ности — хорошая иллюстрация принципа единичности, единст-
венности языкового выражения в литературе, принципа, кото-
рый и находится в центре нашего анализа. Фонтане называет
себя «стилистом», то есть писателем, творчество которого со-
знательно именно потому, что он не принадлежит к писателям,
»«имеющим для всего лишь один тон и одну форму», но являет-
ся писателем, «черпающим свой стиль, постоянно меняя его,
из того предмета, который он описывает. Ибо получается так,
что я сочиняю фразы длиной в четырнадцать строк, а потом
*фразы не длиннее четырнадцати слогов, а то и четырнадцати
»букв. Таким же образом обстоит дело с употреблением «и».
Если бы я хотел написать все «и»-стилем, меня просто запер-
ли бы как представляющего опасность для общества. Но я
пишу новеллы как с «и», так и без «и», всегда учитывая мате-
риал и приноравливаясь к нему. Чем современнее, тем меньше
«и». Чем проще рассказ, чем больше sancta simplicitas, тем боль-
шие «и». «И» библейски патриархально и всегда стоит там, где
должны быть достигнуты воздействия именно такого рода, и там
оно не может быть опущено»123. Весьма интересно и поучитель-
но, что Фонтане выводит это стилистическое противопоставле-
ние целиком из свойств самого материала и полностью обходит
такие формальные выводы, как то, что начало фразы с «и» вво-
дит в стиль рассказа нечто вроде legato, тогда как в обратном
случае может возникать своего рода стиль staccato и т. д. Мы
считаем, что это небрежение позволяет еще очевиднее выделить
принципиально важный аспект: стиль писателя возникает в силу
конкретных свойств, в силу специфического своеобразия того
предметного мира, отражение которого он призван вербально
■эвоцировать. (Тот факт, что фрагмент в-себе-сущей действи-
тельности может стать предметом, материалом для искусства
•слова лишь через посредство отображающего ее субъекта, че-
[рез его способ поведения и практику, следует как нечто само
собой разумеющееся из приведенных выше рассуждений.) За-
слуга Фонтане здесь прежде всего в том, что он, на примере
такого абстрактного и лишенного предметности слова повсед-
невного языка, как «и», показал, какие важные эвокативные
функции может выполнять его наличие (или отсутствие) в кон-
тексте поэтического отражения и преобразования действитель-
ности; и таким образом — если рассматривать этот вопрос с
точки зрения нашей проблематики, — вся вторая сигнальная
система фактически становится материалом, сырьем для каче-
ственно иных формообразований, возникающих благодаря вос-
приятию и отображению мира через посредство сигнальной си-
стемы Г, а необходимая абстрактность второй сигнальной си-
стемы, — не нарушая точности в передаче явлений, чему и приз-
шаны способствовать эти сформированные человечеством систе-
160
мы, снимается сигнальной системой Г, преобразуясь в конкрет-
но-эвокативную действенность отображенных предметов.
Все изложенное выше, какое бы важное и решающее значе-
ние это ни имело для перехода от второй сигнальной системы
к сигнальной системе Г у человека, позволяет охватить лишь
одну сторону этой проблемы, ибо сигнальная система Г не
могла быть создана лишь затем, чтобы выразить неповторимое,
единственное в своем роде своеобразие ансамбля. Специфиче-
ская, дополнительная потребность передавать подробности,
детали объектов и их взаимоотношений не искаженными спон-
танной абстрактностью повседневной жизни и независимыми от
столь необходимых в иных случаях научных обобщений воз-
никает прежде всего для того, чтобы сделать понятными для
человека смысл, значение именно такой их неповторимости.
Такая потребность имманентно и повсеместно наличествовала
в рассмотренных выше творческих актах. Речь никогда не шла
при этом о стремлении человека представить себе и отобразить
детали предмета единственно ради самого предмета. Более того,
такая потребность всегда была связана с определенным челове-
ческим поведением и лишь в этой связи оказывалась значимой
и заслуживающей внимания. Дополнительный вопрос значения
и смысла тем самым соотносился с поведением человека. Одна-
ко подобная констатация в ее изолированном виде мало что
дает нам. Ибо здесь, как и всегда в искусстве, возникает про-
тиворечивое соотношение между фундаментальным смыслом и
непосредственной очевидностью его воплощения. (Эту непосред-
ственную очевидность следует, конечно, понимать как допол-
нительную, воссозданную непосредственность произведения ис-
кусства; к этой проблеме мы здесь неоднократно обращались.)
Такая противоречивость проявляется в том, что лежащая в ос-
нове искусства потребность в осмыслении человеческого бытия
может получить членораздельное выражение лишь через это
отображение деталей, частностей. Таким образом, то, что с точ-
ки зрения фундаментальной потребности является лишь средст-
вом, простым опосредованием, в самом искусстве проявляется
как неразрешимая совокупность частей, как непосредственный —
и в своей непосредственности кажущийся исключительным —
объект отображения. Но это отображение — сколь бы закон-
ченным оно ни было в смысле непосредственной имманентно-
сти — оставалось бы хаотичным, требующим окончательного
завершения, если бы оно, несмотря на всю свою противоречи-
вость, не выполняло так или иначе основной задачи, требования
фундаментальной потребности, пусть на свой лад, не отступая
от собственного имманентного характера. Эта противоречивая
взаимосвязь низводится идеалистической эстетикой, провозгла-
шающей отображающее мир произведение искусства чистой
эманацией «идеи», до уровня плоской аллегории; в свою очередь
всякая теория искусства, ложно представляющая эту взаимо-
11 — 102
161
связь якобы с чисто художественных позиций — сознательно
или бессознательно, желая того или не желая, — приходит к
господству некоего натурализма.
Итак, в рамках имманентного характера второй непосред-
ственности необходимо найти те формы обобщений, которые в
состоянии установить органическую связь этой глубокой по-
требности и вскрытой путем художественного преобразования,
извлеченной из недр повседневности детали, не уничтожая ее
своеобразия. Мы вновь оказываемся перед лицом проблемы, с
которой мы уже сталкивались в другой связи. Здесь мы можем
ограничиться лишь тем ее аспектом, который непосредствен-
ным образом связан с вербальным выражением. И это тем бо-
лее оправданно, что уже здесь различие в художественном
обобщении по сравнению с абстракциями другого рода высту-
пает еще острее, чем в других видах искусства. Простой факт —
образование слов — создает отношение подчинения между
обобщенным выражением и отдельным случаем. Язык создал
слово «стол», и всякий конкретный стол подходит под это об-
щее понятие, а если это слово сочетается с прилагательным
(круглый, четырехугольный, коричневый или черный, красивый
или безобразный и т. п.), тогда имеется дополнительное указа-
ние на его принадлежность к подгруппе, «подразделу» общего
понятия; но и это промежуточное определение не может вос-
приниматься по своему характеру как единичное, ибо макси-
мальная дифференциация прилагательных ведет лишь к ха-
рактеристике подгрупп, а не к самому единичному, детали.
Здесь следует добавить, что с точки зрения повседневной прак-
тики в этом и не возникает необходимости, ибо, если это приб-
лижение за счет описания при помощи прилагательных настоль-
ко точно, что позволяет обнаружить, например, украденный
стол и вернуть его истинному владельцу, приближение, осу-
ществляемое в повседневном языке, можно считать выполнив-
шим свою функцию.
Выше мы исходили из стремления показать, что словесное
искусство идет совершенно иными путями, преодолевая имен-
но эту сущность словоупотребления. Достаточно вспомнить та-
кие взаимосвязи, как ансамбль, как соотнесенность с поведени-
ем человека. Однако встает вопрос, каким образом это обобще-
ние может происходить без возвращения к абстракции? То
есть не уничтожая поэтически-эвокативного характера языка в
сигнальной системе Г? Ясно, что такое обобщение может быть
лишь обобщением человеческой практики, поведения. Это по-
следнее перестает быть чисто личным, частным, индивидуаль-
ным и связанным лишь с данным моментом, развивается до
уровня тех связей, которые достигают своей высшей точки в
самосознании человека. Если проанализировать этот вопрос с
позиций вербального формообразования, нетрудно заметить,
насколько важным является вышеприведенное утверждение о
162
том, что связи между отдельно взятой индивидуальностью и
различными «слоями» того, что в искусстве относится ко всему
человеческому роду, имеют характер не подчинения, но инге-
рентности [см. т. 2, с. 355 и ел.]. Ибо лишь на этой основе
обобщение охватывает само явление, а не только его вербаль-
ное выражение. Сознательная ориентация поэтически отобра-
женной взаимосвязи никоим образом не предполагает с необхо-
димостью сознания и мыслительно выраженного осознания
участвующего в этом отображенного человека. Но это может
происходить и происходит в очень многих — хотя и не во всех —
значительных произведениях искусства; в этом случае приме-
нительно к языковой форме действуют те принципы, которые
мы установили для специфической, философской поэзии. Ибо
тот факт, что в большинстве подобных случаев охватывается
словом не непосредственно практика, поведение поэта в челове-
ческом смысле, а практика его конкретных отображений в кон-
кретной ситуации, не приводит к принципиально новой поста-
новке проблемы. Субъект такого лирического стихотворения не
является абстрактным субъектом вообще; поэту приходится
придавать определенный, конкретный образ своему собственно-
му «Я», чтобы сделать из него достойный субъект для конкрет-
ного поэтического произведения. Обобщение, которое имеется
здесь в виду, является соответственно ингерентным тому образу,
который оно облекает в слова, той ситуации, диалектика кото-
рой способствует его выражению; это обобщение не является
абстрагированием от образа и от ситуации, но самосознанием
их обоих. Таким образом, оно не уничтожает конкретно отобра-
женных деталей, но в лучшем случае лишь преобразует их в
том смысле, что и образ, и ситуацию оно поднимает на более
высокий уровень.
Как и при всякой попытке установить правильное диалек-
тическое пропорциональное отношение между плодотворными,
движущими противоречиями в структуре произведения, здесь
возникают общественно-исторические проблемы благоприятно-
го или неблагоприятного характера отдельных конкретных об-
стоятельств. Эти проблемы охватывают и вопрос о личностных
способностях того или иного поэта к определенному — удовлет-
ворительному или проблематичному — отображению. И здесь
мы должны — как уже неоднократно это делали — отослать чи-
тателя к историко-материалистической части нашей эстетики,
где будет дан конкретный методологически обоснованный ответ
на ^вопросы подобного рода. Мы приведем только один типич-
ный случай, который позволит осветить господствующий здесь
противоречивый принцип с новой — общей — точки зрения. Мы
имеем в виду неоднократно упоминавшийся «эффект отчужде-
ния», по Бертольту Брехту. Он так описывает этот эффект: «От-
чуждающее изображение заключается в том, что оно хотя и
позволяет узнать предмет, но в то же время представляет его
И*
163
как нечто постороннее, чужое»124. И без дальнейших рассужде-
ний ясно, что в конечном итоге Брехт указывает на то явление,
которое мы обозначили как обобщение. Однако здесь следует
иметь в виду одно важное, или по крайней мере представляю-
щееся важным, различие: Брехт создает революционный театр,
то есть такой театр, который своими постановками побуждал
бы зрителей к революционной деятельности. И с этой точки
зрения он критикует не только современную ему сцену, но и
все драматическое искусство прошлого: «Тот театр,, который мы
теперь застаем, показывает структуру общества (изображае-
мого на сцене) как нечто независимое от общества (в зритель-
ном зале)»125. Этот аргумент не кажется нам достаточно убеди-
тельным. Ибо во многих великих драматических произведениях
мировой литературы показаны именно существенные обществен-
ные изменения, как, например, переход от матриархата к пат-
риархату у Эсхила, крушение средневекового феодализма у
Шекспира, крах буржуазного общества у Чехова и. Горького;,
причем у последнего на сцену вступают как раз новые, зарож-
дающиеся общественные силы. Но и там, где слова Брехта: «То,,
что долго не подвергалось изменениям, кажется неизменным
вообще»126, производят впечатление совершенно справедливых,
они не соответствуют действительности в отношении произведе-
ний драматического искусства. В «Грозе» Островского или «Ма-
рии Магдалине» Геббеля изображается давно не менявшаяся,,
застойная жизнь. Но в великолепной критической статье Доб-
ролюбова показано, что именно отсюда и возникает революци-
онное воздействие драмы Островского127. Когда же Брехт об-
ращает это последнее положение против всего драматического
искусства и театра и предъявляет к ним такое требование:
«Необходимо поразить зрителя, а достичь этого можно с по-
мощью технических приемов отчуждения того, что близко и хо-
рошо знакомо зрителю»128, то, если дело касается значительных
драматических произведений, вполне очевидно, что и без «эф-
фекта отчуждения» театр не только поражает публику, но и
глубоко потрясает ее, изображая противоречия на данном эта-
пе существования общества. Чехов, крупнейший драматург
прошлого, непосредственно связанного с современностью, пока-
зывает, что поэтически реальные моменты в программе Брехта
можно осуществлять и без «эффекта отчуждения». Чехов строит
свои драматические произведения именно на противоположности
субъективных интенций образов и их объективного значения и
направленности. Тем самым зритель оказывается в двойствен-
ном положении: он понимает чувства действующих лиц и со-
чувствует им, но вместе с тем вынужден по крайней мере столь
же интенсивно переживать трагическое, трагикомическое или
комическое противоречие между этими субъективными чувства-
ми и объективной социальной действительностью. Можно было-
бы сказать: все драматическое искусство есть «эффект отчуж-
164
денйя», но именно поэтому оно по своему способу отображения
есть драматическое искусство, а не «эффект отчуждения».
К этим замечаниям надо также добавить, что в поздних
драмах Брехта — вопреки его программе — мы обнаруживаем
именно «традиционные» потрясения, а их революционному воз-
действию «эффект отчуждения» не только не способствует, но,
напротив, препятствует и даже тормозит его; таким образом,
мы открываем истоки теоретической ошибки, которую делает
этот крупный писатель и драматург, что и позволяет нам так-
же точнее охарактеризовать описанную проблему. Источник
«эффекта отчуждения» есть как раз заостренно-односторонняя
полемика Брехта против «теории вчувствования», пренебрега-
ющая историческими ситуациями и фактами. Описывая орна-
ментику, мы уже сталкивались с яростными выступлениями
Воррингера против этой теории [см. т. 1, с. 287 и ел.]. Естест-
венно, полемические выступления Брехта и Воррингера нельзя
ставить на одну доску: Воррингер воюет против теории «вчувст-
вования» справа, от имени реакционного иррационализма, а
Брехт — слева, во имя социалистической революции. Воррингер
провозглашает смерть и бесчеловечность, Брехт — жизнь и че-
ловечность. Поэтому зрелая художественная практика Брехта,
его художественные прозрения, возникающие непосредственно
на ее основе, неизбежно вступают в острое противоречие с этой
полемически непримиримой антиномией. Так, он рассматрива-
ет техническую сторону создания своего «Галилея» как «оппор-
тунистическую» и во всяком случае действует в соответствии с
решающим принципом, описанным выше, понимая при этом
свою новую пьесу как отрицательный пример, нечто противо-
речащее более ранним положениям: «Там воплощались идеи,
а здесь высвобождается материя определенных идей». Тем са-
мым, по сути дела, отвергается целая теория «учебных посо-
бий», и «оппортунизм» новой пьесы — истинно драматического
произведения (как и другие, более поздние работы) — предста-
ет теоретически непоследовательным, но поэтически и драма-
тически тем более плодотворным. К чести своей как теоретика,
Брехт в этой ситуации признает глубокую проблематичность
своей теории эпического театра. «Мне ясно, — пишет он в сво-
ем дневнике (март 1941 года), —что необходимо избавиться
от противопоставления «ratio и emotio». Эффект отчуждения
тем более не должен препятствовать чувствованию, ощущениям,
он прежде всего должен вызывать правильные чувства»129,
Брехт не замечает, что при этом он не только не делает ника-
ких уступок теории «вчувствования», но и полностью обходит ее.
Однако вместе с тем как у Брехта, так и у Воррингера мы
видим одну и ту же ошибку — смешение «вчувствования» с тео-
рией и практикой великих эпох реализма в европейском искус-
стве: понимание того, что «вчувствование» есть специфически
обывательская теория искусства, выражающая лишь отдельные
165
моменты мировоззрения современного ей искусства, но вследст-
вие своего поверхностного характера проходящая мимо важ-
нейших его достижений130. Не углубляясь здесь в теорию в це-
лом, следует отметить, что, с одной стороны, лишь таким обра-
зом возникает та неясная, далекая от всякой деятельности
практика в произведениях искусства, которую Брехт — верно
ощущая ее — так глубоко презирает, но что, с другой стороны,
великое искусство прошлого как отражение действительности,
решительно противоположно какому бы то ни было «вчувство-
ванию». Мы можем «вчувствоваться» в то, объективная сущ-
ность чего нам совершенно неизвестна или безразлична, но че-
рез посредство явственной действительности или ее правильно-
го отображения мы можем прийти к такому переживанию пост-
фактум, в котором сознание, что речь идет не о*нашем субъек-
тивном отношении, а о независимом от него «мире», получает
свое законченное выражение. Своеобразие переживаний типа
tua res agitur состоит именно в этой двойственности, которая и
позволяет отличить переживаемую действительность от «вчув-
ствования», интроекции. «Нетерпение» машины может быть и
«вчувствованием», а переживание «Фауста» — никогда. И в си-
лу того, что Брехт поддается этому современному предрассуд-
ку односторонне страстной полемики, возникает ложная кон-
цепция «эффекта отчуждения». С одной стороны, вследствие
этого появляется опасность, что необходимое обобщение станет
чрезмерно понятийным, будет соответствовать переходу от сиг-
нальной системы Г ко второй сигнальной системе, с другой
стороны, наблюдается стремление к тому, чтобы перенести в
саму структуру мира то, что мы ранее подробно описали как
последействие эстетически-рецептивного переживания, то, что
действует в вышеописанном направлении.
Мы считаем, что обнаружение этой теоретической ошибки
внесло определенный вклад в выяснение исследуемой здесь
проблемы поэтического обобщения, особенно если мы будем учи-
тывать, что значительные достижения позднего Брехта в области
поэтического и драматического искусства возникают не благо-
даря реализации этого его заблуждения, а вопреки ему. Поэти-
ческое обобщение не строится на превращении отображенного
своеобразного ансамбля в «случай», который можно подчинить
теории или тезису, но, напротив, имеет «всего лишь» интенцию
сделать латентно (ингерентно) присутствующие в этой единич-
ности общие определения ясными и очевидными, понятными и
эксплицитными. Другими словами, интенция направлена на то,
чтобы показать, каким образом такое единичное со всей очевид-
ностью включается в то типическое, которое представляет это
единичное в развитии человечества и для этого развития. Здесь
совершенно отчетливо выступает однозначная и противоречивая
обусловленность этого положения вещей. Прежде всего не мо-
жет быть такого типического, которое имело бы независимое
166
существование от своего единичного (и остающего таковым) спо-
соба проявления. Здесь можно сослаться на аристотелевскую
критику учения Платона об идеях. Далее, тип — это нечто иное
и большее, чем просто совокупность подчиненных ему отдель-
ных явлений. В то время как развитие человечества — через
присущие ему конфликты, трагические, комические и трагико-
мические превращения — формирует определенные типические
способы поведения и реакций, ориентация движения на типиче-
ское сохраняет целый ряд определенных моментов, но обогаща-
ется и конкретизируется, исходя из бесконечного богатства су-
ществующего мира как подлинного материала его реализации.
Поэтому возвышение единичного до типического никогда не
влечет снятия его единичности; напротив, эта особенность вы-
ступает еще яснее, еще пластичнее, когда отношение типическо-
го в действиях и в страстях, в сознании единичного или в самой
логике ситуации выражается вполне определенно. Наконец, это
возведение на уровень типического никогда не является отдель-
ным изолированным актом, а есть всегда движение конкретного
ансамбля. В сфере поэзии это проявляется в том, что всякое дви-
жение по направлению к типическому, например в драме или ро-
мане, никогда не происходит на горных вершинах абстракции, но
остается конкретным комплексом конкретных людей и конкрет-
ных ситуаций. Поскольку лишь этот ансамбль как целое выра-
жает, собственно, окончательное обобщение, воплощение изо-
браженной целостности в самосознании человека, возвышение
образа на уровень осознания судьбы должно — чтобы не сни-
жать этот последний смысл поэтического творчества, а, напро-
тив, правильно усиливать его как один из тонов общего аккор-
да—нести в себе нечто относительное с точки зрения обобще-
ния; именно поэтому обобщение неразрывно связано с единично-
стью соответствующего образа, данной ситуации.
Вспомним, например, самораскрытие Отелло, после того как
Яго пробудил в нем сомнения в верности Дездемоны:
Прощай, покой! Прощай, душевный мир!
Прощайте, армии в пернатых шлемах
И войны — честолюбье храбрецов,
И ржущий конь, и трубные раскаты,
И флейты свист, и гулкий барабан,
И царственное знамя на парадах,
И пламя битв, и торжество побед!
Прощайте, оглушительные пушки!
Конец всему. Отелло отслужил!
(Перев. Б. Пастернака)
Это квинтэссенция глубочайших устремлений Отелло; квинт-
эссенция трагедии, состоящей в том, что с крахом его доверия
к Дездемоне кончилось все его существование. Трагедия не
становится менее значительной оттого, что любовь, ревность^
благородная вера в людей сводятся к чувству долга — служению
167
Венеции и героизму на этом поприще. Поэтому обобщающие ли-
рически-философские «выводы» у Шекспира имеют столь разно-
образный характер. Они освещают ярким светом скрытые глу-
бины характера, кажущиеся нераспутываемыми повороты судь-
бы, но они потеряли бы всякий смысл и всякую поэтическую
силу, если оторвать их от внешней, фактической ситуации, в ко-
торой они произносятся, и попытаться сделать из них всего
лишь обобщение как таковое. Речь идет все время только об
относительном обобщении, об имманентном движении конкрет-
но-данного бытия человека (ситуации) к типическому, об углуб-
лении своеобразия путем снятия чисто частного, способствую-
щего таким обобщениям. Это же касается и «философских»
моментов в произведениях Шекспира, монологов Гамлета или
Просперо. Возникает специфичная, условно-композиционная
особенность, когда, например, Отелло перед самоубийством го-
ворит о своей верности венецианской республике:
Как-то раз
В Алеппо турок бил венецианца
И поносил сенат. Я подошел,
За горло взял обрезанца-собаку
И заколол. Вот так.
(Перев. Б. Пастернака)
Эти слова становятся свидетельством утраты любви и до-
верия, получают резонанс лишь на основе ранее происшедшего.
Принцип конкретной целостности, круга кругов, по словам Ге-
геля, господствует в поэзии, как и в каждом искусстве, столь
очевидно, что каждое отдельное выражение имеет характер
целого ансамбля, в котором всякая единичность обретает свое
истинное значение лишь при указании на другую и в освещении
через другую. Частный характер и тем самым абстрактность,
с одной стороны, и внутренняя немота чисто единичного — с
другой, тем самым снимаются и возводятся на более высокий
уровень обобщения. При этом речь идет об обобщении sui ge-
neris. Лишь при одновременном осуществлении и единичности,
и обобщения поэтический язык получает свою специфику: отра-
жать мир человека, его внутренний мир и внешний мир, кото-
рый его и определяет, таким образом, чтобы сохранялась од-
нозначность понятийной определенности, полученная благода-
ря использованию языка, второй сигнальной системы, но при
этом единичное и его связь с судьбой человеческого рода полу-
чала чувственно-очевидное выражение. Это смысл трансформа-
ции, которой сигнальная система Г подвергает язык. Тем
самым люди и ситуации, отображаемые посредством поэтиче-
ского языка, эвоцируют свое существование как некую интен-
сивную бесконечность, и тем самым содержание, находящее
здесь свое выражение — даже если оно ясно и точно обрисовано
словами, — становится чем-то невысказанным, невыразимым,
168
по Гёте. Поэтический язык находит свое место в ряду челове-
ческих потребностей не благодаря своей «красоте», а за счет
того, что он позволяет высказать и выразить невыразимое ины-
ми средствами в его своеобразной однозначности.
Стремясь по возможности упростить наше изложение, мы
показали сущность поэтического языка в первую очередь на
примере лирики, затем — на примере драматического искусства.
Вместе с тем не вызывает сомнения тот факт, что все вышеиз-
ложенное в основном сохраняет свою силу и применительно к
эпическому. Определенные осложнения возникают лишь в силу
того, что и тут голос поэта, автора, рассказчика звучит одно-
временно с миром, прямо и непрерывно движимым им самим и
вместе с тем заданным как существующий независимо от него.
В определенном смысле этот голос выражает уже описанный
нами принцип специфически поэтического обобщения. Ибо если
в комплексе данностей и людей, о которых повествует этот го-
лос, в его ритме и структуре, последовательности и т. д. обоб-
щение еще не содержится имманентно, если образы — конечно,
в соответствии с определенными особенностями жанра mutatis
mutandis — не содержат таких точек концентрации, на которые
мы указали и применительно к драматическому искусству, если,
одним словом, этот эпический, сопровождающий голос поэта
в определенном смысле не есть лишь точка над i, то тогда он не
может получить никакого поэтического значения, в том числе и
как обобщение. Напротив, здесь возникает специфическая опас-
ность, а именно опасность замены поэтического обобщения на
обобщение чисто мыслительное, философское (сигнальной си-
стемы Г на вторую сигнальную систему). В другой связи мы
уже определили эту опасность как специфически современную
и охарактеризовали ее словами Музиля: противопоставление
захватывающего и поэтически увлекающего [см. т. 2, с. 312].
Правда, при возникновении такой опасности имеются две воз-
можности. О первой мы только что говорили: она проявляется
в эссеистском характере большей части современной эпики. Вто-
рая состоит в том, что поэт выпадает из своей сложной, диалек-
тически-противоречивой роли рассказчика. Историко-философ-
ские рассуждения Толстого в «Войне и мире» — самый извест-
ный тому пример. Уже в этом с полной ясностью проявляется
следующее: когда поэт разрабатывает необходимое обобщение
не как обобщение sui generis, исходя из конкретных образов и
ситуаций, а проводит его в плане науки или обыденной жизни,
тогда произведение искусства тотчас же эстетически перестает
существовать. Несомненность этого явления весьма показатель-
на не только в этом отношении. Вместе с тем мы обнаружива-
ем, что рассуждения Толстого не оказывают никакого обратно-
го воздействия на его произведение как таковое, Роман «Война
и мир» как произведение искусства остается тем, чем он и дол-
жен остаться. Содержащиеся в нем художественные обобщения,
169
выражение его идейного содержания развиваются — поэтиче-
ски — полностью независимо от полета мыслей автора, в рез-
ком контрасте с теми случаями, когда сложные обобщения юб-
разов и ситуаций нарушают единство текста.
В этой связи мы рассмотрели с психологической точки зре-
ния превращение повседневного языка в язык поэтический (сиг-
нальная система Г versus вторая сигнальная система). При
этом мы могли, естественно, остановиться на одном более или
менее абстрактном понятии — оппозиции логически всеобщего
и поэтического обобщения sui generis. Это явление, с которым
мы неоднократно сталкивались и ранее и которое в большой
мере обусловлено антропоморфирующими свойствами искусст-
ва, требует дальнейшего философского объяснения. Мы должны
точнее определить место этого обобщения sui generis среди про-
чих категорий. Это и будет предметом нашего рассмотрения в
следующей главе, где мы попытаемся показать, каким образом
такое специфически художественное обобщение (и специфиче-
ски художественные функции единичного) связано с категорией
особенного.
Глава 12
КАТЕГОРИЯ ОСОБЕННОГО
Вышеприведенные рассуждения, и особенно анализ психофизи-
ологических основ эстетической практики, в силу имманентной
диалектичности самого их предмета не могли не привести нас
к рассмотрению категории особенного как категории, в которой
находит адекватное выражение сущность эстетического. Настоя-
щая глава посвящена подробному исследованию структурных
основ и особенностей функционирования эстетических процес-
сов, то есть тому, что они собой представляют и как они про-
текают. Понимание этого вопроса предполагает точное знание
сути категорий всеобщего, особенного и единичного, ибо лишь их
конечное объективное тождество как отражение единой объек-
тивной действительности и их различие в сфере научного и
эстетического отражения позволяет полностью осветить весь
этот комплекс проблем. Разумеется, если рассматривать эти
проблемы в общем виде, как с сущностно-логической точки
зрения, так и в аспекте истории философии, то наше описание
окажется за рамками этих противопоставлений. Мы тем легче
можем от этого отказаться, что эти вопросы были подробно
рассмотрены автором в другой связи1. Мы отсылаем читателей,
интересующихся этой проблематикой, к соответствующим на-
шим работам, а здесь остановимся лишь на том, что представ-
ляется нам абсолютно необходимым для понимания исследуе-
мой проблемы в целом.
1. ОСОБЕННОЕ, ОПОСРЕДОВАНИЕ И СРЕДА
Прежде всего следует особо отметить объективный и изначаль-
ный характер категорий единичного, особенного и всеобщего.
Это не «точки зрения», исходя из которых человек анализирует
действительность или которые он привносит в нее; напротив,
это — отчетливо ощутимые знаки сущности предметов объек-
тивной действительности, их отношений и связей, без учета ко-
торых человек не смог бы ориентироваться в своей среде, не
говоря уже о том, чтобы освоить ее, подчинить своим целям. Од-
171
нако недостаточно лишь констатировать, что объективные свой-
ства мира навязывают нам различие между единичным, осо:
бенным и всеобщим и что, таким образом, полагание этих.ка-
тегорий человеком есть диктуемый бытием-в-себе элементар-
ный процесс; необходимо также иметь в виду, что связь между
этими категориями есть объективно обусловленный элементар-
ный процесс. Это означает, что люди — как в случае большин-
ства существенных и значимых категорий — принимают объек-
тивность как основу своей практики и непосредственно ею
обусловленных мышления, чувствований и т. д., используя при-
менительно к ней подобные категории, прежде чем могла воз-
никнуть хотя бы малейшая возможность превратить такого
рода деятельность в научные или философские размышления о
причинах и сущности практически необходимого. ,
.Чтобы разъяснить это, достаточно сослаться на элементар-
ный процесс обобщения, который — неосознанно — происходит
в языке и который мы неоднократно рассматривали в другой
связи [см. т. 1, с. 44 и ел.; т. 2, с. 122]. Из самого существа дела
следует, что акт обобщения намного древнее, чем осознанное
мыслительное опознание и полагание всеобщего. Это проявля-
ется не только в языке, но и — как мы это видели на примере
опытов Павлова — уже при простейшем восприятии, не гово-
ря о представлениях. Феномен известного бытия, проанализиро-
ванный Гегелем, еще далекий от познанного бытия, как ука-
зывает этот последний [с. 14], предполагает достаточно высо-
кий уровень обобщения. Ибо отдельный воспринятый предмет
может считаться знакомым, узнанным лишь тогда, когда мы не
просто спонтанно устанавливаем его общие черты с другими
сходными предметами, но и делаем отсюда вывод — который,
правда, не получает формы осознанного умозаключения, что
свойства, общие для различных, но сходных предметов указы-
вают на их фактическую объективную общность, что все они
относятся к одной и той же группе предметов. Если бы воспри-
ятие и представление не приводили к таким обобщениям, их
спонтанно-элементарное возведение на уровень понятийности,
происходящее в языке, было бы невозможным. Мы уже отмеча-
ли те тенденции в развитии языка, которые ведут, исходя из
этого свойства представлений, тесно связанных с восприятием,
к истинно языковому и понятийному обобщению [с. 87 и ел., с.
137]. Из этого следует та роль, которую труд играет в таком
процессе обобщения: он способствует более широко определен-
ному пониманию предметности, а вследствие этого более точно-
му ее выражению, которое четко и однозначно фиксирует спе-
цифические определения соответствующего объекта, но вместе
с тем включает в себя также и те связи, отношения и т. д., ко-
торые являются необходимыми для реализации трудового про-
цесса. Приводимый тем самым в действие процесс обобщения,
позволяя: поднять отдельные слова на уровень понятийности,
172
создает вместе с тем такие — одновременно обобщающие и спе-
цифицирующие— связи между ними, которые и делают фразу,
ее синтаксическую структуру, истинной основой языка. При
этом процесс обобщения получает все более явственные и диф-
ференцированные градации. Такие дифференциации приводят
к пониманию своеобразия особенного — прежде всего в сфере
практики и ее непосредственных отображений. Так, если пред-
положить существование своего рода шкалы обобщений, то легко
заметить, что одно обобщение оказывается ближе к единичному,
чем другое, и что в одном существенные моменты непосред-
ственного, своеобразного явления — относительно — сохраняются,
тогда как другое полностью или почти полностью отде-
ляется от этой почвы и лишь вследствие возвращения к кон-
кретному предмету вновь возникает применительно к отдельно-
му случаю. Формирующийся при этом развернутый процесс
обобщений и есть — как правильно считает Гегель — процесс
определения. Если он становится осознанным как процесс, то
в сознании возникают проблемы особенного и его отношения ко
всеобщему и единичному, и они становятся объектами, предме-
тами мышления. Однако это происходит опять-таки не непо-
средственно в собственной логической форме. Гегель правильно
признал, что полагание особенного теснейшим образом связано
с актом детерминации, определения и т. д. И так как он рас-
сматривает общее понятие не как нечто абстрактное, а как це-
лостность, из детерминации для него следует такая картина:
«Поскольку оно имеет внутри себя определенность, эта опреде-
ленность есть не только первое отрицание, но и рефлексия это-
го отрицания в себя. Взятое с этим первым отрицанием отдель-
но, оно есть особенное... но в этой определенности оно по су-
ществу своему еще есть всеобщее»2; эту мысль он конкретизи-
рует, рассуждая следующим образом: «...Тем самым всеобщее
имеет особенность, находящую свое разрешение в некотором
высшем всеобщем. Хотя оно теперь есть лишь нечто относитель-
но всеобщее, оно не утрачивает своего характера всеобщего...»3
При этом следует особо выделить два момента. Во-первых, со-
держащее рефлексию в самом себе отрицание в акте определе-
ния; во-вторых, размытую границу градации, ставшей необхо-
димой в силу определения, релятивизацию всеобщего. В силу
существенной важности именно этих моментов, они могут в хо-
де исторического развития получить самостоятельное значение
как теория детерминации, так что при этом проблема особен-
ного не будет выступать на передний план; достаточно вспом-
нить известное определение детерминации как отрицания, дан-
ное Спинозой. Заслуга Гегеля в том, что он пошел здесь еще
дальше, вскрыв при этом необходимую связь всех компонентов
этого комплекса проблем с категориальным определением осо-
бенного. Выше мы подробно описали, как у него осуществля-
ется развитие общественной жизни и науки и каким образом
173
его открытия были развиты далее материалистической диалек-
тикой.
Здесь же мы можем ограничиться констатацией того, что»
с одной стороны, особенное находится в диалектическом отно-
шении взаимоперехода со всеобщим, но что, с другой стороны,,
это диалектическое взаимоотношение никоим образом не унич-
тожает самостоятельности всеобщего как категории. Это не
только относительное обобщение, не просто путь от единичного
к всеобщему (и обратно), но и необходимое — возникшее в си-
лу самой сути объективной действительности и навязанное ек>
мышлению — опосредование между единичным и всебщим. При-
чем такое опосредование, которое вовсе не является простым
промежуточным звеном между единичным и всеобщим, — эта
функция как раз и есть один из основных сущностных призна-
ков особенного, — но именно в такой функции, выполняя ее,
получает свое значение. Чем конкретнее связанные с этой
проблематикой исследования, тем больше вариаций в диалек-
тическом взаимопереходе единичного и особенного они выяв-
ляют. Всеобщее специфицируется в определенных конкретных
связях, оно оказывается в определенных взаимоотношениях с
особенным; но может случиться и так, что всеобщее поглотит
особенное, уничтожит его, вступит во взаимодействие с новым
особенным или же прежнее особенное разовьется до уровня
всеобщего. Те мыслители, которые занимались когда-либо де-
тально проблемой особенного, подчеркивали — и справедливо —
эту постоянную взаимосвязь, взаимопереходы всеобщего и осо-
бенного. Гегель говорит, что особенное — это не что иное, как
определенное всеобщее4. Сходным образом рассуждает и Гёте:
он подчеркивает, что всеобщее и особенное совпадают, что осо-
бенное— это всеобщее, обнаруживающееся в различных усло-
виях5, что особенное извечно подчинено всеобщему; всеобщее
извечно должно приноравливаться к особенному6. Другая сторо-
на диалектической взаимосвязи полностью проясняется лишь при
рассмотрении отношений также между единичным и особенным.
И здесь мы имеем дело с ситуацией, которая — непосредст-
венно— противоположна вышеописанным. Само собой разуме-
ется, что мы, в наших непосредственных отношениях с действи-
тельностью, всегда сталкиваемся прямо с единичным. Более
того, возникает видимость, причем не столь уж необоснованная,,
что мы — непосредственно — имеем дело только с единичным.
Ибо все, что внешний мир предоставляет нам как чувственно
данное, есть — непосредственно — всегда единичное или неодно-
кратное сочетание единичностей; перед нами всегда единичное
«это», единичное «здесь» и «теперь». Гегель подробно проана-
лизировал диалектику чувственной достоверности, в которой
всегда — непосредственно — присутствует единичное. Он показы-
вал, что как с субъективной, так и с объективной точек зрения
чувственная достоверность единичного разрешается сама в себе;
174
ятри этом возникает требование — установить, «какую ''эту
вещь" или какого "этого я" оно подразумевает; но выразить
словами это невозможно»7. При этом, указывает далее Гегель,
возникает невыразимость единичного, которая проявляется уже
в том, что оно недостижимо для средств языка. Правда, этот
анализ несколько утрачивает свою точность, когда Гегель, сле-
дуя своему идеалистическому рационализму, клеймит как «не-
истинное, неразумное, только мнимое»8, то, что он — справед-
ливо описывая факты — назвал «неизреченным». К счастью для
его логики, которая прежде всего основывается на диалектике
единичного, особенного и всеобщего, он не очень строго придер-
живается этого заблуждения, уничтожающего проблему единич-
ного как философскую проблему (и как проблему практики), и
приходит — как мы увидим выше — к анализу важных логиче-
ских проблем, в которых единичное играет особенно значитель-
ную роль.
И здесь материалистическое перевертывание всей ситуации
открывает путь для правильной и плодотворной постановки
вопроса. Если мы будем понимать единичное, особенное и все-
общее как формы отражения объективных свойств всякой
предметности, тогда невыразимость единичного предстанет в
своей непосредственности, — мы еще сильнее и решительнее
подчеркиваем этот момент, чем Гегель, — не как признак его
неправильной и неразумной сущности, но выступит как требо-
вание выявить те опосредования, которые открывают путь от
единичного к всеобщему и особенному. Все те определения,
благодаря которым единичное становится единичным, все от-
ношения и связи этого единичного с другим единичным, те осо-
бенные и всеобщие закономерности, сферой действия, точкой
пересечения и единственно возможным проявлением которых
выступает единичное, наличествуют — сами по себе, объектив-
но — в нем самом. Лишь неизбежная абстрактность, присущая
всякой непосредственной связи субъекта с действительностью,
уничтожает их, позволяет снять их на данном уровне. Но имен-
но поскольку объективно они присутствуют, составляют сущест-
венные определения единичного — именно как единичного, — их
невыразимость не есть нечто метафизически абсолютное, но
также определенным образом снимается со снятием непосредст-
венности. Это не означает, конечно, что проблема, поставлен-
ная Гегелем идеалистически и потому ложно, не является дей-
ствительной проблемой. Из описанной ситуации следует лишь
то, что все, казавшееся очень близким и вместе с тем недости-
жимым (невыразимым) в непосредственно понятой единичности,
теперь становится предметом бесконечного процесса приближе-
ния для мышления.
Разумеется, для материалистической диалектики и несня-
тая непосредственность единичного представляет собой вполне
реальную проблему. Фейербах полемизирует с гегелевским уче-
175
нием о ничтожности непосредственно-чувственно познанного,
подробно разбирая это учение. Он говорит: «Но сознание не
позволяет ввести себя в заблуждение, оно все время чувствует
свою связь с реальностью единичных вещей... Природа, таким
образом, опровергает это единичное, но она снова в себя вво-
дит поправку, она опровергает опровержение, ставя на это ме-
сто другое — единичное. Поэтому для чувственного сознания
чувственное бытие оказывается пребывающим неизменным бы-
тием»9. Все это, вообще говоря, правильно, но здесь мы видим
также и переоценку Фейербахом самой непосредственности, а
потому проблема решается более успешно путем использова-
ния вышеописанного бесконечного процесса приближения в мы-
шлении и познании. Можно сказать, что у Гегеля бытие еди-
ничного идеалистически исчезает, а Фейербах —»будучи сенсуа-
листом — остается лишь при непосредственности и немоте этого
бытия. Предложенный Фейербахом сенсуалистический тезис о
неизменном, неутрачиваемом в чувственно-непосредственной
единичности может получить разъяснение лишь с эстетической
точки зрения. Причем и тут — через снятие непосредственно
единичного, но такое снятие, в котором преобладает момент со-
хранения, возведения на более высокий уровень, где непосред-
ственность чувственно познанного — как мы уже упоминали в
другом контексте — превращается в новую, высшую, упорядо-
ченную непосредственность. Ниже мы подробно остановимся на
конкретных проблемах единичного, связанных именно с этим
кругом вопросов.
Во всяком случае только таким образом единичное для
мышления и познания становится объектом бесконечного про-
цесса приближения. Именно здесь и выступает формально-
структурная сторона логического сродства и соотнесенности
обеих крайностей — единичного и всеобщего. Выше мы не слу-
чайно гораздо подробнее останавливались на процессе обобще-
ния, чем на самом всеобщем. Смысл такого выделения в том,
что мышление как раз потому, что оно стремится правильно
отражать объективную действительность, не может остановить-
ся на достигнутом всеобщем. Или обобщение будет более при-
ближенным, более конкретно определенным, или — что состав-
ляет самый существенный момент — оно снимается за счет
обобщения более высокого порядка; достигнутая конечная точ-
ка обобщения отодвигается все дальше и дальше. Уже это при-
близительное и беглое описание показывает, что в мыслитель-
ном процессе, который стремится к всеобщему, должен быть
всегда достигнут какой-то предел, кульминация. Пусть даже
этот предел представляет собой нечто временное, нечто такое,
" что надо преодолевать не только с точки зрения фактического
развития, но и исходя из смыслового аспекта мыслительного
процесса; существо мышления определено тем, что всеобщее
всякий раз обозначает именно такую конечную точку. По срав-
176
нению с ней самой ступени, к ней ведущие, представляются от-
носительными, превращаясь в приблизительные определения, и:
даже часто переходя в особенное. И в бесконечном процессе
приближения создается сходная ситуация применительно к еди-
ничному. Мыслительное отражение и выделение тех моментов
и определений, которые имеются сами по себе во всяком еди-
ничном, динамическая целостность которых объективно конста-
тирует всякое единичное, но которые, однако, как нам пред-
ставляется, исчезают и растворяются в непосредственности чув-
ственно познанного, — именно как нам представляется, ибо*
конкретно-данное бытие, «это» бытие, бытие единичного как.
такового и есть результат совокупного действия таких сил, —
приближается непрерывно к бытию-в-себе единичного, превра-
щая его непосредственную немоту применительно к языку и?
мышлению во все более ясную, более проговоренную, конкрет-
ную определенность его бытия как единичного, правда, лишь
во взаимосвязи действующей целостности всеобщих и особен-
ных закономерностей.
Как и в случае всеобщего, в случае единичного степень та-
кого приближения определяется потребностями и возможностями:
мышления на каждой ступени общественно-исторического раз-
вития. Роль объективных возможностей познания непосредст-
венно очевидна, и поэтому здесь не нужны никакие подробные
разъяснения. Отметим лишь коротко одну вполне очевидную-
особенность: продвижение границы обобщения все дальше и;
дальше существенно зависит от уровня исследований особен-
ного и единичного, точно также и углубление познания единич-
ного со своей стороны есть функция удачных, широких по сво-
ему охвату и по своему применению и т. д. обобщений. Таким
образом, достижение столь энергично отодвигаемой конечной
точки обеих крайностей предполагает их теснейшее взаимодей-
ствие, сильно развитую посредническую функцию в них особен-
ного. Но эта возможность используется, по потребности, в са-
мых различных областях и различным образом. Ибо вполне
ясно, что в каждой отдельной области воздействия теоретиче-
ский и практический интерес к единичному как таковому имеет
весьма различные формы и степени. В нашу задачу не входит
детальное описание этих расхождений, и если в качестве един-
ственного примера мы приведем медицинский диагноз, то сде-
лаем это с тем, чтобы яснее подчеркнуть значение особенного и
всеобщего в приближении к конкретно и правильно познанному
единичному. При этом не подлежит никакому сомнению тог
факт, что объектом диагноза является отдельный человек, при-
чем в своем нынешнем, сиюминутном состоянии здоровья, так,
как оно выглядит с медицинской точки зрения. Все всеобщие к
особенные знания о физиологической сущности человека, о ти-
пах течения болезни и т. д. есть лишь средство понимания это-
го единичного в его мгновенном, конкретно-данном бытии.
12—102
177
"И опыт последних десятилетий показывает, что чем более точ-
ные методы измерений (применение всеобщего к единичному
-случаю) в состоянии использовать медицина, тем точнее и вер-
нее может быть диагноз. Если раньше важнейшую роль игра-
ло гениальное прозрение диагноста (молниеносный синтез на
-основе сигнальной системы Г, который, конечно, должен был
основываться на богатом и хорошо продуманном опыте), то
теперь несравненно шире круг симптомов, которые можно опре-
делить с научной точностью. Это, конечно, не означает, что их
суммирование возникает «само по себе»; с одной стороны, еще
долго невозможно будет включить все симптомы в область
точно измеримого; с другой стороны, объяснимость даже и точ-
но определенных отдельных фактов не является очевидной и
^естественной и т. д. Приближение к конкретно-данному бытию
всякого случая, таким образом, остается приближением и не
более того, приближением, которое именно поэтому зачастую
делает нелишним синтез с помощью сигнальной системы I'. Но
ясно, что именно включение по возможности многочисленных
и разнообразных обобщений и всеобщего все дальше отодви-
гает конечную точку приближения к единичному, не будучи в
состоянии снять его чисто приближенный характер.
Итак, путь мышления и познания есть непрерывный процесс
перехода от единичного ко всеобщему и от всеобщего назад к
единичному. Маркс, характеризуя метод политической эконо-
мии, дал пространное описание этого пути вверх и вниз, в от-
личие от многих методологий, в которых индукция и дедукция
выступают как застывшие, взаимоисключающие противополож-
ности. Исходный пункт составляет реальное и конкретное (в по-
литической экономии, пишет Маркс, это, например, «населе-
ние»). В своей непосредственности, однако, оно оказывается
пустой абстракцией, если его составные части не обобщены, не
включены в общие понятия. «Отсюда пришлось бы пуститься з
•обратный путь, пока я не пришел бы, наконец, снова к населе-
нию [здесь подразумевается реальное и конкретное.—Д. Л.],
но на этот раз не как к хаотическому представлению о целом,
а как к некоторой богатой совокупности многочисленных опре-
делений и отношений»10. Естественно, для философа, хорошо
владеющего диалектическим материализмом, открываются
здесь возможности существенных моментов опосредовании и
преобразований, перестановок. В обычной научной практике
этот путь по большей части — ив лучшем случае — проклады-
вается спонтанно, и человек не отдает себе отчет с методологи-
ческой точки зрения в его свойствах. Неудивительно, что раз-
мышление о сложившихся таким образом связях в первую оче-
редь остается сопряженным с обеими крайними точками и в
большинстве случаев удовлетворяется их анализом или как
максимум их взаимоотношениями и не касается их чистой опо-
средованное™. Правда, и в этих крайних точках проблемы ди-
178
алектических взаимоотношений категорий всеобщего и единич-
ного встают перед нами с полной очевидностью. Ленин, вслед;
за Гегелем и Аристотелем, дает ясную картину этих взаимоот-
ношений и связей, подчеркивая, в особенности, что здесь речь-
идет о примитивном, элементарном случае диалектического
движения, в котором, однако, уже содержится зародыш и эле-
менты более сложных отношений высшего порядка (необходи-
мость и т. д.). Он исходит из утверждения, что отдельное есты
«общее», и высказывает мысль: «Значит, противоположности
(отдельное противоположно общему) тождественны: отдельное-
не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему..
Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое-
отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть,
(частичка или сторона или сущность) отдельного. Всякое об-
щее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметьь.
Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д. и т. д. Всякое
отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдель-
ными (вещами, явлениями, процессами) и т. д.»11.
Очевидность таких разъяснений диалектической взаимосвя-
зи между единичным и всеобщим лишь усиливается, если мы —
как и выше, применительно ко всеобщему — в дополнение до-
бавим, что диалектическая взаимосвязь оказывается опосредо-
ванной за счет особенного. Всеобщее и особенное переходят;
друг в друга, точно так же, как единичное и особенное. На пер-
вый взгляд противоречивый характер особенного состоит имен-
но в том, что оно проявляет присущее ему своеобразие, перехо-
дя как во всеобщее, так и в единичное. Мы уже видели, что-
такое соотношение особенного со всеобщим вытекает из его
функционирования как средства определения; в логике Гегеля
особенное есть почти что синоним определения. Такое положение
вещей также имеет решающее значение и для установления
связей между особенным и единичным. Достаточно вспомнить
о том, что мысленное снятие немоты и невыразимости единично-
го следует именно из того, что его определения, которые на-
первый взгляд исчезают в чувственной непосредственности,,
становятся явными как определения, причем именно примени-
тельно к его единичности. Этот процесс определения, однако,,
не привносится в единичное извне, а есть именно развитие тех
определений, которые наличествуют в нем — объективно, сами
по себе, — но которые не могут получить должное значение-
лишь в непосредственной связи объекта познавания и познания
субъективности. Это опосредование, которое делает понятным:
такое скрыто наличествующее и есть особенное. Этот процесс
реализуется в особенном вследствие его основной функции, ко-
торая и составляет его определение. Однако таким же образом,
как оно соответственно специфицирует всеобщее и тем самым
превращает его непосредственную абстрактность в конкретную
целостность определений, в случае единичного особенное воссо-
12*
179
(вдиняется с его специфической сущностью, делает еще более
ясными отношения единичного с более или менее далекими груп-
пами предметов, преобразует непостоянные, имеющиеся лишь в
мимолетной непосредственности свойства в постоянные и устой-
чивые определения, разворачивая в их — на первый взгляд —
анархическом совместном бытии иерархию преходящего и со-
храняющегося, существенного и лишь кажущегося и т. д., и
все это реализует, не уничтожая основных свойств единичного
как такового; при этом оно обобщается, возводится на уровень
особенного, приближая мышление в большей мере к его истин-
ной сущности как единичного, насколько это вообще возможно
для неуничтожимого бытия единичного в чувственном осозна-
нии.
Вместе с тем при этом в мышлении еще остается значитель-
ный след исконной заданное™ единичного, в которой также и
логически находят свое непосредственное выражение материаль-
ное и чувственное существование. (Здесь следует подчеркнуть
слово непосредственно, так как то, что отражает всеобщее и
особенное, есть само по себе нечто материальное, существую-
щее независимо от сознания, как исходный материал, оригинал
единичного; его материальное существо опосредовано уже само
по себе.) Гегель не только распознал эту особую сущность еди-
ничного, он даже сделал ее вершиной всей этой понятийной
сферы. Анализ единичного как логической категории достигает
своей кульминации в таком утверждении: «...Единичность —
это не только возвращение понятия в само себя, но непосред-
ственно и его утрата. Будучи в единоличности внутри себя, по-
нятие становится через нее вовне себя и вступает в действи-
тельность»12. В этом отчетливо проявляется то своеобразие бес-
конечного приближения к единичному, которое мы неоднократно
подчеркивали. Явление, которое описывает Гегель, состоит в
том, что при этом теряется понятие как связь и соотношение
<его собственных определений. Определения должны теперь под-
разделяться следующим образом: адекватное логическое пони-
мание единичного выходит за рамки сферы понятия, которая
до сего момента казалась замкнутой, — и возникает разделение
понятий, требование новой, высшей, более синтетичной формы
приближения к действительности: формы суждения13. Связывая
необходимый характер диалектического перехода от понятия
к суждению с познанием единичного, Гегель показывает, что
именно здесь и возникает потребность в широких, более слож-
ных опосредованиях, что, таким образом, удовлетворение этой
потребности требует высших, более динамичных логических
форм, чем понятие. Естественно, эта потребность носит всеоб-
щий характер, она охватывает всю сферу мышления и позна-
ния. Но не случайно, что узловая точка, момент взаимоперехо-
да становятся очевидными уже при познании единичного.
Поскольку определение и есть развертывание и развитие
180
в-себе-сущепо, — правда, не впрямую, а через посредство отри-
цания и рефлексии — определяемое и определенное противопо-
ставлены друг другу как два мира; процесс же определения в
.большой мере состоит в их взаимопереходе друг в друга. Мы
могли констатировать это явление уже при анализе отношений
«особенного и всеобщего, и то же самое мы наблюдаем в соот-
ношении единичного и особенного. «Особенное, — говорит Ге-
гель, — по той же причине, по какой оно является определен-
ным всеобщим, есть и единичное, и наоборот, поскольку еди-
ничное есть определенное всеобщее, оно точно так же есть и
особенное». Однако этот переход друг в друга не снимает, как
мы могли видеть ранее, при анализе всеобщего, никаких суще-
ственных различий. Вслед за вышеприведенным положением Ге-
гель отмечает: «Если единичность приводится как одно из осо-
бенных определений понятия, то особенность есть целокупность,
■объемлющая все эти определения»14. Будучи типической кате-
горией опосредования и определения, особенное именно поэто-
му и не есть «граница, так что не относится к чему-то иному как к
своему потустороннему», оно скорее есть «собственный имма-
нентный момент» всеобщего и единичного15.
В движении от всеобщего к единичному и обратно — всегда
опосредованном через особенное, — в постоянном переходе од-
ной категории в другую проявляются единичное, особенное,
всеобщее, сохраняются сами в себе, как таковые.
Вместе с тем это общее сходство моментов различия нельзя
скрыть. Мы уже видели, что развитие процесса познания даль-
ше отодвигает конечные точки обеих крайностей; обогащение
подходящими, достоверными определениями — в принципе —
есть расширение сферы действия. Ясно, что в первую очередь
это обогащение происходит на почве особенного. Это, естест-
венно, приводит к расширению мира объектов, понимаемого
благодаря знаниям. На этот раз дело не только в смещении
конечных точек, но и в работе со все более сложными, взаимо-
связанными опосредованиями; не только крайности, конечные
точки — при освоении новых областей — отодвигаются, даже и
связывающая их сфера опосредования через особенное растет
как экстенсивно, так и интенсивно. И тем самым становится
еще яснее специфическая сущность особенного: в то время как
всеобщее и единичное сходятся в одной конечной точке, осо-
бенное образует как бы срединную область, «поле опосредова-
ния» между ними, причем границы с той и с другой стороны
часто исчезают, почти не воспринимаются как таковые16. Для
обыденного сознания, даже если оно получает философское
выражение, категория особенного имеет гораздо менее опреде-
ленные очертания и гораздо менее ярко выраженную суть, чем
в случае всеобщего или единичного. Необходимо диалектиче-
ское проникновение в его сущность, чтобы она была правиль-
но понята и правильно изложена.
181
Таким образом, как нам представляется, мы дали в первом
приближении картину сущности и взаимоотношений категорий,
всеобщего, особенного и единичного. Эта картина складывается
с точки зрения дезантропоморфирующей логики .и теории позна-
ния; она должна поэтому быть отрицанием в-себе-сущей дейст-
вительности, — в отношении этих элементарных и основопола-
гающих связей, — в возможно более правильном приближении.
и независимо от таких добавок, как человеческое сознание. Пе-
реходя к анализу в этой связи эстетического отражения дейст-
вительности, мы прежде всего — как и выше, применительно к
другим кардинальным проблемам — должны указать на то, что
оба вида отражения стремятся к адекватному отображению од-
ной и той же действительности; и поэтому также и расхождения
в обоих видах отражения должны ограничиваться той сферой,,
которая предписывается правильным воспроизведениям этой
действительности. Различия возникают в силу потребностей,
общества, людей теоретически и практически осваивать дейст-
вительность, ставить ее на службу человечеству. В другой связи
мы показали, что при этом важнейшую основу различий со-
ставляет дезантропоморфный либо антропоморфный подход к.
объективной действительности. При основополагающем значе-
нии категории особенного в эстетике — для нашего рассмотре-
ния — вывод из ее антропоморфирующей практики требует бо-
лее подробного и глубокого философского обоснования, чем в
перечисленных случаях, где легче было бы продемонстриро-
вать дивергенцию и конвергенцию в теоретическом и эстетиче-
ском применении. Для облегчения понимания этого несколька
запутанного, неясного пути вывода конечный результат мы
упомянем лишь вскользь и примем во внимание без всякого
обоснования. Очевидно, что сущность и основополагающая
связь трех описываемых категорий в обеих областях должны
остаться незатронутыми. Специфика эстетической сферы состо-
ит в том, что особенное не просто оказывается между всеобщим
и единичным — как их опосредование, — но и образует органи-
зующую среду, середину. В результате этого движение, в ходе
которого реализуется отражение, протекает не так, как в позна-
нии — от всеобщего к единичному и обратно (или в противо-
положном направлении), но особенное является здесь — бу-
дучи серединой — исходной и конечной точкой соответствующих
движений; то есть, с одной стороны, они направлены от особен-
ного ко всеобщему и обратно, а с другой стороны, осуществля-
ют соответствующую связь между ними и единичным. Таким
образом, речь идет не о движении в поперечном направлении
между двумя крайними категориями, а о движении между цент-
ром и периферией. Существенные определения, проистекающие
из такой ситуации, могут быть разъяснены лишь в конце на-
стоящих рассуждений.
Следовательно, прежде всего необходимо по возможности
182
.^подробнее рассмотреть взаимосвязи и различия между опосре-
дованием и промежуточной средой, причем и здесь нам следует
«ограничиться лишь моментами, имеющими решающее значение
для нашей проблематики. До определенной степени исчерпыва-
ющий характер необходим лишь в некоторых местах описаний
потому, что соотношение между опосредованием и средой при-
надлежит к числу весьма мало разработанных проблем. Поэто-
му одновременно следует подчеркнуть, что опосредование — это
чисто объективная форма отражения. Сознанию человека при-
ходится устанавливать и осваивать систему опосредовании, так
!как связь между объектами внешнего мира в большей мере
базируется именно на опосредовании. Противоположность и
диалектическая связь непосредственного и опосредованного су-
ществует объективно, независимо от сознания. Тот факт, что в
теории познания существуют и должны приниматься во внима-
ние отношения к познающему субъекту, обусловлен объектив-
ными свойствами действительности и способом их проявления.
Коль скоро опосредования осознаются мышлением, формально
этот процесс протекает в рамках теории логических умозаклю-
чений, а содержательно в виде ряда научных и философских
положений; при этом опосредование в значительном числе слу-
чаев занимает позицию промежуточной среды. Однако было бы
ошибкой — идеалистической, субъективистской и антропомор-
фистской — видеть в таком промежуточном положении опосре-
дующих определений нечто действительно предпочтительное, то
есть середину, средоточие в собственном смысле этого слова.
Срединное положение в этих случаях есть нечто чисто «пози-
ционное», и оно, как, например, в случае логических умозаклю-
чений, может часто подвергаться изменениям; средний член в
зависимости от конкретных целей и условий познания может
без дальнейших перипетий стать экстремумом, крайней точкой,
а прежняя экстремальная величина занять место среднего члена.
С появлением человека (в известном смысле даже и жиз-
ни вообще) срединность получает определенное место в дина-
мической системе опосредовании. Когда, например, Гегель об-
ращается к проблеме становления и понятийного выражения
отношений человека к действительности, он говорит, что внут-
ренняя жизнь человека, душа, должна «овладеть своим телом,
создать из него податливое и удобное орудие своей деятельно-
сти, так преобразовать его, чтобы она в нем получила отноше-
ние к самой себе, чтобы оно сделалось акциденцией, приведен-
ной в согласие со своей субстанцией, а именно со свободой.
Тело есть та среда, через посредство которой я вообще прихожу
в соприкосновение с внешним миром. Поэтому если я хочу
осуществить свои цели, то я должен сделать мое тело способ-
ным к тому, чтобы это субъективное перевести во внешнюю
объективность»17. Без сомнения, в этой опосредующей функции
тела, ставшего средой, в его срединности возникает нечто но-
183
вое по сравнению с вышеприведенным. Разумеется, Гегель прав,
подчеркивая при этом роль человеческой культуры, выходящую
за рамки чистой физиологии, хотя сейчас благодаря достиже-
ниям современной физиологии, прежде всего физиологии Пав-
лова, становится очевидным, что это опосредующее положение
тела как среды приобретает весомое значение уже в мире выс-
ших животных. Однако даже учитывая необходимость в данном
случае различной акцентировки, можно быть уверенным в том,
что объективный характер имеющих место опосредовании —
включая срединную роль тела — не подвергается при этом ни-
каким изменениям. Предметная структура объекта выявляет
новые черты, в том числе и применительно к проблематике сре-
ды, но это никоим образом не приводит к изменению гносеоло-
гических позиций субъекта относительно этого комплекса, а
лишь — как максимум — оказывает специфицирующее влияние
на конкретную методологию отдельных исследований.
В мире человека, общественно-исторического развития зна-
чение посредующего звена существенно возрастает, однако при:
этом сохраняется основополагающий объективный характер
ситуации в целом. Гегель и здесь дает правильное описание этой
логической и научной проблемы. Говоря о телеологии, он при-
ходит к анализу логического характера формы умозаключения,,
выражающей наличествующее здесь положение, и следующим
образом описывает функцию используемых средств: «Средства
есть поэтому формальный средний член формального умозаклю-
чения; оно нечто внешнее по отношению к [первому] крайнему
члену — к субъективной цели; а потому и по отношению ко
[второму] крайнему — к объективной цели, подобно тому как
особенность в формальном умозаключении есть безразличный
médius terminus, заменимый и другими [средними членами].
Далее, так же как особенность есть средний член вследствие
того, что она по отношению к одному крайнему члену есть оп-
ределенность, по отношению же к другому крайнему члену —
всеобщее и, следовательно, ее опосредствующее определение
есть лишь соотносительное определение, через другие определе-
ния, так и средство есть опосредующий средний член лишь по-
тому, что, во-первых, оно непосредственный объект и что, во-
вторых, оно средство через внешнее ему соотнесение с тем край-
ним членом — с целью; это соотношение есть для средства без-
различная форма»18. Конкретизация проблемы вместе с тем вы-
являет все новые определения «среднего члена» в человеческой
деятельности. Описание так называемых конечных целей при-
водит Гегеля к более глубокому философскому анализу труда
и роли орудия в трудовом процессе. Заслуга Гегеля в этом во-
просе состоит в том, что он с философской точки зрения первым
признал не только роль труда в процессе очеловечения чело-
века, но и роль орудия (машины) в развитии человечества.
Поэтому он может — правда, с идеалистических позиций —
184
сомневаться в разумности «конечного содержания», лежащего
в основе конкретных целеустановок трудового процесса; однако
глубоко понимая сущность труда, он добавляет: «Средство же
есть внешний средний член умозаключения — осуществления
цели; поэтому разумность [цели] проявляет себя в средстве
как разумность, сохраняющая себя в этом внешнем ином и как
раз через это внешнее. Постольку средство выше, чем конечные
цели внешней целесообразности; плуг — нечто более достойное,
нежели непосредственно те выгоды, которые доставляются им и
служат целями. Орудие сохраняется, между тем как непосред-
ственные выгоды преходящи и забываются. Посредством своих
орудий человек властвует над внешней природой, хотя по сво-
им целям он скорее подчинен ей»19 [см. т. 1, с. 125].
Важная для нас новая ситуация, складывающаяся здесь,
имеет две существенные отличительные черты. Во-первых, хотя
«средний член» никоим образом не утрачивает посредующего
характера, но при этом он сохраняет своего рода материаль-
ный перевес над «крайним членом», посредующим звеном для
которого он является, так что его центральное положение пере-
стает быть логически или также конкретно-методологически
чисто позиционным, он становится действительно фактическим
центром этого комплекса явлений. Во всяком случае процити-
рованное нами основополагающее утверждение Гегеля вследст-
вие объективно-идеалистической ориентации его принципиальных
философских установок остается всего лишь эпизодом — пусть
даже важным — в рамках его системы в целом и даже его ме-
тодологии. И лишь марксизм делает необходимые выводы из
этой ситуации: складывается концепция центральной роли раз-
вития производительных сил как основы для развития произ-
водственных отношений (и тем самым как основы всего обще-
ства и истории), как посредующего звена между природой и че-
ловеческим обществом. Во-вторых, эта промежуточная среда
выступает уже не только как продуцированная, заданная объ-
ективной действительностью и получающая упорядоченность
лишь в своем мыслительном воспроизведении, она скорее есть
нечто упорядоченное по своим объективным свойствам. Само
собой разумеется, что субъектом этого упорядочения являете*
не отдельный человек, не говоря уже о его сознании, но обще-
ство как целое, причем в данном случае не имеет решающего
значения, делается ли это сознательно или неосознанно, исходя
из истинного или из ложного сознания. И хотя отдельный чело-
век осуществляет это упорядочение в процессе труда непосред-
ственно, такая непосредственность уже объективно обусловле-
на и опосредована не только производительными силами, но и
производственными отношениями. Установленное обществом
предстает перед ним как «вторая природа», как непосредствен-
но неизменяемые границы всех возможностей его собственной
деятельности и практики. Однако это не снимает упорядочен-
185
ного характера возникающих здесь форм предметности, но лишь,
придает им своеобразную объективность, которая не менее не-
зависима от сознания отдельного человека, чем сама природа, и
которая вместе с тем налична и действенна для него — как час-
ти и элемента человечества — в качестве продукта его же. соб-
ственной деятельности.
Эта сущность общества представлена независимо от того,,
осознается ли она человеком правильно или неверно или даже
вообще не осознается. Поэтому ее научное познание носит на-
столько же дезантропоморфный характер, как и познание при-
роды, и тот факт, что объективная, неуничтожимая закономер-
ность в бытии общества должна стать исходной точкой для воз-
никновения важных — в методологическом плане — особенно-
стей, ничего не меняет в фундаментальной однородности их.
обоих с точки зрения научного отражения. Тем более порази-
тельными оказываются последствия действия этой закономер-
ности с точки зрения самого общественного бытия. Мы в дру-
гой связи — анализируя сигнальную систему Г — уже указыва-
ли на то, что, хотя труд (его общественные формы, опосредо-
ванные им отношения к природе, к другим людям) носит осно-
вополагающий характер для общественного бытия людей, од-
нако именно на этой основе формируются отношения между
людьми, потребности, средства их удовлетворения и т. д., име-
ющие более сложную структуру, чем сами основополагающие-
трудовые связи, для познания которых они могут служить ис-
ходной точкой, оставаясь вместе с тем непосредственно невы-
водимыми из него и неразъяснимыми через его посредство.
Вспомним хотя бы то, что выше было сказано о знании людей;
[с. 40 и ел.]. Здесь мы сталкиваемся с аналогичным явлением..
Причем для нашей проблематики особенно важно одно из про-
являющихся здесь следствий идеологического характера, а
именно, что упорядоченность среды, которая, с одной стороны,,
есть творение самого человека, а с другой стороны, в своих
последствиях выходит за рамки его целей, планов, надежд и:
т. д. — как в положительном, так и в отрицательном смысле, —
постепенно образует основу для антропоморфированного миро-
понимания. Об этом мы также — в другой связи — говорили:
неоднократно и подробно [с. 136 и ел.]; здесь мы ограничимся
лишь указанием на то, что представление о богах как творцах
мира и жизни вытекает из субъективной стороны труда, целе-
полагания в творчестве, созидании чего-то существенно нового..
Магически-религиозный аспект не представляет здесь для:
нас большого интереса. Нам важно лишь то, что он необходима
влечет за собой существенное и качественное повышение уров-
ня осмысления срединности, причем с одним, очень важным в*,
данном случае нюансом, что судьба человека сознательно ста-
вится в центре мировых событий, образует ту среднюю точку,,
вокруг которой все — и природа, и общество — должно груп-
186
нироваться. Достаточно упомянуть астрологию, согласно кото-
рой расположение созвездий, а также движение вселенной в
целом указывают на эту судьбу, представляющую — весьма
очевидным образом — положение человека в центре мирозда-
ния. Предписывающий характер этих и подобных им систем
представлений несомненен. Не имея возможности подробно
останавливаться на их сущности и ее исторически разнообраз-
ных воплощениях, отметим лишь, что антропоморфное, антро-
поцентрическое полагание на этот раз качественно отличается
от описанных выше его видов. Ранее речь шла об отображении
объективной действительности — будь то с правильным или
ложным ее осознанием, — здесь мы имеем дело с самопроиз-
вольным конструированием мира, элементы которого представ-
ляют собой отражения объективной действительности, однако
общая структура, система их взаимосвязи, их упорядоченность
и т. д. обусловлены антропоцентрическими потребностями, где,
таким образом, полагание выходит за рамки своей осознанно-
отображающей функции и встраивает данные человеку возмож-
ности в самосотворенную, возвышающуюся над объектив-
ной действительностью систему связей. Подобный же путь про-
ходит процесс полагания в философии Плотина, который, пожа-
луй, наиболее полно и последовательно воплощает тенденцию
гипостазирования, превращая этот процесс во взаимопереход
триады «ипостасей» в нечто понятийно невыразимое, умонепо-
стигаемое, где человеческое полагание трансцендентного и мни-
мая упорядоченность человеческого интеллекта неразрывно со-
единяются, взаимосвязываются через посредство трансцендент-
ного, то есть посредством мышления трансцендентного и его
пребывающего по ту сторону сознания «бытия» («сверхбы-
тия»)20. Важная для нас здесь противоположность, противопо-
ставление эстетического полагания и гипостазирования будет
рассмотрена в последней главе [см. т. 4, гл. 16, §2]. Здесь сле-
дует упомянуть об этой тенденции к антропоцентрическому
«полаганию», лишь ради полноты изложения, ибо она не имеет
сколько-нибудь существенного значения для интересующей нас.
категориальной проблематики.
Тем важнее нам представляется проблема установления
среднего звена в этике. Здесь центральное положение челове-
ка задается самой вещественной основой. Ибо этические запре-
ты (и их мыслительное осознание) не только касаются челове-
ка, но и необходимо сообразуются в своей сути с его свойства-
ми как человека. Поэтому следует считать недопустимым та-
кое их рационалистическое обобщение, которое осуществляет
Кант, стремясь расширить сферу действия императивов этики,
распространить их, помимо человека, на все «разумные сущест-
ва», вынести их значимость за пределы рода человеческого»21.
Прежде всего его побуждает к этому необходимость установить
симметричность системы в целом: поскольку лишь в сфере эти-
187
ческого возникает реальная связь с бытием-в-себе, область ее
значимости не должна быть уже подобной же области теорем
тического отношения к миру явлений, и если в этой последней
господствует дезантропоморфическая необходимость априорно-
го, как могут связи, охватывающие сферу этического, оставать-
ся в границах антропоморфного? Во всяком случае, этот же
мотив действует и в направлении (которое применительно к эти-
ке Канта рассматривали уже Гёте и Шиллер, хотя и со значи-
тельными оговорками) преобразования чисто человеческой
внутренней сущности морали, всегда оттесняемой в умозри-
тельной этике Канта на задний план этическим, в нечеловече-
ское, застывшее всеобщее. Там, где Кант делает необходимую
с его точки зрения попытку перейти от общих постулатов нрав-
ственности к частным случаям и подчинить одно другому, он
неизбежно оказывается в ловушке неразрешенных для него про-
тиворечий22. Те проблемы, которые очерчены здесь, правда,,
лишь в одном, узком аспекте, не находят решения и у крити-
ков Канта. Концепция Гегеля, согласно которой из односторон-
него характера обеих крайностей — абстрактного права и нрав-
ственности— как синтез возникает мораль (этика), чрезмерно»
ориентирована на его философию общества и государства бо-
лее позднего периода, чрезмерно подчинена требованиям его
системы в целом, чтобы на ее основе можно было построить
этику, соответствующую диалектическому методу23. Гегель
исторически верно отмечает, что «самостоятельное развитие
особенного» в античных городах-государствах оказывается «ко-
нечной причиной гибели этих последних»24, он хочет также
положить этот принцип в основу своего учения об обществе кг
государстве, однако ложная концепция связи буржуазного об-
щества и государства заводит в тупик даже вполне продуктив-
ные его положения.
Относительно категориальных связей в античной этике, в
прежде всего в этике Аристотеля, имеются более верные суж-
дения, чем у ее современных последователей. Само собой ра-
зумеется, если бы мы имели целью углубиться во внутренние
проблемы этики, то отмеченное нами выше гегелевское разли-
чение получило бы решающее значение. Но поскольку мы зани-
маемся исключительно экспликацией понятия среднего звена,
мы можем пренебречь упомянутыми различиями и сконцентри-
роваться лишь на этом вопросе; достаточно поэтому просто от-
метить, что все проявления такого рода в современном буржуаз-
ном обществе, в его этике, должны быть намного сложнее, чем
в античном мире. Однако независимо от всех этих сложностей
можно утверждать, что в системе человеческой практики этика
образует посредующую сферу между чисто объективным пра-
вом и чисто субъективной нравственностью. При этом речь идет
не о таком среднем члене, который определяется чисто позици-
онно, как это имеет место в типичном процессе познания, но о
188
таком, который должен выполнять весьма определенные, сни-
мающие и тем самым модифицирующие функции по отношению?
к обеим крайним точкам. Часто критикуемое кантовское про-
тивопоставление легального и морального выражает эту связь
в абстрактном упрощении и поэтому сильно искажает ее. Ибо
прямое и полное противопоставление чистого осознания и столь-
же чисто формального следования правовым предписаниям
превращает реальные, диалектические противоречия, расширя-
ющие и углубляющие отдельные сферы, в неразрешимые анти-
номии. Опирающаяся лишь на самое себя, ставшая субъекти-
вистски самодостаточной нравственность тяготеет к солипсист-
скому анархизму, полностью отрицающему общество и историю,,
к абсолютизированной нравственности чистого умозрения. (До-
статочно вспомнить о современном экзистенциализме. Однако^
уже и в романтизме единичность нравственного сознания полу-
чает ценностно-окрашенный характер единственности в своем'
роде.) С другой стороны, столь безоговорочно реализованная
абстрактная легальность приводит к полному разрыву каких
бы то ни было связей права с человеческим сознанием. Необ-
ходимая независимость всякого правового положения от воли
или сознания единичного человека, выражающая вполне оправ-
данную всеобщность этой сферы, тем самым получает такое4
существование, которое представляется полностью самоуправ^-
ляемым, и превращается в тиранически повелевающего людьми
«Левиафана». Будет, вероятно, излишним подробно останавли-
ваться здесь на том, что обе формы социальной практики как
моменты общественной жизни человека глубоко оправданны..
Как роль судьи, которую играет нравственное сознание приме-
нительно к тем институтам, в рамках которых оно действует,
не является лишь внешней, подогнанной-, так и необходимая
независимость правовых положений от воли и сознания отдель-
ных людей не означает сама по себе неоправданного деспотиз-
ма. Лишь будучи взяты в абстрактном, изолированном виде и,
следовательно, односторонне, обе эти относительно оправдан-
ные позиции становятся гипертрофированными антиномиями.
Представленная в буржуазной науке и публицистике непосред-
ственная взаимосвязь и противопоставление субъективно-аб-
страктной нравственности и объективьго-абстрактной легально-
сти создает описанное здесь искажающее мыслительное напря-
жение.
Недостает в данном случае основного: опосредования ле"~
гального и морального через полагание этического. В этикел
субъективно-абстрактная совесть моральности превращается к
нравственное сознание целостного человека, который и в тео-
рии представляет собой именно то, что он есть в действитель-
ности: живую целостность общественного и частного человека,,
действующего в обществе, и отдельной личности. Вместе с тем,..
когда этика широким фронтом обращается; к; правовой! сфере,
im
жогут возникать и реальные, способствующие развитию проти-
воречия, раскрывающие свою общественную и человеческую
действенность. Правовая система не может долгое время функ-
ционировать совершенно независимо от нравственных воззре-
ний народа. Обратное утверждение, как в понятийном, так и в
историческом отношении, исходит из неверной абстракции. Не-
обходимая независимость всякого юридического положения от
золи, сознания отдельного человека при этом сохраняется, но
.лишь для непосредственного функционирования положительной
правовой системы. В ее генезисе, в ее преобразованиях, в ис-
чезновении де факто определенных положений, институтов и
целых правовых систем — живая взаимосвязь с подлинными,
действенными нравственными воззрениями народа играет боль-
шую, даже решающую роль. При этом нельзя забывать, что
в этике выражается лишь часть тех практически господствую-
щих убеждений, которые вообще следует рассматривать при
анализе таких взаимоотношений. Но поскольку в ней воплоща-
ется как раз тот участок нравственного сознания, который дей-
ствует в них, для наших целей достаточно именно такого ут-
верждения. Мы здесь не стремимся даже и к тому, чтобы дать
хотя бы краткое описание или общую систематизацию спосо-
бов практического поведения человека.
Подчеркнув еще раз эту нашу оговорку, мы можем без пре-
увеличения утверждать, что решающее значение для нравствен-
ности имеет категория единичного, для права же — категория
всеобщего, тогда как в этике важную роль играет категория
особенного как посредующего среднего звена. Конечно, это от-
меченное нами преобладание нельзя принимать как Полное
доминирование; в элементарных категориях единичного, осо-
бенного и всеобщего необходимо задается вместе с тем их диа-
лектический переход друг в друга, симультанность их прояв-
ления.
Однако это не исключает преобладания какой-либо катего-
рии в определенных областях, обусловленного самим материа-
лом или особенностями практики; более того, это изменение
положения, способа движения, типа перехода, вида снятия,
специфической значимости той или иной категории и т. д. и
-есть одно из свидетельств в пользу ее универсальности. Когда
необходимо получить представление о каком-нибудь произволь-
ном комплексе предметов, использование этих категорий оказы-
вается неизбежным; это и обусловливает их подвижность, их
^уподобление тем или иным свойствам объектов. Возвращаясь
к нашей конкретной проблематике, заметим: само собой разу-
меется, что не может быть никакой нравственности без обобще-
ния, иначе эта нравственность неизбежно окажется в тесной
клетке безнадежного солипсизма (обязательность этой тенден-
ции проявляется уже в попытке Канта — с нашей точки зрения
^неудачной — дать абсолютное и всеобщее понимание категори-
ей
ческого императива); но для той области, в которой осознание-
отдельного есть одновременно единственно возможная среда и
непосредственная движущая сила всякого изменения, именно-
категория единичного должна иметь основное значение в этой
триаде категорий. Никаких сомнений не вызывает и тот факт,
что никакой закон, никакой параграф закона и т. д. невозмо-
жен без определяющего выделения особенного, точно так же>.
как конечный пункт каждого законоположения есть применение
его к отдельным случаям; возникают даже собственные право-
вые институты, например суд присяжных, основную интенцию-
которых составляет самослияние со специфическим в единич-
ном случае. И все это не противоречит категориальному превос-
ходству всеобщего применительно к этой области. Ибо принци-
пы, определяющие ее, должны формулироваться в общем виде,
чтобы выразить сущность права; особенное и единичное есть«
частично объекты, частично средства реализации этого способа-
существования всеобщего.
Этика как посредующее звено между легальным и мораль-
ным, напротив, подчиняется категории особенного. Она обоб-
щает отдельные проявления совести, выделяя их из того еди-
ничного, которое есть в субъекте нравственности, и расширяя.:
понятие этого субъекта до конкретно действующего целост-
ного человека среди других конкретно действующих целостных
людей. Но это обобщение останавливается на целостном чело-
веке. И хотя этика охватывает всю сферу общественной и по-
литической деятельности человека, она не имеет права сама по
себе давать конкретно-содержательные определения своих ре-
шений в этой области, а «лишь» согласует их с этической сущ-
ностью целостного человека; и отсюда, само собой разумеется,,
следует, что при соответствующих условиях она может приве-
сти к существенным содержательным модификациям решений^,
полученных иными способами. Из этого положения само собой.,
вытекает, что то обобщение, которое делает этика применитель-
но к нравственности, несет в себе категориальные признаки осо-
бенного. Пожалуй, еще очевиднее выступает эта связь со все-
общим в области права. Исторически, конечно, было бы нетруд-
но показать, что большое число частных случаев в правовой^
системе — но, естественно, отнюдь не все они — имеют своим•
источником социальную обусловленность этических воззрений
народа на законодательство и выполнение законов. Достаточно-
вспомнить старую контроверзу, характерную для всей этой сфе-
ры, чтобы разъяснить сложившееся положение. В то время как.
чисто умозрительная этика (нравственность) элиминирует по-
следствия действий из нравственных суждений, правовая оценка
изначально ориентирована лишь на действия и их последст-
вия. (Все больший учет моментов осознания в законах, юриди-
ческой казуистике и т. д. частично, разумеется, относится к об-
ласти воздействия этики на право). Уже Гегель ясно видел?
19t
•абстрактное единство этих обеих — отдельно взятых, изолиро-
ванных — точек зрения: «Основной тезис: в действиях пренебре-
гать последствиями, другой тезис — судить о действиях по их
последствиям, и делать их мерой того, что хорошо и правиль-
но, — и то, и другое есть чисто абстрактный разум»25. Описан-
ная нами сущность его системы помешала ему сделать необхо-
димые выводы из этого правильного утверждения, то есть за-
метить, что своеобразие этики как самостоятельной посредую-
;щей сферы между моральным и легальным основывается имен-
но на диалектическом разрешении и снятии этих противоречий.
Однако та операция над категориями, которая при этом осуще-
ствляется, с одной стороны, есть обобщение абстрактного еди-
ничного до уровня особенного, а с другой — конкретизация и
•очеловечение абстрактного всеобщего именно до конкретного,
человечески особенного.
Исторически важнейший и самый существенный анализ
среды как центральной проблемы в этике — это анализ, пред-
ложенный Аристотелем. Чтобы правильно понять его, следует
«отметить, что промежуточное положение этики между мораль-
ным и легальным было для Аристотеля чем-то само собой ра-
зумеющимся до такой степени, что он не тратит ни слова для
>его методологического обоснования. Более того, это промежу-
точное положение доминирует у него настолько, что крайности
почти сходятся. В основе этого лежат общественно-
исторические причины — афинская полисная демократия, прав-
да, в это время уже отмирающая. Нравственность в смысле
более поздних представлений еще не развилась здесь до того
уровня, чтобы образовать самостоятельную сферу обществен-
ной практики. Наряду с этим — по тем же причинам — грани-
цы между этикой и правом были намного более неясны и раз-
мыты, чем в позднейшие эпохи. Поэтому Аристотель по-настоя-
щему подробно анализирует лишь проблему срединности этики
:в том узком смысле, который приписывался этой проблематике,
исходя из ее «общественно-исторической роли. Если же мы оста-
новимся на специфическом и новом в его понимании середины,
мы увидим, что проблемы категорий должны быть сформулиро-
ваны иначе по сравнению с вышеизложенным. Речь идет о кон-
кретном внутреннем строении этики. Здесь у Аристотеля ясно
выступает решающее значение середины, хотя и с определен-
ными ограничениями; однако для современного читателя эти
ограничения не могут быть по-настоящему убедительными.
С точки зрения настоящего дня представляется, что часть из тех
вопросов, уже в самой постановке которых, по мнению Аристо-
теля, заключено отрицание и применительно к которым, следо-
вательно, не может -идти речь ни о какой середине, фактически
построены так, что их анализ вполне допустим на основе общей
методологии Аристотеля в ходе последовательной диалектиче-
ской разработки этики. Правильно выделенная Гегелем стадия
192
развития античного; общества, в ходе которой в его социальной
практике особенное на уровне единичного человека часто дей-
ствует как «освобождающая» сила, как раз и обусловливает
двойственный характер такого анализа. Если целостный чело-
век как таковой в его человеческой целостности, во всех его
общественных и личных связях решительным образом оказыва-
ется в центре этики, такие проблемы, как проблема злорадства,
бесстыдства, зависти и т. д., без труда могут быть поняты как
отрицательные крайности, которые отвергаются не абсолютно,
а лишь исходя из представления о гармоничной, пропорциональ-
ной середине. Абсолютизация отрицательного отношения к на-
рушению супружеской верности, очевидно, еще более устарела.
Если имеется — сегодня это весьма возможно — неизвестная
Аристотелю конкретная этика для регламентации эротических
и сексуальных отношений между людьми, совершенно неясно,
почему ее структура не может ориентироваться на середину.
Сделав такую оговорку методологического характера, кото-
рая, собственно говоря, служит подтверждением метода Ари-
стотеля вопреки намерениям его создателя, мы можем обра-
титься к рассматриваемой проблематике как таковой. Аристо-
тель образно и четко характеризует проблему: «Итак, доброде-
тель есть сознательно избираемый склад [души], состоящий в
обладании серединой по отношению к нам, причем определен-
ной таким суждением, каким определит ее рассудительный че-
ловек. Серединой обладают между двумя [видами] порочности,
один из которых — от избытка, другой — от недостатка. А еще
и потому [добродетель означает обладание серединой], что как
в страстях, так и в поступках [пороки] преступают должное
либо в сторону избытка, либо в сторону недостатка, доброде-
тель же [умеет] находить середину и ее избирает. Именно по-
этому по сущности и по понятию, определяющему суть ее бытия,
добродетель есть обладание серединой, а с точки зрения выс-
шего блага и совершенства — обладание вершиной»26. При этом
следует отметить, что Аристотель не ограничивается размеще-
нием середины между двумя крайними точками и определением
окончательного типа реализованных решений исходя из середи-
ны и по направлению к ней, он выделяет ее законы (и не толь-
ко заданные на основе диалектики внешнего мира), подчерки-
вая одновременно их антропоморфный характер и утверждая,
что это есть именно «середина по отношению к нам».
Противники Аристотеля часто искаженно понимали этиче-
ское значение середины в его концепции. Именно так прежде
всего обстоит дело с Кантом, который исходя из своего прин-
ципа единичного характера морали, рационалистически возве-
денной на уровень всеобщего, отклоняет этическое значение се-
редины, приводя такое обоснование: «Если я беру хорошее хо-
зяйство как среднее между расточительством и скупостью и
если оно должно быть средним по степени, то порок перешел
13-102
193
бы в противоположный порок не иначе, как через добродетель,
а добродетель была бы не чем иным, как уменьшенным или,
вернее, исчезающим пороком...»27 Таким образом, Кант —ме-
ханически следуя логической схеме — понимает движение меж-
ду двумя крайними точками и серединой как движение между
двумя крайними точками, а не так, как это делает Аристотель
и как это делается во всех обоснованно антропоморфических
полаганиях, — как движение от крайних точек к середине или
наоборот; поэтому в этике Аристотеля добродетель — это не
переход от одного порока к другому, а середина в истинном
смысле, центральная точка: отвержение порока, приближение
к добродетели, причем от обеих крайних точек. Кант же совер-
шенно неправильно понимает ситуацию, когда он говорит о
«среднем по степени». Факт приближения к добродетели и уда-
ления от нее у Аристотеля ни в коей мере не снимает того ка-
чественного скачка, который отделяет добродетель от греха.
Правда, Аристотель как истинный диалектик, как человек боль-
шой практической жизненной мудрости (в противоположность
пуританскому доморощенному догматизму. Канта) знает, что
качественное расхождение никоим образом не исключает
переходов, количественных подъемов и спадов, что именно эти
последние относятся к тем живым, жизненным взаимосвязям,
совокупность которых и побуждает человека к полаганию се-
редины.
Идея середины в этике вырастает не только из внутренней
взаимосвязанности бытия, из обоюдного взаимопроникновения
общественной и частной жизни — которое было самоочевидным
в античной Греции, — но и из усилившейся на этой почве по
требности в установлении правильных пропорций всех телесных
и душевных способностей человека, их гармонии, из отказа от
спиритуалистической аскезы. Этическое полагание середины
осталось бы чисто формальным, если бы эти потребности, кото-
рые выступают как формальные требования в своей непосред-
ственной и поэтому остающейся абстрактной форме проявления,
применительно к конкретному целостному человеку, не получа-
ли бы содержательного характера. Гармония человеческих спо-
собностей, которая находит выражение в такой этической се-
редине, теряет всякий смысл без истинной, изначальной соотне-
сенности с конкретной личностью человека, для которого ха-
рактерны этическая деятельность, этическое поведение. Но в ре-
зультате этого полагание середины, как уже было показано в
другой связи, возвышает частные аффекты людей над чистой
единичностью партикулярного, не выходя при этом за рамки
их конкретной индивидуальности, и хотя самое последователь-
ное и абсолютное выполнение заповедей такой этики может
служить образцом для человека, но сама она при этом остает-
ся человеческой и земной, то есть никогда не принимает формы
трансцендентной всеобщности, как у Канта. Отсюда опять-таки
194
'вытекает, что гармония, реализующаяся в середине, на катего-
риальном уровне должна быть обозначена как особенное, имен-
но в противоположность крайним точкам, в которых с очевид-
ностью проявляется погруженная в партикулярность страсти
единичность. Тот факт, что софистика применительно к частным
аффектам и страстям в большинстве случаев ищет соразмерное
себе всеобщее, ничего не меняет в этом положении дел: такое
ложное всеобщее вынуждено служить чисто единичному и ни-
когда не сможет подняться до уровня той образцовости, кото-
рая отличает человеческую гармонию особенного, представлен-
ного в средней точке.
К общественно-историческим характеристикам этики Аристо-
теля относится его понимание познаваемости середины. При
этом нас интересует здесь ряд весьма своеобразных черт. В до-
полнение к приведенному нами положению Аристотель говорит:
«Вот почему трудное это дело быть добропорядочным, ведь
найти середину в каждом отдельном случае — дело трудное, как
и середину круга не всякий определит, а тот, кто знает £как
это сделать]»28. Возникающая здесь аналогия в определении
этической середины и определении середины круга свидетельст-
вует о нередкой у Аристотеля близости к представлениям Со-
крата и Платона. Но Аристотель слишком благоразумен и трезв,
чтобы удовлетвориться таким слишком общим, чисто рациона-
листическим решением этических вопросов. Как истинный диа-
лектик, он видел почти что решающую роль единичного случая
для этой проблематики: «Не просто дать определение тому, до
какого предела и до какой степени [нарушение меры] заслужи-
вает осуждения; так ведь дело обстоит со всем, что относится
к чувственно воспринимаемому, а все это — частные случаи, и
судят о них, руководствуясь чувством»29. Но при этом выделя-
ются два противоречащих друг другу способа познания того,
что есть истинная середина: в одном случае вопрос решается
по аналогии со всеобщностью научной (геометрической) конст-
рукции, а в другом —в плане познания единичного, что, по
Аристотелю, не может быть близко к чувственному восприятию
(аЧ'о'дгуспс). В различных местах его «Этики» попеременно высту-
пают обе возможности; приведем здесь одно из таких рассуж-
дений, в котором делается попытка специфическим образом
уравнять и сгладить имеющиеся различия: «Что рассудитель-
ность не есть наука, [теперь] ясно, ведь она, как было сказано,
имеет дело с последней данностью, потому что таково то, что
осуществляется в поступке. Рассудительность, таким образом,
противоположна уму, ибо ум имеет дело с [предельно общими]
определениями, для которых невозможно суждение [или обос-
нование], а рассудительность, напротив, — с последней данно-
стью,для [постижения] которой существует не наука, а чувст-
во, однако чувство не собственных [предметов чувственного
восприятия], а такое, благодаря которому <в математике>
13*
195
мы чувствуем, что последнее [ограничение плоскости ломаной
линией] — это треугольник, ибо здесь и придется остановиться.
Но хотя [по сравнению с рассудительностью] это в большей
степени чувство, оно представляет собою все-таки особый вид
[чувства]»30.
С точки зрения нашей проблематики в этих рассуждениях
Аристотеля особого внимания достойны два момента. Во-пер-
вых, тот факт, что он, пытаясь на практике применить катего-
рии к конкретным комплексам предметов, оперирует только
всеобщим и единичным и, например, как раз там, где фактиче-
ски мы имеем дело с типичным случаем проявления особенно-
го, совершенно не думает о его употреблении. В этом и прояв-
ляется специфическая слабая сторона его диалектики. Ленин,
который часто отстаивал величие Аристотеля как мыслителя,
противопоставляя его Гегелю, отмечает, что здесь его отличает
«наивная запутанность, беспомощно-жалкая запутанность в
диалектике общего и отдельного — понятия и чувственно-
воспринимаемой реальности отдельного предмета, вещи, явле-
ния»31. Это нередкий случай в истории мысли — когда великие
первооткрыватели не могут полностью осознать все огромное
значение ими открытого. Так, здесь Аристотель своим полага-
нием середины существенно способствовал обоснованию этики,
но он же оказался не в состоянии сделать следующий шаг —
понять эту середину как особенное. С этой ограниченностью —
корни которой следует искать в самой структуре греческого об-
щества — теснейшим образом связан и второй момент, а имен-
но тот факт, что у Аристотеля границы между исконно этиче-
ским нахождением и полаганием середины и ее научным позна-
нием почти что неразличимы. Конечно, знание мира и трезвое
благоразумие уберегли Аристотеля от полного отождествления
того и другого, как это произошло по сути дела у Сократа.
Аристотель очень точно понял, что простое применение общих
научных принципов к исходному, то есть единичному акту эти-
ческого поведения, исказило бы его специфическую сущность;
в этике всегда речь идет о единичном человеке и всегда — о его
поведении в условиях, при которых неустранимо представлена
его единичность. Этика как философская дисциплина — это нечто
совершенно иное, и в ней неизбежны и необходимы с методоло-
гической точки зрения поиск и нахождение общих оснований;
правда, они должны излагаться и использоваться так, чтобы
обнаружение философски всеобщего непреложно сохраняло в
себе особенное, присущее изначальному этическому акту.
Здесь правильное использование категории особенного иг-
рает решающую роль. Ибо то, как единичное возводится на
уровень особенного, качественно отличается от его непосредст-
венного возвышения до всеобщего. Описанное выше необходи-
мое сохранение лишь в первом случае может иметь место в пра-
вильном приближении. Это ясно видно в исходном этическом
196
акте. Его характер как единичного акта должен быть сохра-
нен, ибо в противном случае решающие этические категории
теряют свою функцию — достаточно вспомнить хотя бы об от-
ветственности, которая необходимо связана с единичным, от-
дельным человеком. Обобщение, необходимо осуществляемое на
материале исходно этического акта, есть поэтому выявление
значимости его образцовой или неприемлемой сущности, посред-
ством которого индивидуально своеобразные черты конкретно-
го поведения конкретной личности помещаются в рамки этих
высших взаимосвязей, не утрачивая при этом своего единичного
характера. Но подобное обобщение может происходить лишь
таким образом, чтобы единичное не оказывалось прямо подчи-
ненным отдельно взятому всеобщему, но включалось в сферу
действия особенного, в которой конституирующие единичное
определения сохраняли бы свое единство и центрированность
на соответствующих конкретных единичных моментах, выходя,
однако, при этом за рамки своей непосредственности в обособ-
ленном акте и обобщаясь как объективные определения сферы
этического, чтобы тем самым отчетливо выявлялись их связи —
отрицательные или положительные — с другими конкретными
этическими категориями. Подведем вкратце итог: это обобщение,
возведение единичного до уровня особенного позволяет вклю-
чить единичный, отдельный этический акт в систему этики.
Здесь вновь — но в иной связи и поэтому со значительными
вариациями — выступает то обстоятельство, что особенное пред-
ставляет собой не точку, не конечный пункт приближения, по-
добно всеобщему и единичному, а поле, пространство. Это ут-
верждение позволяет конкретизировать сущность и функцию
этической срединности в большей мере, чем это было возможно
ранее. Мы уже дополнили выше [с. 194] чисто формальный
характер середины неотделимым от нее содержательным опре-
делением гармонии. Теперь оказывается, что та гармония, к ко-
торой мы стремились — независимо от того, насколько нам
удается ее достигнуть, — плюралистична: каждое единичное
должно иметь собственное гармоническое «наполнение», но все
они в целом, коль скоро они являются истинными наполнения-
ми, должны осуществлять полагание середины. Только таким
образом единичное может сохраниться при его снятии в собст-
венном и вместе с тем подняться на более высокий уровень.
Итак, середина — это не точка, а поле, пространство. Уже
здесь проявляется методологическая ложность аристотелевской
аналогии с нахождением центра круга. Такой центр — это ре-
альная точка, вокруг которой, конечно, можно очертить сколь-
ко угодно кругов, тогда как в принципе, согласно самой сущно-
сти этики, не может существовать двух исходных этических
актов, которые бы полностью совпадали. Как уже было пока-
зано, ошибка Аристотеля возникает вследствие смешения эти-
ческого акта как такового с философско-этическим познанием.
197
Это последнее должно, разумеется, работать на уровне всеоб-
щих понятий. Поэтому оно требует детальной разработки диа-
лектики всеобщего и особенного, которая способствует тому,
чтобы это познание через посредующее поле определений осо-
бенного верно схватывало этическую сущность единичного ак-
та, могло бы правильно оценить его, указать соответствующее
ему место в системе и иерархии этического. Именно таким об-
разом складывается адекватное и окончательное понятие осо-
бенного применительно к этической середине; однако эта мето-
дологически необходимая транспозиция ничего не меняет в том
факте, что середина в этическом поведении сама по себе есть
поле, пространство, находящееся на уровне особенного32.
На различных примерах мы могли видеть тот парадоксаль-
ный факт, что жизнь и мышление постоянно соприкасаются с
категорией особенного, но при этом мыслящее сознание оста-
ется прикованным к крайностям всеобщего и единичного, непо-
средственно и абстрактно связывая и то, и другое друг с дру-
гом и искажая тем самым подлинное существо дела. Это отно-
сится не только к области логики и методологии, но и — как
мы показали в главе 11 [с. 48 и ел.] — к психологии. То, что
психологически всеобщее связано с языком и образованием
понятий, столь же само собой разумеется, как и тот факт, что
непосредственное восприятие и восприятие вообще есть психи-
ческий инструмент для апперцепции единичного. В предыдущей
главе мы указали на сходное соотношение между сигнальной
системой Г и категорией особенного. Здесь можно напомнить
и о том, что Аристотель, стремясь прояснить середину, истин-
ную этическую связь, сам практически приближается к описа-
нию сигнальной системы I', и не случайно он делает это как раз
в том месте, где речь идет о проблеме такта; вышеприведенные
его положения [с. 32 и ел., с. 193 и ел.] — также не случайно —
представляют собой философское продолжение поисков инстру-
мента определения этической середины. Эти связи между пси-
хологией и философским познанием стоит подчеркнуть хотя бы
потому, что в буржуазной философии тут либо господствует
абстрактная антиномичность, либо делаются попытки вывести
логические, эстетические и т. д. категории непосредственно из
их психологического способа проявления, либо же отрицается
какая бы то ни было связь между ними. Напротив, диалектиче-
ский материализм исходит из объективного существования
этих категорий как форм действительности и рассматривает их
психологический способ проявления как непосредственное от-
ражение бытия, независимого от сознания. При правильной
оценке этой непосредственности мы можем извлечь из нее и
сохранить ценные импульсы для познания объективных законо-
мерностей, но нам не следует забывать, что для каждой кате-
гории ее функция в объективной действительности имеет реша-
ющее значение — даже когда способ отражения имеет антропо-
198
морфический характер —и что, таким образом, ее психологи-
ческий способ проявления непосредственно и прежде всего ос-
вещает внутренний мир человека, для отражения же объектив-
ной действительности он может дать лишь первые наметки, ко-
торые следует критически сопоставлять с данными приближе-
ния к объективной действительности, чтобы не прийти к оши-
бочным результатам.
Итак, коль скоро мы установили определенное родство меж-
ду сигнальной системой Г и категорией особенного, это может
значительно помочь нам вскрыть генезис, достичь осознания
этих категорий. Но если особенное функционирует как катего-
рия научного познания, оно должно быть свободным от подоб-
ных психологических уз; его своеобразие как категории должно
быть познано как отражение объективной действительности.
Mutatis mutandis это может быть отнесено и к этике и эстети-
ке. Центральное место особенного в них, иное соотношение край-
них точек и здесь служит сущностным знаком объективной дей-
ствительности, правда действительности общественного, социа-
лизованного человека, которая существует так же независимо
от сознания единичного человека, как и действительность сама
по себе. И здесь это центральное положение есть не продукт
сознания, не психологическое своеобразие субъекта, но отраже-
ние самой действительности в необходимо присущих ей и свое-
образных формах ее проявления. Установленная нами сэязь
между антропоморфирующим поведением и особенным как се-
рединой определяется самой объективной действительностью и
репродуцирует ее. Но когда субъективность — даже обуслов-
ленная общественно-исторически — фактически проецирует свои
же собственные.потребности и желания на действительность и
полагает их как объективную действительность, возникают -те
неразрешимые противоречия, которые мы вкратце охарактери.
зовали на примере описанного выше гипостазироваиия [с. 186],
где поразительным образом антропоморфное поведение приво-
дит не к воспроизведению особенного, а к субъективно обосно-
ванному всеобщему: соотнесенность с человеком, которая в эти-
ке и в эстетике способствует полаганию действительной середи-
ны путем гипостазироваиия, с одной стороны,.субъективно пре-
образуется при этом в лжеобъективное центральное положение
человека в универсуме, а с другой — связывает отдельные част-
ные желания и потребности людей непосредственно с самосо-
творенным всеобщим, которое, как предполагается, призвано
дать объективную гарантию их выполнимости. Принцип антро-
поморфизации позволяет установить отношения с бытием-в-се-
бе, а это отношение может — и то лишь приближенно — позво-
лить осуществить принцип дезантропоморфизации.
199
2. ОСОБЕННОЕ КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Такое объяснение отличительных признаков особенного необ-
ходимо, коль скоро мы хотим дать верное представление о его
месте, роли и значении для эстетики — не впадая в заблужде-
ния и не пытаясь преодолеть сложности и передать своеобра-
зие его структуры путем упрощения. И если до сих пор нашей
задачей было — выявить важнейшие общие черты этой катего-
рии, то здесь мы попытаемся осветить — в рамках полученных
результатов — ее специфику, применительно к эстетическому.
При этом снова и в более конкретной форме встает вопрос oö
истоках особенного, о его конвергенции с посредующим звеном,
о его специфическом отношении к антропоморфизации. Мы уже
неоднократно говорили: мир искусства—это мир человека. В нем
проявляется единство субъективного и объективного, то, что
представители объективного идеализма — в своем ложно ори-
ентированном стремлении к объективному пониманию мира —
называли совпадением субъекта и объекта [см. т. 2, с. 189 и ел.].
Но если мы можем утверждать, что некоторые высказывания,
применительно к объективной действительности искажающие
истину, ставящие ее с ног на голову, в эстетике выражают ре-
альное положение дел, то такие утверждения требуют конкре-
тизирующего дополнения, конкретных, определяющих оговорок.
Мир людей — это в высшей степени развитая, наиболее полная
человеческая субъективность, которая при этом может реали-
зоваться только как столь же полная объективность. Можно ли
говорить здесь о совпадении субъекта и объекта? И да, и нет.
Нет, если совпадение субъективного и объективного при тради-
ционном понимании субъекта будет мыслиться только посред-
ством гипостазирования, то есть неверно. Реально существую-
щий субъект всегда противопоставлен объективному, независи-
мо от него существующему миру, всегда является его продук-
том и никогда — творческим принципом его целостности (он
может, конечно, в качестве продукта оказывать воздействие на
объективный мир, видоизменяя его и создавая нечто новое, при
условии, что его бытие-в-себе находит правильное понимание);
его картина мира всегда остается сознательным воспроизведе-
нием в-себе-сущей действительности. Напротив, утвердитель-
ный ответ на этот вопрос будет справедлив, если то, что под-
разумевается под совпадением субъекта и объекта, не будет
трактоваться буквально, однозначно, как процесс прямой и пол-
ной реализации этого отношения. Ибо основное формообразова-
ние сферы эстетического—произведение искусства — может быть
понято таким образом лишь постольку, поскольку в нем реали-
зуется максимум развернутой, очищенной от пустых частностей
субъективности с максимальной объективностью, с максимумом
приближения к объективной действительности через ее отраже-
ние. Однако это совпадение реализуется лишь в таком формо-
200
образовании, которое, с одной стороны, есть нечто изначально
положенное человеком, то есть не является объективной дейст-
вительностью, возникшей в силу собственной внутренней диа-
лектики, а с другой стороны, как таковое содержит в своей
предметной структуре максимум объективированной субъектив-
ности, не обладая тем не менее субъективностью в смысле бытия
субъектом. (Мы подробно остановимся на категориальной сущ-
ности этого своеобразия произведения искусства в следующей
главе [с. 263 и ел.].)
Уже этот формальный характер произведения искусства
обусловливает его ценностно акцентированную срединность, про-
межуточное положение между субъективным и объективным, ко-
торое, с точки зрения человека, то есть антропоморфно, осво-
бождает обе крайности от их одностороннего характера: субъек-
тивность — от ее замкнутости на себе, партикулярности, а
объективность — от ее удаленности от человека. В то время как
произведение искусства как основное формообразование сферы
эстетического реализует органическое единство внутреннего ми-
ра человека с внешним миром, человеческой личности с ее
судьбой в мире — путем отображения, происходит снятие обеих
этих крайних точек в мире человека, человечества. При этом
последнее слово надо особо подчеркнуть. Ибо сколь бы законна
ни была потребность человека в таком единстве, в такой гар-
монии и сколь бы глубокие основания она не имела в самом его
существе, только человечество в целом может разумным обра-
зом объективно стремиться к его реализации, и только оно одно
призвано осуществить ее хотя бы приближенно. Независимое
от человека существование внешнего мира непреложно; и хотя
оно может быть — частично — доступно человеческому позна-
нию и тем самым подчинено человеку, однако, соответственно
самой сущности объекта это может иметь место лишь в форме
бесконечного прогресса, который неизбежно ставит перед ним
все новые и новые проблемы, требующие своего решения.
Внутренняя неистинность и необоснованность гипостазирования
с этой точки зрения состоит в том, что он проецирует реализацию
потребности, реальный базис которой имеет исключительно
субъективный характер, на объективную действительность и,
таким образом, выступает с претензией на примирение внутрен-
него и внешнего мира в самой действительности, на обсолют-
ное подчинение объективного мира субъективным потребностям.
(Тот факт, что человеческая субъективность—через посредство
гипостазирования — может выступать даже как божество, ни-
как не меняет отмеченного положения дел.) Выполнение же
требований гармонии, достижение которой и составляет задачу
произведения искусства, напротив, есть такое отражение дейст-
вительности, которое принципиально отказывается выдавать
себя за реальную действительность. Выполнение - требования
гармонии субъективности и объективности предстает, таким об-
201
разом, как среднее звено между потребностью и ее удовлетво-
рением; оно адекватно показывает как отражение действитель-
ности конкретную, глубоко реальную связь между ними; оно
«утопично», коль скоро не принимает во внимание всех препят-
ствующих случайностей повседневности, и глубоко неутопично,
даже антиутопично, коль скоро пропорции оказываются в гар-
монии, а перспективы взятых в качестве примера связей совпа-
дают с сущностью общественно-исторического движения чело-
вечества.
Гармония, которая складывается и реализуется при этом,
таким образом, не имеет формального характера, как это пред-
ставляется при поверхностно-эстетическом анализе, и не претен-
дует на абсолютность, как это происходит, например, при ги-
постазировании. С одной стороны, она неразрывно связана с
конкретными обстоятельствами данного исторического момента,
с другой — в принципе, по своим возможностям она не исклю-
чает наличия самых острых диссонансов. Эстетически полагае-
мое единство сущности и явления, внутреннего и внешнего, под-
робно проанализированное нами в другой связи [см. т. 2, с. 404
и ел., с. 424 и ел.], обусловливает существование обеих этих
тесно связанных между собой сторон. С точки зрения обсужда-
емой здесь проблемы они задают направление поисков ответа
на вопрос, почему такое своеобразное единство и гармония
должны пониматься в плане господства категории особенного.
Стоит сослаться здесь на гипостазирование — в качестве пока-
зательного контраста, — чтобы стало понятно, что выдвигаемые
при этом претензии на открытие критерия абсолютного для
самой объективной действительности и попытки в сравнении с
ним низвести ее до уровня пустой, обманчивой видимости, в их
мыслительном выражении, ведут к созданию своего рода все-
общего, даже если его трансцендентный характер способствует
появлению столь же неразрешимых антиномий. Напротив, в
эстетическом полагании перечисленные тенденции к единству
препятствуют как возведению всех составляющих его момен-
тов на уровень всеобщего, так и их фиксации на единичном.
Единичное неотделимо от явления; если мышление ориентиро-
вано на сущность, оно должно быть направлено на всеобщее.
Конечно, особенное, как мы видели, несет в себе те определе-
ния и опосредования, которые, с одной стороны, не позволяют,
чтобы процесс обобщения приводил к чрезмерному абстрагиро-
ванию от единичного в явлении, а с другой стороны, способст-
вуют реальному и конкретному подчинению единичного обоб-
щенно разработанной сущности. Но в эстетическом полагании
этому дезантропоморфирующему развитию противостоит тре-
бование созидания его представляющегося непосредственным
единства, ибо в данном случае речь идет о стремлении не к
единству самому по себе, а к единству, соотнесенному с чело-
веком. Тот факт, что эта вторая, новая непосредственность, о
202
которой неоднократно уже говорилось, является специфически
упорядоченной, еще яснее показывает, что целью здесь высту-
пает не мнимое полагание действительности, а «лишь» своеоб-
разный способ ее отражения.
Описанная здесь ситуация ясно показывает, каковы грани-
цы особенного как центральной категории эстетического. Ибо
то срединное положение, которое занимает произведение искус-
ства в его функции создания гармонического синтеза между
субъективностью и объективностью, между сущностью и явле-
нием, показывает, что здесь как всеобщее, так и единичное
должны быть сняты в особенном. Если теперь мы ближе рас-
смотрим некоторые из вышеупомянутых моментов эстетической
структуры произведения искусства, это утверждение станет еще
богаче и глубже. Начнем с часто обсуждаемой исторической
сущности произведения искусства. Следует помнить, что оно
именно в своей исходной значимости необходимо исторично
[см. т. 1, с. 235] в противоположность научным высказывани-
ям, которые в принципе направлены на то, чтобы преобразо-
вать бытие-в-себе действительности в подлинное бытие-для-нас,
причем поэтому конкретные условия генезиса, время и т. д. фор-
мирования этой последней имеют чисто вторичное, дополни-
тельное значение в плане специфически научной ценности. (Тот
факт, что история науки доставляет нам в высшей степени цен-
ные сведения относительно поисков научной истины, социаль-
ной обусловленности ее выражения, распространения и т. д., не
имеет ничего общего с приведенным выше рассуждением.) Но
в области искусства любое его произведение остается во всех
своих существенных моментах неразрывно связанным с истори-
ческим моментом своего возникновения. Натюрморт Шардена
не просто изображает набор определенных предметов, но — и
прежде всего — отношение французского буржуа середины XVIII
века к его собственному окружению; достаточно сравнить его,
с одной стороны, с голландским натюрмортом XVII века, а
с другой — с натюрмортами Курбе или Сезанна, чтобы понять,
глядя на изображения фруктов или посуды, каким историческим
превращениям подверглась повседневная жизнь буржуазного
общества; причем это не похоже на расшифровку рукописей —
значимое художественное содержание дает в данном случае не-
посредственно воспринимаемый ответ. Приведем такой яркий
пример: великая литература, музыка или архитектура еще яс-
нее выражают каждая на своем языке историческую сущность
всякого произведения искусства — именно как произведения
искусства. При этом в специфическом аспекте мы снова прихо-
дим к категории особенного. Обязательность отнесенности к оп-
ределенному времени и месту, hic et nunc, в каждом произве-
дении искусства показывает, что оно не может быть подчинено
категории всеобщего. Но если это hic et nunc становится рупо-
ром той или иной общественно-исторической фазы развития че-
203
ловечества, очевидно, что его единичность не сохраняется как
таковая, но поднимается именно на тот уровень обобщения, ко-
торый может реализовать особенное — и только его — приме-
нительно к отдельным явлениям.
Тот факт, что такое обобщение не является ни произвольным
(ограниченным партикулярностью единичного), ни абстрагиру-
ющим до уровня всеобщего (и следовательно, научным), что
оно фиксирует особенное как общественно-историческую значи-
мость данного места и времени, hic et nunc, обусловлено антро-
поморфирующей сущностью полагания эстетического. Решаю-
щая соотнесенность с человеком, с человечеством ограничивает
его с двух сторон: человеческая судьба всегда цосит земной,
посюсторонний, конкретный характер; и если она должна со-
хранить этой свой характер — именно к этому и стремится ис-
кусство, — тогда она не может подняться до истинно всеобще-
го; бесспорно, из каждой человеческой судьбы, также и из ху-
дожественно преобразованной могут быть сделаны выводы об-
щего плана, однако эти выводы могут быть получены лишь
в дезантропоморфирующем процессе обобщения, а в этом слу-
чае произведение искусства теряет свою эстетическую сущность
и становится «сырьем» для познания. (Именно с этой целью в
предшествующей главе мы приводили отрывки из произведе-
ний искусства, чтобы проиллюстрировать различные психологи-
ческие ситуации). В своем исконно художественном способе вы-
ражения преобразованный мир человека и предметный мир не
имеют такого всеобщего характера .Отражая человека и его
судьбу и сообщая этим отражениям реальность, как символам,
аллегориям, они могут обогатить и углубить отношения челове-
ка к миру в непредставимой иначе, недоступной понятию сте-
пени, могут дать ему на тысячелетия постоянно обновляющееся
общечеловеческое значение; однако эта его значимость остает-
ся ускоренной в конкретных условиях генезиса произведения
искусства, объединяясь — без исключения — с конкретными ус-
ловиями соответствующего субъекта восприятия. В границах
эстетической значимости весьма протяженное всеобщее посто-
янно переходит из человеческого в человеческое, и эта эсте-
тическая атмосфера антропоцентризма не позволяет возникать
какой бы то ни было всеобщности в собственном смысле слова,
которая в реальном процессе преобразования искусства выходи-
ла бы за его пределы. Вместе с тем очевидно, что связь с этим
человеческим не позволяет упустить ни одной детали в ее есте-
ственной немоте, в ее партикулярной ориентированности на са-
мое себя, самообоснованности. Если напряженность эстетиче-
ской значимости развивается от человека к человеку, причем
именно путем преобразования человеческого, соотнесенного с
человеком, в том числе и в предметном мире, то всякое единич-
ное должно выходить за рамки своей единичности, должно поз-
волить так широко обобщить имманентные ему определения,
204
чтобы они были в состоянии стать носителями этой напряжен-
ности. Иными словами, создается атмосфера особенного.
Сущность всякого произведения искусства, заслуживающего
такого названия, проявляется во всех основных эстетических
определениях, которые известны нам из вышеприведенных рас-
суждений. Прежде всего укажем здесь на произведение искус-
ства как интенсивную целостность существенных для его образ-
ного мира определений. В плане дезантропоморфизации и ин-
тенсивная, и экстенсивная целостность есть характеристика
объективной действительности, к которой познание может лишь
приблизиться. Поэтому целостность представляется особого ро-
да требованием для познания, своего рода постулатом. Ленин
говорит: «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить,
изучить все его стороны, все связи и «опосредования». Мы ни-
когда не достигнем этого полностью, но требование всесторон-
ности предостерегает нас от ошибок и от омертвения»33. Это,
конечно, не исключает того факта, что наука и должна по-раз-
ному обрабатывать более или менее конкретные предметные,
относительно замкнутые в себе целостности (организмы, эконо-
мические формации и т. д.); эти целостности, однако, относи-
тельны, как субъективно, так и объективно. Объективно они
находятся в постоянных бесконечных взаимоотношениях с окру-
жающим миром, и тем самым их характер как целостности по-
стоянно релятивируется. Субъективно всякое познание сохраня-
ет упомянутую Лениным чисто приблизительную, постулатив-
ную, требующую постоянной корректировки сущность. Напро-
тив, произведение искусства как объективация эстетического
отражения есть абсолютно замкнутая, завершенная в себе це-
лостность. Мы знаем, что воплощение его предполагает отказ
от передачи экстенсивной целостности мира предметов и отно-
шений, самоограничение интенсивной целостностью определений
в конкретном комплексе предметов и отношений. При этом пре-
жде всего ясно, что подобный отказ, подобное самоограниче-
ние было бы невозможно для познания. В познании было бы
необходимо сконцентрироваться на комплексе предметов, мы-
слительно изолированном, и такая концентрация была бы лишь
чем-то временным; объективно наличествующие явления, опре-
деления и т. д., которые некоторое время не учитываются,
должны рано или поздно включаться в рассмотрение, в против-
ном случае мы совершали бы насилие над объективной дейст-
вительностью, а также и над методологически осознанно выде-
ленным из нее комплексом предметов, искажали их, делали
полностью произвольными. С абстрактной, но именно поэтому
неверной точки зрения во всяком выборе материала для ху-
дожественного произведения, во всяком эстетическом выделении
группы явлений из объективной целостности действительности,
во всяком длительном использовании представляющейся еди-
ничной данности или предметности содержится такой элемент
205
произвола. Однако это так лишь с чисто абстрактной точки
зрения чисто дезантропоморфированной картины мира. При-
менительно к человеку, вскрывая и пробуждая в нем самые
существенные, основные моменты его человеческого существа,,
этот кажущийся произвол полностью исчезает, и тот же самый
комплекс, тот же самый ансамбль получает характер глубоко»
обоснованной необходимости.
Тем самым мы снова оказываемся в области господства осо-
бенного. Интенсивная целостность определений есть в первую
очередь отражение мира человека с точки зрения человека и для
человека. Формируется ли она в своей конкретной содержа*
тельности произвольно или в соответствии с необходимостью,,
решающим образом зависит от того, имеет ли эт;а соотнесен-
ность с развитием человечества центральное или периферийное
значение. (Все вышеизложенное подтверждает, что существен-
ная связь с общечеловеческим может осуществляться лишь на
пути верного отображения объективной действительности.) Уже
поэтому основанием такой соотнесенности, укрепляющей интен-
сивную целостность произведения искусства, не может высту-
пать ни всеобщее, ни единичное, но лишь конкретно определен-
ное, то есть особенное. Таким образом, особенное есть принцип,,
лежащий в основе любой подобной интенсивной целостности..
Этот принцип, однако, пронизывает все эстетическое изображе-
ние, ибо жизненная правда каждой детали, система согласова-
ния— включая сюда и возможную диссонантность — отдельных
компонентов, обусловлена этим центром; как бы необходима ни
была объективная жизненная правда каждой детали, тот факт,
становится ли она стимулом или тормозом при возникновений
и действии такой конкретной целостности, зависит исключи-
тельно от этой детерминированности. Требование целостности
определений можно понять только исходя из этого способа по-
лагания. Мы говорили именно о его интенсивной целостности,
исключая отражение экстенсивной целостности из ряда эстети-
ческих постулатов. Но вместе с тем нельзя забывать о том, что
в самой объективной действительности интенсивная целостность
определений бесконечна, а целостность дезантропоморфирован-
ного отражения может быть понята столь же приближенно,
сколь и экстенсивная целостность. Если, таким образом, эсте-
тическое отражение стремится к эвокации интенсивной целост-
ности, интенсивной бесконечности в отражении конкретного
комплекса предметностей и их отношений, то ясно, что эта
воздействие может осуществляться лишь с помощью замкнутой,
интенсивно реализующейся чувственно-данной системы опреде-
лений, организованной за счет внутренней диалектики осново-
полагающего особенного и реализованной в новой эстетической
непосредственности. Верность объективной действительности не
может быть лишь верностью отдельным деталям, более того,
эти последние должны подвергнуться значительному обобще-
206
нию, чтобы они могли быть собраны воедино, образовать «си-
стему» в принятом выше смысле. Но с другой стороны, эта
«система», ее духовно-чувственное средоточие ни в коем случае
не могут отрываться от конкретной человеческой жизни, ибо
как только происходит такой отрыв, возвышение над ней, вос-
принимающий сразу должен предъявлять требования всеобщно-
сти к произведению, и якобы нашедший свое воплощение в оп-
ределенной форме образ неизбежно становится лишь комплек-
сом фактов — возможно, до некоторой степени организован-
ным, — который либо требует дополнения посредством других
фактов действительности, либо может быть опровергнут ими.
Но тем самым ликвидируется сама сущность, бытие произведе-
ния как такового, его эстетическая положенность: интенсивная
целостность определений, их завершенность на уровне катего-
рии особенного есть лишь философски абстрагированное выра-
жение способности художественно формированного «фрагмен-
та жизни» пробудить эстетическую эвокацию «мира».
Все вышесказанное характеризует, конечно, лишь — чрезвы-
чайно важную саму по себе — формальную сторону проблемы
целостности в искусстве, ее отношение к особенному как катего-
рии. Но чтобы понять ее истинное значение, необходимо выяс-
нить, какова реальная жизненная основа эстетического требо-
вания интенсивной целостности определений, то есть их бытия
в качестве особенного? Ответ не представляет больших сложно-
стей: в то время как целостность категорий объективной дейст-
вительности, ее дезантропоморфированного отражения характе-
ризует исключительно в-себе-сущую предметность или взаимо-
связи (вспомним хотя бы организм), ее соотнесенность с чело-
веком придает ей новый смысл: внутренней завершенности, пол-
ноты. Но связывать его — что напрашивается на первый
взгляд — с чисто формальным характером произведения искус-
ства и тем самым в конечном итоге сводить на уровень тавто-
логии значило бы сужать значение этого утверждения. За-
вершенность есть скорее существенное определение самой жиз-
ни человека, которое именно поэтому должно играть важную
роль в этике. Правда, в исследованиях, посвященных этике —
во всяком случае впрямую, — это проявляется редко; пробле-
матика нравственных постулатов, счастья и т. д. способствует
вытеснению или по меньшей мере оттеснению его на задний
план; и даже там, где — как это нередко мы видим у романти-
ков — раскрытие личности оказывается в центре этики, этот
вопрос обретает свою подлинную значимость лишь в единичных
случаях и часто низводится до уровня безграничного, аристо-
кратически-анархистского индивидуализма. При этом речь идет
о простой жизненной ситуации, которая — пусть даже в боль-
шинстве случаев бессознательно — не может не учитываться в
жизни человека. Гёте говорит, что самый маленький че-
ловек может стать завершенным, если он движется в рамках то-
207
го, на что он способен и к чему готов; но даже и прекрасные
черты затемняются, уничтожаются и стираются, если это необ-
ходимое и непременное равновесие устраняется34. Здесь рас-
сматриваемая нами проблема предстает в своей наивысшей
всеобщности и, освобожденная от узости интеллектуального
аристократизма романтиков, ставится применительно к каждо-
му отдельному человеку. Само собой разумеется, что мы не
можем подробно охарактеризовать этот по сути дела этический
вопрос, не выходя за рамки нашей работы. Лишь вскользь от-
мечая его общее значение и глубину, укажем на проблему
смерти, умирания, где этот момент человеческой жизни — не-
осознанно или осознанно — получает отчетливое и однозначное
выражение. Пожалуй, Толстой глубже всех пережил эту проб-
лему; ответ, к которому он приходит в результате* своих твор-
ческих исканий, кратко можно сформулировать следующим об-
разом: отношение каждого человека к смерти, страх смерти,
овладевающий им или преодоленный, в большей мере зависит
от того, насколько его жизнь была полной, совершенной или
бессмысленной, разрушительно фрагментарной. Платон Кара-
таев и другие толстовские герои из народа находят свой путь
к гармонически совершенной жизни и к смерти как ее необходи-
мому завершению, тогда как Иван Ильич, которого феодально-
капиталистическое общество обрекло на уродливый, противоре-
чащий здравому смыслу образ жизни, и ему подобные испыты-
вают мучительный страх смерти. Пусть философский коммен-
тарий, которым Толстой иногда сопровождает описание жизни
таких персонажей, отмечен печатью вполне определенной ми-
ровоззренческой заданности, — глубочайшая суть его понима-
ния проблемы является земной, посюсторонней и в конечном
итоге глубоко родственной просветительской деятельности Эпи-
кура, гуманистическим тенденциям «Вильгельма Мейстера» и
«Фауста».
Не случайно в большинстве работ по этике эта универсаль-
ная жизненная проблема обходится стороной. Ведь как бы ни
стремилось любое этическое учение выйти за рамки абстрактно
постулативного характера моральности, с одной стороны, и ле-
гальности — с другой, оно не может все-таки прямо подойти к
анализу целостной личности, которая, конечно, и является окон-
чательным источником всякого этически значимого деяния. Но
требования этики всегда выступают как насущные требования
момента принятия решения, момента выбора. Именно в эти мо-
менты создается, формируется, строится, складывается целост-
ная личность или она распадается, разрушается. Однако в прин-
ципе невозможно сделать, саму эту завершенность непосредст-
венным предметом этического решения. Ибо тем самым мы
оказались бы за пределами действительной сферы этического,,
сферы конкретного поведения в конкретном смысле и сделали бы
предметом непосредственной практики то, что может возникнуть»
208
вырасти, сформироваться лишь как результат изначально эти-
ческих актов. Конечно, этические акты имеют телеологический,
характер, конечно, их свойства основываются на самой сущно-
сти, существе действующей личности. Но отсюда отнюдь не
следует, что это обстоятельство можно просто перевернуть,,
превратив результат всей жизни в непосредственно заданную
цель отдельного акта. Продемонстрируем эту сложную ситуа-
цию, которую можно адекватно описать лишь в рамках этиче-
ской системы, на конкретном, важном примере: сущностное
развитие человека в этическом отношении протекает таким об-
разом, что жизнь — и все его основные действия в ней — непре-
рывно ставит перед ним все новые задачи, решение которых
позитивно или негативно стимулирует движение его личности,,
приводящее ее к завершенности, полноте или разрушению. На-
против, возможное представление человека о своей собствен-
ной личности покоится на опыте прошлого и его обобщении, а
также и на желаниях, мечтах, еще не апробированных на прак-
тике. Если бы акт решения, принимаемого человеком, был об-
ращен непосредственно на сохранение, утверждение, развитие
этой существующей в его представлении личности, он мог бы
легко пройти мимо существенно нового в своем решении, затор-
мозить развитие своей личности или вообще исказить его. И да-
же когда останавливаются на конкретном решении, вполне воз-
можно, что взор, чрезмерно погруженный вовнутрь, снизит эти-
ческую ценность самого деяния, вместо того чтобы увеличить ее.
Конечно, с этической точки зрения более ценно и более благо-
приятно в плане совершенствования человека, если он в данной
ситуации просто делает то, что от него требуется, возможно,
даже совершая при этом героический поступок, чем когда он
концентрирует свою волю на том, чтобы проявить героизм. Ан-
типатия, которую испытывал Гёте к принципу «Познай самого-
себя», оправдана и а этом случае; он формулирует глубокую
этическую истину, когда в заключительных строках; «Годов уче-
ния Вильгельма Мейстера» Фридрих обращается к главному
герою с такими словами: «Время было славное, и я готов сме-
яться, когда гляжу на тебя: ты напоминаешь мне Саула, сына
Киса, который вышел искать, ослиц отца своего, а нашел цар-
ство».
Этическое поведение носит практический характер: это сфе-
ра этической реализации также и для совершенствования че-
ловека. Поэтому отношение единичного акта к окончательной-
реализации должно быть в высшей степени диалектически слож-
ным и опосредованным. Здесь мы не можем даже коротко оста-
новиться на этой диалектике: заметим только, что при этом
речь идет не о «бессознательном» характере этического акта.
Подобные акты должны и могут осуществляться по возможно-
сти более осознанно, именно поэтому не включая критически-
охарактеризованную здесь непосредственную ориентацию на
14—102
Ш
собственное совершенствование. Можно в полной мереобладать
•сознанием собственной целостности, совершенства, завершенно-
сти, не стремясь непосредственно выводить отсюда отдельные
«волевые решения. Осуществление таких возможностей, подобно
своду, венчает все способы человеческого существования; и
этот свод простирается над всеми примерами личностной реа-
лизации — от Платона Каратаева до Гёте. При этом речь всегда
идет о реальном, практическом воплощении повсеместно суще-
ствующих человеческих устремлений. Поэтому определения та-
кого поведения имеют глубокие корни во всем богатстве фор-
мы и содержания человеческой практики. Описанное выше от-
рицание здесь какой бы то ни было прямой связи ни в коей
мере не означает ее полного отсутствия. Напротив, именно та-
ким образом она становится еще более глубокой, внутренней.
Ибо показательный характер, демонстративность конкретного
поведения, которое лежит в их основе, уже и есть бытие-для-
нас их в-себе-сущей изначально этической сущности. Посколь-
ку речь идет о сфере практики, причем такой, в которой субъек-
тивный момент фигурирует не только как движущая сила —
как во всякой человеческой деятельности, — но и как решающее
определение, важнейший критерий истинности или неистинно-
сти самих действий и тем самым их предписанности в качестве
образцовых или предосудительности, необходимо возникает опи-
санный выше характер совершенствования, завершенности че-
ловека (или отказа от его осуществления) как «непроизволь-
ный» результат сознательных волеизъявлений. Само собой ра-
зумеется, что этически воплощенная предписанность, образцо-
вость воздействуют на окружающих людей как нечто стимули-
рующее именно такие акты, но этот факт ничего не меняет в
самой их сущности и их связи со стремлением человека осу-
ществлять собственное совершенство и завершенность.
Этот фундаментальный факт человеческой жизни, играю-
щий в ней намного большую роль, чем можно представить се-
бе, обратившись к научной литературе по этике (и практике
вообще), отражает одну из важнейших общественных потреб-
ностей, которую с содержательной стороны удовлетворяет ин-
тенсивная целостность произведений искусства. Говоря об этой
потребности, которая обретает значимость применительно к со-
вершенствованию и завершенности в этике и эстетике, мы фор-
мулируем наши мысли в самом общем виде. Ибо в этической
практике происходит истинная реализация совершенствования;
эстетическая положенность и ее главная форма — произведение
искусства — есть, напротив, такое отражение действительности,
в котором по крайней мере сущностная интенционированность
выбора и понимания предметов исходит из требования совер-
шенства. Вследствие этого возникает кажущееся на первый
взгляд парадоксальным положение: живое этическое воплощение
совершенства необходимо имеет спорадический, отрывочный,
210
часто даже и вовсе неуловимый характер; только изредка в;
массе отрывочных фрагментов выделяются отдельные — образ-
цовые — случаи истинной его реализации. Напротив, в мире
художественного отражения совершенствование достигает все
большей и большей полноты; правда, как в положительном,,
так и в отрицательном смысле. Мы уже неоднократно отмечали
противоречивое единство утопического и антиутопического в,
каждом истинном произведении искусства [см. т. 2, с. 214 и. ел.,
т. 3, с. 202]. Здесь отчетливо выступает единство этих противо-
положностей и их глубочайшая сущностная связь: ни одно про-
изведение искусства не является утопическим, ибо оно может,,
используя свои собственные средства, отражать лишь сущее,,
тогда как еще-не-сущее, грядущее, жаждущее воплощения воз-
никает лишь тогда, когда оно наличествует в самом бытии как
кропотливая предварительная работа, подготовка к будущему,,
как предвестник, желание и стремление, как отрицание непо-
средственно данного, перспектива и т. д. Вместе с тем всякое-
произведение искусства есть утопия сравнительно с эмпириче-
ски данным действительным бытием, которое оно отражает, но«
при этом именно как утопия в буквальном смысле слова, то-
есть отображение того, что всегда есть и чего никогда не бы-
вает. В своем образном отображении действительности искус-
ство дает человеку образец, возвышает всякое его устремление,,
всякое чувство, всякое отношение к природе и обществу, не
уничтожая при этом их реальности, но как раз разворачивая,,
преобразуя ее до уровня имманентно наличествующей в ней,,
глубинно присущей ей завершенности, совершенства. Совершен-
ство, которое в жизни достигается в порядке исключения, вы-
ступает в произведении искусства как «естественное» бытие че-
ловека. Однако, как мы подчеркивали, — это не совершенство в
абстрактно всеобщем смысле, а совершенство конкретно данно-
го, отображаемого hic et nunc человека и его окружения, совер-
шенство его особенного.
Именно в этом и проявляется — в содержательном плане —
смысл внутренней замкнутости, интенсивной целостности, са-
модостаточности на самое себя направленного бытия произве-
дений искусства, причем очевидной становится та социально-
человеческая потребность, которая может быть удовлетворена'
через художественное совершенство формы произведений и
только через него. Чтобы представить эту проблему во всей ее*
полноте, мы должны исходить только из этики. Достаточно бро-
сить взгляд — с точки зрения завершенности произведения —
на жизнь, которую оно формирует и которой оно служит, чтобы:
стало понятным, что эта потребность наиболее очевидным об-
разом проявляется именно в этических актах, однако вряд ли
мы можем сказать, что она отсутствует хотя бы в одном прак-
тическом — отрицательном или положительном — действии че-
ловека: от самого начального периода становления искусства,.
14»
211:
жогда люди стремились воплотить в танце концентрированную
целостность важнейших событий своей жизни (охоты, войны и
т. д.), вплоть до Шекспира, у которого целостность человече-
ской жизни становится уже очевидной именно в этом совершен-
ствовании, и до великих музыкантов и композиторов, у кото-
рых внутренний мир человека, всякое чувство, всякое душевное
волнение получает всю полноту реализации, самопроявления,
не имеющих аналогии в самой жизни.Такая реализация по
своему принципу подчинена господству особенного. Наиболее
явным образом это проявляется как раз в музыкальном преоб-
разовании внутреннего мира: не только специфическая опреде-
ленность выраженного чувства или комплекса чувств выступа-
ет на уровне особенного, но это особенное резко ограничивает-
ся от экстенсивной сферы всего остального; способ реализации
•основывается здесь как раз на этой самодостаточной исключи-
тельности. Но музыка отличается в этом отношении от других
искусств лишь в силу своей выразительности. Коль скоро во
всяком искусстве часть внешнего или внутреннего мира чело-
века становится всей полнотой внутреннего «мира» человека, в
■силу внутренней необходимости и возникает эта интенсивная
целостность, эта особенность каждого из миров, которую отра-
.жает и воплощает отдельное произведение искусства. Одновре-
менно со становлением именно так понимаемого особенного фор-
мируется — о чем уже неоднократно говорилось в другом кон-
тексте — плюралистический характер сферы эстетического
(включая отдельные произведения). Всеобщность эстетического
может реализоваться только благодаря транспозиции ее изна-
чальных установок в сферу понятийного; изначально эстетиче-
ское полагание — произведение искусства, его генезис в твор-
ческом процессе, его вечное обновление в актах восприятия —
должно происходить в сфере особенного.
Лишь такими обходными путями мы можем подойти к свое-
образию особенного как главной, определяющей категории
эстетического. Хотя мы уже достаточно приблизились к этой
проблематике, необходимо вкратце остановиться еще на одной
специфической проблеме, теснейшим образом связанной с выше-
изложенным, чтобы продемонстрировать особенное как эстети-
ческую категорию в ее одновременной тождественности и не-
тождественности дезантропоморфированному особенному. Мы
зшеем в виду проблему типического, на которой мы неодно-
кратно останавливались в иной связи; поэтому здесь мы под-
черкнем лишь те черты, которые характерны для связи типи-
ческого с особенным, чтобы тем самым заложить конкретную ос-
нову для анализа сущности и функции этой категории в обла-
сти эстетического. Как мы видели, тип, типическое есть сущест-
венная форма проявления самой действительности, и поэтому
-ему должна принадлежать определенная роль в дезантропо-
морфном отражении. Итак, исходный пункт остается неизмен-
212
ным: не искусство создает типическое — тем более не та или
иная наука, — но оба они просто отражают независимые от
них факты действительности и делают это в соответствии с те-
ми общественными потребностями,которым они служат. Объ-
ективно это означает, что в единичном как таковом, как оно
существует в действительности и как мы его коротко обрисова-
ли и ниже будем описывать подробнее, уже содержатся момен-
ты обобщения. Причем это субъективно обусловлено, ибо чело-
век— дабы иметь возможность правильно ориентироваться в
окружающем мире — принужден правильно обрабатывать эти
связи, учитывая их видовые различия, их количественный и ка-
чественный аспект. Гёте, одним из первых подчеркнувший зна-
чение особенного, говорит об этой связи единичного со своим
объективно необходимым обобщением иногда даже чрезмерно
резко. Так, в беседе с Римером он утверждает: «Индивидов
нет. Все индивиды суть одновременно и виды (genera); то есть
этот или тот индивид, любой, какой угодно, есть представитель
целого рода. Природа не создает единичного, единственного.
Она сама есть единственное, одно, а единичное часто представ-
лено во множестве, без числа»35. Конечно, отрицание индиви-
дуальности не следует здесь понимать буквально, но эта утри-
рованная формулировка весьма поучительна и позволяет обра-
тить внимание на ингерентность родового самой непосредствен-
ной индивидуальности.
То, что верно для единичного, взятого само по себе, конечно,
выполняется и для непосредственно связанных с ним же отно-
шений и движений. Мы с полным на то основанием говорим не
только о типах людей, но и о типичных ситуациях, типичном
ходе, типичном отношении и т. д. Основополагающее различие
между антропоморфным и дезантропоморфным отражением та-
ких ситуаций следует искать в том, с какими практическими
целями используется знание о них. Если речь идет о познании
объективной действительности такой, какова она есть сама по
себе, то неизбежно возникает максимально возможное обобще-
ние, попытка возвысить типическое до всеобщего, что не может
не вызвать уже описанную нами тенденцию столь энергично
абстрагироваться от единичного и особенного, чтобы в резуль-
тате установить минимальное число типов. Но если самопозна-
ние человека — возвысившееся до познания человечества в вы-
шеописанном смысле, — обобщение, включение единичного в бо-
лее всеохватные связи имеет социально-обусловленную цель,
тогда, с одной стороны, типизация получает плюралистический
характер (вспомним выразительность типов бальзаковских ро-
стовщиков, бюрократов у Толстого или Чехова и т. д.), а с дру-
гой стороны, тип понимается таким образом, что то единство
его с индивидуальным, в котором он выступает в жизни, не
снимается, а, напротив, лишь углубляется. И в то время как
дезантропоморфное отражение постулирует зачастую резко, но
213
тем не менее не полностью исключающую переходы противо-
положность между типическим и нетипичным в людях, ситуа-
циях, процессах и т. д., в антропоморфном отражении возника-
ет плюрализм взаимодополняющих, контрастирующих друг с
другом типов, в основе которых лежит неразрывное единство
единичного с его обобщением, с типическим и, следовательно,
с особенным.
Тем самым проводится четкая содержательная граница меж-
ду дезантропоморфной и антропоморфной типичностью. Однако
это означает лишь негативное определение эстетического приме-
нения к данной проблематике. Ибо, без сомнения, типизация
в жизни, где она составляет необходимую часть познания че-
ловека, и прежде всего в этике, должна склоняться» к описан-
ной здесь множественности типов, установлению их тесных свя-
зей с единичным, естественно, не принимая эстетического ха-
рактера; то, что в ходе тысячелетнего развития искусства эстети-
ческое— путем последействия рецептивных переживаний — ока-
зывает сильное влияние на знание человека, этику и т. д., есть
неоспоримый факт, на анализе которого мы еще остановимся
ниже, но это не имеет ничего общего с тем разграничением, ко-
торое необходимо провести сейчас. Это разграничение облада-
ет применительно к антропоморфированной сфере способностью
фиксировать ту помощь, которую в жизни (куда включается и
этика) при познании типического получает практика; она мо-
жет выражаться в облегчении ориентировки в поведении, фик-
сации определенных типов как образцов или контрпримеров;
таким образом, типическое, понятое через посредство отраже-
ния, есть всегда лишь инструмент самой реальной практики.
И лишь эстетическое полагание сохраняет при отражении типи-
ческого в людях, ситуациях и т. д. свою самостоятельность, но
его своеобразие тем самым не исчерпывается, так как оно стре-
мится, насколько нам известно, к эвокативной фиксации всего
отображенного, а это меняет всю структуру понятия типическо-
го. Во всех других областях — независимо от антропоморфно-
сти или дезантропоморфности их способа отражения, его опо-
средованное™ или непосредственности, направленности на кон-
кретные практические цели — прежде всего вырабатывается
противоречие между типичным и нетипичным. Однако в сфере
эстетического поднявшееся на уровень эвокативного типическое
включается в отображение действительности, чтобы оно могло
воспроизвести и художественно преобразовать формирующийся
здесь комплекс людей и ситуаций, предметов, отношений и дви-
жений как особенный и единый «мир» человека.
Конечно, типическое во всех сферах образует систематическое
единство, иерархию. И если Ленин в своем приведенном выше
высказывании |[см. т. 1, с. 309] противопоставлял типичные с
историко-политической точки зрения положения нетипичным,: а
стойкие эпикурейцы противопоставляли тип мудреца--высоко
214
оценивая его — обычному человеку и т. д., — то все подобные
формулировки никогда не существовали изолированно, сами па
себе, a составляли часть — даже иногда центр или кульмина-
цию— систематической иерархии, претендующей на всеобщую
значимость и применимость ко всей жизни в целом, правда, с
учетом ограниченности определенными историческими условиями,
за счет которых эта необходимость не снимается полностью, но
скорее лишь конкретизируется. Эстетическое полагание также
создает систематическую связь, иерархию отображенных им ти-
пов. Последние, однако, принципиально невозводимы на уровень
всеобщего; их систематика, их иерархия не отрываются от кон-
кретной основы, индивидуальные особенности которой проявля-
ются в произведении искусства. Систематика и иерархия типи-
ческого есть непосредственно эвокативные инструменты формиро-
вания «мира», в котором этот необходимый для человеческой
лрактики порядок, так сказать, органически вырастает —как
-сущность отображенных явлений — из предметной действитель-
ности благодаря ее эстетическому отражению.
При этом то, что во всех прочих формах выступает лишь
как средство для различных видов практики, здесь становится
стимулом художественной эвокации. Тем самым систематика и
иерархия типического получают иную, чем в остальных сферах,
упорядоченность. Общим для них остается стремление к объек-
тивности, то есть попытка соответствующим образом понять
эти существующие в действительности связи и упорядочивать
их согласно практическим требованиям жизни (интересам). Но
в произведении искусства специфические потребности «миросо-
зидающей» эвокации выступают на передний план; они опреде-
ляют особую, однократную иерархию акцентирования, эмфа-
зы, выведения на задний план и т. д., в основе чего лежит тот
комплекс проблем, который и создает такую центрированность
особенного в произведении искусства. Обе эти формы система-
тизации и иерархизации типического не совпадают в своем
конкретном художественном преобразовании; даже когда они
перекрывают друг друга, речь идет преимущественно о погра-
ничном случае. Однако в специфической композиции произве-
дений искусства объективная — социально-обусловленная —
иерархия типов сохраняется в неснятом виде; отклонение от нее
неизбежно приводит к нарушению и искажению художествен-
ной структуры точно так же, как и в жизни, где субъективно
глубоко обоснованное ложное понимание типов на практике
должно привести к сбоям. Эта фактическая правильность дает
вместе с тем лишь содержательную основу для данного кон-
кретного формообразования. Играющие важную роль в форми-
ровании эвокативного конкретная систематика и иерархия ти-
пов определяются специфической сущностью особенного в сю-
жете данного произведения искусства и соответственно могут
оказаться полностью противопоставленными и изначально со-
215
держательному в том, что касается выделения, группировки,
оценок и т. д. Например, в литературе нередко получается так,
что в сложившейся иерархии типов в плане этическом занимаю-
щий более высокую ступень тип становится эпизодической фи-
гурой, поскольку центральный образ является таковым в силу
имманентной диалектики конкретного содержания. Достаточно
сопоставить Горацио и Гамлета, принца Оранского и Эгмонта
и т. д. Это одно из тех противоречий, которые усиливают,
подтверждают конкретное своеобразие, своеобычность произ-
ведения, специфическое, напряженное единство его содержания
и формы.
Из всего этого следует, что особенное есть специфическое
определение типического, отображенного в произведении искус-
ства. В обыденной жизни обобщение знания о людях также
ограничивается особенным, подчиненным конкретным целям; но,
с одной стороны, это вовсе не необходимо, ибо всегда возмо-
жен — действительный или ложный с фактической точки зре-
ния — выход за эти границы; с другой стороны, такая задерж-
ка на особенном есть лишь действие ad hoc, оно возникает за
счет различной степени понимания положения, ситуации той
личностью, которая выносит свои суждения и т. д., и, таким об-
разом, имеет эмпирический и часто даже временный характер.
Напротив, для произведения искусства из этого возникает ат-
мосфера того специфического особенного, в которой и только
благодаря которой систематика и иерархия типов могут полу-
чить конкретное отображение: основу своего эстетического су-
ществования. (Достаточно вспомнить о неоднократно описанной
нами гомогенной посредующей системе, теснейшая связь кото-
рой с рассматриваемой проблематикой не требует более под-
робного разъяснения.) Однако тем самым возникает проблема
«особенного» применительно ко всему «миру», отображенному
в произведении, и свойства типов, их систематика и иерархия
становятся лишь моментом (правда, моментом, имеющим ре-
шающее значение) возникающей таким образом конкретной осо-
бенной целостности индивидуального 'Характера произведения.
На тех проблемах категориального плана, которые отсюда
следуют, мы остановимся несколько ниже. Здесь же следует
указать лишь на то, что «мир», в котором эвокативно выража-
ются эстетические типы и типические связи, не просто проду-
цирует их в силу необходимости каузального характера, как
это имеет место в объективной действительности, где способст-
вующие этому тенденции, даже если значимость их велика,
могут быть лишь отдельными тенденциями в числе множества
других, нередко весьма различных по характеру, накладываю-
щихся друг на друга и тормозящих друг друга; в данном случае
скорее весь этот «мир» образцов изначально накладывается н£
эвокативную значимость диалектики именно данного комплекса
типов. Как уже было сказано, он должен соответствовать объ-
216
ективной действительности; но он концентрирует вокруг нее
один из аспектов ее особенного, правда, особенного примени-
тельно к этому определенному отображенному «миру», и имен-
но так, что все отображенные силы действительности выступа-
ют в своей соотнесенности с этим особым ансамблем, способст-
вуют или препятствуют его становлению, причем это происхо-
дит всегда таким образом, что при этом особенная диалектика
его основных определений проявляется с возможно большей
пластичностью. При всей правильности обобщения как в це-
лом, так и в деталях интенсивная бесконечность и целостность
каждого произведения искусства фиксируется на уровне кон-
кретного специфицированного особенного. Такая сущность типи-
ческого, в том виде, в каком оно всегда выступает в искусстве,
только потому может доминировать над всеми иными видами
полаганий, что «мир», в котором оно фигурирует, в своей це-
лостности получает все признаки особенного.
Если, таким образом, в произведении искусства «мир» кон-
ституируется под знаком особенного, то это значит, что в нем
необходимо должны быть сняты и единичное, и всеобщее, что-
бы они сохранялись и действовали, в их обусловленности жан-
ром, лишь до определенной степени — иначе при всей элемен-
тарности этих категорий правильно воспроизводящее действи-
тельность отражение было бы невозможно, — лишь как момен-
ты доминирующего особенного, уступая ему свои непосредст-
венные категориальные функции как непосредственно форми-
рующие принципы предметности, причем таким образом, что
их сохранение в снятом виде в особенном делает еще более оп-
ределенной их сущность в своеобразных формах, и еще более
способствует раскрытию в ней особенного. Переход всеобщего
в особенное мы уже проанализировали при рассмотрении свя-
зи сигнальной системы V с поэтическим языком [с. 146 и ел.].
Правда, это была особая тема, однако приведенные там поло-
жения подтверждают более общее значение данной связи. Это
можно было бы выразить следующим образом: всеобщее вы-
является в сфере эстетического как важная, зачастую просто
решающая жизненная сила.
Такое представление о всеобщем ни в коей мере не явля-
ется чуждым его внутренней сущности. Если эта категория иг-
рает столь решающую роль в дезантропоморфном отражении
действительности, именно этот момент, без сомнения, и может
выступать поводом к ее исследованию: люди стремятся делать
обобщения, постоянно возводя их на более высокий уровень и
■совершенствуя их прежде всего потому, что они были бы бес-
помощны перед лицом окружающего мира, если бы не были
в состоянии понять и увидеть в деталях этого последнего внут-
ренне присущие ему, всеобщие принципы и использовать их в
своих целях в той мере, в какой они могут ими субъективно и
объективно овладеть. Это господство тем надежнее в целом,
217
-чем оно основательнее со всеми своими необходимыми опосре-
дованиями и чем на более высокий уровень возведено всеоб-
щее. Силы, объективно лежащие в основе такого рода позна-
ния, в том числе и те, что возникают в головах людей благо-
даря такому пониманию — независимо от того, правильно или
неправильно они осознаются, — способствуют непосредствен-
ной соотнесенности искусства с человеком, с человеческими
судьбами. И коль скоро это отношение оказывается в центре,,
а фактуальная или мыслительная сила всеобщего действует
как составная часть, движущая сила и т. д. в конкретных судь-
бах людей — не в человеческих судьбах в общем и целом, а
как сила всеобщего применительно к конкретной судьбе конк-
ретных людей, отношений и т. д., — и происходит такое снятие
всеобщего в особенном. Дело не только в том, что происходит
в случае таких многочисленных научных мыслительных опера-
ций, чтобы всеобщее через посредство более близких ему оп-
ределений сближалось с особенным и нередко даже переходи-
ло в это особенное. Всеобщее скорее сохраняет в таком эстети-
ческом отражении свою сущность; более того, его воздействие
как жизненной силы основывается именно на этой его всеобщ-
ности; однако его проявление, его конкретная значимость •• в
рамках данной композиционной системы зависит от того, сколь
непреложно оно включается в те условия и связи, которые и
составляют содержание данного произведения искусства и тем
самым обусловливают особенность его композиционных реше-
ний. Коротко говоря и исходя из рассмотренной нами выше ка-
тегориальной проблематики, можно утверждать, что всеобщее
и особенное связаны здесь между собой ингерентной связью,
причем, естественно, особенное и составляет основу той суб-
станциальности, которая присуща всеобщему.
Конечно, высказанные нами соображения в первую очередь
относятся к литературе. Но не случайно, что осознание челове-
ком адекватного отражения всеобщего способствовало разра-
ботке лишь одного действительно соразмерного этим функциям
органа — языка. (Поскольку математические обозначения не
играют никакой роли в эстетическом отражении, в данном слу-
чае их можно не принимать во внимание.) И поэтому в своей
стилистической направленности любое произведение литерату-
ры стремится освободить свой язык от этого абстрактного все-
общего и превратить его в средство эвокативного отражения.
То, что мы обычно называем поэтическим языком, по своей
категориальной сущности есть не что иное, как такое снятие
всеобщего в особенном, правда, производимое в условиях спе-
цифической, непосредственно ориентированной на всеобщее
гомогенной посредующей системы языка, причем так, что его
внутренние выразительные возможности, благодаря которым и
происходит эта транспозиция в особенное, определенным обра-
зом искажаются и ослабляются. Упомянутый выше вопрос о
218
том, каким образом мышление посредством аналогии получает
поэтически-метафорическое выражение [с. 151 и ел.], может
в известной мере пояснить сложившуюся ситуацию. Тот факт,
что при этом такие абстрактные эстетические категории, как
ритм, получают важные функции, ничего не меняет здесь, ибо,
как мы видели |см. т. 1, с. 238 и ел.], ритм в поэтическом язы-
ке приобретает ряд весьма специфических свойств, вытекающих
из самой сущности отражения, выраженного языковыми сред-
ствами. Но эта транспозиция простирается лишь до уровня
особенного. Выше в другой связи мы затронули своеобразные
проблемы «немоты» или «проговаривания» единичного в языке
[см. т. 1, с. 44 и ел., т. 2, с. 122], и мы вернемся к анализу этой
проблематики при рассмотрении вопроса о снятии единичного
в особенном. Здесь с точки зрения категориальных форм сле-
дует еще раз повторить, что язык обладает постоянной тенден-
цией к обобщению. Поэтический язык не может стремиться к
уничтожению этой тенденции, не уничтожая при этом и своего
глубочайшего своеобразия. Именно эта диалектика, признание
объективности всеобщего, необходимость его сохранения в
языке и его столь же необходимое снятие при переходе на
уровень частного, особенного гибко и изящно показывает Гёте
в своей беседе с Эккерманом: «Я знаю, — сказал Гёте, — что
вам будет трудно, но восприятие и воссоздание частного и со-
ставляет сущность искусства.
И еще: покуда мы придерживаемся общего, каждый может
под нас подделаться; частное подделать невозможно, а почему?
Да потому, что, другим не довелось пережить того же.
И не надо бояться, что частное индивидуальное не найдет
отклика. В любом характере, как бы отличен он ни был от
других, в любом подлежащем воссозданию объекте, от камня
и до человека, есть нечто общее, ибо все повторяется и нет на
свете ничего, что существовало бы лишь однажды»36. Итак, за-
дача особенного в сфере языка, в гомогенной посредующей си-
стеме поэзии состоит в снятии как единичного, так и всеоб-
щего.
Что касается снятия единичного в особенном в сфере эсте-
тического, здесь необходимо прежде всего отметить черты, об-
щие всем формам отражения. И в первую очередь то, что хотя
единичное в своем исходном, непосредственном способе прояв-
ления содержит все определения своего наличного, конкретно-
данного бытия, что хотя в нем представлены также все его со-
отношения и связи с прочими единичными, однако — в силу не-
обходимой непосредственности его специфической данности —
они присутствуют в нем в неразвернутой, замкнутой в себе
форме, и отсюда с необходимостью следует его вышеупомяну-
тая немота. Снятие возникающей в этой связи его ограничен-
ности— задача научного и эстетического отражения, да и от-
ражение в рамках повседневности также не могло бы выпол-
219
нять своих функций в практической жизни без такого устрем-
ления. Научное отражение, как мы видели, освобождает эти
определения, отношения и т. д. от их непосредственной изоли-
рованности, включает их в объективно правильные особенные
и всеобщие связи и по завершении этого процесса обобщения
ищет пути назад, к правильному пониманию единичного; мы
уже убедились, что цели, возможности и т. д. этого приближе-
ния могут быть весьма различными в зависимости от областей
и задач познания. Эстетическое отражение стремится как раз
к такому развертыванию определений и отношений, замкнутых
в непосредственной единичности. Происходит это посредством
снятия основополагающих препятствий такому развертыванию
в сфере непосредственно единичного и одновременной ориента-
ции этого последнего на включение в новую этически поло-
женную непосредственность гомогенной посредующей системы,
так что значимое для человека бытие-в-себе единичного в этой
новой связи представляется более ясным, воспринимаемым и
понятным, чем это было в исходной его форме. Таким образом,
эстетическое снятие единичного акцентирует момент описан-
ного нами сохранения с качественно иной силой и интенсив-
ностью, чем это происходит в науке и в обыденном мышлении.
Энгельс ясно выразил эту сущность эстетического полагания
в письме к Минне Каутской: «...Каждое лицо — тип, но вместе
с тем и вполне определенная личность, «этот», как выражается
старик Гегель, да так оно и должно быть»37. Еще яснее вы-
ражена эта специфика художественно преобразующего отно-
шения к единичному в приведенном нами выше шутливом за-
мечании Макса Либермана, заявившего одному из портрети-
руемых, что он изобразил его более похожим, чем на самом
деле. Здесь, вероятно, еще с большей очевидностью, чем в слу-
чае всеобщего, выступает тот факт, что единичное ингерентно
своему собственному особенному, причем так, что при этом эс-
тетически данное особенное исходит из той основополагающей
субстанции, к которой принадлежит единичное как ингерент-
ное ей.
При этом мы вновь сталкиваемся с давно известной ситуа-
цией, когда осознание сущности эстетического значительно от-
стает от достижений повседневной практики искусства. Описан-
ный нами способ художественного снятия единичного в особен-
ном мог проявить себя лишь в результате тысячелетних упраж-
нений, но в человеческом сознании он часто выступал как борь-
ба за сохранение своеобразия единичного; и этот вполне оправ-
данный момент мыслительной деятельности, обособляясь, мо-
жет приобрести характер ложных с художественной точки зре-
ния целевых установок, к счастью, в основном в форме теоре-
тических рассуждений. Ги де Мопассан очень интересно рас-
сказывает о том, как Флобер воспитывал из него писателя.
Помимо всего прочего, Флобер говорит: «Приходится достаточ-
но
но долго, достаточно внимательно изучать то, что ты хочешь
выразить, чтобы открыть такую его сторону, которую никто
еще не видел и никто не выражал... Чтобы описать огонь, что-
бы описать дерево на равнине, мы должны наблюдать за этим;
огнем, за этим деревом, пока они для нас не станут иными, чем
любой другой огонь, любое другое дерево... Одним' словом,,
надо показать, чем эта лошадь отличается от пятидесяти дру-
гих, обгоняющих ее или скачущих следом за ней»38. Само со-
бой разумеется, ни Мопассан, ни Флобер не работали по это-
му рецепту; иначе они были бы — даже и не достигнув этой'
нереальной цели в силу одного лишь стремления к ее практи-
ческому осуществлению — давно забытыми третьесортными'
натуралистами. Но нашедшая здесь свое выражение тенденция
поможет нам прояснить истинный способ снятия единичного в;
эстетическом с его негативной стороны; ибо теоретическая по-
зиция Флобера предполагает фиксацию изолированной непо-
средственности всякого единичного и требование бесконечно-
го — и с самого начала безнадежного — поступательного дви-
жения по пути к подлинно художественному изображению, так:
как это движение ориентируется лишь на своеобразные свой-
ства и именно поэтому проходит мимо тех отношений, которые,
собственно, и способствуют развитию этих свойств. Вспомним —
как противоположность теоретической лошади Флобера —
тот корявый старый дуб, который Андрей Болконский в «Вой-
не и мире» видит в различные времена года и в разные пе-
риоды своей собственной жизни. Толстой и не пытается разра-
батывать деталь как таковую в смысле теории Флобера, но-
именно воплощенное в образ отношение к человеческим судь-
бам, в рамках которого этот дуб описывается как безучастный"
уловитель, как бесстрастное средоточие изменений настроения
героя,, и создает во взаимосвязи с его собственными измене-
ниями художественно незамутненный облик самого объекта
изображения.
Конечно, все эти примеры взяты из литературы, и понятно,
что в изобразительных искусствах развитие внутренних эле-
ментов предметности единичного приобретает еще большее зна-
чение, чем в литературе, хотя и в ней нельзя не учитывать
роль взаимосвязей между предметами. Тем не менее этот
процесс не имеет того характера, который навязывает ему
теория Флобера. Так, например, Сезанн в своей художниче-
ской практике подмечает неустойчивость, непрочность отдельно*
взятых единичных деталей, чисто непосредственной конкретно-
сти места и времени, hic et nunc, с такой же ясностью, как и
Гегель с общетеоретической точки зрения в своей «Феномено-
логии духа». Сезанн говорит: «Все, что мы видим, распадается,,
проходит. Природа всегда та же; но ничего из того, что мы ви-
дим, не остается неизмененным. Наше искусство должно дать
ощущение постоянства природы через ее элементы, через ее из-
22Г.
:менчивую видимость. Оно должно показать нам ее вечной»39.
Здесь следует особо подчеркнуть четкость высказываний Сезан-
на относительно того двунаправленного движения, которое по-
стоянно и одновременно осуществляется в художественной прак-
тике. Сезанн стремится придать характер «длительности» явле-
ниям, то есть фиксировать в них и для них определения, выходя-
щие за рамки простых и непосредственных деталей, единичного
в природе, но это происходит «со всеми ее элементами и со все-
ми видимыми ее изменениями», то есть таким образом, что
-единичное не исчезает в длительно существующем, но в своей
единичности остается снято-сохраненным : единичное — нор ма-
тивно-эстетически — снимается в особенном.
Однако механический перенос этой общей истины, касаю-
щейся взаимоперехода категорий в процессе эстетического от-
ражения, на все виды искусств был бы абстракцией и упро-
щением. В нашем анализе мы в принципе останавливались
.лишь на общих проблемах эстетического отражения и не за-
трагивали специфические проблемы отдельных видов искусств,
оставляя их для дальнейших специальных исследований. Од-
нако мы допустили бы серьезные искажения общей картины
эстетического, если хотя бы вкратце не остановились на важ-
нейших случаях возникающих при этом дивергенций, решаю-
щим образом воздействующих на саму сущность эстетического
отражения. Подробное описание этих вопросов мы оставляем
теории жанров; именно так мы поступили уже в ряде случаев
и так же поступим и здесь. Исходным пунктом описываемой
.дифференциации является более глубокое определение этих
категорий. Мы уже подчеркивали их элементарный и всеобщий
характер в формировании и становлении всякой конкретной
предметности и ее отображения в сознании. Теперь конкрет-
ность того или иного отраженного предмета должна быть под-
робнее рассмотрена именно с точки зрения сферы эстетическо-
го. При этом исходным пунктом дифференциации оказывается
то, что было нами обозначено как неопределенная предмет-
ность [см. т. 2, с. 335], причем в том смысле, что в различных
шидах искусств — в силу самой сущности их гомогенной по-
-средующнй системы — различные группы предметов или ас-
пекты предметности с эстетической необходимостью выступа-
ет в определенной или, соответственно, в неопределенной фор-
ме. Это отклонение различных видов искусств друг от друга в
зависимости от того, рассматриваются ли в них различные
комплексы предметов как предметно неопределенные или пред-
метно определенные — причем согласно объективным законам,
з. не в силу субъективного произвола художника, — и позво-
лит увидеть, какие из такого рода отклоняющихся направле-
ний будут представлены в различных видах искусств примени-
тельно к нашей проблематике. Ибо необходимость диалекти-
:222
ческого разграничения и взаимоперехода единичного, особен-
ного и всеобщего сохраняется и во всяком случае элементар-
ным образом осуществляется во всякой определенной предмет-
ности. Напротив, неопределенная предметность в искусстве, как:
мы видели, качественным образом отличается от аналогичных
феноменов в жизни или в мышлении. Она неопределенна лишь
в смысле еще-не-определенности или как максимум — еще-не-
определимости, то есть лишь временно, тогда как неопределен-
ность в отдельных видах искусств есть постоянно присущее им,
окончательно заданное свойство, основа их эстетической значи-
мости. Поэтому она необязательно должна формироваться по-
средством всех элементарно необходимых для определенной
предметности категорий, но от ее соотношения с гомогенной-
посредующей системой зависит, действительно ли эти катего-
рии значимы для нее, и если да, то какие именно из них. Ибо*
эти последние есть уже не прямые и конкретные отображения
объективной действительности, а их эстетически необходимые-
дополнения и завершения — косвенно опосредованные гомоген-
ной системой в ее воздействии на воспринимающих — так или
иначе преобразованной определенной предметности. Тем самым:
эта последняя, как мы уже показали в ином контексте [см.
т. 2, с. 348 и ел.], не превращается в чисто субъективный ас-
пект, но образует скорее неотъемлемую составную часть того-
«мира», через преобразование и завершение которого произ-
ведение искусства и становится произведением искусства. По-
средством этой роли неопределенная предметность данного ви-
да искусства оказывает обратное воздействие на категориаль-
ную структуру определенного в искусстве: будучи в состоянии^
выстроить «мир» индивидуальности произведения, эта струк-
тура должна зависеть от своих конкретных и различных — со-
ответственно видам искусства — взаимоотношений.
Таким образом, все эти вопросы необходимо исследовать,
отдельно, применительно к каждому виду искусства. Начнем
с изобразительных искусств. Как мы уже показали {см. т. 2,.
с. 344], необходимое для всякого произведения искусства един-
ство внутреннего и внешнего получает свой собственный способ
проявления, и только внешнее, прямо включенное в гомогенную
посредующую систему визуального, может и должно обладать
определенной предметностью, тогда как все внутреннее оказы-
вается под властью неопределенного. (Мы указали также и на
то, что непосредственно напрашивающаяся позиция — отрицать
визуальную преобразуемость внутреннего — вольно или неволь-
но ведет к отрицанию миросозидающих возможностей изобра-
зительных искусств.) Отсюда следует, что формирование внеш-
него мира может способствовать в данном случае снятию еди-
ничного в особенном; обобщение же до уровня всеобщего и тем'
самым конкретное снятие всеобщего в особенном никак не мо-
жет произойти на предметах, данных в чисто зрительных про-
223;
явлениях. Правда, в наше время — прежде всего со времен
кубизма — сущность живописи в основном понимается исходя
из необходимо абстрактного всеобщего. Высказывания Сезан-
на о конусе, цилиндре и т. д. как о собственно праформах пред-
метов, изображаемых средствами живописи, стали для таких
теорий чуть ли не «классическими». Интересно поэтому посмот-
реть, что думал сам Сезанн об эстетическом значении этой сво-
ей «теории». В одном из разговоров с Гаске, поясняя ему свои
художественные принципы, он заявляет: «Все, о чем я расска-
зываю вам, конус, цилиндр, вогнутые тени, именно это и есть
мой конек, именно это и дает мне подъем в минуту усталости,
возбуждает меня. Я быстро забываю о них, как только я начи-
наю видеть. И они не должны попасть в руки дилетантов»40. Ко-
нечно, тем самым всеобщее не исчезает полностью из видимо-
то мира; неопределенная предметность в изобразительных ис-
кусствах имеет эстетическую функцию: путем полагания всеоб-
щего как движущей силы человеческого бытия и одновременно
снятия его в особенном достичь завершенности категориальной
структуры, способствовать проявлению в эстетическом отраже-
ния жизненной правды, в согласии с которой внутреннее и
внешнее образуют неразрывное диалектическое единство. Мы
-не считаем необходимым повторять предложенное выше описа-
ние этого явления; достаточно лишь вспомнить, что в возник-
шей таким образом неопределенной предметности должно сло-
житься единство полагания и снятия всеобщего, чтобы комп-
лекс отображенных визуально предметов обрел облик и ха-
рактер особого «мира». Эта единовременность акта полагания
и снятия всеобщего должна быть здесь подчеркнута уже по-
тому, что связь между неопределенной предметностью и все-
общим в изобразительном искусстве превращает их в наибо-
ле подходящее поле действия для аллегорий, для чистого все-
общего, сопутствующего произведению искусства. Гёте, чье оп-
ределение правильного эстетического полагания (в его терми-
нологии: символа) мы уже приводили выше [с. 134 и ел.], в
связи с невыразимым в искусстве, говорит об аллегории: «Ал-
легория превращает явление в понятие, понятие в образ...»41.
Таким образом, здесь берется интенсивная бесконечность це-
лостности как определенной, так и неопределенной предметно-
сти, причем лишь в тех немногих случаях, когда с течением
времени понятийный характер аллегорий оказывается пол-
ностью утраченным, при особенно благоприятных условиях
обе они могут приобрести свои собственные, присущие им ху-
дожественные свойства.
Положение этих категорий в архитектуре совершенно иное.
.Мы будем говорить о характере ее отражения лишь ниже {см.
т. 4, гл. 14, § 2]. Но и не касаясь этой проблематики, легко
увидеть, что в «мире» архитектуры не может возникать никакое
«единичное» в строгом смысле этого слова, что здесь, напро-
224
тив, господствует всеобщее, что структура этого вида искусст-
ва определяется борьбой и соперничеством всеобщих сил при-
роды (закон тяготения, сопротивление отдельных материалов и
т. д.); истинное эстетическое воздействие архитектуры прямо
следует из конкретных противоречий и различий этих всеобщих
сил и их очевидного снятия в их единстве. Эстетическая роль
всеобщего как жизненной силы проявляется здесь еще более
непосредственно, так как архитектура не «подражает» конк-
ретным противоречиям, существующим между этими силами, а
творчески создает между ними такие соответствия, которые в
подобного рода проявлении вовсе не существуют в природе,
где, таким образом, их конкретная борьба позволяет им про-
явиться как силам человеческой жизни и переносит их из чуж-
дого всему человеческому бытия-в-себе в бытие для людей,
для общества. Здесь мы не можем дать подробного, полного
анализа этой данности. Однако нетрудно заметить, что в той
игре сил, которая и составляет сущность архитектонической
композиции, не может быть места единичному. При этом не
следует смешивать деталь (в художественном смысле), кото-
рая, как и всюду, должна присутствовать в эстетическом, с
единичным (как категорией); это последнее предполагает оп-
ределенную относительную зависимость своего наличного, конк-
ретно-данного бытия, которая должна сохраняться неизмен-
ной и в эстетическом формообразовании; но именно архитекто-
нически невозможен такой частичный момент, так как его эс-
тетическое существование здесь полностью зависит от того, ка-
кую функцию он выполняет в рамках целостности.
Однако своеобразие архитектуры состоит еще и в том, что
описанные взаимосвязи должны иметь как эстетический, так и
познавательный характер. Их познание, основывающееся на
дезантропоморфическом отражении, определяет объективно
возможные и необходимые пропорции и т. д. искомого равнове-
сия противоборствующих сил природы, подчиненных целям лю-
дей. Всеобщий характер такого понимания выходит за рамки
обобщения средствами языка, требуя более абстрактного вы-
ражения через геометрию, математику и т. д. Поэтому пробле-
ма единичного в категориальном плане проявляется здесь та-
ким же образом, как и во всяком другом научном познании.
Такая ее разработка неизбежна при всяком архитектурном
созидании; однако с ее завершением мы оказываемся лишь в
преддверии эстетического. Архитектура возникает эстетически
лишь там, где понятые таким образом и практически осуществ-
ленные взаимосвязи обнаруживаются визуально-эвокативным
образом, где в познавательном плане весомо обоснованная
конструкция преобразуется в формообразование конкретного,
визуально-эвокативного, особенного пространства в качестве
определяющего момента его структуры, где ставшие непосред-
ственно наблюдаемыми всеобщие силы природы выступают как
15-102
225
всеобщие силы человеческой жизни. Ясно, что это преобразова-
ние познанного всеобщего в конкретно наблюдаемое, в непо-
средственно визуально-эвокативную действенность означает
именно преобразование всеобщего в особенное. Здесь ингерент-
ная связь всеобщего и особенного становится еще более оче-
видной, чем в других видах искусства.
Ситуацию в музыке следует рассматривать совершенно от-
дельно, не прибегая к аналогии. В данном случае очевидное
отдаление от миметического воспроизведения действительности,,
от подражания ей, насколько это возможно, становится еще
более разительным, чем в архитектуре. Аудитивно-эвокативная
тональная система в музыке не представлена в природе в своем
абстрактном бытии-в-себе. Естественно, этот тональный мир
может быть выражен в соответствии с познавательными мето-
дами физически и математически; значение приобретенного
здесь знания, однако, намного менее тесно связано с музыкаль-
ным преобразованием в эстетическом смысле, чем это имеет
место в архитектуре. В то время как такое познание состав-
ляет объективно необходимую предпосылку всякой архитекто-
нически-эстетической конструкции, аудитивная сущность мо-
жет найти свое выражение в самой его структуре; в истории
музыки известны также случаи, когда подобного рода знание
оказывалось тесно взаимосвязанным с изменением эстетиче-
ских музыкальных принципов. Однако здесь мы можем гово-
рить лишь о возможности, а не об объективной эстетической:
необходимости, как в архитектуре. Различие между музыкой и.
архитектурой проявляется и в том, что общественные потреб-
ности, которые удовлетворяет архитектура, есть элементарные
жизненные потребности — дом есть дом, и он обладает соци-
альной ценностью, даже если интенция, в силу которой он был
создан, не имеет ничего общего с искусством, — тогда как су-
ществование музыки находится в неразрывной связи с ее эс-
тетической сущностью. Здесь было бы ошибочно говорить о
музыкальном китче; китч — это эстетическая категория с отрица-
тельной коннотацией; ведь сдаваемые внаем дома еще в антич-
ном Риме были всего лишь простыми объектами потребления,,
не имевшими ничего общего с архитектурой как искусством.
Проблема категорий в музыке — так же, как и в изобрази-
тельном искусстве, но совершенно противоположным обра-
зом— есть следствие возможного отражения диалектики внут-
реннего и внешнего в специфической гомогенной посредующей
системе музыки и возникающей на этом основании связи опреде-
ленной и неопределенной предметности. Упомянутая противо-
положность изобразительным искусствам возникает здесь в си-
лу того, что в музыке точно определенную форму и конкретное
содержание получают исключительно внутренние ее характе-
ристики во всей их чистоте, тогда как конкретно обусловлен-
ная ее мотивация, относящаяся к внутреннему и внешнему ми*
226
py — не говоря уже о свойствах этого последнего, — может
выступать лишь как неопределенная предметность. К этой не-
определенной предметности едва ли можно впрямую приме-
нить описанные категории; она зачастую колеблется между аб-
страктным всеобщим и частным единичным и, сливаясь в ис-
тинно эстетическом восприятии с определенной предметностью
музыкальной композиции, сама по себе стремится отрешиться
от этого крайнего случая. Сущность определенной предметно-
сти в музыке состоит именно в том, чтобы снять как чисто
единичное, так и пустое всеобщее; она выступает здесь как
средоточие, срединное звено подлинной охватывающей весь мир
и правильно отображающей его, идеально реагирующей на
него внутренней жизни человека. Истинная, действительно со-
размерная ей неопределенная предметность именно поэтому
стремится к такой срединности: именно потому что музыка
приводит в движение глубочайшие струны внутренней жизни
человека и упорядочивает ее, приводя в созвучие с ней самой,
пробужденная гомогенной посредующей системой внутренняя
жизнь должна прийти к объединению с дополняющей ее внеш-
ней неопределенной предметностью, ориентируясь на такое сре-
динное звено. Если мы попытаемся дать категориальное описа-
ние этого процесса, уже в юилу снятия крайней партикулярно-
сти и всеобщности мы вновь встретимся здесь с особенным;
правда, в этой области оно проявляется в более чистой и по-
этому не в столь своеобразной форме, как во всех остальных
искусствах; его преобладание неоспоримо, но вследствие этого
не столь напряженно, как в вышеприведенных случаях. Конеч-
но, противоречия, противоположности, напряженность и т. д.
И в других видах искусств ни в коей мере не обусловлены толь-
ко этим; отсутствие такого напряжения создает, однако, вокруг
музыки особую, только ей свойственную атмосферу и позволя-
ет еще более интенсивно проявиться изначально присущим ей
свойствам.
Таким образом, перед нами выступают общие черты осново-
полагающей категориальной структуры сферы эстетического:
мы знаем не только то, что всеобщее и единичное снимаются в
особенном, но и то, каким образом происходит это снятие. Мы
помним, что при дезантропоморфирующем отражении край-
ности — всеобщее и единичное — представляют собой все даль-
ше и дальше расходящиеся друг от друга точки, но в опреде-
ленный момент все-таки именно точки, тогда как особенное как
посредующее звено есть скорее промежуточная полоса, прост-
ранство, поле. В эстетическом отражении, где особенное пред-
ставляет собой не просто опосредование между крайностями,
но срединное звено в том ценностно-окрашенном смысле," о ко-
тором мы писали выше, средоточие, середину, центр центро-
стремительных и центробежных движений, ситуация коренным
образом меняется. Движение идет уже не от всеобщего к еди-
15*
227
ничному или в противоположном направлении, как это проис-
ходит, когда особенное выступает срединным звеном лишь в ка-
честве посредующего начала. Движение это имеет скорее своим
исходным и конечным пунктом особенное и идет от особенного
к всеобщему и назад к особенному, а также от особенного к
единичному и потом опять к средней точке. Но представляется,
что таким образом возникают непреодолимые трудности для
теории эстетического отражения: а именно трудности точного
определения этой срединной точки. Они, проявляются тогда,
когда мы подходим к структуре теоретического отражения как
к изначально неразрешимой задаче, ибо всякий выбор дол-
жен— с точки зрения эстетического отражения в целом — ка-
заться произвольным; невозможно помыслить такой общезна-
чимый критерий, который позволил бы принять т^т однознач-
ное решение. (Здесь следует вкратце вспомнить о тех трудно-
стях, с которыми столкнулся Аристотель при попытке дать оп-
ределение «середины» в этике [с. 192 и ел.].)
Эту трудность следует особо подчеркнуть для того, чтобы
еще яснее разграничить эстетическое и теоретическое отраже-
ние. Фактически не может быть такого теоретического крите-
рия, и художественное (с абстрактной точки зрения) охватыва-
ет всю сферу особенного; фиксация срединной точки может,
вообще говоря, иметь место сама по себе в любом пункте это-
го пространства. Пожалуй, ситуация выглядит так, как будто
тем самым мы пытаемся лишь обойти эту сложность и перене-
сти ее в сферу иррационалистического и произвольного, а от-
нюдь не даем удовлетворительного решения этой проблемы.
И в самом деле, ограничивая себя областью наших теперешних
общих рассуждений, мы вряд ли будем в состоянии отыскать
хотя бы один конкретный критерий. Однако это не означает,
что наше рассмотрение сводится к иррационалистическому под-
ходу, к произвольному решению, и необходимость этих чисто
абстрактных определений, а также временного полного отказа
от суждения в сфере конкретного должна послужить еще од-
ним доказательством в пользу правильности и плодотворности
такой постановки проблемы в эстетике. Возникшая при этом —
вполне мнимая — трудность неизбежных поисков в особенном
организующей срединной точки для становления процесса от-
ражения действительности и очевидной невозможности ее оп-
ределения на этом уровне и есть своего рода теоретическое
гносеологическое обоснование многостороннего характера эсте-
тически отображаемых «миров», принципиальной множествен-
ности искусств, жанров, стилей, индивидуальных произведений.
Общее рассмотрение эстетики, однако, должно удовлетворить-
ся отрицанием собственного опыта и найти в данном случае ка-
кой-то конкретный критерий. Оно вынуждено ограничиться
вышеприведенным положением о том, что, исходя из этой про-
извольно выбранной средней точки, эстетически полагаемое
228.
снятие единичного и всеобщего в особенном может осуществ-
ляться непротиворечиво, точнее говоря, путем полагания и сня-
тия плодотворных для сферы эстетического противоречий.
Наш анализ был бы более чем поверхностным, если бы мы
видели здесь лишь чисто формальные комбинаторные возмож-
ности. Хотя сейчас мы можем рассматривать этот вопрос пока,
что абстрактно, очевидно, что его истинное содержание опреде-
ляется отношением произведения искусства к действительнос-
ти, способом, ш-иротой, глубиной и т. д. воссоздания в нем свое-
образия действительности. И если подходить к произведению
искусства не с формалистической точки зрения, а с позиций
жизни, нельзя не видеть, что именно выбор средней точки,
центра сферы особенного решает вопрос идейного содержания,
а также подлинно художественного изображения. То, что из са-
мых общих и абстрактных принципов теории отражения не мо-
гут быть непосредственно выведены какие бы то ни было эс-
тетические критерии и принципы, может считаться недостатком
лишь с точки зрения догматики, предписывающей использо-
вать строго формально выведенные правила. Исторически и
теоретически подтвержденный факт множественности искусств,
а также множественности стилей и отдельных произведе-
ний в пределах одного вида искусства получает тем самым фи-
лософско-эстетическое обоснование.
Естественно, попытка систематизировать описанную мно-
жественность выходила бы за рамки настоящих исследований;
в другой связи мы исчерпывающим образом выразили наше
мнение по этому вопросу. Действительно, конкретное осуществ-
ление этой задачи должно иметь место лишь в более конкрет-
ных разделах эстетики, системы искусств, эстетического анали-
за стилей и т. д. Здесь же мы можем позволить себе лишь не-
которые замечания для иллюстрации нашей проблематики, и
эти замечания помогут нам осветить связи чисто принципиаль-
ного характера. Достаточно вспомнить о различии между дра-
матическим и эпическим искусством (особенно в современной
романной его форме). Очевидно, что в драме все образы и си-
туации носят намного более общий характер, чем в эпическом
искусстве; черты единичного в ней намечены гораздо более
скупо, менее детализированы. Всякая индивидуальная деталь
в драме имеет символически-симптоматический оттенок, кото-
рый в эпическом искусстве может и должен быть ей присущ в
значительно меньшей степени. Вместе с тем понятно, что при
этом речь вовсе не идет о каком-то «недостатке» одного из этих
жанров. Конечно, всегда существовали догматики, которые при-
держивались именно таких воззрений. При ближайшем рас-
смотрении, однако, всякий раз оказывалось, что при этом предъ-
являлись либо натуралистические требования к драме, либо
формалистические — к повествовательному искусству; что здесь
не происходит эстетического проникновения в .сущность драма-
229
тического или эпического искусства, ее углубления, а действу-
ют тенденции к окостенению или ликвидации их специфических
форм. Это означает, короче говоря, что драма в общем имеет
тенденцию определить такой центр кристаллизации в особенном
ближе к всеобщему, тогда как для эпоса он в большей степени
смещается в направлении к единичному. То же различие мож-
но установить между классической новеллой и романом, причем
в новелле картина действительности — что сходно с драмой —
ориентируется в направлении большего обобщения.
Конечно, указанная дифференциация все еще носит весьма
абстрактный характер. Здесь явно проявляется тенденция к
изменениям в рамках особенного, однако отсутствует возмож-
ность выработать критерий для определения середины. И дей-
ствительно, если мы сравним драмы Шекспира с трагедиями
Расина, греческую трагедию с современной буржуазной дра-
мой, обнаружим — в рамках установленного теорией жанров
общего различия направленности движения — значительно рас-
ходящиеся тенденции: у Расина точка централизации находит-
ся гораздо ближе ко всеобщему, чем у Шекспира, в современ-
ной буржуазной драме, напротив, она решительно смещена в
сторону единичного. Но даже утверждая это, мы тем не менее
слишком обобщаем ситуацию и остаемся все еще далеки от
истинной конкретности произведений искусства. Ибо мы конста-
тируем таким образом лишь общественно-исторические тенден-
ции; один и тот же писатель в рамках одного и того же жанра
может по-разному определять в отдельных своих произведениях
эту срединную область — причем не только в рамках общего
пространства, но и внутри общих исторически обусловленных
тенденций и индивидуального своеобразия их проявления в
данном жанре; достаточно сравнить, например, «Ифигению» Гё-
те с его «Внебрачной дочерью», не говоря уже о таком ярком
контрасте ей, как «Гец фон Берлихинген».
Итак, перед нами выстраивается целый ряд: общая законо-
мерность эстетики вообще, конкретные особенные законы жан-
ра, историческая дифференциация в развитии отдельных жан-
ров, индивидуализированная система изобразительных средств
отдельных произведений, и лишь на последней стадии может
быть дано конкретное определение центра, середины. Но тем
самым никоим образом не постулируется индивидуалистический
релятивизм. Ибо установленный нами ряд, не полный, а лишь
фиксирующий основные этапы, есть действительно ряд; и по-
скольку он отмечает все более точные и конкретные действен-
ные определения, которые могут получить свое истинное за-
вершение лишь в индивидуальном произведении искусства, по-
стольку эстетика не должна вырождаться в псевдосистему аб-
страктных предписаний и механических правил. Однако она
представляет собой ряд и в том отношении, что в ней действу-
ют те же доминанты, стремящиеся не к обособлению от выше-
230
перечисленных и более абстрактных, а, наоборот, к реализации
своей конкретности в отдельном произведении искусства.
Таким образом, перед нами опять возникает старая загадка
эстетики: мнимая противоречивость того факта, что, с одной
стороны, всякое истинное произведение искусства есть нечто
своеобразное, ни с чем не сравнимое, индивидуальное, а с дру-
гой стороны, оно может стать истинным произведением искусст-
ва, лишь выполняя требования той внутренней закономерности,
которая является составной частью общей закономерности эс-
тетики. Хотя вопрос этот очень стар, лишь у Канта он высту-
пает в той форме, в которой он и приобретает свою значимость
для позднейшей буржуазной теории искусства.
Кант пишет: «В самом деле, каждое искусство предполага-
ет правила, только основываясь на которых и можно предста-
вить себе возможность произведения, если оно должно назы-
ваться художественным. Но понятие изящных искусств не до-
пускает, чтобы суждение о красоте их произведения выводи-
лось из какого-либо правила, которое имеет своим определяю-
щим основанием понятие, стало быть, чтобы оно положило в
основу понятие о том, каким образом возможно это произведе-
ние. Следовательно, изящное искусство не может измыслить
для себя правило, согласно которому оно должно было бы со-
здавать свои произведения. Но так как без предшествующего
правила ни одно произведение нельзя назвать искусством, то
природа в субъекте (и благодаря расположению его способно-
стей) должна давать искусству правила, т. е. изящное искусст-
во возможно только как произведение гения»42. При этом не-
обходимо различать вполне оправданные моменты кантовской
постановки вопроса от иррационалистической, субъективист-
ской тенденции, которая возникает у него и здесь вследствие
его колебаний между метафизическим и диалектическим мыш-
лением. Иррационализм представлен в известном нам учении
о том, что суждения о красоте якобы стоят вне мира понятий.
Когда Кант, таким образом, позволяет природе «давать ис-
кусству правила» — а это есть не что иное, как следствие его
понимания искусства как произведения гения, — то он решает
неразрешимые метафизические вопросы, давая на них ирра-
ционалистически окрашенные псевдоответы. (Мы уже писали
[см. т. 2, с. 278] о том, что природе у Канта придано харак-
терное, расширительное, руссоистское содержание, и, таким об-
разом, его иррационализм не имеет намеренного характера.)
Даже современная буржуазная эстетика не смогла пойти даль-
ше; в качестве примера можно привести Кроче или Зиммеля.
Несмотря на это, в кантовской постановке вопроса о связи
эстетической закономерности и единичного произведения ис-
кусства кроется действительная проблема. Конечно, Кант сам
создает для себя препятствия на пути к ее разумному решению
также и за счет того, что он определяет эстетическую законо-
231
мерность как «правило», причем в этом выражается не только
метафизический характер его мышления, но определенные при-
страстия в сфере теории искусства к феодально-дворянским
учениям XVII—XVIII веков. Проблема осуществления эстетиче-
ских закономерностей в произведениях искусства остается дей-
ствительной проблемой, ибо такое осуществление может до-
стигаться лишь за счет того, что при этом сам закон как бы
возрождается заново, расширяется, конкретизируется; простое
применение эстетических законов к искусству приводит к раз-
рушению эстетической 'сущности произведения. Такое следова-
ние законам в каждом единственном случае указывает, что
особенное остается центральной категорией сферы эстетическо-
го. Ибо там, где всеобщий закон применяется к единичному
случаю, вопрос о значимости может ставиться только в форме
дизъюнкции «или—или»; возможные конкретные отклонения или
модификации должны соотноситься с действием других зако-
нов, пересекающихся с исследуемыми нами, причем в этой ос-
новной структуре не происходит никаких коренных изменений.
Если в течение длительного времени возникают существенные
отклонения, приходится отказаться от старого закона или зна-
чительно перестроить его. В эстетике на поставленный выше
вопрос следует отвечать совершенно по-иному: точное следова-
ние закону есть обычно знак меньшей художественной ценно-
сти, в то время как — это и есть исходный пункт — определен-
ные тенденции, непосредственно противоречащие действующим
правилам, могут привести к исполнению законов в специфиче-
ском, высшем смысле, когда закон толкуется до такой степени
расширительно, что новое его исполнение должно пониматься
как собственное осуществление.
Этой структуре присущи все признаки категории особенно-
го. Движение сверху вниз, от близости к всеобщему в направ-
лении единичного носит характер специфизации определений,
тогда как движение в обратном направлении влечет за собой
лишь тенденцию к обобщению, а не к снятию во всеобщем, ибо
даже самые абстрактные категории этой сферы остаются комп-
лексами богато конкретизированных определений. Охарактери-
зованное нами в другом месте значение ингерентности в эсте-
тике [см. т. 2, с. 704 и ел.] ограничивает строгость протекания
всякого процесса абстрагирования, устанавливает конкретно
определенные связи даже там, где в дезантропоморфическом
отражении они были бы полностью несовместимы. Тот факт,
что в эстетике как философии науки все эти связи должны
быть переведены в мыслительно всеобщее, не снимает значи-
мости этой структуры в области исходно эстетического43. Но
эта категориальная исходная структура сохраняет свое дейст-
вие и в философии искусства, причем здесь роль определения
через специфизацию должна быть качественно значительнее,
чем в других областях. В этой связи заслуживает внимания вы-
232
сказывание Маркса о неравномерном развитии искусства, име-
ющее методологическое значение: «Трудность заключается'
только в общей формулировке этих противоречий. Стоит лишь
определить их специфику, и они уже объяснены»44.
Какими бы сложными ни казались эти проблемы на первый
взгляд, в основе их все-таки лежит упрощающая абстракция,
которая должна быть переведена в конкретное, если мы хотим
правильно понять значение особенного как центральной кате-
гории эстетики. Для понимания решающего различия между
научным и эстетическим отражением необходимо подчеркнуть,,
что то особенное, которое в первом случае выступает как по-
средующее «поле», во втором случае должно стать серединой,,
центром, организующей срединной точкой. Фактически это про-
тивопоставление и в своей первоначальной четко выраженной'
абстрактной формулировке фиксирует фундаментальное разли-
чие. Но для сферы эстетического оно представляет собой лишь
временную абстракцию, носящую предварительный — в целях
более полного понимания — характер, служащую подготовкой
к тому, чтобы правильно понять особенное как организующую*
срединность, среднюю точку. Точнее говоря, речь здесь идет не
о точке в строгом смысле слова, но скорее о центре того про-
странства, в котором происходит движение. Тем самым приве-
денные нами выше рассуждения не меняются в своей основе,,
ибо при всем этом по-прежнему остается в силе тот факт, что
способ формообразования произведения искусства зависит от
того, где располагается это промежуточное срединное прост-
ранство относительно всеобщего и единичного. Конкретизация,,
которую мы теперь осуществляем, состоит лишь в том, что оп-
ределяющий художественное своеобразие выбор такого центра^
одновременно включает в себя и движение вокруг этого центра
в области особенного. Это утверждение говорит лишь о том-
широко известном и всеми признанном эстетическом факте, что
стиль, интонация, тон, настроение и т. д. произведения искусст-
ва в художественном смысле могут оставаться полностью еди-
ными, даже если внутри этого единства царят перепады, пери-
петии, в ходе которых одни моменты произведения в большей'
степени, чем другие, приближаются к всеобщему, а другие, на-
оборот, к единичному, во всяком случае, при условии, что эти
движения осуществляются в рамках той же сферы особенного-
и формально остаются строго и идеально связанными друг с
другом, действуя в рамках противоречивого единства гомоген-
ной посредующей системы жанра, произведения.
Чтобы избежать возможных недоразумений, следует под-
черкнуть, что, придерживаясь такого определения, мы ни в ко-
ей мере не стремимся дать исчерпывающую характеристику си-
стемы движения в рамках произведения. Напротив, здесь мы
говорили исключительно о движении в сфере особенного, а-
именно о движении как в направлении всеобщего, так и в на-
233;
правлении единичного. Весьма важное взаимодействие страстей
в поэзии, их бурные подъемы и спады имеют столь же малое
отношение к сфере наших нынешних рассуждений, сколь и —
тесно с ними связанные — моменты действенной напряженно-
сти в произведениях Микеланджело. Такие явления могут на-
ходиться на том же уровне особенного, но вместе с тем они
совершенно не обязаны обладать этим свойством. Не надо да-
леко ходить, чтобы найти подтверждение этим абстрактным по-
ложениям в художественной практике. Но было бы поверх-
ностным упрощением характеризовать определенное здесь бо-
лее или менее протяженное пространство движения в рамках
особенного просто на основании того, что большая близость
средней точки ко всеобщему приводит к сужению самого про-
странства, а приближение, притяжение к единичному — на-
против — к расширению его. Естественно, возможны и такие
случаи. Вспомним приведенное выше противопоставление Ра-
сина и Шекспира. Но Данте, близость которого ко всеобщему
никто не станет оспаривать, в своем отображении действитель-
ности охватил одно из самых больших среди известных в ми-
ровой литературе пространств ее движения, тогда как значи-
тельная часть современных реалистических романов, которые
по большей части находят свою среднюю точку в направлении
скорее единичного, чем всеобщего, оперирует на несравнимо
меньшем пространстве. (Само собой разумеется, что и здесь
представлены такие существенные исключения, как Бальзак и
Диккенс.) Сходную картину мы получаем, когда говорим о Ти-
циане и Брейгеле, с одной стороны, и об импрессионистах —
с другой. И здесь схематизация была бы столь же опасной и
недопустимой, как и в вышеприведенном анализе, где конкре-
тизированная срединность еще понимается — в порядке подго-
товительной абстракции — как точка. Существенное, конкрети-
зирующее мыслительное приближение к сути искусства состо-
ит в том, что художественная организация «мира» понимается
динамически как система движения, как система напряжений
:й контрастов. Каким образом осуществляется это взаимосоот-
несенное бытие движимых моментов и элементов, обусловлено,
конечно, и в данном случае общественно-историческими причи-
нами, а также жанром произведения и личностью художника.
Общая теория отражения может и должна здесь — чтобы не
впасть в догматизм — постулировать структуру лишь в самом
общем виде.
При этом, конечно, следует отметить, что каждое из этих
пространств и сфер движения должно получить свое строгое
обоснование в мыслительно-художественном единстве соответ-
ствующего произведения. И как бы ни было сильно тяготение
вверх или вниз в случае, если речь идет об истинном произве-
дении искусства, оно не имеет ничего общего ни с риторикой,
открыто ориентирующейся на всеобщее, ни с натуралистиче-
234
ским погружением в единичное. Когда, .например, Диккенс в
некоторых из своих романов характеризует «верхи» общества,
прибегая к сатирическим обобщениям, а «низы» —любовно
описывая мельчайшие подробности их быта; когда в отдельных
крупных композициях Тициана мы замечаем детали, которые —
если их рассматривать изолированно — воздействовали бы по-
добно жанровой живописи, и т. д., то при этом речь идет о
широкой, обусловленной нашим миропониманием области ото-
бражаемого мира, различия и противоположности которой
строго соотнесены между собой мыслительно и художественно
и посредством этих конкретных воздействий взаимно усилива-
ют друг друга, тем самым расширяя содержание произведе-
ния как единого целого, но никогда не снимая его специфичес-
ки особенное во всеобщем или единичном. Как мы видели, эта
область, это пространство, может быть более широким или бо-
лее узким. Однако известная напряженность должна возникать
также и в произведениях, строго настроенных на определенный
тон. Поэтому приведенное выше определение средней точки мы
и назвали абстракцией, носящей предварительный, вводный ха-
рактер. Ибо и в этом случае особые формы отражения состав-
ляют высшее обобщение отображенного содержания. Даже ес-
ли особенное в категориальной системе эстетического отраже-
ния играет иную роль, чем в системе научного отражения, оно
сохраняет при этом все тот же свой объективный, специфиче-
ский и специфицирующий характер, который мы постулировали
при описании научного отражения действительности [с. 183 и
ел., с. 198 и ел.], — а именно, выступает как «поле» опосредо-
вания между всеобщим и единичным. Его значение и функции
в соответствии со своеобразием эстетического отражения изме-
нились, но в его сущностной позиции, в его структуре сохрани-
лось немало общего с вышеописанным. И в этом уже с новой
точки зрения проявляется тот основополагающий факт теории
отражения, согласно которому научное и эстетическое воспро-
изведение есть воспроизведение одной и той же объективной
действительности и вследствие этого лежащие в их основе
структуры — со всеми необходимыми модификациями — долж-
ны так или иначе соответствовать друг другу.
К этому же комплексу проблем относится также и следую-
щее утверждение: что, с одной стороны, объективная, незави-
симая от сознания действительность объективно содержит в се-
бе все три категории (единичное, особенное, всеобщее) и, та-
ким образом, выход отражения за рамки непосредственно еди-
ничного не есть уход от объективности, не «экономия мышле-
ния», не «суверенное творчество» познающего или художест-
венного «Я», но что, с другой стороны, категории обобщения
(следовательно, и категория особенного) не имеют самостоя-
тельного прообраза в действительности, а присущи ей в основ-
ном как постоянно повторяющиеся определения, и поэтому их
235
изоляция, их раздувание в образы, которым приписывается
мнимо самообоснованное существование, есть идеалистическое
искажение сущности и структуры объективной действительно-
сти. Это ясно видел уже Аристотель, полемизировавший с пла-
тоновским учением об идеях.
Если диалектический материализм способствует установле-
нию всеобщих структурных принципов в теории отражения в
области эстетического, здесь речь идет о том, чтобы средства-
ми и методами исторического материализма исследовать исто-
рический ход, историческую определенность искусства. При
этом применяется тот же самый, но постоянно конкретизирую-
щийся метод, выступающий прежде всего в виде потребности
жанра определять формы искусства как фиксацию всеобщих
и поэтому в основных своих чертах постоянно повторяющихся
отношений человека к обществу, а через их посредство —
к природе. В ходе истории эти формы подвергаются значитель-
ным изменениям, обосновать социальные причины и способы
проявления которых и есть задача исторического материализ-
ма. Конечно, как мы неоднократно констатировали, это «раз-
деление труда» не бывает чисто механическим. Эстетическое
отражение вообще и эстетический характер всех конкретных
способов его проявления составляют по существу неразрывное
единство. Таким образом, к настоящему моменту многие из
рассмотренных нами теоретических проблем отражения при-
вели нас к общественно-историческим аспектам, но вместе с
тем не может быть такого историко-материалистического рас-
смотрения искусства, которое не стремилось бы постоянно к
анализу общих проблем отражения. Если вопрос ставится та-
ким образом, то ясно, что индивидуальное исследование от-
дельных произведений искусства есть не что иное, как конкрет-
ное продолжение того же метода; что общее (обусловленное
жанром и эволюционно развивающееся) исследование не про-
тиворечит, как это часто происходит в буржуазной эстетике, ни
общей теории отражения, ни анализу отдельных произведений.
Разумеется, эстетический анализ вовсе не завершается кон-
статацией принятой для данного произведения искусства сре-
динной точки, а точнее сказать, возникающего вокруг нее про-
странства взаимосвязанных между собой движений в рамках
сферы особенного, напротив, здесь этот анализ только начина-
ется. В этой связи, конечно, невозможно продемонстрировать
все задачи и принципы, на которые приходится опираться. Мы
можем лишь вкратце отметить, что задачей всякого анализа
искусства является в каждом конкретном случае конкретное
исследование того, соответствует ли выбор такой точки в гра-
ницах особенного, осуществляемый художником, идейному со-
держанию, материалу, теме и т. д. произведения, либо в плане
адекватности изображения она выбрана слишком высоко или
слишком низко. С этим содержательным вопросом неразрывно
236
связан вопрос о форме, об отношении к законам соответствую-
щего жанра, причем даже в столь поверхностном и беглом пе-
речислении основных задач нельзя не упомянуть, что речь идет
m о простом сравнении «вневременных» законов применитель-
но к отдельным произведениям искусства (как в догматической
эстетике), но о таких вопросах, как проблема оправданности
расширения этих законов в соответствующем произведении ис-
кусства и т. д. И наконец, в отдельных произведениях искусст-
ва как таковых необходимо исследовать то, каким образом
выбор середины, средней точки в широком, отмеченном выше
смысле, обусловливает эстетическую живость композиции и
воздействует на сам процесс формообразования, на детали и
т. д., каким образом последовательность реализации (или ка-
жущееся отклонение от этой последовательности) способствует
или препятствует формированию эстетического единства и жиз-
ненности. То, что категория особенного доминирует во всей
•сфере эстетического, воздействует и на способы исследования
в том методологическом направлении, которое вкратце было
охарактеризовано выше. Хотя здесь транспозиция в область
научно-философской понятийности необходимо удаляет метод
исследования от исходно эстетического, сама структура рас-
сматриваемого материала должна решающим образом воздей-
ствовать на формирование системы категорий, если искусство-
знание действительно стремится соответствовать своеобразию
своего предмета.
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что описанная
нами категориальная структура складывается -спонтанно в си-
лу самой сущности эстетического отражения, а не под влияни-
ем теоретически открытого учения о категориях, но в свою оче-
редь и она не оказывает влияния на это учение. И в этом так-
же проявляется объективный характер таких категорий, оши-
бочность понимания их лишь как чистых продуктов сознания.
Характерно, что даже те мыслители, которым принадлежат
большие заслуги в разработке особенного как категории, прак-
тически прошли мимо его роли в сфере эстетического (и этиче-
ского). История философии свидетельствует, что развитие био-
логии как науки, новые явления в общественной жизни имели
решающее значение для такого рода научных открытий и что
даже такие мыслители, как Кант и Гегель, давш-ие в области
логики и философии науки подробный и плодотворный анализ
значения особенного, почти совсем не обращались в этом пла-
не к описанию и анализу эстетики. Единственное и значи-
тельное исключение в истории эстетики представляет Гёте. Од-
нако применительно и к этой центральной категориальной про-
блематике эстетики справедлив наш эпиграф: «Они не созна-
ют этого, но они это делают». Ибо не только совокупная худо-
жественная практика формировалась и будет формироваться
под знаком категории особенного, но и его постоянное участие
237
в жизни есть существенный момент культуры человечества".
Достаточно сослаться на предыдущую главу, в которой мы
попытались показать, что объективное существование и форми-
рующее воздействие особенного стимулировали развитие соб-
ственных, своеобразных психофизиологических способностей у
людей — сигнальной системы V. Наше эстетическое исследова-
ние не претендует здесь на новизну, но просто в теоретической
форме выражает то, что повсеместно принято в художествен-
ной (и повседневной) практике человека.
Глава 13
БЫТИЕ-В-СЕБЕ, БЫТИЕ-ДЛЯ-НАС,
БЫТИЕ-ДЛЯ-СЕБЯ
1. БЫТИЕ-В-СЕБЕ,
БЫТИЕ-ДЛЯ-НАС В НАУЧНОМ ОТРАЖЕНИИ
Поставив задачу правильного описания и оценки роли и функ-
ции категорий бытия-в-себе и бытия-для-нас в дезантропомор-
фическом и антропоморфическом отражении действительности,
прежде всего нельзя забывать, что их историко-монографиче-
ская характеристика, подобная той, которую автор попытался
дать категориям общего, особенного и единичного, в настоящее
время еще полностью отсутствует. К этой сложности присоеди-
няется и другая, а именно особое положение этих категорий.
Они принадлежат к числу изначальных элементов любой кар-
тины мира, так что ни в жизни, ни в науке или искусстве не-
возможно представить себе никакого акта, содержанием кото*
рого служило бы практическое или теоретическое отношение
человека к внешнему миру и который не основывался бы мыс-
ленно и чувственно на той или иной концепции бытия-в-себе и
бытия-для-нас (хотя, возможно, и не осознаваемой). Здесь мы
видим чреватое серьезными последствиями отличие этих кате-
горий от других, действующих на столь же элементарном уров-
не, а именно с трудом расчленяемое смешение мыслительных и
чувственных моментов в ходе их проявления. Вообще говоря,
и в жизни и прежде всего на начальных стадиях развития нау-
ки и философии лишь незначительное число категорий в их
субъективном восприятии свободно от подобного смешения. Но
уже само это постоянное или спорадическое, внутреннее или
поверхностное смешение компонентов с возрастанием субъек-
тивности выказывает качественные различия, ибо несомненно,
что восприятие, например, причинности очень часто сопровож-
дается сильными аффектами, такими, как аффекты страха или
надежды, однако императивность практического действия уже
на начальных ступенях развития ведет к тонкому дифференци-
рованию между непосредственным наблюдением причинной по-
следовательности соответствующих феноменов и вызываемыми
ими чувствами. Уже охотники каменного века, чьи «представ-
ления о причинности» еще полностью вращались в кругу ма-
гии, умели, например, выслеживать дичь по отпечаткам лап с
точностью, для нас почти непредставимой, и часто делали из
своих восприятий совершенно правильные (причинные) выводы
239
'[см. т. 1, с. 103 и ел.]; а то, что эти выводы, очевидно, не име-
ли формы таковых, не меняет сути дела, так как мы из преды-
дущего изложения знаем, что подобное зачастую случается да-
же в наши дни. Для нас это важно лишь в том плане, что при
отражении и практическом применении категории причинности
►более или менее чистое разделение самой вещи и явлений, со-
провождающих ее восприятие субъектом, не только возмож-
но, но и практически неизбежно; поэтому и научные, и фило-
v€oфcкиe теории относительно рано и -с относительной лег-
костью смогли прийти к объективному осознанию этой катего-
рии. Здесь мы не будем останавливаться на том, что мировоз-
зренческое и чувственно акцентированное расширительное тол-
кование причинности приводило к созданию таких учений, как,
например, учение о предопределении.
Существенно по-иному обстоит дело с чувственным -содер-
жанием категорий бытия-в-себе и бытия-для-нас. Они выража-
ют важнейшее отношение человека к внешнему миру, отноше-
ние, в рамках которого, с одной стороны, ведущую роль для
практики, а тем самым для всего жизненного процесса и для
всего бытия человека играет абсолютная необходимость воз-
можно более адекватно отражать эти категориальные связи,
ко, с другой стороны, возникающие при этом проблемы столь
интимно и глубоко связаны с человеческим существованием в
делом, что потребовались огромные коллективные усилия на
протяжении тысячелетий, чтобы избавиться от заблуждений,
достичь теоретической ясности, чтобы очистить концепцию бы-
тия-в-себе от всех ее эмфатических, мифологических, основан-
ных на гипостазировании и т. п. составных частей. Подобная
высшая степень сложности теоретического становления именно
этой проблемы очевидно не случайна. Такая эмфаза пред-
ставляется вполне объяснимой, стоит только подумать, что ис-
следование и открытие того, что существует независимо от со-
знания человека, то есть само по себе, — гораздо более ясно
здесь, нежели в других областях, — не только выступает преж-
де всего в форме мышления о мире, но изначально лежит в
•основе всякой человеческой деятельности, так что человек, ко-
торого жизнь поставила перед этими вопросами, должен чувст-
вовать, что правильный ответ на них может сыграть решающую
роль для его благополучия, а именно для успеха или неудачи
как его самых обыденных отдельных действий, так и всей его
судьбы; последнее принято было называть «спасением души».
Включение теоретической установки по отношению к дейст-
вительности в круг магических или религиозных идей должно
здесь проявляться особенно сильно.
Если бросить беглый взгляд на способ становления пред-
ставлений о бытии-в-себе в человеческом сознании, то легко
можно понять тот душевный механизм, который осуществляет
в этом направлении связь мышления и эмфазы. Все дело в том,
240
что поздно и с трудом достигаемая истина о том, что вся объ-
ективная действительность обладает общей — непосредственно
в высшей степени прозаической — способностью существовать
независимо от сознания, то есть сама по себе, может получить
признание лишь путем преодоления значительного сопротивле-
ния, и до сих пор еще не обрела его полностью, во всяком слу-
чае в области мировоззрения. Однако мы можем наблюдать рас-
тущее понимание ее в области повседневной практики и в от-
дельных связанных с ней научных дисциплинах; в противопо-
ложность древним эпохам, когда такие коррекции и постановки
проблемы часто сопровождались мыслительной эмфазой
(вспомним о жертвоприношениях, оракулах и т. д.), сейчас
мышление, постепенно освобождающееся от чувственных эле-
ментов, постоянно завоевывает здесь все большие области.
Разумеется, в наши задачи не может входить описание этого
процесса, пусть даже самое схематичное; мы должны ограни-
читься некоторыми аспектами, способными раскрыть специфи-
ку его категориального статуса.
Возьмем тот исторически повсеместно принимаемый на веру
факт, что познание объективной действительности вынуждает
прокладывать путь от явления к сущности, причем отчетливое
диалектическое понимание объективной реальности явлений
достигается относительно поздно. А именно, если каким-то спо-
собом получен образ сущности (безразлично, истинный или
ложный), то непосредственному мышлению человека повсе-
дневности в высшей степени свойственно воспринять эту сущ-
ность как нечто находящееся «за» явлениями, скрываемое, ута-
иваемое ими. Эта структура познания антропологически уко-
ренена настолько глубоко, что в своем явном виде выступает
уже на стадии магии: «силы», на которые маги стремятся воз-
действовать, в их представлении, несомненно, обладают сход-
ными свойствами, то есть скрыты за поверхностью явлений,
на которые тем не менее способны оказывать решающее воз-
действие. Не имея возможности уделить особое внимание
переходам и даже самым существенным узловым моментам раз-
вития, мы должны, однако, констатировать, что религиозное
мышление как Востока, так и античной Греции — после-
довательно приобретавшее все более светский характер — mu-
tatis mutandis исходит из такой структуры действительности,
согласно которой следует найти и выявить подлинное бытие-в-
себе мира, скрытое «за» явлениями. Бытие-в-себе приобретает
эмфатический акцент «более подлинной» действительности, чем
обычный, непосредственно данный мир явлений. Таким путем
необходимо возникает иерархия видов бытия, в которой по-
добным тщательно разработанным сущностям приписывается
реальность более высокой степени, нежели чувственно-непосред-
ственным феноменам мира явлений; следовательно, они стано-
вятся собственным бытием-в-себе, в сравнении с которым ос-
16—102
241
тальной мир может обладать — в лучшем случае — лишь про-
изводной, зависимой реальностью, определяемой и гарантируе-
мой только своей причастностью к подлинной системе сущно-
стей.
Но из того, что построенная таким образом картина мира
обусловлена элементарнейшим желанием целостного человека
ориентироваться в совокупной действительности, что к тому
же практическая и теоретическая потребность в адекватном
познании действительности постоянно и неразрывно связана с
общественными и этическими, мировоззренческими и религиоз-
ными потребностями, возникает кажущаяся непреодолимой отя-
гощенность категории бытия-в-себе эмфатическим переизбыт-
ком чувств, антропоморфными проекциями на объективную
действительность. Как и во многих случаях, здесь, очевидно,
под мифологизированной видимостью происходят мыслитель-
ные процессы, которые — вольно или невольно — ведут к адек-
ватному восприятию действительности, что помогает разработ-
ке предназначенной для этого методологии. В первую очередь
мы имеем в виду отход от непосредственно-чувственных вос-
приятий в направлении непосредственно не воспринимаемых
сущностей. Это отчетливо проявилось в той роли, которую сыг-
рали математика и геометрия в процессе познания. Однако их
прогрессивность сковывается мировоззрением, иногда даже
очень основательно снимается вследствие эмфатического под-
черкивания онтологического (так же, как и причинного) прио-
ритета «сверхчувственных» сущностей по отношению к чувст-
венно-материальным явлениям, вследствие ничем на деле не
сдерживаемого иерархически-причинного отделения непосред-
ственно-чувственного мира от ставших уже привычными и об-
ретших собственное бытие математических понятий и отноше-
ний. Пифагореизм (и прежде всего его рефлексы в поздней ан-
тичности вплоть до магии чисел кабалы) показывает, как пер-
воначально истинное и верное познание путем подобных иска-
жений в сторону эмфатического бытия-в-себе может превратить
научную картину мира в мировой миф.
Конечно, этот процесс, особенно в Греции, проходил не без
борьбы. Уже в учении об атомах Демокрита налицо серьезное
стремление освободить фактическое бытие-в-себе действитель-
ности от всех субъективистских чувственных отягощений и сде-
лать его основанием научной картины мира. Правда, рабовла-
дельческая экономика, в которой непреодолимо отсутствует
плодотворное взаимовлияние между техническим развитием
экономики и естественными науками, препятствовала разверты-
ванию этого наброска до уровня конкретного научного миро-
воззрения, научной методологии и тем самым — до состояния
всеоплодотворяющей движущей -силы всякого познания. Борьба,
не прекращается и тогда, когда у Платона эмфатическое бы-
тие-в-себе — со всеми его мифотворческими последствиями —
242
получает завораживающее истолкование, в рамках которого,
продвигаясь по пути важнейших для последующего развития
мышления открытий диалектических категорий и отношений,
мы приходим к мифическому миру идей. В то время как для
Платона сверхчувственный мир идей призван понятийно рас-
крыть не только сущность явлений, но и их основу, как в ре-
альности, так и вследствие этого в познании, Аристотель оспа-
ривает отделенное от явлений и независимое существование
идей. Эмиль Ласк в своих лекциях точнейшим образом сформу-
лировал квинтэссенцию позиции Платона: «В «Федоне» бук-
вально сказано, что следует не идею считать теневым корре-
лятом действительности, а, наоборот, эту последнюю мыслить
как теневой коррелят идеи. Следовательно, чувственное надо
воспринимать просто как теневой образ, который только ука-
зывает, подражает (|ii|j,r]Giç), участвует (jx&texeiv); служит
душе поводом и стимулом на ее пути к идее. Тем самым здесь
речь идет об отношении прообраза к копии»1. Насколько вер-
но видит Ласк сущность проблемы бытия-в-себе у Платона, на-
столько же слеп он (вследствие своей неокантианской ориента-
ции) по отношению к оппозиции Аристотеля. Он не замечает
всей значимости того факта, что именно Аристотель пря-
мо отвергает самостоятельное существование идей. Аристотель
не только ясно видит, что допущение этого существования вле-
чет за собой научно избыточное и ведущее к заблуждению
удвоение объектов, но он к тому же замечает и критикует ант-
ропоморфирующие тенденции, недопустимые при построении
научных понятий, неизбежно тем самым размываемых. «Дей-
ствительно, утверждают, что есть сам-ио-себе-человек, сама-
по-себе-лошадь, само-по-себе-здоровье, и этим ограничиваются,
поступая подобно тем, кто говорит, что есть боги, но что они
человекоподобны. В самом деле, и эти придумывали не что
иное, как вечных людей, и те признают эйдосы не чем иным,
как наделенными вечностью чувственно воспринимаемыми ве-
щами»2. Когда же мы видим, что в теоретических выводах фи-
лософии Аристотеля опять-таки проявляется тот ход мысли,
который способен привести к раздуванию определения сущно-
стей до статуса самостоятельного существования, мы лишний
раз убеждаемся в том, какой тяжелой работой для человечест-
ва было преодоление антропоморфно-эмфатических мотивов в
осмыслении бытия-в-себе.
Отмеченное нами сопротивление распространяется не толь-
ко как противоположность учению об идеях, но и в границах
его внутреннего самодвижения. Тенденция к обоснованию объ-
ективной необходимости и закономерности мира и его движе-
ний, изменений постоянно пытается выйти за пределы наивно-
стихийной антропоморфизации повседневности и ее верований,
следовательно, содержит определенные моменты, которые па-
раллельны (или представляются параллельными) научному от-
16*
243
ражению, но в конце концов она приводит к несколько более
утонченной и одухотворенной форме антропоморфирующего бо-
готворчества. Подобное пересечение и противостояние антро-
поморфных, персонифицированных высших сил с неличностны-
ми, надличностными — по меньшей мере в основной своей на-
правленности — встречается достаточно рано, задолго до про-
буждения философских интересов.
Уже у Гомера мы находим некоторые места, где Мойра вы-
ступает как сила, превосходящая богов (например, Зевс, скло-
няется перед ней, стремясь спасти своего сына Сарпедона). То,
что при этом снова появляются персонификации, не меняет де-
ла решающим образом, не касается его значения для нашей
проблематики: здесь также налицо регрессивное% движение к
бытию-в-себе, располагающемуся все дальше «за» миром явле-
ний, здесь также выдерживается скрытый, глубинный принцип
бытия более высокого порядка, нежели силы, действующие на
поверхности3. Это удвоение, обусловленное общественным раз-
витием, еще увеличивается с усилением философских попыток
интеллектуального снятия или — как это происходит позже —
интеллектуального спасения первоначальных персонифицирую-
щих мифов. Последняя тенденция отчетливо воспринимается
именно в учении об идеях Платона. Аристотель был лишен
склонности к философскому обоснованию древней мифологии,
скорее для него была характерна, как мы видели, последова-
тельная тенденция к научно-философскому постижению бытия-в-
себе. Тем очевиднее и противоречивее выступает в его общей
системе постоянная тенденция к двойственности.
Кризис античного мировоззрения все более обостряет эти
противоречия. Как мы уже могли видеть в другой связи, у
Плотина эта противоречивость достигает своего — временно-
го— апогея. Так как и в этом случае мы будем вынуждены
удовлетвориться весьма общим указанием, то приведем лишь
резюме плотиновского учения о «Едином», данное Эдуардом
Гартманом: «Выражение «Сущее» неприменимо к плотинов-
скому абсолюту, потому что, во-первых, оно заключает в себе
идею множественности (VI 9,2), а, во-вторых, закреплено за
умопостигаемым в узком смысле слова; в соответствии с этим
«Единое» должно значить нечто стоящее над бытием (V 4,2), не
нуждающееся в бытии (VI 7,38), лишь производящее бытие из
себя (VI 6,13), надбытийное. Еще в меньшей степени «Единое»
может означать интеллектуальное или обозначаться как его
же собственное мышление, так как мышление заключает в себе
совокупность мыслящего, мысли и мыслимого и не может сто-
ять вне потребности до тех пор, пока оно требует мыслимого
и ищет его (V6,1—6; V3,12). Единое находится по ту сторону
мышления, как и по ту -сторону бытия (V7,40); оно не гово-
рит себе «я есмь», потому что отношение экзистенции к нему
неприменимо (VI 7, 38), и даже если бы оно хотело сказать
244
«я есмь сущее», то это не имело бы отношения ни к нему само-
му, ни к сущему (V3, 13). Так как мышление есть умопости-
гаемое движение, или чистая энергия, или жизнь, то «Едино-
му» и в этом должно быть отказано (III 8, 10); равным обра-
зом и в форме, ибо его следует определять как бесформенное,
о котором в рефлектирующем мышлении не содержится ни-
чего (VI 9, З)»4.
Тем самым это движение, предписываЩцее разуму свои соб-
ственные свойства как органу приближению адекватного отра-
жения объективной действительности, переходит все границы:
снятие всех откровенно антропоморфйрующих персонифика-
ций и перенос их в область трансцендентного оборачивания
«безобразностью», которая беспрепятственно сохраняет и да-
же усиливает все их существенные моменты на более высо-
ком уровне антропоморфизации, проецирования субъективности
на объективное. Поэтому отрицание возможности любого вы-
сказывания о бытии-в-себе — это не агностицизм, как позднее
у Канта, а своеобразная форма религиозно-мистического отно-
шения к собственно подлинной «действительности». И при этом
имеется в виду не просто специфическая форма превосхожде-
ния платоновского идеализма, но тенденция, внедрявшаяся не-
зависимо от истории греческой мысли в различные восточные
религии, теологии и философии, которые после смены эллини-
стического мышления христианством продолжали жить в нем
как «негативные теологии» и время от времени приобретали
большое значение (Дионисий Ареопагит, Эриугена, Майстер Эк-
харт и т. д.). Эмфатически воспринимаемое бытие-в-себе тем
самым преображается в невысказываемое «сверхбытие», в абсо-
лютную потусторонность для любого мышления и любых пред-
ставлений, но одновременно это сверхбытие образует первоос-
нову всей воспринимаемой и познаваемой действительности
(natura creans пес creata) как творящая, но не сотворенная
природа; вместе с тем оно является и конечной целью любого
движения в космосе, а тем самым и в человеческой жизни; воз-
вращение к нему образует единственно реальную и достойную
цель: возвращение к исходному пункту,: к несозданной и нетворя^
щей природе (natura пес creata пес creans)5. Неустранимая
невозможность познания перед лицом этого бытия-в-себе —
это, однако, не капитулирующее «воздержание» от суждения,
как у античных скептиков и с весьма существенными измене-
ниями — в современном позитивизме, а поднятая на высшую
ступень патетическая эмфаза: важнейшие мистические течения,
конечная цель которых — фактическое экстатическое восхож-
дение человеческой души к этому (помимо того абсолютно
трансцендентному) божеству, показывают, как превращение
бытия-в-себе в недостижимость может служить причиной вы-
свобождения колоссального переизбытка чувств.
Это непрерывно продолжающееся перемещение бытия-в-се-
245
бе в сферу мистической трансцендентности не всегда, однако,
принимает столь последовательную форму/ А именно, «Единое»
Плотина действует обычно (непосредственно или с помощью
различных опосредовании) на самые значительные философ-
ские и теологические течения в средневековом мировоззрении
как непреодолимая и притягательная сила с точки зрения ме-
тодологии прежде всего потому, что это конечное бытие-в-себе
содержит специфический ценностный акцент в сравнении со
всеми своими производными. Главное направление схоластики,
однако, отклоняется от принципа его абсолютной непознавае-
мости. Это понятно, так как его признание ведет, как уже ука-
зывалось, к «негативной теологии», к мистике, которая необхо-
димо преодолевает религиозно-индивидуалистическим путем
любую церковную иерархию, ибо такая мистика вольно или
невольно устремляется к отрицанию посредующей роли церкви
между отдельным человеком и богом и тем самым отрицает
также идеологические основы церковной власти. Так в теоло-
гии и философии, в первую очередь у Фомы Аквинского, возни-
кает требование — и схоластическое доказательство — доступ-
ности последней и высшей сферы бытия-в-себе (бога) для че-
ловеческого разума: «Даже перед самым тайным разум, и в
том случае, когда он вынужден перед ним склониться, не пол-
ностью теряет свою компетенцию, ибо именно он указывает,
что сверхразумное не есть противоречащее разуму»6. То же
отмечают и другие исследователи: «Вопрос о возможности вос-
приятия трансцендентной истины средствами человеческого по-
знания стоит у Фомы Аквинского на первом месте»7.
Нас здесь интересуют не методологические и теоретико-по-
знавательные сложности этой концепции, не ее расхождения с
ранее представленными направлениями, а только сама кон-
цепция бытия-в-себе. При этом выясняется, что в патетическом
ценностном утверждении «последнего» бытия-в-себе выступает
далеко идущая согласованность воззрений, в других отношени-
ях взаимопротиворечивых. Когда Фома Аквинский провозгла-
шает, что один только бог, как чистое действие, actus purus,
имеет своей сущностью существование, что он весь есть су-
ществование8, то тем самым плотиновское «Единое» лишь пере-
мещается в другую сферу, сферу антропоморфирующей персони-
фикации, и объявляется мыслительно постигаемым, не претер-
певая решительных изменений своей сущностной структуры.
Здесь следует подчеркнуть абсолютную унифицированность
сущности и существования, характеризующую в логической
форме чувственно обоснованную ориентацию этого направления
в целом, если рассматривать его как единое, оставляя в сторо-
не глубокие и теологически весомые расхождения отдельных
взглядов в его рамках. Обоснованность этого теоретико-позна-
вательного приведения к одному знаменателю отчетливее все-
го выявляется, когда мы обращаемся к онтологическому дока-
246
зательству бытия бога, сохранившему свое значение вплоть до
нашего времени. Выдвинувший его Ансельм Кентерберийский,
который предпринял также попытку поднять чувственную эм-
фазу до уровня органически неизбежной основы «теории по-
знания», провозгласив свою известную аксиому «Credo ut in-
telligam» [«Верую, дабы уразуметь], с наивной уверенностью
исходит из иерархичности и ценностной акцентированности по-
нятия существования, и даже все его онтологическое доказа-
тельство основывается на принятии того, что без этого поня-
тия не может быть подлинного совершенства и поэтому суще-
ствование должно быть причислено к самым необходимым свой-
ствам бога как существа совершенного. Буонаюти следующим
образом передает ход его мысли: «Наш разум в состоянии
представить существо, стоящее выше всего другого, что может
быть мыслимо. С другой стороны, возможно также мыслить
что-то независимо от действительности его существования.
Вследствие этого нужно различать, существует ли вещь в
действительности или только в нашем сознании. Далее, неос-
поримо, что подлинное существование — это нечто большее, не-
жели мыслимое существование предмета. Это три основопола-
гающие предпосылки. Из них необходимым образом следует
вывод, что та действительность, которая выше всех представ-
ляемых, не может быть только объектом сознания, но сущест-
вует и сама по себе. Другими словами, невозможно измыслить
подлинно возвышенный принцип, не представив его себе одно-
временно как подлинно существующий, так как в противном
случае в любое время возможно помыслить не менее высокий
принцип, существующий в действительности и благодаря это-
му способный занять еще более высокую ступень. Если бы
высшее из представляемых существ существовало только в со-
знании, то именно благодаря этому его свойства были бы тако-
вы, что можно было бы представить и более высокое существо,
но это было бы противоречием»9.
Эта онтологическая связь совершенства и существования
лежит в основе всех доказательств бытия бога, представлен-
ных Фомой Аквинским как неоспоримая и выверенная аксио-
матика. В согласии с определенными идеалистическими тен-
денциями Аристотеля и продолжая эти тенденции в описанном
здесь направлении, из невозможности для относительных или
хотя бы лишь связанных с относительностью определений пред-
ставлять нечто окончательное (подлинное бытие, истинное бы-
тие-в-себе) делаются выводы того типа, что, к примеру, при-
чинность самоуничтожается, если ее нельзя возвести к перво-
причине, или что наличное бытие случайного понуждает дух
к выводу о существовании необходимого, постоянного и т. д.10.
Во всех этих (и сходных с ними) умозаключениях нетрудно
увидеть, как наблюдения и констатации, происходящие из
жизненной практики, из научной деятельности, которые на сво-
247
ем месте, то есть относительно, могут быть правильны и прог-
рессивны, искажают сущность познания, будучи перемещены в
абсолютизированную духовную атмосферу. Ибо разумеется,
что любое стремящееся к правильности познание действитель-
ности констатирует различия причинности по важности или
степени поверхностности, по противопоставлению случайного и
необходимого и т. д. При этом в интересах познания должна
устанавливаться иерархическая упорядоченность. Если, одна-
ко, как в данном случае, дифференциация призвана не только
упорядочить факты действительности, бытия-в-себе, но и уста-
новить внутри этой иерархии в некотором феномене, взятом
относительно, момент абсолютности, в котором, мыслимом как
абсолют, всякая относительность представляется исчезнувшей,
то из этого необходимым образом возникает метафизика, в ко-
торой «Последнее», конечно сущее, возводится в ранг транс-
цендентного супремата, не обосновываемого ни логикой, ни
опытом, и тем самым теряет всякую прослеживаемую связь с са-
мой действительностью. Формалистская софистика в рассматри-
ваемых умозаключениях приобретает видимый облик досто-
верности только благодаря вызывающим ее эмфатическим по-
требностям, так же как и благодаря осуществляемым эмфати-
ческим переживаниям.
Неудивительно, что науки, стремительно развивавшиеся в
эпоху Возрождения, и в первую очередь естественные науки,
должны были решительно ирадикально отмежеваться от тако-
го рода антропоцентрического, чувственно отягощенного миро-
воззрения и метода мышления.
Здесь нашей задачей не может стать более детальное рас-
смотрение даже самых значительных этапов совершившегося
переворота; нам тем легче от этого отказаться, что во второй
главе этой работы [см. т. 1, с. 141 и ел.], хотя и относительно
кратко, описывалось распространение дезантропоморфирующих
тенденций этой философии, самым тесным образом соприкаса-
ющихся с оппозицией средневековым концепциям бытия-в-се-
бе. Следовательно, дело только за тем, чтобы дать общий об-
зор результатов этого развития с точки зрения новой концеп-
ции бытия-в-себе. В самой сущности научного способа рассмот-
рения, все в большей степени сознательно пользующегося свои-
ми собственными методами, заложено то, что вопрос об объ-
ективности мира во все большем масштабе освобождается от
своего эмфатически-субъективного характера; и в таком же
масштабе концепция объективности очищает свое отражение от
всех субъективных побочных моментов, развиваясь до уровня
скромной и прозаической констатации того, что объективность,
бытие-в-себе означает независимость существования от созна-
ния человека. Точно так же, как коперниканским переворотом
в естествознании Земля, родина человечества, была удалена из
центра космоса, прервалась и связь бытия-в-себе с субъектив-
248
ными чувственными потребностями; Земля и человек заняли в
мыслимом и действительном универсуме объективно отведенное
им место. Эта дезантропоморфизация научного и философского
способа рассмотрения повсеместно способствует секуляризации
мышления; при этом не только окончательно разрывается со-
единение философии и теологии, начавшее казаться сомнитель-
ным еще в средние века, не только осуществляется поворот
все более осознаваемой в рамках философии научности против
тех теорий и методов, которые отстаивали описанное нами эм-
фатическое возвышение обретающего трансцендентность бытия-
в-себе, но и подвергается уничтожающей критике идентифика-
ция сущности и существования, ценностное акцентирование оп-
ределенных видов бытия и т. д. Вместе с тем вопрос о бытии-в-
себе все решительнее развивается в направлении теории позна-
ния научного отражения действительности. От методических
сомнений Декарта через критику «идолов» Бэкона, через гео-
метрические методы Гоббса и Спинозы и т. д. этот путь в ко-
нечном счете приводит к диалектическому определению подлин-
ной объективности и к ее по возможности соответствующим мо-
делям, бытию-в-себе и бытию-для-нас, причем, как мы вскоре
увидим, точное разделение объективности и субъективности в
чисто теоретико-познавательном отношении идет параллельно)
с признанием их взаимовлияния, с их реальным взаимоперехо-
дом на практике и в фиксирующей и стимулирующей эту прак-
тику теории.
Разумеется, это развитие отнюдь не однозначно. С одной
стороны, в настоящую борьбу с отмеченной выше линией про-
гресса научности и последовательной дезантропоморфизации
вступают представители старых теологических и теологически
окрашенных воззрений; останавливаться на этом мы не будем,
так как их идеологическая оборона реализуется как эклектиче-
ская смесь вынужденных соглашений с новым и элементов но-
вой реакции и предпринимается для того, чтобы, несмотря ни
на что, хоть как-то сохранить свои первоначальные позиции.
С другой стороны (и в основном) с изменением условий разви-
тия науки и философии возникает новый метод идеологическо-
го насыщения религиозных потребностей. Его суть состоит в
полном игнорировании бытия-в-себе, имеющем целью предста-
вить данную материальную действительность лишь как мир яв-
лений, отрицать любую философскую концепцию познания того,
что выходит за его пределы, что относится к объективной дей-
ствительности, и создать из возникшего таким путем радикаль-
ного агностицизма поле для сохранения религиозной веры. Это
направление, последовательным представителем которого был
Беркли, представляет своеобразное обновление и модификацию
теории «двойственной истины», которую в свое время выдвига-
ло латинизированное учение Аверроэса. В обоих случаях речь
идет о попытке примирить научную истину с религиозной верой,
249
в то время как жизнь непрестанно производит их непримиримые
противоречия. И хотя конкретное сходство кладет конец этой
общей родственной проблематике, конкретно же решаемые про-
блемы и практически, и методологически расходятся весьма
значительно. Для аверроизма католическая вера, подрываемая
развитием науки, была материальной и духовной силой, кото-
рой он вынужден был идеологически довольствоватья. Так воз-
никла формулировка «двойственной истины»: «Что верно для
философии, может быть ложным для теологии, и наоборот»11.
Перед философией нового времени предстает качественно
иное состояние проблемы. Здесь непоколебимой общественной
исходной точкой является потребность капиталистической ин-
дустрии в безграничном распространении естественных наук.
Следовательно, никакая теория познания не может рассчиты-
вать на длительность своего воздействия, если она хотя бы по
внешнему виду сковывает это развитие. Тем самым она долж-
на быть поставщиком обоснования практически применимых и
достаточно объективных для практики естественнонаучных
результатов. Она делает это (самым последовательным обра-
зом— у Беркли), полностью элиминируя бытие-в-себе из сферы
научного познания и утверждая, что «свободная от метафизи-
ки» объективность может быть построена лишь в том случае,
если она будет гарантирована рядом категорий с заранее за-
данным будто бы чисто антропологическим характером, подоб-
ным, например, причинности как привычке у Юма. Мир бытия-
в-себе (без возможной научной критики самого его наличия)
передается все более бессодержательной вере, которая при та-
ких условиях может быть любой, а не только ортодоксально-
католической, как в .средние века. Эта область совершенно сво-
бодно действующей субъективности выступает как необходимое
противопоставление философскому исключению бытия-в-себе
из сферы научного познания. (В этой связи здесь не представ-
ляется возможным хотя бы наметить исторические связующие
нити между учением о «двойственной истине» и современным
агностицизмом. Заметим лишь, что изменение общественного со-
держания, на которое здесь падает основной акцент, появляет-
ся уже в дебатах по поводу астрономической системы Копер-
ника. Как Осиандер в предисловии к труду Коперника, так
и кардинал Беллармин в своем отношении к учению Гали-
лея признают истинность новой теории в той мере, в какой
она представляет более удобный и наглядный метод матема-
тического выражения движения звезд, но решительно отверга-
ют ее, как только она высказывается о реальности (о бытии-в-
себе), признавая здесь компетентность только Библии12.
У Канта эта противоречивость достигает высшего интел-
лектуального выражения. Именно Кант энергически отклоняет
решения Беркли, столь удобные и обещавшие максимум ин-
теллектуального комфорта; воззрения Беркли он определяет
250
как «скандал для философии и общечеловеческого разума»13.
Тем самым возникает новое и чреватое последствиями для раз-
вития философии понятие бытия-в-себе. «...Нам даны вещи как
вне нас находящиеся предметы наших чувств, но о том, како-
вы они сами по себе, мы ничего не знаем, а знаем только их
явления, т. е. представления, которые они в нас производят,
воздействуя на наши чувства. Следовательно, я, конечно, при-
знаю, что вне нас существуют тела, то есть вещи, относительно
которых нам совершенно неизвестно, каковы они сами по себе,
но о которых мы знаем по представлениям, доставляемым как
их влиянием на нашу чувственность и получающим от нас на-
звание тел, — название, означающее, таким образом, только
явление того неизвестного нам, но тем не менее действительно-
го предмета»14. Даже если эта концепция в своих обществен^
ных следствиях служит тем же потребностям, из которых воз-
никли философские системы Беркли и Юма, даже если взгля-
ды Канта, утверждавшего, что мы можем (более того, долж-;
ны) лиш'Ь мыслить вещи в себе, но никогда не будем в состоят
нии их познать, представляют собой всего лишь колебание
между идеализмом и материализмом, содержащаяся в них фор-
мулировка бытия-в-себе означает тем не менее поворотный
пункт в истории проблемы. Разумеется, это был поворот толь-
ко в аспекте чисто категориального определения, ибо гносеоло-
гическое отрицание Кантом познаваемости «вещи в себе» ста-
вит его — в том, что касается выводов — в один ряд со столь
решительно опровергаемым им Беркли. Тем важнее для нас
его отношение к бытию-в-себе. А именно, с одной стороны, оно
теряет всякую эмфатическую чувственную нагрузку (однако мы
увидим, что в этике и философии религии Канта она возвраща-
ется в новых формах и с новым содержанием), с другой сторо-
ны — и в тесной связи с этим — содержательная отнесенность
понятия редуцируется до скромной, но решающе важной кон-
статации: бытие-в-себе означает просто существование, незави-
симо от того сознания, которое им аффектируется и в котором
благодаря этому возникают восприятия и представления. Здесь
получает выражение философское развитие нового времени, ког-
да бытие-в-себе — это уже не ценностно акцентируемое послед-
нее бытие, бытие «за» физикой, как это было в античности и в,
средние века, а всего лишь простое признание объективности
материальной действительности. Вместе с этим изменяется и
метод рассмотрения. И если ранее, до Канта, постулировалось
непрерывное «очищение» бытия, взятого в плен чувственным,
с целью достичь той его формы, которую действительно
можно рассматривать как в-себе-сущую, самодетерминиро-
ванную, как causa sui, чтобы тем самым открытие подлинного
бытия-в-себе знаменовало завершенность философской систе-
мы, увенчивало ее, то теперь вопрос о бытии-в-себе, ставший
чисто гносеологическим, составляет начало любого философ-
251
ского исследования и ограничивается проверкой объективно-
сти, независимости объекта от познающего субъекта, и не бо-
лее (но и не менее) того.
Коль скоро проблема ставится таким образом, то ее форму-
лировка у Канта выступает отчасти как весьма противоречивая
и двойственная, отчасти же — как служащая стимулом к даль-
нейшему развитию; в этом отношении она никоим образом не
являет конечного основания философии, «коперниканского пе-
реворота», как это изображается неокантианством. (Неокан-
тианцы в стремлении полностью удалить из философии про-
блематику вещи в себе сближают Канта с Беркли и Юмом.
В период империализма практическое влияние всех трех мыс-
лителей оказывается в высшей степени сходным, если абстра-
гироваться от несущественных нюансов.) Большая заслуга
Канта — редуцирование бытия-в-себе до констатации независи-
мости объекта от познающего сознания — становится благода-
ря этому проблематичной, а теоретико-познавательное отрица-
ние познаваемости бытия-в-себе предстает просто реакцион-
ным. После парадоксальной попытки Фихте снять вещь в себе
и растворить ее в «Я», бытие-в-себе как объективное и позна-
ваемое появляется прежде всего у Шеллинга, хотя и без ра-
ционального обоснования. Только Гегель — в острой полемике
с кантовской теорией познания — возвращается к плодотворно-
му философскому стимулу Канта и рассматривает бытие-в-се-
бе как нечто абстрактное, выражающее независимость объек-
та от субъекта (и, добавляет он, исходя из Канта, от других
объектов). Так бытие-в-себе становится «лишь абстрактным и,
следовательно, внешним определением». Гегель издевается над
тем, что эта «очень простая абстракция» выступает у Канта
как «очень важное определение, как бы что-то изысканное, так
же как положение о том, что мы не знаем, каковы вещи в се-
бе, признавалось большой мудростью».
Гегель присовокупляет к этому собственные воззрения по
данному вопросу. «Вещи называются вещами-в-себе, посколь-
ку мы абстрагируемся от всякого бытия-для-иного, т. е. вооб-
ще поскольку мы их мыслим без всякого определения, как нич-
то. В этом смысле нельзя, разумеется, знать, что такое вещь-
в-себе. Ибо вопрос: что такое? — требует, чтобы были указаны
определения; но так как те вещи, определения которых следо-
вало бы указать, должны быть в то же время вещами-в-себе,
т. е. как раз без всякого определения, то в вопрос необдуман-
но включена невозможность ответить на него или же дают
только нелепый ответ на него. — Вещь в себе есть то же самое,
что то абсолютное, о котором знают только то, что все в нем
едино»15.
Последняя фраза в концентрированной форме содержит од-
новременно блестящую критику догегелевских попыток диалек-
тически подойти к бытию-в-себе. От Николая Кузанского до
252
Шеллинга диалектика предпринимала огромные усилия, чтобы
адекватнее, нежели другие системы мышления, определить бы-
тие-в-себе посредством формулирования противоречий и сня-
тия их в синтезе высшего порядка. Но так как при этом в
единстве противоположностей высшего порядка сглаживались
все конкретные определения действительности и мышления, то
диалектика воспроизводила ту безвыходную для познания
ситуацию, которую мы видели у Канта. Разумеется, нельзя тре-
бовать от Гегеля прозорливости, позволяющей увидеть, что
здесь все дело в непреодолимом для идеализма противоречии.
Несмотря на правильность его полемики против диалектики
шеллингианского типа, как завершение его собственной систе-
мы появляется тот же тупик, в особенности в «Феноменологии
духа», где снятие отчуждения фигурирует как снятие предмет-
ности вообще, то есть как та же безнадежность для познания,
что и у Николая Кузанского, Канта или Шеллинга, только на
более высоком уровне, так как Гегель на пути к абсурду про-
ходит значительно большие области рационализма и прибли-
жается к открытию важных закономерностей16.
Это последнее столкновение философского идеализма (даже
в его гегелевской интерпретации) с проблемой бытия-в-себе не
означает, однако, что Гегелю не удалось достичь дальнейших
этапов развития и прояснения этой проблемы ни в чем, кроме
упомянутых выше моментов. Уже в цитированном выше выска-
зывании он, следуя своему обычному и многократно оправдан-
ному пристрастию к высвобождению философских определений
из плена их словесного выражения, указывает на двойствен-
ность смысла слова «бытие-в-себе»: «Но нечто имеет также оп-
ределение или обстоятельство в себе (an sich) (здесь ударение
на «в») или в самом себе (an ihm), поскольку это обстоятель-
ство есть в нем (an ihm)».
Далее он непосредственно касается языкового употребления
как еще неясного, но часто подразумевающего истину прибежи-
ща мысли: «Выражения «в нем ничего нет», «в этом что-то
есть» имеют, хотя и смутно, тот смысл, что то, что в чем-то
есть, принадлежит также и к его в-себе-бытиюу к его внутрен-
ней, истинной ценности»17. Уже само подчеркивание этого двой-
ного смысла «в-себе-бытия» показывает, что для Гегеля не
могло быть ничего полностью неопределенного. Хотя опреде-
ленность кроется в абстрактном бытии-в-себе еще в неразвер-
нутом виде, она в нем все же наличествует, и ее следует толь-
ко диалектически извлечь из него и раскрыть. Следовательно,
у Гегеля — невзирая на зачастую противоречащие такой кон-
статации идеалистические тенденции — мы находим по мень-
шей мере начала концепции, согласно которой предметность
рассматривается как первичное, врожденное свойство любого
сущего. Это воззрение проявляется в необходимой связи между
вещью в себе и ее свойствами: «Следовательно, вещь-в-себе,
253
как выяснилось, есть по существу своему вещь в себе не толь-
ко в том смысле, что ее свойства — это положенность внешней
рефлексии, но они ее собственные определения, в силу которых
она действует определенным образом; она не лишенная опре-
делений основа, находящаяся по ту сторону ее внешнего суще-
ствования, а наличествует в своих свойствах как основание...»18
В дальнейшем оно выступает и в важной для построения ге-
гелевской системы иерархической последовательности: бытие-в-
себе, бытие-для-еебя, бытие-в-себе-и-для-себя. Понятием бытия-
для-себя мы вплотную займемся в конце этой главы [с. 284 и
ел.]. В понятии бытия-в-себе-и-для-себя конкретная целост-
ность существующих определений выступает в их конкретной
взаимосвязанности, так что это не снимает то абстрактное ос-
нование, которое определяется бытием-в-себе. Ит$к, гегелев-
ская философия, по крайней мере в одном из своих внутренних
основных направлений, выходит за противоречивую обужен-
ность философии Канта, и не только помещает бытие-в-себе
как теоретико-познавательный исходный пункт в начале науч-
ного и философского исследования мира, но и подготавливает
мысленную возможность снять по ходу распространения дан-
ного процесса абстрактность этого понятия, сохраняя его тео-
ретико-познавательную сущность.
Границы гегелевского прорыва к истинному пониманию бы-
тия-в-себе очерчены его идеализмом. Это мы могли наблюдать
уже в вопросе о предметности, когда, он, вопреки своему ло-
гически верному подходу, следуя основополагающей концепции
тождества субъекта и объекта, отклоняется от собственных воз-
зрений на бытие-в-себе [см. т. 2, с. 193 и ел.]. Их позитивной
стороной была — также теоретико-познавательная — абстрактная
всеобщность, которая допускала и даже требовала, чтобы лю-
бое нечто рассматривалось как в-себе-сущее без ущерба для
его конкретно-данного бытия и именно вследствие своего неза-
висимого от субъективности существования. Но если его пред-
метность посредством отчуждения выступает как продукт раз-
вития тождественного субъекта-объекта, конечную фазу кото-
рого образует исчезновение, саморастворение в ставшей субъек-
том субстанции, то тем самым снова уничтожается независи-
мое от сознания бытие предметности. (То, что это сознание
должно принадлежать не отдельному человеку, а «духу», с тео-
ретико-познавательной точки зрения к делу не относится.)
Здесь ясно вырисовывается непреодолимый для любого фило-
софского идеализма барьер в теории познания. Великая про-
блема, которую развитие человечества ставило перед филосо-
фией, состояла в точном разделении мышления и действитель-
ности, сознания и бытия. Так как они взаимно переходят друг
в друга (гносеологически недопустимым образом) даже в но-
вой диалектике Гегеля, даже в его объективном идеализме, ко-
торый так часто приближается к границам материализма, то
254
ясно, что решение этого вопроса мог дать только диалектиче-
ский материализм.
Констатируя это, следует подчеркнуть термин «гносеологи-
ческий», ибо только в теории познания скрупулезное, не терпя-
щее взаимопересечений разделение сознания и бытия, субъек-
тивности и объективности является жизненно важным фило-
софским вопросом. Именно поэтому, как верно подметил Ге-
гель, бытие-в-себе становится столь абстрактным и бессодер-
жательным, ибо эта абстрактность — и только она — в состоя-
нии гарантировать объектам независимость от познающего
субъекта, не ставя чересчур конкретными определениями гра-
ниц для подробного изучения их свойств, структуры, связей и
т. д. У Гегеля это простое, но в то же время и тонкое ограни-
чение часто нарушается в двух отношениях: с одной стороны,
недостаточно резко проводится грань между субъективностью
и объективностью, с другой — некоторые конкретные опреде-
ления предметов подвергаются философской «спекулятивной»
абсолютизации; бытие-в-себе проявляется не просто как неза-
висимое от субъективности, но как нечто слишком сильно оп-
ределенное; достигнутое современным состоянием науки опре-
деление свойств предметов возводится в ранг объективности,
претендующей на окончательность. Из-за этого в первую оче-
редь смешиваются сферы компетенции теории познания и конк-
ретного научного исследования.
В эпоху начинавшегося кризиса современной физики Ленин
остроумно заметил, что новые открытия показывают проблема-
тичность многих привычных представлений о сущности мате-
рии. Из этого некоторые естествоиспытатели сделали прежде-
временные выводы в том направлении, что новые результаты
в области физики ставят под сомнение само существование
материи, и даже отвергают его. Здесь Ленин ставит теоретико-
познавательный вопрос: «Существуют ли электроны, эфир
и так далее вне человеческого сознания, как объективная ре-
альность или нет?». Какие бы новые открытия в области конк-
ретной сущности материи ни были сделаны, для теории позна-
ния это может и должно снова и снова приводить к вопросу,
ответ на который может быть только таким: «...Понятие мате-
рии... не означает гносеологически ничего иного, кроме как:
объективная реальность, существующая независимо от челове-
ческого сознания и отображаемая им»19. Именно абстрактность
и содержательная бедность ставшего теоретико-познавательным
понятия бытия-в-себе может гарантировать как правильное от-
граничение субъективности и объективности в картине мира
(и на практике), так и безграничное приближение к конкретной
действительности, не отягощенное застывшими догмами. Ибо
кризис, о котором писал Ленин, не в последнюю очередь состо-
ял в том, что определенные свойства материи, казалось, прочно
установленные тысячелетним опытом и исследованиями, рас-
255
сматривались как принадлежащие ее бытию-в-себе. Потрясе-
ние основ этой концепции новыми результатами исследований,
пробудило поэтому стремление поставить под вопрос бытие-в-
себе, существование самой материи. Только благодаря ленин-
скому разделению теоретико-познавательного бытия-в-себе и
конкретных свойств материи такое заблуждение — которое,
однако, и сегодня еще владеет некоторыми умами — могло
быть теоретически преодолено. Это, разумеется, не означает,
что следует отказаться и от правильных моментов гегелевской
концепции бытия-в-себе, которые при всей своей крайней абст-
рактности и бедности содержанием все же не полностью неоп-
ределенны; дело лишь в том, что установление этих определений
в их конкретности относится к компетенции не теории позна-
ния, но частных наук.
Чисто гносеологический характер точного отграничения бы-
тия и сознания наряду с уже указанными причинами должен
выдерживаться так строго еще и потому, что в реальной дейст-
вительности идеальное и реальное, субъективное и объектив-
ное связаны постоянными взаимопереходами, так как действи-
тельность далеко не всегда проводит между ними жесткие и
отчетливые границы. Чтобы адекватно отразить и объяснить
мир во всем его реальном богатстве, следует соединить интел-
лектуальную защиту утвержденной объективности бытия-в-се-
бе с отстаиванием признающей текучесть диалектики. Слабость
объективистски ориентированных великих мыслителей XVII—
XVIII веков состояла главным образом в том, что они не ви-
дели такие субъективные или связанные с субъективностью мо-
менты, которые, несмотря на свою субъективность, играют объ-
ективную роль в объективном мире, и пренебрегали этими мо-
ментами. Достаточно вспомнить позицию Гоббса или Спинозы
в вопросах телеологии. Гегель отчетливо различал существен-
ное в этой проблеме уже потому, что гораздо лучше, чем кто-
либо из его предшественников, понимал проблему труда с его
субъективными компонентами, перерастающими в объектив-
ность. Он видел, «как превратно рассматривать субъектив-
ность и объективность как некую прочную и абстрактную про-
тивоположность. Обе вполне целиком диалектичны... Кто не
знаком с определениями субъективности и объективности и за-
хочет их удержать в их абстрактности, тот найдет, что эти аб-
страктные определения ускользают у него из рук раньше, чем
он успевает оглянуться, и каждый раз он будет говорить как
раз противоположное тому, что хотел сказать»2"0'. Выше мы
уже указывали на проблему труда [см. т. I, е. Ï9 и ел.], где
исходным пунктом такого процесса выступает именно телеоло-
гический характер труда, необходимость субъективной, идеаль-
ной целевой установки, заданной для материального осуществ-
ления. Но этот феномен можно наблюдать повсеместно, когда
общественная действительность становится предметом дезант-
256
ропоморфирующего отражения. Маркс, например, так описывает-
объективный экономический способ подобных проявлений в*
процессе товарообмена: «Товар реально есть потребительная
стоимость: его стоимостное бытие лишъ идеально проявляется
в цене, выражающей его отношение к золоту, которое проти-
востоит ему как реальный образ его стоимости. Наоборот, ве-
щество золота играет роль лишь материализации стоимости,,
т. е. денег. Поэтому золото реально есть меновая стоимость..
Его потребительная стоимость пока лишъ идеально обнаружи-
вается в ряде относительных выражений стоимости, при помо-
щи которых оно относится к противостоящим ему товарам как:
к совокупности своих реальных потребительных форм»21. Толь-
ко благодаря такому диалектическому постижению взаимопре-
вращений идеального и реального, субъективного и объектив-
ного гносеологически строгая фиксация бытия-в-себе как неза-
висимого от сознания теряет окаменелость и может избавиться:
от застывших догм и фетишизации, избегнув при этом опас-
ности перемещения в область субъективного. Диалектический
материализм, усвоивший великие достижения Гегеля в этой
сфере, поправляет его, таким образом, в двух отношениях; он
делает выводы Гегеля (теоретико-познавательно) более строги-
ми и одновременно, рассматривая их как путь познания конк-
ретной действительности, более конкретными и гибкими..
В предисловии Маркса к его работе «К критике политической
экономии» это противопоставление сформулировано в явном
виде. Если не терминологически, то по существу Маркс исхо-
дит при этом из более ранней полемики против Гегеля, где
он критикует его теорию отчуждения как возникновения пред-
метности и ее дальнейшего снятия: «Конкретное потому конк-
ретно, что оно есть синтез многих определений, следовательно
единство многообразного. В мышлении оно поэтому выступает
как процесс синтеза, как результат, а не как исходный пункт,
хотя оно представляет собой действительный исходный пункт и,
вследствие этого, также исходный пункт созерцания и пред-
ставления... Гегель поэтому впал в иллюзию, понимая реаль-
ное как результат себя в себе синтезирующего, в себя углубля-
ющегося и из самого себя развивающегося мышления, между
тем как метод восхождения от абстрактного к конкретному
есть лишь тот способ, при помощи которого мышление усваива-
ет себе конкретное, воспроизводит его как духовно конкретное.
Однако это ни в коем случае не есть процесс возникновения
самого конкретного»22. Такая тенденция налицо уже у Гегеля,
в подобном направлении идет движение от бытия-в-себе к бы-
тию-в-себе-и-для-себя. Однако неспособность идеализма пра-
вильно поставить основной вопрос теории познания ведет к
следствиям, справедливо критикуемым Марксом. В самом де-
ле: ригористическое ограничение абстрактным бытием-в-себе,
представленным только в гносеологическом аспекте, становит-
17—102
257
<ся исходным пунктом постижения объективной действительно-
сти, исходящего из ее конкретности, стремящегося приблизить-
ся к этой конкретности путем рассудочных абстракций, но не
утрачивая при этом своей истинности, с тем чтобы в заключе-
сние прийти к той же самой действительности с понятийно ос-
военной конкретностью.
Так как бытие-для-нас представляет собой субъективно
ориентированный противоположный бытию-в-себе полюс, путь
его определения протекает полностью параллельно описанному
:здесь процессу: концепция бытия-в-себе содержит и модель
субъективного к нему отношения; это значит, что она одновре-
менно определяет модель бытия-для-нас. Разумеется, это всего
.лишь общая схема их обоюдного и взаимопереходящего соеди-
нения, которая ни в коем случае не исключает других, самых
разнообразных типов воздействия на этот проблемный комп-
лекс (общественные, классовые влияния, состояние науки и
т. д.), но эти последние не могут существенно изменить доми-
нирующую типологию, определяемую возможными типами от-
ношения человека к объективной действительности, хотя, есте-
ственно, любой конкретно-исторический способ проявления
этих отношений обусловлен непосредственно общественно-исто-
рическими силами. Исходя из этого, можно сказать, что типо-
логия бытия-для-нас в том, что касается ее самых существен-
ных черт, выводится из типологии бытия-в-себе. Это определяет
прежде всего форму бытия-для-нас в научном отражении, со-
ответствующую дезантропоморфирующему методу. Обращение
-бытия-в-себе в бытие-для-нас прежде всего нацелено на прида-
ние большей адекватности представлению о бытии-в-себе.
Вследствие этого здесь отодвигается на задний план теоретико-
познавательная проблематика, играющая столь решающую роль
:при рассмотрении бытия-в-себе: любое бытие-для-нас — это
только отражение объективно действительной конкретной ситу-
ации как совокупности фактов, их отношений и т. д. Его упот-
ребление состоит в прямом или опосредованном перемещении
:получаемых таким образом познаний в области практики; к то-
му же зачастую это осуществляется путем сравнения с други-
ми, подобным же путем полученными образами действительно-
сти с целью контроля над их истинным содержанием, а при
возможности — и с целью его дополнения, ограничения и т. д.
Тем самым уже выявляется важное различие: в то время как
постановка вопроса в случае бытия-в-себе направлена на дей-
ствительность в целом, в случае бытия-для-нас целостность оп-
ределенного комплекса фактов составляется из бесконечного
'числа конкретно-единичных отражений или из из их теоретиче-
ского синтеза. Поэтому решающий для бытия-в-себе теорети-
ко-познавательный аспект и образует в случае с этими еди-
ничностями и конкретными обобщениями только общую ос-
нову.
.258
Хотя из нашего анализа повседневной практики [см. т. 1„
с. 34 и ел.] вытекает, что нормальный человек стихийно-наивно*
относится к таким образам объективной действительности как
к образам реальности, а не как к пустым представлениям, но
это, как правило, имеет место и в конкретной научной практи-
ке. Так, нередко случается, что ученый, не признающий с тео-
ретико-познавательных позиций независимое от сознания суще-
ствование бытия-в-себе, практически при манипулировании от-
дельными отражениями, данными в форме бытия-для-нас, ве-
дет себя так же, как и сторонник теоретико-познавательной
объективности бытия-в-себе.
Мы говорили о возможно приближенном к действительности-
характере бытия-для-нас. После всего, что было сказано по
этому поводу в другой связи [см. т. 2, с. 273 и ел.] здесь не-
обходимы только отдельные резюмирующие замечания. Преж-
де всего мы уже знаем, что возможно точное приближение к
действительности как таковой не имеет ничего общего с фото-
графическим характером отражения. Предрассудок, приписыва-
ющий такой характер изначальной форме отражения, опровер-
гается уже тем, что относительно высокоразвитая техника, от-
носительно высокая ступень дезантропоморфизации в научном-
отражении вообще не допускают того, чтобы вопрос о фото-
графической точности отражения ставился реально, а не как
метафора или пустая фраза. Ведь не случайно этот способ'
отражения неизбежно и быстро переходит в точные отобра-
жения ситуации, не воспринимаемой человеческими чувствами;
(от моментальных снимков через рентгенограмму до фотогра-
фирования состояния атомарных процессов). Следовательно,,
фотографическая репродукция — в самом широком смысле
слова — не что иное как один из инструментов, служащих для:
того, чтобы научно точно зафиксировать единичное и облегчить
его правильное расположение в общей связи. Но научное от-
ражение в ходе своего долгого развития разработало и другие
инструменты для отражения особенных и общих отношений
предметов и т. п.; достаточно указать на роль математики. Ког-
да на этом пути определенные аспекты бытия-в-себе перехо-
дят в соответствующее бытие-для-нас, то без дальнейших
объяснений очевидно, что при этом изображение именно по
причине своей правильности и адекватности действительности1
не может носить характер фотографической передачи. Однако
этот вид отражения противники его теоретического обобщения-
используют как аргументацию в защиту своих интересов; иден-
тифицируя отражение вообще с фотокопией, они совершают ту
же ошибку, как и те, кто приравнивает определенные свойства-
материи к ее бытию-в-себе.
Превращение бытия-в-себе в бесконечное число различных
отражений в форме бытия-для-нас всякий раз порождает двой-
ную проблему: отраженный — единичный- особенный или об-
17*
259>
вдий — феномен должен быть репродуцирован с возможной
.адекватностью, и его передача должна в то же время находить-
ся в соответствии с другими отражениями. Отсюда вытекает
давно известный нам приближенный характер всякого позна-
ния, так как, само собой разумеется, более поздние отражения
.могут снова и снова дополнять, поправлять и даже полностью
элиминировать полученные ранее. В дальнейшем из этого сле-
дует также, что (строго с теоретико-познавательной точки зре-
ния) конкретным противопоставлением бытию-в-себе может
считаться только целостность приведенного к синтезу бытия-
для-нас. Это требование целостности, как мы опять-таки уже
могли констатировать [см. т. 2, с. 273 и ел.], в своей ригори-
стичности представляет всего лишь постулат. Практически —
это относится и к науке — по большей части обрабатывается
.лишь более или менее ограниченная область, а это* означает,
что непосредственно соотносятся друг с другом и синтезиру-
ется только лежащие в ее пределах отражения. Но относящий-
ся к теории познания постулат целостности, несмотря на это,
»обладает большим практическим, а потому также и философ-
ским значением: всегда есть возможность, что переход бытия-в
себе в бытие-для-нас, который на первый взгляд представляет-
ся не находящимся непосредственно в какой бы то ни было
связи с когда бы то ни было достигнутым синтезом, все же по-
трясает его основы и может вызвать принципиально новые ис-
следования и взаимосвязи в области науки. Очевидно, доста-
точно указать на переворот, произведенный в общественных
науках теорией Коперника, а позднее — учением Дарвина.
С философской точки зрения все бытия-для-нас образуют
связное целое, даже если оно никогда не осуществляется в на-
учной практике, и лишь в этой форме они представляют под-
линную возникающую в познающем сознании противополож-
ность гносеологически единому бытию-в-себе, только в рамках
:этой целостности их абстрактность оборачивается положитель-
шой конкретной целостностью познанного мира (вспомним еще
,раз гегелевскую концепцию бытия-в-себе-и-для-себя [с. 254]),
Философская констатация того, что абстрактность и содер-
жательная бедность понятия бытия-в-себе в рамках теории по-
знания представляет необходимую предпосылку для постиже-
шия действительности в ее конкретно развернутой целостности,
:звучит несколько парадоксально для современных мыслитель-
ных привычек. При этом оставляется без внимания то, что кон-
статации научной теории познания диалектического материа-
лизма относительно бытия-в-себе и бытия-для-нас являются не
гчем иным, как правильным осознанием того, что всегда долж-
на применять на деле человеческая практика, чтобы быть ус-
шешной. Во-первых, о чем уже говорилось, это по возможности
точное разделение знания и суждения [см. т. I, с. 78], то
есть объективцой действительности (в том приближении к ис-
3260
тине, с которым она отражается), и чисто субъективного пред-
ставления о ней. Во-вторых, это отмеченная ранее [см. т. 2, с.
10], свойственная практике приостановка, имеющая целью наи-
более верное постижение действительности, с которой имеет
дело практика, в ее бытии-в-себе. Нет такой области человече-
ской деятельности, где эти два акта не образовывали бы необ-
ходимую предпосылку ее эффективности. Можно даже сказать,
что подлинный прогресс познается по тому, насколько разра-
ботана такая приостановка, насколько широки и сложны опо-
средования, с помощью которых осуществляется поставленная
цель. Только так может происходить подлинное объединение
теории и практики. Энгельс абсолютно прав, подчеркивая при
этом решающую роль практики и признавая, что «уже одно пра-
вильное чередование известных явлений природы может поро-
дить представление о причинности», но проверка и доказа-
тельство причинной связи может осуществляться только прак-
тикой23. Это не снижает подчеркнутого нами значения тако-
го рода приостановки с целью познания; напротив, практиче-
ский опыт, чтобы привести к обоснованной практике, должен
быть теоретически зафиксирован и объяснен, что невозможно
без новых приостановок. Практика как движущая сила и кри-
терий познания выдвигает, следовательно, не снятие объектив-
ности, как полагают представители различных философских те-
чений нового времени, в первую очередь прагматизма, но, на-
против, в своих собственных интересах повышает интенцию к
объективности; то, что это часто сопровождается ложными
теоретико-познавательными идеями, противоречащими смыслу
реального акта теории и практики, ничего не меняет в обри-
сованном здесь реальном положении вещей.
Все эти наблюдения убедительно показывают, что действи-
тельная ясность и плодотворность понятия бытия-в-себе (а тем
самым — и понятия бытия-для-нас) достигается только путем
освобождения его от всякой эмфазы, от всякого субъективного
чувственного содержания. Однако это не позволяет оспаривать
тот факт, что в основе описанных здесь вкратце эмфатических
концепций бытия-в-себе могут лежать реальные общественные
потребности, а поэтому и субъективно верно воспринимаемые
переживания. Но даже самый напряженный пафос субъектив-
ности никогда не гарантирует теоретико-познавательной пра-
вильности и объективности. Глубокая укорененность практиче-
ски полезного трудового опыта на ранних стадиях развития в
мире магических представлений показывает это столь же от-
четливо, как позже — религиозные картины мира, в которые
были изначально «встроены» в качестве составных частей на-
учные теории. Пока это смешение в состоянии противостоять
развитию общества и науки, эмфатически переживаемому бы-
тию-в-себе может соответствовать столь же эмфатическое бы-
тие-для-нас. Таким образом, если постижение бытия-в-себе
261
находится в неразрывной связи с комплексом переживаний, ко-
торый обычно обозначается как «спасение души», то челове-
ческое поведение, ведущее к понятию бытия-для-нас, также не
может носить дезантропоморфный характер; оно должно быть
ориентировано этически-религиозно, должно пользоваться по-
мощью аскетических, экстатических и т. п. аффектов. Доста-
точно указать на учение об Эросе у Плотина и неоплатоников,
на христианскую, индийскую, даоистскую мистику.
Становление современных естественных наук, а с ними —
становление дезантропоморфирующего метода радикально из-
менили эту ситуацию. Выше мы ссылались [с. 249] на учение
о «двойственной истине» как на переходное явление, указывая,
что в новое время оно — разумеется, со множеством модифика-
ций — переживает своего рода возрождение. В связи с пробле-
мой бытия-для-нас и с проблемой субъективного компонента
бытия-в-себе Кант также представляет собой в высшей степе-
ни важное переходное явление. Уже в его теории познания по-
является эта двойственность, причем бытию-в-себе уделяется
место как безусловно существующего, так и абсолютно непо-
знаваемого. Но для самого Канта (и в этом его отличие от
неокантианцев) бытие-в-себе — краеугольный камень всей его
философской конструкции, причем то, что должно оставаться
недостижимым для познающего человеческого интеллекта, вы-
является в этике как вполне реализуемое: как непосредствен-
ный контакт с миром вещей в себе; и этот прямой контакт реа-
лизуется также и для религии, коль скоро ее сущностное содер-
жание получает свое место в системе в качестве установленных
с необходимостью постулатов практического разума. Тем самым
исчезает чисто негативный, непознаваемый характер мира ве-
щей в себе, обретая в важных вопросах отчетливые очертания;
достаточно указать на «причинность как свободу». Здесь от-
крывается возможность включения эмфазы в концепцию бытия-
в-себе. Как бы сдержанно, а зачастую даже намеренно сухо
ни выражался Кант в целом, очерчивая перспективы выявле-
ния бытия-в-себе, он всегда патетичен, исполнен чувства; до-
статочно привести любое случайно выбранное место: «...Пре-
восходное открытие, которое делает для нас чистый практиче-
ский разум посредством морального закона, а именно открытие
умопостигаемого мира через существование вообще-то транс-
цендентного понятия свободы»24.Подобная патетика, само со-
бой разумеется, в еще более сильной степени пронизывает лю-
бое древнее возвещение трансцендентно в-себе-сущего космо-
са; качественное различие состоит в том, что из ведущего к
нему «Эроса» со всей методологической строгостью исключа-
ется интенция к познанию. У Канта это выливается в форму
механического разделения теоретической и практической сфер.
Хотя это разделение особенно бережно сохранено неокан-
тианцами, но пафос его с течением времени снизился до мелоч-
262
еого мещанского исполнения:<юбязанностей по отношению к го-
сударству. Только на стадии империализма обновляется обыч-
ная здесь эмфаза, но опять-таки с не лишенным существенного
значения функциональным преобразованием: теперь отрицается
не только познаваемость вещей в себе, но и любое разумное
познание вообще; напротив, принимается последовательный
агностицизм философских наследников Канта (а также Беркли
и Юма). На месте постижения бытия-в-себе через этическое
деяние, фигурировавшего у Канта, выступают новые иррацио-
нальные эмфатически-чувственно акцентированные мнимые ор-
ганы для вступления в столь же мнимую в-себе-сущую дей-
ствительность: таковы различные формы интуиции у Дильтея,
Бергсона или Зиммеля, а также онтология экзистенциализма
(хотя она в остальном строится на других принципах). Чем
шире распространяется это направление, тем яснее в нем вы-
рисовывается сущностно субъективный характер всякого вво-
димого посредством эмфазы бытия-в-себе. В дальнейшем станет
очевидным, что оно основывается исключительно на определен-
ных идеологических потребностях дня. И в конечном итоге ока-
зывается, что это эмфатическое бытие-в-себе зависимо от бы-
тия-для-нас, в то время как их реальное взаимоотношение
прямо противоположно. В решающем философском вопросе,
в полярной взаимосвязи проецируемого субъектом на объектив-
ность антропоморфирующего псевдобытия-в-себе и полурелиги-
рзного, полуэтического (притязающего на познание сущности)
субъективно-эмфатического поведения не происходит никаких
изменений от того, что содержание эмфатического действия —
это не ослепительный свет плотиновского «Единого», а непро-
лазная тьма хайдеггеровского «ничтожащего Ничто». (То, что
существует этическая сторона дезантропоморфирующей научной
деятельности, никоим образом не противоречит вышесказанному.
Эта этика состоит лишь из одной заповеди: служить исключи-
тельно объективной истине, отображать бытие-в-себе со всей
возможной полнотой, по возможности без каких бы то ни было
субъективных привесков. Время от времени исповедующий эту
этическую заповедь субъект может возвыситься до уровня мощ-
ного пафоса, но его интенция направлена на то, чтобы исклю-
чить любую субъективность из процесса познания.)
2. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА КАК ДЛЯ-СЕБЯ-СУЩЕЕ
Поскольку наука и искусство отражают одну и ту же дей-
ствительность, само собой разумеется, что при обоих типах
отражения выявляются фундаментальные категории такого ро-
да, как бытие-в-себе и бытие-для-нас. Однако так как эти ка-
тегории, особенно бытие-в-себе, самым отчетливым образом вы-
ступают и как категории бытия вообще и в значительно мень-
263
шей степени выражают конкретно-данное бытие определенных
предметов (эта проблема играет практически решающую роль
только в случае бытия-для-нас), то с самого начала зримо
проявляется основополагающее различие конкретной искомой
действительности в искусстве и в науке: наука направлена на
отображение бытия как такового в его по возможности очи-
щенной от всяких субъективных привнесений форме, в то время
как бытие, подразумеваемое любой эстетической концепцией —
это всегда мир человека. Однако из предыдущего изложения
нам известно, что в случае художественного отражения не мо-
жет быть и речи о какой бы то ни было субъективности, не го-
воря уже о субъективистском произволе. Здесь также протека-
ет процесс очищения субъекта, который самым тесным образом
связан с эстетической концепцией бытия-в-себе, но он не про-
должен вплоть до тенденции к максимально возможному ис-
ключению субъективности и к превращению субъекта в простой
орган восприятия объективной действительности; этот процесс
лишь обладает интенцией снятия в субъекте чистой партику-
лярное™, что осуществляется отнюдь не с абстрактной ради-
кальностью, а скорее со сдержанной осмотрительностью, так
как определенные частные черты человеческой личности зача-
стую весьма интимно связаны с ее сущностью; то есть осуще-
ствляются в той мере, в какой речь идет о действительно чис-
той партикулярности. Сезанн правильно понял этот процесс;
он говорит о художнике как об органе восприятия, о «реги-
стрирующем аппарате» чувственных ощущений, который на-
верняка должен быть «прекрасным, хрупким, сложным». «Но
если художник начинает вмешиваться, если он, такой ничтож-
ный, осмеливается сознательно переделывать то, что он должен
передать, он вносит в это свою незначительность. И снижает
свою работу... Его воля должна молчать. Он должен заставить
замолчать все свои предрассудки...»25. Анализ подобных воз-
зрений, особенно часто встречающихся именно у наиболее зна-
чительных художников, содержит четкое указание на способ
проявления бытия-в-себе в эстетической сфере. То, что в очищен-
ном дезантропоморфизацией научном отражении выступает как
абстрактность бытия-в-себе, здесь оборачивается (труднопости-
гаемой непосредственно-понятийным образом) вездесущностью;
в акте эстетического полагания бытие-в-себе наличествует одно-
временно всюду и нигде, оно в одно и то же время императивно
обусловливает каждый отдельный момент и непрестанно — час-
то до невозможности его обнаружить — скрывается творческой
активностью.
Даже при такой крайне абстрактной формулировке ясно
видны эти специфические сущностные черты эстетического от-
ражения, подробно анализируемые нами в другой связи. Их
более пристальное изучение, да и простое перечисление — со
ссылками на высказанные выше воззрения — без труда обнару-
264
живают следующее: с одной.стороны, эстетическое направлено
исключительно в мир человека, и поэтому в своих решающих
чертах должно отличаться от дезантропоморфирующего отраже-
ния. С другой стороны, эта отклоняющая тенденция никоим
образом не снимает объективности бытия-в-себе; напротив, она
порождает последствия, которые в конечном итоге — и только
в конечном итоге — полностью совпадают с положениями диа-
лектического материализма относительно бытия-в-себе и бытия-
для-нас. Эта последняя констатация может привести в недоуме-
ние только тех, кто вольно или невольно проходит мимо сти-
хийного материализма и стихийной диалектики обыденной жиз-
ни, кто под влиянием современных предрассудков привык игно-
рировать или по меньшей мере оставлять без должного вни-
мания приближенную к жизни основную тенденцию эстетиче-
ского полагания, коренящуюся в этой диалектике. Самым на-
глядным образом стихийный материализм эстетического прояв-
ляется в отношении крупных художников к природе. Мы только
что привели высказывание Сезанна, обусловленное этим его
отношением; это высказывание можно было бы с легкостью
дополнить, обратившись к практике многих великих творцов.
Однако анализируя лежащее в основе таких высказываний от-
ношение к действительности,, мы обнаруживаем странную двой-
ственность, занимающую, вообще говоря, центральную позицию
в характеристике эстетического отражения. А именно, отклоне-
ние вмешательства субъекта относится как к бытию-в-себе, так
и к бытию-для-нас; было бы недопустимо и в высшей степени
опасно для создания подлинно художественного произведения,
если бы его творец предпринял попытку исправить природу,
а одновременно и нераздельно с этим субъективное отображе-
ние в его сознании признавалось бы свободным от субъектив-
ности, от частного.
Итак, уже первому нашему беглому взгляду доступна пра-
вильность диалектического положения, согласно которому под-
черкнуто резкое разделение субъективности и объективности
имеет значение только для теоретико-познавательной постанов-
ки проблемы, а вне этого повсеместно происходят самые раз-
личные преобразования и переходы. Это, разумеется, не озна-
чает, что тем самым различие субъективности и объективности
полностью уничтожается. Напротив! Именно только что рас-
смотренная нами позиция художника в творческом процессе
обнаруживает явную интенцию к их разделению. На одной сто-
роне находится субъективность, позволяющая выявиться под-
линной сущности объективного мира. На другой стороне —
субъективность, погрязшая в чисто субъективной партикуляр-
ности, не способная или не желающая преодолеть собственной
субъективистской ограниченности. Между ними следует прове-
сти четкую границу. При этом речь идет об одном из фунда-
ментальнейших фактов эстетического полагания, а не о настрое-
265
нии или прихоти отдельных художников. Поэтому подобно тому,
как в научном отражении можно отделить истину от заблужде-
ния, в произведениях искусства всегда можно точно установить,,
где это сражение субъективности с нею же самой за постиже-
ние бытия-в-себе мира было победоносным, а где оно было
проиграно. Следовательно, проблема бытия-в-себе сохраняется;
и в сфере эстетического, но только претерпев здесь существен-
ные модификации, обусловленные той же общественной потреб-
ностью, которая вызвала к жизни эстетическое отражение дей-
ствительности вообще. При том, что именно мир человека ста-
новится конечным, преимущественным предметом эстетического
отображения, уже в самом этом достигаемом (и подлежащем
достижению) объекте искусства заложены неразрывные взаимо-
связи и взаимопереходы субъективности и объективнрсти. Мир
предстает сознанию отдельных личностей как в-себе-сущая, не-
зависимая от этого сознания действительность. Но одновремен-
но и неотделимо от этой объективности мир выступает как про-
дукт совместной деятельности всех людей, человечества. В на-
учном отражении наличествующая в нем объективность неиз-
бежно должна перевешивать. Отличие истории человечества от
естественной истории (Маркс, цитируя Вико, сказал, «что пер-
вая сделана нами, вторая же не сделана нами»26) ничего не
меняет в этом соотношении, как бы ни было оно само важно
для методологии отдельных наук. По-иному обстоит дело с ху-
дожественным отражением, которое не только «схватывает»
мир человека в самом широком смысле слова, включая и при-
роду, но и непосредственно соотнесено с самим человеком.
Если любой эстетический анализ выносит на первый план
эвокативный характер искусства, то с точки зрения предприни-
маемого нами здесь рассмотрения эта эвокативность представ-
ляет не что иное, как сведенную к ее изначальности обратную
связь мира человека с самим человеком. В общественных науках
этот мир человека становится чистым объектом, содержание
которого составляют поступки самого человека, его отношения
и т. п. Напротив, в искусстве процесс развития человечества
непосредственно соотнесен с каждым отдельным человеком.
Художественная эвокация в первую очередь нацелена на то,
чтобы воспринимающий включил данное отображение объек-
тивного мира человека в сферу своих собственных переживаний;
он должен заново найти в этом отображении себя самого, свое
собственное прошлое или настоящее, и благодаря этому осознать
себя частью человечества и его развития. Произведение искус-
ства в состоянии пробудить и сформировать самосознание чело-
века в высшем смысле слова. Такая целевая установка невоз-
можна без верного отображения бытия-в-себе избранного объ-
екта, так как пробуждаемое художественной эвокацией само-
сознание оказалось бы самообманом, пустой фразой, если бы
конечным его содержанием не стал основополагающий момент
266
развития человечества, причем именно такой, каков он есть или
был сам по себе. Поэтому, как мы видели [с. 264], бытие-в-себе
обладает в эстетическом отображении эффектом вездесущности.
Но по той же причине оно не может выступать здесь в своей
чистой — абстрактной в теоретико-познавательном отношении,
лишенной содержания — форме, как в научном отражении, ибо
эвокативное воздействие на конкретного человека может вызы-
ваться только отображением конкретной действительности, дей-
ствительности, способной выразить все -существенные черты
объективного, хотя и с той модификацией, что образы, пред-
ставляющие в развитии то, что сотворено самим человеком,
акцентированы на эвокативном пробуждении у воспринимаю-
щего сопереживания, соучастия, состояния образно отображен-
ного как — упомянутое выше — tua res agitur.
Уже вследствие этого такой субъективный момент бытия-в-
себе необходимо проявляется как его органическая, внутренняя»
имманентная составная часть. Очищение творческой субъектив-
ности от чистой партикулярности, о котором мы уже говорили,
•служит именно этой цели. В границах такой двойственности
человеческое должно предстать художественно преобразован-
ным: и как объективно включенное в бытие-в-себе той действи-
тельности, которая отражается произведением искусства, и как
присущая этому произведению субъективность, возвышающая
бытие-в-себе до уровня его непосредственной переживаемости
человеком. Как мы знаем из предыдущего изложения, необхо-
димость такой непосредственности не идентична с аналогичной
необходимостью обыденной жизни. Она формируется заново и
основывается на снятии повседневности и на репрезентации ее
непосредственности, производимой абсолютно новым способом.
Она создает в эстетической сфере соотношение явления и сущ-
ности, качественно отличное от представленного в дезантропо-
морфном отражении. В связи с этим следует подчеркнуть, что
и в том и в другом случае отображается одна и та же действи-
тельность; диалектическая соотнесенность явления и сущности;
необходимость проявления второй и сущностная связь первого,
его противоречивая сущностная отягощенность не может быть
элиминирована из объективной действительности без искаже-
ния ее свойства и структуры. Но дезантропоморфное отражение
неминуемо обособляет явление и сущность в целях конкретного
раскрытия их единства — посредством наглядно представляе-
мого диалектического движения их друг от друга и друг к дру-
гу— как единства противоположностей. Антропоморфное эсте-
тическое отражение также должно осуществлять разделение,
оно таким же образом в состоянии представить единство лишь
как результат диалектического процесса, но при этом его
конечный результат оказывается качественно иным; он
представлен в виде восстановления первоначального непосред-
ственного единства сущности и явления. Однако как мы знаем,
267
это лишь иллюзия, хотя и необходимая и сознательно конст-
руируемая, ибо новая, вторая, высшая непосредственность ху-
дожественного произведения, реализуемая через его гомогенную
посредующую систему, способствует становлению такого мира^
в котором любое явление делает'зримой и доступной пережи-
ванию непосредственным образом (пробуждая этой непосред-
ственностью эвокативйый эффект) действующую в ней, лежа-
щую в ее основе, формирующую ее сущность. Научное отраже-
ние способствует проникновению нашего сознания в противо-
речивое единство явления и сущности как в бытие-для-нас;
процесс в сфере эстетического ведет к переживанию их пред-
стающей как непосредственная — хотя объективно зачастую
многократно опосредованной — неразрывной связи. Резкое рас-
хождение и даже противоположность различных отражений не
может скрыть тот факт, что в обоих случаях одинаковые свой-
ства бытия-в-себе хотя и крайне различными путями, но обора-
чиваются бытием-для-нас.
Маркс пишет: «...Если бы форма проявления и сущность ве-
щей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы из-
лишня»27. Научное отражение со всей очевидностью выявляет
эту форму взаимосвязи и расхождения сущности и явления.
Когда же произведение искусства изображает их полное совпа-
дение, то возврат к жизненной непосредственности здесь лишь
видимость, так как непосредственность этого рода уже в непо-
средственной практике повседневности слишком часто предста-
ет иллюзорной. Следовательно, для эстетического совпадения
явления и сущности необходима новая непосредственность,
и она выступает уже не как обманчивая «самоочевидность» по-
вседневной жизни, а как разновидность чуда, хотя и такого,
которое сознательно творится человеком для раскрытия глубо-
ких и подлинных жизненных связей. Но и это непосредственное
сведение к единому сущности и явления в новой непосредствен-
ности эстетического — не «изобретение»; оно выражает важный
аспект в-себе-сущей действительности. Возникающее при этом
соотношение Гегель формулирует следующим образом: «Явле-
ние есть поэтому по сравнению с законом целокупность, ибо
оно содержит закон, но и кое-что еще, а именно момент дви-
жущей самое себя формы»28. Разумеется, и наука сложными,
глубоко опосредованными окольными путями все же может
приблизиться к такой целокупности, целостности. Но своеобра-
зие новой непосредственности произведения искусства в том и
состоит, что оно может представить ее непосредственно, разом —
uno actu. Своеобразие эстетического полагания проявляется в
том, что в нем «в-себе» и «в-себе-и-для-себя» взаимопроникают
друг в друга до неразличимости. То, что в научном отражении
обычно бывает конечным результатом, здесь становится нача-
лом, ибо если непосредственное совпадение явления и сущности
не формально, но содержательно и завершенно, то бытие-в-себе
268
должно обладать конкретной наполненностью такого рода, ка-
кой, собственно, обладает лишь бытие-в-себе-и-для-себя. Точное?
разделение теории познания и конкретного исследования, ха-
рактерное для дезантропоморфного отражения, в этом случае-
выпадает: независимость бытия от сознания не должна обла-
дать самостоятельным объективированным выражением, так:
как она конкретно присутствует в художественном пережива-
нии любого конкретного явления.
Конвергенция становится еще ощутимей, если вспомнить о
пути, преодоленном человеческим мышлением в погоне за пра-
вильным пониманием бытия-в-себе. Большинство эмфатические
концепций стремилось игнорировать мир явлений, чтобы полу-
чить трансцендентное бытие-в-себе (например, «Единое» у Пло-
тина) в его нефальсифицированном единстве. Двойственность«
Канта проявляется в том, что он, с одной стороны, мыслиг
бытие-в-себе в его независимости от человеческого сознания,,
но, с другой стороны, представляет себе мир явлений в его кон-
кретности как сформированный субъективной априорностью*
сознания. Несмотря на это, здесь, по Гегелю, по сравнению с:
предшествовавшим метафизическим дуализмом явления и сущ-
ности, делается первый шаг, когда Кант в этой априорности
подмечает «необходимую деятельность разума», благодаря чему
устанавливается разновидность «объективной видимости» и
«необходимости противоречия»29. Здесь Гегель оставляет без,
внимания теоретико-познавательную слабость позиции Канта,,
у которого именно вследствие непознаваемости бытия-в-себе
объективность всех феноменов становится в высшей степени1
проблематичной. Только становление диалектического метода
у самого Гегеля дает возможность приписать явление и сущ-
ность в равной степени и реальности, и бытию-в-себе. Даже^
видимость несущественна лишь для поверхностного взгляда;
при ближайшем рассмотрении она оказывается не внешней по
отношению к сущности, «она собственная видимость сущно-
сти»30. Так, даже видимость получает относительно высокую»
степень объективности. На гораздо более высокой ступени это
выражается у явления, которое охарактеризовано Гегелем как
«то, что вещь есть в себе, или ее истина. ...Являющееся обнару-
живает существенное, и существенное имеет бытие в своем яв-
лении»31. Мы не будем здесь входить в подробности того вкла-
да в углубление и укрепление этой объективности, который
внесен диалектическим материализмом, полагая достаточной
в данном контексте общую ссылку на этот вклад.
Здесь в первую очередь важно констатировать, что в обла-
сти эстетического изначально, как только начало осуществлять-
ся его практическое полагание — и прежде чем произошло ка-
кое-либо осознание собственных действий, — это представление-
об объективности явления и его неразрывной взаимосвязи с
сущностью, с таким трудом достигнутое в философии, стало»
269
необходимой основой любого формообразования. (Конечно, ис-
ключение представляет здесь внемирная орнаментика, так как
ей вовсе чуждо противопоставление явления и сущности. Но
эта проблема возникает уже там, где в действие вступает об-
разная аллегория. Хотя всякая аллегория низводит явление к
•полной ничтожности по сравнению с трансцендентной — поня-
тийной— сущностью, во многих аллегорических изображениях
«стихийно, с бессознательным отвержением магически-религиоз-
ных интенций, практически-художественно возникает эстетиче-
ская концепция явления как реальности. Только этим объясня-
ется то, что многое, будучи задуманным исходно как аллегори-
ческое, после того как история предаст забвению его первона-
чальный трансцендентный смысл, приобретает способность
■оказывать чисто эстетическое воздействие.) Такое художествен-
но безыскусное представление об отношении явления и сущно-
сти ведет к новым осложнениям в вопросе о связи бытия-в-себе
m бытия-для-нас в эстетической сфере. Абстрактная всеобщность
'бытия-в-себе получает в научном отражении функцию раскры-
тия и постижения как механизма реальных взаимосвязей яв-
ления и сущности, так и динамической системы опосредовании;
эстетическое отражение, напротив, возводит изначальное объ-
ективное единство и неразрывность сущности и явления на уро-
шень непосредственной близости восприятия. Так как и то и
/другое — аспекты бытия-в-себе, то оба вида отражения равно
истинны. Их противоположность выявляется в том, что эстети-
ческое полагание в силу его соотнесенности с человеческим, его
эвокативной интенции уже в самом бытии-в-себе должно содер-
жать момент, направляющий его на человека, то есть в эстети-
ческом отражении бытие-в-себе таит в себе элементы бытия-
для-нас. Но следствием этого положения выступает противоре-
чивое дополнение, согласно которому эстетическое бытие-для-нас
должно объективироваться до уровня нового бытия-в-себе, если
•оно, как само собой следует из специфики такого полагания,
^призвано выполнять свои функции эвокативно. Тем самым мы
^пришли к решающему сущностному признаку эстетического
•соотношения бытия-в-себе и бытия-для нас. Его подлинный ха-
рактер и далеко ведущая значимость будут раскрыты, однако,
только в том случае, если мы рассмотрим эти понятия еще и в
ряде других аспектов; достигнутые нами в ходе предыдущего
.рассмотрения результаты в их применении к проблеме бытия-
в-себе — бытия-для-нас могут лишь конкретизировать до уровня
юбширной констатации представляемое здесь исходно абстракт-
ное утверждение.
Начнем с особенного, которое, как мы достаточно подробно
изложили, занимает в эстетическом отражении — в противопо-
ложность научному — предпочтительное, центральное место.
Только эта срединная позиция, занимаемая особенным в эсте-
тическом отражении и обеспечивающая перманентное снятие
270
всего общего и единичного в особенном, придает вышеназван^
ной проблеме бытия-в-себе — бытия-для-нас ее истинную широ-
ту и глубину. Дело в том, что ориентация отраженной действи-
тельности на самого человека, на человеческое, немедленно^
создает впечатление, что в необходимо объективное бытие-в-
себе привносится чистая субъективность. Эта видимость кор^
ректируется следствиями, с необходимостью вытекающими из;
центрального положения особенного в эстетическом полагании.'
Особенное как средняя точка означает и середину между инди-
видуализацией и обобщением, причем, как было показано [с. 181:
и ел.], не в качестве простого опосредования, которое встреча-
ется и в научном отражении, но в качестве активной синтези-
рующей силы, благодаря воздействию которой любой предмет,,
любое отношение и т. п. соединяют в себе одновременно и не-
раздельно живую единичность и относительно высокую степень-
обобщения, и излучают объединенный свет этого синтеза. В этом
категориальном положении, однако, содержится отношение-
эстетического предмета — его бытия-в-себе и бытия-для-нас,—
поднятое до человека, до развития человечества в направлении;
объективности. При этом следует, очевидно, особо выделить
отношение к общечеловеческому, так как отдельный человек
повседневности тоже необходимым образом относит большую-
часть обстоятельств своей жизни к себе самому; если бы этот
акт не совершался стихийно и непрерывно, никакая сколько-
нибудь успешная практика не была бы возможна. Но человек,
повседневности по необходимости совершает это в связи со-
своей частной личностью, со своей отдельной конкретной це-
левой установкой и т. д., и даже если в виде исключения цело-
купность его жизни, его личности подвергается сомнению в ка-
честве объекта отношения, то партикулярность этим не снима-
ется. Категориально это выражается так: речь идет всегда о«
единичном, отдельном, и если — например в процессе труда —
возникает потребность в обобщении, то общее должно гаран-
тировать успех отдельного предприятия, по возможности взяв-
на вооружение необходимые, в том числе особенные опосредо-
вания; о такой роли общего уже шла речь, когда мы анализи-
ровали необходимые приостановки субъективного целеполагания«
в труде [см. т. 2, с. 10 и ел.].
То, что здесь имеется в виду, выходит тем самым за рамки
принятого в повседневной жизни отношения к человеку, в TOMi
числе и к самому себе. (Специфических проблем этики, где-
многократно всплывают вопросы, сходные с тем, который в
данном случае подлежит разрешению, мы в этой связи касать-
ся не можем.) С этой точки зрения вся наука, даже если ее
объект — человек, это одна единственная великая приостановка
частно-субъективных целеполаганий человека. Совершенно иное
положение мы видим в сфере эстетического. Действенная ере-
динность особенного, с одной стороны, будучи снятой и поэтому
271
ж в снятии сохранившейся как отдельное, достаточно близка к
жизни, чтобы ее можно было включить в непосредственное от-
ношение с отдельным человеком; с другой стороны, общее, бу-
дучи снятым, но сохранившись в виде обобщающего движения,
шозвышает любое единичное над его частностью, разрешает его
ют его обычных частных уз и отношений и тем самым создает
<из преобразованных в отражении предметов и связей своеоб-
разный промежуточный мир, органически соединяющий непо-
средственную видимость жизни с миром явлений, обретающим
прозрачность, проницаемость, с блеском сущности. В этом-то
»особенном, выступающем как центр, средоточие, в бытии-в-себе
объективно развиваются те моменты, которые и делают его
значимым для человеческого рода.
Развитие человечества представляет собой объективный про-
цесс, протекающий независимо от сознания ещ участников;
даже если им отводится в нем ведущая роль, последствия их
поступков, значение их действий бывают, как правило, совсем
иными, нежели то, что их сознание поставило бы в качестве
щели, которая должна быть достигнута. Следовательно, в этом
^отношении данный процесс несомненно обладает характером
гбытия-в-себе, и задачей общественных наук является преобра-
зование существенного в нем в бытие-для-нас, в достояние че-
ловеческого сознания. Категориальная транспозиция в особен-
ное осуществляется в эстетическом полагании, привнося сюда
значимое изменение, подчеркивая другую, не менее значимую
сторону этого процесса. То, что возникшая и развивающаяся
-таким образом действительность выступает как самопорождение
(в самом широком смысле слова, включающем самосовершен-
ствование человека, самосотворение человечества), также давно
нам известно. Поэтому-то данный процесс характеризуется
двойственным аспектом: объективным, когда все, что относится
ж сознанию участвующего в нем индивида, выступает лишь как
движущее начало или материал и когда в силу этого постиже-
ние целого становится настоятельной задачей науки; и наряду
с ним — субъективным, когда для индивида, вовлеченного в про-
цесс, участвующего в нем (сознательно или бессознательно),
этот процесс предстает как его собственный и когда ингерент-
vHoe ему существование, от самого малого до самого великого,
сможет быть постигнуто только в связи с ним самим и только
.как принадлежащее ему самому.
Но такое постижение должно быть отмечено чертами само-
сознания, хотя последнее — как и объективное осознание разви-
тия человечества как предмета познания — может оказаться
-либо истинным, либо ложным; однако критерии в обоих слу-
чаях различны. Критерии объективно-научной истины нам зна-
комы, а постижение собственной судьбы, включенной в судьбу
человеческого рода, ею опосредованной, из нее возникшей и в
шее возвращающейся, в столь же малой степени субъективно-
272
произвольно, как и объективированное, дезантропоморфическое
осознание того или иного предмета. Критерием здесь выступает
длительность, точнее сказать, — момент включенности в разви-
тие сознания человеческого рода. Все чувства, все мысли, все
намерения и поступки, добрые или злые, с точки зрения этого
самосознания обладают своей собственной правотой, если толь-
ко она не тонет в этом потоке бесследно, а становится фактором
своей собственной модификации. Когда вопрос ставится таким
образом, становится понятным, почему при ответе на него столь
центрально значима категория особенного. Дело в том, что хотя
такой фактор и заключает в себе тенденцию к обобщению,
однако в силу этого он еще не покидает почвы конкретно-дан-
ного бытия, а вместе с тем и именно поэтому он индивидуален,
единичен, однако не погружен в чистую партикулярность. Оба
эти требования влекут к середине, к особенному, которое тем
не менее из-за этого никоим образом не становится простой
точкой пересечения противоположно направленных тенденций,
но, напротив, образует средоточие, центр, снимающий обе сто-
роны в своеобразном синтезе самосознания.
Этот аспект особенного как категории эстетического мы
анализировали в ходе его подробного рассмотрения, и при этом
указывали, что его реализация в этой сфере необходимым об-
разом принимает форму типического [с. 212 и ел.]. Именно
типическое и есть та промежуточная область, среда, в которой
конденсируется обобщенное значение человеческой индивидуаль-
ности, индивидуальности ситуаций, поступков и т. п., однако
эта индивидуальность здесь не снимается, более того — ее ин-
тенсивность возрастает. Ясно, что отражение, соразмерное та-
кого рода предметности, может носить только эвокативный
характер. Именно поэтому в эстетическом бытии-для-нас на
первый план выступает как раз тот элемент антропоморфной
субъективности, исключение которого предстает как основная
задача научного отражения. Это противопоставление детально
рассмотрено нами выше как оправдание существования обоих
видов отражения в силу специфической для каждого из них
истинности относительно действительности. В связи с данной
проблемой заметим здесь только — предполагая все предыду-
щие констатации уже известными,— что бытие-для-нас, обла-
дающее такого рода свойствами, возможно только тогда и там,
когда и где его антропоморфирующие аспекты, эвокативный
тип его сущности объективно укоренены в самом бытии-в-себе.
Причины этого явным образом заложены в объекте эстетиче-
ского отражения: в развитии человечества. Не посягая на его
многократно подчеркиваемую объективность, не забывая, что
оно протекает в рамках природы и ее закономерностей, следует
в этой связи вспомнить еще и о том, что мы всегда обозначаем
предмет эстетического отражения как «обмен веществ» между
обществом и природой, а не как эту последнюю саму по себе.
18—102
273
Уже это показывает, что здесь предметом становится не чистое,
незатронутое никаким субъективным впечатлением (и даже в
принципе им не затрагиваемое) бытие-в-себе природы, но ско-
рее ее бытие, находящееся в непрерывной взаимосвязи с актив-
ным субъектом, даже если он не индивидуален, а коллективен,,
как любое общество, а через него опосредованно и все чело-
вечество.
Но одно это еще не вносит никаких изменений в бытие-в-
себе, о чем явно свидетельствует предметная структура обще-
ственных наук, в которых результат исследования представлен
осознанием человечеством его собственного развития. Когда же
в эстетическом выступает момент вовлечения субъективности,
то это ни в коем случае не означает ее интроекции в чуждую
ей объективную сферу, как это имеет место в случае гипоста-
зирования. Напротив, здесь субъективность — это органический
фундаментальный компонент специфической объективности
именно данного объекта. Следовательно, если в центр эстети-
ческого отражения выдвигается самосознание именно этой —
и только этой — субъективности, то благодаря ее творческим
возможностям в отражаемом предмете вполне оправданно вы-
свобождается нечто естественным образом ему присущее, при-
чем оправданность такого высвобождения должна быть особо
подчеркнута, так как лежащее на деле в его основе самоосмыс-
ливание действующего субъекта образует объективно сущест-
венный момент самого объективного процесса. Разумеется, ис-
ход отдельных событий, фаз и в особенности эпох зависит не
от действий одного человека, а от объективных причин, от
развития производительных сил и от обусловленных им изме-
нений производственных отношений. Но отсюда, во-первых,
никоим образом не следует, что отдельные действия отдельных
людей, непосредственно осуществляющих данный процесс, по
своим последствиям, по своему влиянию на него сводятся к ну-
лю32. Во-вторых, следует добавить, что, можно сказать, под-
спудное влияние, образующееся в ходе процесса из тех чувств,
мыслей, намерений и т. д. индивидов, которые непосредственно»
вызывают их поступки, сопровождают их и из них проистека-
ют,— равным образом относится к общественным силам в по-
ложительном или отрицательном, прогрессивном или регрессив-
ном смысле. В-третьих, этот комплекс, не претерпевая никаких
изменений в своей пребывающей в себе сущности, может рас-
сматриваться и в аспекте его отдельного участника. Такая точ-
ка зрения позволяет многому проявиться в иных пропорциях,
в другом расположении, с другими выделяющими акцентами,
нежели это имеет место в дезантропоморфирующем отражении,
и от этого не возникает искажений истинности и не колеблется
объективность, независимость от сознания внутри бытия-в-себе;
при этом лишь выступают на первый план иные моменты,
а иные исчезают или по меньшей мере отступают, а те факто-
274
ры, которые там доминируют, здесь всего лишь образуют зача-
стую едва воспринимаемый, но всегда наличествующий базис.
Невзирая на такую (недостаточно подчеркиваемую) объек-
тивность этого нового аспекта бытия-в-себе, остается несомнен-
ным то, что в нем присутствует элемент субъективности, и это
проявляется не только в том, что его непосредственный способ
выражения, хотя и тесно связанный с его сущностью, концент-
рируется на индивидуально действующем человеке, на индиви-
дуальных восприятиях и т. п., но и в том, что все эти предме-
ты оставались бы непостижимыми и непонятными, если бы они
уже в своей объективной предметности не содержали отчетли-
вых указаний, явных интенций на мыслительную и чувственную
жизнь индивида. Мы снова удовлетворимся тем, что подытожим
подробно изложенное выше применительно к новой проблеме:
■особенное как эстетическая категория является формальным
выражением искомого соединения индивидуально-человеческих
поступков, чувств и т. п. с их значением для процесса развития
человеческого рода. Именно часто обсуждаемое и проистекаю-
щее непосредственно из особенного типическое сохраняет свой
истинный смысл только тогда, когда соотносится с данным
предметным комплексом: типичны характеры, ситуации, наме-
рения и т. п., если они отчетливо указывают на выделяемый
<в конечном итоге аспект развития человечества, позволяют ему
предстать в доступной восприятию пластичности. Определение
типического, его отграничение как от заурядного, так и от экс-
центрического, философски осуществляется только таким обра-
зом. Лишь при такой позиции типического в проблемном ком-
плексе бытия-в-себе — бытия-для-нас его сущность может быть
разъяснена правильно.
Центральное положение особенного в эстетическом отраже-
нии, сообщающее процессу перехода бытия-в-себе в бытие-для-
нас конкретную предметность, выказывает два других средства,
ранее столь подробно описанных, что теперь достаточно лишь
указать на их функцию. Вспомним в первую очередь о том, что
эстетическое отражение в своей исходной предметности уже со-
держит позицию относительно отображаемого феномена, пози-
цию за или против него. Конечно, без подобных решений не-
возможны ни повседневность, ни науки; но для них существенно
то, что они имеют дело с максимально объективно взятым бы-
тием-для-нас и стремятся постичь его беспристрастно, sine ira
et studio, так, как оно по возможности точно отражает бытие-
в-себе. Отстаивание той или иной из сторон часто оказывается
предпосылкой своевременно протекающего мыслительного про-
цесса, а его последствия для использования достигнутых объ-
ективных познаний неизмеримы. Но если в само отражение
вторгаются желания, стремления и т. п., то они наносят вред —
в том числе и для практики, — ибо предпосылкой успешной
деятельности должна служить возможно точно познанная объ-
18*
275
ективная действительность; снова отметим уже упоминавшуюся
приостановку практики в простейшем трудовом процессе и тем
более — в науке. Эстетическое отражение в этом отношении
радикально отличается от всякого другого. Склонность к той
или иной стороне не только служит предпосылкой выбора со-
ответствующего конкретного предмета, но и сам этот предмет
отражен и сформирован тем, что она определяет суть его эсте-
тического существования именно в ее эстетической объективно-
сти. Но тем самым уже описано и другое важное свойство
эстетического отражения: его часто упоминавшийся эвокатив-
ный характер, о котором столько уже говорилось и в целом
и в частности — в отношении отграничения его от сходных фе-
номенов жизни и науки, — что для понимания его роли в данном
комплексе проблем достаточно простого его упоминания.
Если мы рассмотрим совокупность этих определений в их
единстве, то в эстетическом отражении отчетливее прежнего
выступит столь же знакомая черта бытия-для-нас: его замкну-
тая в себе и одновременно индивидуальная сущность, то, что
мы в свое время назвали индивидуальностью произведения.
Конечно, в жизни, как и в науке, человек в известной степени
запечатлен во всяком бытии-для-нас, которое он постигает. Ни-
кто не будет оспаривать тот факт, что даже математическая
производная может выразить личность крупного ученого и что
совершенно небезразлично, кто открывает другим людям бы-
тие-для-нас, а также как оно субъективно опосредовано. Но
тем не менее не следует преувеличивать это видимое сходство,
принимая его за вывод по аналогии, так как в науке речь идет
в первую очередь об объективной, в-себе-сущей действительно-
сти, и воспринимаемые время от времени черты личности в объ-
ективном бытии-для-нас — просто побочные мотивы, которые не
в состоянии решительным образом затронуть суть дела. В жиз-
ни, где речь идет прежде всего о намечаемых практически ре-
зультатах, поведение действующей личности также может
сыграть большую роль, но не в силах объективироваться в от-
носительно самостоятельное явление. Напротив, именно это и
происходит в произведении искусства во всей его индивидуаль-
ности, и этим очерчивается своеобразное, а в понятийном его
выражении предстающее даже парадоксальным положение бьь
тия-для-нас в сфере эстетического: отражение действительности,
сформированное как прочное образование и претендующее на
всеобщее и — в принципе — устойчивое во времени действие,
вместе с тем — также в соответствии с принципом — обладает
замкнуто индивидуальным характером.
Неснимаемость субъективного компонента, которую мы кон-
статировали для бытия-в-себе в области эстетического, прояв-
ляется здесь в характерных особенностях соответствующего
этому бытию-в-себе, отражающего его бытия-для-нас. Здесь
этот момент субъективности выступает в крайне заостренной.
276
форме. С одной стороны, субъективность, как уже было пока-
зано, нераздельно связана с объективной значимостью произве-
дения как воплощения эстетического отображения действитель-
ности, как эстетического бытия-для-нас. С другой стороны, она
одновременно является сущностью произведения, в конечном
итоге определяющей все его компоненты; этой сущности как
эстетического образования вообще не могло бы быть, если бы
не было произведения, продуцированной индивидуальности.
Однако такая двойственность проявляется как парадокс только
в форме, переведенной в плоскость понятийного. Если обратить-
ся к ее изначальной предметности, то тотчас станет очевидным,
что свойства бытия-в-себе эстетического отражения, соответст-
вующий временной отрезок бытия и конкретное развитие чело-
века с его конкретными этапами и фазами, воплощенные в про-
странственных и временных параметрах, hic et nunc отдельной
данности, снятой на уровне особенного, могут стать достоянием
человеческого сознания только в форме такого бытия-для-нас.
Эта субъективность еще возрастает благодаря тому, что аппер-
цепция эстетического бытия-для-нас, то есть индивидуальности
произведения, может осуществиться только эвокативно. Истин-
ность и объективность, без которых очевидное наличное бытие
и проявление этой индивидуальности были бы абсолютно нич-
тожны, коренятся в бытии-в-себе, существующем независимо
от сознания. Ибо, как неоднократно и подробно говорилось вы-
ше, высвобождаемая продуцированной индивидуальностью эво-
кация — это эмфатическое действие мимесиса, и необходимой
предпосылкой — а порой и единственным определяющим фак-
тором,— для того чтобы оно осуществилось, является его истин-
ность. Индивидуальность произведения разделяет тем самым
со всеми другими видами проявления бытия-для-нас это требо-
вание связи с истинным отражением бытия-в-себе. Но пред-
ставляющиеся парадоксальными субъективные ее моменты не
препятствуют, как в случае с другими формами отражения,
совпадению бытия-в-себе и бытия-для-нас; нельзя рассматривать
их и как побочные моменты этого соотношения, в лучшем слу-
чае не затрагивающие ничего существенного. Напротив, это
специфические движущие силы, которые как раз и делают воз-
можной данную специфическую форму отражения.
Отсюда вытекают дальнейшие особенности индивидуальности
произведения искусства как бытия-для-нас; они также давно
нам известны и упоминаются здесь лишь в аспекте данной проб-
лемы, чтобы правильно понять их противопоставленность дру-
гим типам отражения. Во-первых, индивидуальность произве-
дения— это всегда нечто окончательное. В то время как в жиз-
ни и в науке каждое бытие-для-нас — это (в принципе) нечто
преходящее, что, будучи в данный момент последним прибли-
жением к истине, всегда может быть сменено еще более послед-
ним,— индивидуальность произведения (также будучи бытием-
277
Для-нас и именно в этой своей функции) не подлежит замене
йа что-то более совершенное, лучше сумевшее приблизиться к
действительности; она либо выражает эвокативно действенным
образом переживаемую сущность важного этапа развития че-
ловечества (также и для грядущих поколений), либо вообще
йе существует для эстетической сферы. (То, что произведения
с эстетической интенцией могут быть использованы как доку-
менты времени в общественных науках или как свидетельства
изменения формы, вкусов и т. д. в искусствоведении, не затра-
гивает сути проблемы.) Разумеется, само это воздействие обла-
дает историческим по сути характером, и поэтому эстетическое
суждение о фактах такого рода всегда лишь приближенно,
точно так же как любое другое научное суждение. То, что оцен-
ка Гомера или Шекспира, Рембрандта или Генделя подверга-
лась значительным историческим колебаниям (они даже быва-
ли забыты на каком-то отрезке времени, а затем вновь стано-
вились непосредственно созвучными эпохе), создает особую
область историко-материалистического исследования в виде
истории воздействия произведений и деятелей искусства; эта
область должна стремиться к выявлению социальных причин
подобных взлетов и падений. Но это никак не меняет принци-
пиальной задачи диалектического материализма, состоящей в
констатации таких чередований в эстетическом существовании
произведения и в поисках их содержательных и формальных
критериев. Для рассматриваемой в настоящее время проблемы
эстетического бытия-для-нас совершенно достаточно констати-
ровать этот контраст с научным бытием-для-нас.
Обсуждаемая особенность эстетического бытия-для-нас тесно
связана с другой столь же известной нам особенностью эстети-
ческого полагания: с его плюралистическим характером. Мы
знаем, что в научном отражении любое бытие-для-нас, даже
в случае его единичного функционирования, всегда представля-
ется лишь частичным моментом обширной совокупности, и та-
ковым и является. Да и в принципе научное отражение тяготе-
ет к систематико-фактическому единству, в котором каждое
бытие-для-нас дополняется другими, конкретизируется, ограни-
чивается ими и т. д. Напротив, та или иная продуцированная
индивидуальность ориентирована исключительно ria себя са-
мое. Как с изначально-эстетической точки зрения существуют
отдельные виды искусства, постижение сущностного и глубин-
ного единства которых возможно только для философии искус-
ства с ее понятийной системой, так и в концепции каждого
отдельного вида искусства, каждого жанра скрыта определен-
ная философски оправданная абстракция, мысленное самоуда-
ление от изначально эстетического, которое может быть пред-
ставлено только в отдельном произведении. Во всяком случае
в изначально эстетическом полагании существуют лишь отдель-
ные произведения, и, взятые непосредственно, они представляют
278
замкнутые монады, однако только лишь непосредственно, так
как их связь с конечным предметом, развитием человеческого
рода, отчетливо демонстрирует определенную философскую гра-
ницу этой непосредственности, что никоим образом не снимает
ее конкретно. Как человечество состоит из отдельных людей,
вследствие чего его самосознание может выражаться только
как самосознание отдельного человека, так и объективация,
открывающая это самосознание для всеобщего сопереживания,
совершается лишь в отдельном направленном на самое себя
произведении искусства. Предметная структура этого бытия-
для-нас представляет точное отображение отражаемого им бы-
тия-в-себе. Если бы могло возникнуть реальное понятийно обоб-
щенное бытие-для-нас с подобной реальной конкретностью и
с другими свойствами произведения искусства, то можно было
бы представить себе человечество как непосредственно прояв-
ляющуюся субстанцию по ту сторону образующего ее и един-
ственно материально реального отдельного человека; тем самым
он предстал бы перед нами как некий мировой дух в гегелев-
ском смысле. Следовательно, истина, достигаемая в отдельном
произведении искусства, точно соответствует субстанции той
сущей-в-себе действительности, которая им отображается; не-
посредственная реальность этой субстанции обретает выражение
как раз в отдельности, в замкнутости на себе, самообоснован-
ности любого эстетического бытия-для-нас, в том, что каждое
произведение— продуцированная индивидуальность, что прост-
ранственно-временные координаты, историческая значимость
и граница его генезиса проявляются в нем предстающими в не-
снимаемом единстве. Более обширная, более глубокая, обычно
достигаемая только благодаря разветвленным опосредованиям
и обобщениям истина об этой субстанции состоит в том, что
она увековечена в появлении и исчезновении миллионов инди-
видов и находится в постоянной репродукции и эволюции,—
эта истина прямо раскрывается в эстетической сущности произ-
ведения как такой индивидуальности. Истинность художествен-
ной формы этого последнего основывается в конечном итоге на
том, что его неснимаемая пространственно-временная чувственно
очевидная конкретность, его нерушимая индивидуальность на-
столько больше, нежели простая обусловленность временем и
местом конкретно-данного бытия, что в нем (не нарушая границ
имманентности его мира) содержатся наряду с другими и те
же самые моменты, благодаря которым личностная данность
связывается с ходом развития человечества. В силу этого
все значимое в какой-то его фазе вживается в память, в само-
сознание человеческого рода. Особенное как центральная ка-
тегория эстетического представляет собой форму, в которой
эта двойственность приходит к единству.
Если подытожить все сконцентрированные вокруг данной
проблемы умозаключения, свести их к единству, которое они
279
и образуют в действительности, то отчетливо и пластично пред-
стает все своеобразие эстетического бытия-для-нас. Чтобы не-
что могло опосредовать для людей бытие-в-себе их собствен-
ного рода, то есть человечества, оно должно вызвать к жизни
свойства некоторого нового бытия-в-себе; чтобы выполнять
подлинные функции бытия-для-нас, оно должно принять форму
бытия-в-себе. Это положение вещей самоочевидно с изначально
эстетической точки зрения. Если довести до сознания формаль-
ную идентичность эстетических переживаний, всегда с необхо-
димостью качественно различных и даже взаимно несравнимых,
то у них выявится равно абстрактный общий момент: их проти-
вопоставленность неизменяемой «действительности», разновид-
ность бытия-в-себе. Слово «действительность» взято в кавычки,
потому что к сущности эстетической восприимчивости относит-
ся и одновременное с переживанием понимание того, что выз-
вавшее это переживание произведение — дело рук человеческих,
а не действительность в смысле природы или общественного
явления. Данная оговорка подчеркивает как раз то, что важно
для нашего рассмотрения: произведение — это бытие-для-нас,
проявляющееся в форме — но только в форме — бытия-в-себе,
а не бытие-в-себе в собственном значении этого понятия.
Этот аспект произведения конкретизирует более раннюю,
еще чисто формальную нашу констатацию: подобие произведе-
ния бытию-в-себе обладает такими свойствами, что оно кажется
перекрывающим действительное бытие-в-себе и даже полностью
его элиминирующим. В то время как любое бытие-для-нас в
жизни или в науке в принципе верифицируемо, и притом таким
образом, что его сравнивают с бытием-в-себе, точнее — с тем
его частным моментом, который оно отображает, произведение
искусства как раз непосредственно исключает именно такой
способ проверки его верности действительности. Сам факт по-
явления такого сравнения между произведением и «оригина-
лом»— верный знак обывательского подхода, и в тоже время
отрицание такой (самой естественной с точки зрения обыденной
жизни) чуждой искусству установки приводит многих к полно-
му отрицанию отражательного характера искусства вообще.
Но тем самым действительно сложное отношение в эстетике
бытия-в-себе и бытия-для-нас ложно интерпретируется с другой
крайней позиции, ибо наше тщательное обоснование эстетиче-
ского мимесиса показало, что характер его как отражения дей-
ствительности никоим образом не снимается невозможностью
указания определенного объекта в-себе-сущего мира, которому
«подражал» бы определенный объект определенного произве-
дения искусства.
Разумеется, это не исключает того факта, что процесс худо-
жественного творчества в очень многих случаях страстно стре-
мится к воспроизведению определенных объектов действитель-
ности такими, каковы они есть; полноту примеров этого предо-
280
ставляет нам в особенности история изобразительного искусства.
Но это вовсе не означает, что можно смешивать отношение бы-
тия-в-себе и бытия-для-нас в процессе становления художест-
венного произведения со свойствами самого произведения, хотя
такое зачастую встречается в эстетике, не говоря уже о попыт-
ках крупных художников самостоятельно оценивать их собствен-
ные произведения. В творческом процессе, когда бытие^для-нас
находится еще в процессе зарождения, in statu nascendi, а его
подлинная структура может реализоваться только с послед-
ним штрихом, художник на самом деле соприкасается с самим
бытием-в-себе, и его работа направлена на определяющую фик-
сацию его в качестве бытия-для-нас. Однако и в этом случае
упомянутое выше конкретное совпадение деталей — не более
чем возможный и даже часто встречающийся пограничный слу-
чай, а не нормативная интенция и не типичная цель прогресса,
рассматриваемого в его целостности. Совпадение с бытием-в-
себе, к которому так стремится художник, полнее, богаче и глуб-
же этого, а его достижение в отдельных случаях — лишь средст-
во достичь совершенства произведения. Следовательно, то бытие-
в-себе, с которым художник сталкивается в своей работе —
впрочем, это достаточно редко происходит осознанно, — это тот
момент развития человечества, особенности которого воспламе-
нили его фантазию, его творческий пыл, и он мечтает добиться
воплощения его в гомогенной посредующей системе как совпа-
дения явления и сущности в новой непосредственности произве-
дения. Настоящий художник проявляется как раз в том, что
в нем звучат обращенные к субъекту, к самосознанию человек
ка (человечества) элементы и тенденции бытия-в-себе, и по^
этому он не задерживается на частной субъективности, не впа-
дает при обобщении единичного в воспаряющую над всем
человечеством абстракцию, но ищет и находит середину, сред-
нюю точку, в которой судьба человека становится отголоском
судеб человечества, мимолетная связь с конкретным местом,
и временем становится свидетельским показанием значимых из-
менений в истории человечества, отдельный человек — типом,
любой образ — непосредственно очевидным выражением своей
сущности. Экстенсивно бесконечное бытие-в-себе концентриру-
ется в этом процессе в интенсивную бесконечность произведе-
ния как микрокосма. Поэтому правильное отражение бытия-
в-себе в бытии-для-нас и должно ограничиваться этой глубокой
и подлинной конвергентностью проявляющейся сущности со
способом ее проявления; она может отсутствовать при боязли-
вой привязанности к отдельным чертам непосредственной мо-
дели и может убедительно наличествовать, если при таком —
художественно оправданном — сравнении ни одна из изобра-
жаемых деталей не перекрывается реальностью33.
Уже в этом виден характерный для эстетической сферы
взаимопереход бытия-в-себе и бытия-для-нас. Представляется
281
избыточным снова подчеркивать различие этого вида отражения
и отражения в жизни и в науке, состоящее в том, что необхо-
димые в них способы верификации здесь принципиально невоз-
можны. В то время как всякая дезантропоморфно отраженная
истина может проявиться как таковая лишь благодаря возмож-
но точному сравнению с прообразом, который она отображает,
любое произведение искусства непосредственно в себе несет
доказательство и оправдание своей подлинности, своей власти
сделать с. помощью эвокации бытие-в-себе самосознанием чело-
веческого рода. Однако слово «непосредственно» здесь много-
значно, и его значение как бы мерцает и переливается, но эта
неоднозначность не есть следствие непродуманности; она-то и
выражает сложное, многообразное, многослойное, противоречи-
вое единство произведения. Вследствие этого непосредствен-
ность именно здесь может пониматься совершенно буквально,
строго непосредственно: эвокация, которую пробуждает произ-
ведение, эмфаза, в которую оно погружает воспринимающего
субъекта основаны исключительно на его формальной структуре.
Несомненно, что это и есть изначально эстетическое отно-
шение к произведению, и в этом аспекте оно обладает ярко
выраженным характером бытия-в-себе; оно полностью пере-
крывает действительное бытие-в-себе, целиком оставляя позади
творческий процесс со всей его проблематикой бытия-в-себе
и бытия-для-нас. Между тем из вышеизложенного известно,
что это всемогущество художественных форм основывается на
том, что они являются конкретными формами с определенным
содержанием каждая. Первая непосредственность воздействия
тотчас же снимается, как только это содержание обретает спо-
собность воздействия, а мы знаем, что вышеописанное непо-
средственное переживание произведения идентично способности
его специфического содержания вызвать переживание, что имен-
но это содержание запускает механизм непосредственного воз-
действия, что полное осознание воспринимающим конкретной
роли формы в своем впечатлении должно быть чем-то более
поздним, опосредованным.
В пред- и поствосприятии необходимо возникает в определен-
ной форме проблема «сравнения» изображаемого в произведе-
нии содержания с тем, которое наполняло и наполняет жизнь
воспринимающего, благодаря чему, как представляется, и воз-
никает общее соотношение между бытием-в-себе и бытием-для-
нас. Как момент процесса воздействия это сравнение неизбеж-
но, однако, последовательно доводимое до конца, оно снимало
бы эстетический характер художественного произведения, делая
из него всего лишь инструмент миропознания. Этот момент не-
сомненно играет заслуживающую внимания роль в длительном
воздействии искусства. Если, например, мы скажем, что Шекс-
пир или Бальзак открыли типы, до них неизвестные, что рома-
ны Вальтера Скотта или «Война и мир» Толстого показывают
282
историю более достоверно, нежели историография, что портрет
Карла V Тициана или придворные портреты Гойи глубже вводят
нас в психологию отдельных эпох, чем какие бы то ни было
другие их объективации и т. д., то тем самым мы еще не оста-
вим области искусства, но интенция усвоения оформленного
содержания будет отчетливо направлена на отраженное в про-
изведении бытие-в-себе. Однако как ни важен этот компонент
в целостном воздействии, он его наверняка не завершает, не
является носителем его подлинной законченности. Имманент-
ность непосредственности завершается на более высоком уров-
не: на уровне переживания собственного, несравнимого (и в
этом смысле снова монадного) «мира» соответствующего про-
изведения. При том, что этот мир по своей субстанции пред-
ставляет нечто особенное, он и в этой особенности замкнут в
себе как абсолютно завершенный, точно так же, как он опять-
таки посредством того же особенного увековечивает тот мрмент
развития человечества, отражением которого является. Но по-
скольку этот момент не находится вне «мира» произведения,;
таким образом на него указывающего, но воплощен в нем са-
мом в более концентрированном виде, с расставленными акцен-
тами значимости, более определенным и явственнее расчленен?
ным, чем может быть любой такой отдельный в-себе-еуодий
предмет, то все пути, которые будто бы направлены на объект^
прообраз, ведут назад в произведение, как, по видимости, пока-
зывает это новая непосредственность имманентности. Так про-
изведение исходно и соответственно своей природе является
бытием-для-нас в эстетическом отражении, но таким, в котором
непосредственно объединяются существенные черты бытия-в-
себе. При желании категориально подвести это своеобразное
свойство произведения искусства под понятие — до сих пор мы
лишь описательно ограничивали его инобытие от прочих видов
отражения —на первый план сама собой выдвигается категория
бытия-для-себя. Это в высшей степени важное определение,
разумеется, всегда наличествовало в бытии и мышлении, но
только Гегель открыл его значение и обеспечил ему достойное
его место в логике ив учении о науке. (Примечательно, что
точно так же, как в случае с категорией особенного, правиль-
ное ощущение диалектики привело Гегеля к разработке форм
и связей, которые играют решающую роль именно в эстетике.
Но сам он в своей «Эстетике» почти вовсе не задумывается
о том, чтобы применить их с соответствующей результативно-
стью. Мы полагаем, что и здесь ложная идеалистическая иерарх
хическая основная концепция его системы препятствовала рас-
пространению им же самим логически открытой новой сферы
на эстетическое. Так как последнее в качестве уровня простого
созерцания было для него лишь предварительной ступенью,
ведущей к представлению и понятию, то он безо всякого вни-
мания прошел мимо многих решающих категориальных проблем
283
эстетического.) Категория бытия-для-себя как раз относится
к специфическим открытиям гегелевской философии. Но впо-
следствии ее важность не была понята никем, кроме Маркса,
Энгельса и Ленина, поэтому она почти полностью исчезла из
позднейших философских систем, а там, где она прижилась,
это зачастую сопровождалось ложным ее истолкованием. По-
этому необходимо по меньшей мере вкратце очертить суть этой
категории.
| С точки зрения общей систематики у Гегеля возникает сле-
дующий ряд: бытие-в-себе — бытие-для-нас — бытие-в-себе-и-
для-себя. Нетрудно увидеть, что исходным пунктом здесь слу-
жат описанные нами абстрактные, содержательно опустошен-
ные свойства бытия-в-себе. В бытии-в-себе-и-для-себя, напротив,
совершается реальная, конкретная, развившая все свои опре-
деления объективная действительность бытия-в-ceße. Бытие-
для-себя, будучи непосредственно негативной категорией, обра-
зует, как мы вскоре увидим, диалектический переход от абст-
рактной пустоты к содержательно полной конкретности. Так
как нас в этой связи интересует исключительно категория бы-
тия-для-нас, мы удовлетворимся лишь общей систематической
констатацией; этого достаточно для уяснения логического места
бытия-для-себя в учении Гегеля о категориях. От детального
изложения мы вынуждены отказаться, тем более что в вопро-
се о бытии-в-себе-и-для-себя в сильнейшей степени отражается
проблематика тождества субъекта-объекта, и до сих пор еще
очень мало сделано для очищения этой категории от ложных
установок идеалистической системы. Проблема бытия-для-себя
меньше затронута подобными тенденциями, по меньшей мере
вполне возможно относительно ясно представить ее методоло-
гический смысл, не вступая в столь неплодотворные для нас
сейчас констатации.
В «Науке логики» Гегеля бытие-для-себя вначале появля-
ется как качественный момент. В нем «совершается качествен-
ное бытие». В этом выражается, как Гегель детально показыва-
ет дальше, самостоятельное бытие как отрицание, как резкое
разделение одного бытия от другого. Гегель пишет, что «нечто
есть для себя, поскольку оно снимает инобытие, свое отношение
и свою общность с иным, оттолкнуло их, абстрагировалось от
них. Иное существует для него лишь как нечто снятое, как его
момент. Для-себя-бытие состоит в таком выходе за предел, за
свое инобытие, что оно как это отрицание есть бесконечное
возвращение в себя... Для-себя-бытие есть полемическое, отри-
цательное отношение к ограничивающему иному»34. Это же
свойство бытия-для-себя описывается в его «Феноменологии»:
«Эта определенность, которая составляет существенный харак-
тер вещи и отличает ее от всех других [вещей], теперь опре-
делена в том смысле, что вещь благодаря этому противопо-
ложна другим [вещам], но в этой противоположности должна
284
сохраняться для себя. Однако вещь, или для себя сущее «одно»,
лишь постольку такова, поскольку она не соотносится с други-
ми...» И в дальнейшем Гегель рассматривает бытие-для-себя
как «абсолютную негацию всякого инобытия»35. В этой связи
отнюдь не случайно, что глава «Науки логики», посвященная
качеству, рассматривает отталкивание как существенный при-
знак бытия-для-себя. Столь же не случайно, что Гегель с исто-
рико-философской точки зрения подчеркивает как значитель-
ное достижение открытие бытия-для-себя, этого «великого прин-
ципа», в атомистике Левкиппа. Прежде всего он выделяет при
этом выход за пределы плоской диалектики бытия и небытия
в трудах элейской школы: «Для-себя-бытие, напротив, есть,
как бытие, простое соотношение с самим собою, но соотноше-
ние посредством отрицания инобытия. Если я говорю: я есмь
для себя, то я не только есмь, но и отрицаю в себе все другое,
исключаю его из себя, поскольку оно выступает как внешнее.
Как отрицание бытия, которое само есть отрицание в отношении
меня, для-себя-бытие есть отрицание отрицания и, следователь-
но, утверждение, и это утверждение есть, как я его называю,
абсолютная отрицательность, в которой, правда, содержится
опосредствование, но такое опосредствование, которое вместе
с тем и снято»36.
Но тем самым описывается лишь относительно абстрактный
первый, самый примитивный, самый элементарный способ про-
явления этой категории. Уже в первой части «Науки логики»
появляются высшие диалектические определения. Прежде все-
го (что естественно следует из предыдущего изложения) коли-
чество, в которое у Гегеля переходит весь комплекс качеств,
представляет собой «снятое для-себя-бытие»37. Однако далее
из внутренней диалектики количества возникает мера, а в ней
возвращаются на более высоком уровне снятая категория ка-
чества, а с нею — также на более высоком уровне — и катего-
рия бытия-для-себя: единство, которое, по Гегелю, здесь возни-
кает «реальное для-себя-бытие, категория некоторого нечто как
единства качеств, находящихся в отношении меры, — полная
самостоятельность»38. Конечно, здесь нашей задачей не может
стать прослеживание на протяжении всей гегелевской системы
диалектического снятия и возвращения на более развитой сту-
пени категорий бытия-для-себя. До сих пор речь шла о том,
чтобы подчеркнуть его важную роль среди мыслительных опре-
делений конкретной, самостоятельной предметности. В даль-
нейшем мы выделим лишь некоторые узловые моменты, про-
ясняющие появление и функционирование этой категории в ее
более сложных и развитых связях. Начнем с живого организма
как примера той роли, которую играет бытие-для-себя. Гегель
пишет: «Живое существо стоит лицом к лицу с неорганической
лриродои, к которой оно относится как имеющее власть над нею
и которую оно ассимилирует. Результатом этого процесса не
285
является, как в химическом процессе, нейтральный продукт, в
котором самостоятельность обоих противостоящих друг другу
сторон снята; но живое существо показывает себя более силь-
ным, чем его другое, которое не может противостоять его вла-
сти. Покоренная живым существом неорганическая природа
претерпевает это потому, что она в себе есть то же самое, что-
жизнь есть для себя. Живое существо, таким образом, в другом
смыкается лишь с самим собой»39. Это высказывание примеча-
тельно уже потому, что Гегель совершенно материалистически
рассматривает взаимоотношение жизни с ее неживым окруже-
нием. Как предметы природы они равны в том смысле, что зако-
ны физики и химии оказывают одинаковое воздействие как на
то, так и на другое. Кроме того, жизнь не рассматривается (как*
например, у виталистов) как собственная, стоящая вне физики-
и химии особая «сила», но просто как специфическая структура*
специфическое формирование той же самой материи определен-
ными категориями, придающими, однако, жизни такую власть
над материей, которая сама по себе ей равна. Такая общая»
форма выраженности свойств жизни как бытия-для-себя полу-
чает в данной связи особое значение для понимания послед-
него.
Это значение выражается прежде всего в том, что речь уже
идет не просто о статических, механически возвращающихся
отношениях, как в случае с количеством, мерой и т. д., но о
динамически воздействующих соотношениях. Этот момент про-
является в еще более сильной степени, когда речь заходит о
труде. В своей «Феноменологии» Гегель пишет о нем: «Разде-
ление, из которого исходит работающий дух,^-разделение
в-себе-бытия, которое становится материалом, им обрабатывае-
мым, и для-себя-бытия, которое есть сторона работающего са-
мосознания,-— стало для него в его произведении предметным»40^
Ту же самую мысль Гегель в своей «Науке логики» распро-
страняет на всю сферу действия практического: «Поскольку
понятие есть теперь для-себя в-себе-и-для-себя-определенное
понятие, идея есть практическая идея, действование»41. Это вы-
водит категорию бытия-для-себя из чисто объективной сферы,
предметности вообще, жизни и т.. п. в сферу сознания, само-
сознания. Гегель подчеркивает это обстоятельство уже при пер-
вом, абстрактном рассмотрении бытия-для-себя. Он видит в:
сознании бинарность его самого и соответствующего ему объ-
екта: «Самосознание, напротив, есть для-себя-бытт совершен-
ное и установленное»42. Благодаря этому бытие-для-себя ста-
новится (мы и здесь даем лишь конечный результат, а не раз-
личные промежуточные ступени, из которых вообще упомянули:
лишь труд и практику) на своей высшей, наиболее развитой
ступени специфической категорией человеческого существования,.
и это происходит как раз тогда, когда его сущностные опреде-
ления, качественно отличающие человека от любого другого
286
живого\существа, делающие его собственно человеком, вступа-
ют в сиЛу во всей своей полноте.
Тем самым получает теоретическое и практически-истори-
ческое обоснование тесная взаимосвязь бытия-для-себя и само-
сознания, которая без аргументации вводилась с самого начала.
Здесь мы также вынуждены ограничиться одним только ука-
занием. Для наших целей не имеет решающего значения то,
что Гегель на этом проблемном уровне время от времени при-
давал своим формулировкам теологический оттенок, так как
существенное, специфически человеческое, несмотря на это
предстает с ясностью, которую невозможно не понять. Так,
в своей «Философии истории» он пишет о грехопадении как о
«вечном мифе человека» и высказывается следующим образом:
«Рай есть парк, в котором могут оставаться только звери, а не
люди. Ведь животное отождествляется с богом, но лишь в себе.
Лишь человек есть дух, т. е. для самого себя. Но это для-себя-
бытие, это сознание есть в то же время отделение от всеобще-
го божественного духа»43. К этому присоединяются хорошо из-
вестные любому знающему Гегеля наблюдения над абстракт-
ной свободой человека, над философской возможностью зла.
Здесь объединяются в полной конкретности даже бытие-для-
себя и самосознание. То, что в описанных объективных отно-
шениях было простой формой наличия материи и ее свойств,
здесь обретает свои субъективные компоненты, точно соответ-
ствующие его сущности, и в силу этого только теперь объек-
тивные движения в самосознании человека, которое мысленно
и душевно резюмирует его бытие-для-себя, могут благополучно
прийти к вещественному, предметному завершению. Одновре-
менно это означает, что бытие-для-себя становится важной
категорией общественной жизни людей, а именно той высотой
их рефлексий над самими собой, достигнув которой они призна-
ют своей собственной (и определяют как таковую) историче-
скую тенденцию развития, глубоко связанную с их существо-
ванием. Благодаря этому многие доселе чисто стихийно возни-
кавшие и действовавшие социальные совокупности обретают
более высокую форму движения, более мощную общественную
двигательную силу. Это следствие из гегелевской концепции
бытия-для-себя смог вывести только Маркс. В «Нищете фило-
софии» он именно с помощью этой категории показывает вели-
кий поворот в становлении пролетариата как класса: «Эконо-
мические условия превратили сначала массу народонаселения
в рабочих. Господство капитала создало для этой массы оди-
наковое положение и общие интересы. Таким образом, эта
масса является уже классом по отношению к капиталу, но еще
не для себя самой. В борьбе, намеченной нами лишь в некото-
рых ее фазах, эта масса сплачивается, она конституируется
как класс для себя»44. Описанный Марксом категориальный
поворот связан с практическим отношением человека к обще-
287
ству; только благодаря этому в его жизни возникает /бытие-
для-себя как категория самосознания. Чисто научная констата-
ция фактов, объективно заложенных в основу подобной дея-
тельности, создает лишь сознание людей о них самих и не
всегда (и не без принуждения) переходит в практику. Превра-
щение этого сознания в самосознание (соответственно достиг-
нутого отражением бытия-для-нас в бытии-для-себя) вызывает
к жизни новое отношение людей, даже если его содержатель-
ные определения взяты без исключения из соответствующего
научного отражения. Мы не можем здесь вдаваться в подроб-
ности возникающих при этом очень важных и запутанных проб-
лем, они относятся к исследованию теоретических основ прак-
тики и подлежат ведению этики, политики и т. п.
Очевидно, последние соображения не требуют подробных
разъяснений; стоит лишь окинуть их обобщающим взором*
чтобы отчетливо увидеть: все определения, которые мы призна-
ли особо значимыми для сущности бытия-для-себя, от любого
инобытия до самосознания человека, представляют ключевые
моменты художественного произведения. Все дело сводится к
тому, чтобы вскрыть способы его проявления по их специфи-
ческим свойствам. Как это часто бывает, в этом аспекте поучи-
тельно также подойти к проблеме с ее негативной стороны.
Мы имеем в виду столь часто затрагивающийся в наших на-
блюдениях вопрос о том, что категории и их связи, будучи
воспринимаемы как формирующие принципы самой объектив-
ной действительности, ведут к ее идеалистическому искажению,,
однако в приложении к эстетике (и в достаточной степени кон-
кретизированный правильными ограничениями и предпосылка-
ми) такой подход обладает определенной относительной спра-
ведливостью. Следует постоянно возвращаться к этому вопро-
су не только ради более точного освещения эстетических кате-
горий; его разъяснение значимо еще и потому, что, как мы
полагаем, в ходе исторического развития мышления само суще-
ствование, а также своеобразие, воздействие произведения ис-
кусства (и процесс его создания) очень часто роковым образом
влияли в этом своем аспекте на идеалистическую философию^
которая некритически овеществляет недостаточно проницатель-
но проанализированные наблюдения над этими свойствами)
произведения искусства как категории объективной действи-
тельности и над отношением к этой категории человека. У Пло-
тина или Шеллинга это прослеживается с легкостью, у других
соединительные нити более опосредованы или скрыты. Однако
мы считаем, что материалистически ориентированный критик
и знаток средневековой философии без труда может выявить
филиацию идей, ведущую от Плотина к Дионисию Ареопагиту.
а от него к Эриугене и т. д.
Возьмем для начала уже упоминавшееся в этой главе так
называемое онтологическое доказательство бытия бога [с. 246
288
и сл.].\Мы уже указывали, что его логическое зерно состоит в
якобы нераздельной связи совершенства и существования. Про-
изведение искусства на первый взгляд предлагает нам сходную-
соотнесенность существования и совершенства именно вслед-
ствие своего бытия-для-себя. Все, что появляется в произведе-
нии искусства, должно быть совершенным (хотя сразу же до-
бавим: в своем роде). Если бы оно не было совершенным, то
оно не могло бы существовать (добавим и здесь: в контексте
данного конкретного произведения). Уже эти по видимости
продиктованные формальной точкой зрения оговорки показы-
вают существенные черты принципиального различия. Непосред-
ственная связь существования и совершенства, с одной сторо-
ны, — не свойство самой объективной действительности, а проста
определенный вид ее отображения. С другой стороны, здесь
конвергенция этих категорий достигается не экстремальным
полаганием высшей и самой абстрактной общности, а, напротив,,
исключительно благодаря той атмосфере конкретной особен-
ности, которая, как мы пытались показать, характерна именно«
для искусства (и только для него). Оба момента совпадают.
Эмфатически-абстрактный тип сущности художественного воз-
действия, достигаемая в произведениях высота отображения;
действительности, ее стремление к совершенству, к полноте,
к непосредственной очевидности существования легко могут
вызвать некритическое обобщение, состоящее в утверждении^
что в этом выражается сущность мира (истиннее и одновре-
менно более непосредственно, нежели в любой другой области-
человеческого бытия) и что такое совершенство является по-
этому свидетельством подлинного, истинного существования.
Мы уже неоднократно показывали, что любой такого рода ход
мыслей упускает кажущееся прозаичным, но непоколебимо вер-
ное понятие существования, его независимости от всякой субъ-
ективности. Ближайшее рассмотрение вместе с тем показывает,,
что непосредственное представление о совершенстве равным
образом может быть лишь крайне многозначным. Если подхо-
дить без предвзятости, то для сферы эстетического положение
складывается крайне просто: здесь совершенство — это совпа-
дение явления и сущности, внутреннего и внешнего в конкрет-
ном (особом) предмете; этот предмет должен быть художе-
ственно органически включен в конкретную (особую) связь в-
соответствии с (особыми) закономерностями гомогенной ему
посредующей системы. Но это положение не может распростра-
няться даже на отдельные явления природы, и его нельзя пред-
ставить как общий закон. Когда Гёте критикует Дидро, он ясно^
выражает многослойную переливающуюся сущность совершен-
ства существования. Гёте приводит высказывание Дидро о том,,
что природа не делает ничего непоследовательного, ничего, что-
не было бы таким, как должно быть, и тотчас противопостав-
ляет этому утверждению собственную поправку: «Природа не
19—102
289'
„делает ничего непоследовательного. Любой образ, будь 6п пре-
красен или уродлив, имеет свою причину, которой он и обуслов-
лен. И среди всех известных нам органических явлений нет ни
одного, которое не было бы таким, каким оно.может еыть»45.
Не входя в предметное содержание контроверзы (она может
быть рассмотрена подробнее только в главе о природной кра-
соте [см. т. 4, гл. 15]), можно уяснить, что в основе этих двух
пониманий лежит разное представление о совершенстве: у Дид-
ро— полемически направленное против художественных воз-
зрений его времени, обобщающе (в данном случае — некрити-
чески) проанализированное понятие природы в аспекте сбли-
жения его с понятием совершенства («должно быть»); у Гёте —
критическая относительность, попытка понять необходимость
конкретно-данного бытия любого предмета природу, исходя из
объективных природных законов бытия, но не приписывая им
в силу этого абстрактного совершенства («может быть»). Это
никоим образом не умаляет, как было показано в другой свя-
зи [см. т. 2, с. 391], достоинств подхода Гёте к наблюдению
отдельных («совершенных» в себе) природных феноменов. Но
его одушевление здесь и его осторожность там указывают, что
из природы и искусства, из правильного мышления и подлинно
художественного рассмотрения можно вывести важную общую
теорию: совершенство не только относительно, то есть всегда
является совершенством лишь в аспекте определенного кон-
кретного принципа, но и множественно, то есть является кон-
кретным и особенным совершенством конкретных и особенных
явлений. Отсюда вытекает, что оно не терпит обобщения; если
обобщение проведено, то (при всей очевидной ясности общих
понятий) именно из-за фактической неясности данного понятия
возникает путаница. Произведение искусства как для-себя-сущее
как раз и воплощает эту жизненную правду: в любом предмете,
в любой ситуации и т. д. может быть открыто их совершенство
как их собственное совершенство. По своему особому характеру
оно всегда плюралистично: это совершенство данных особенных
определений, которые в разных взаимосвязях могут показаться
хорошими или дурными, вызывающими одобрение или негодо-
вание. Совершенство, очевидное существование, открывающееся
при этом, конечно, не снимает необходимости моральной и т. п.
оценки; множественная относительность не содержит в себе
общего релятивизма. Напротив, из нее исходят, самим фактом
ее существования выражаются посюсторонность, богатство, не-
исчерпаемость чувственно данного мира. Часто упоминаемая
нами интенсивная бесконечность конкретных определений лю-
бого подлинно художественного произведения искусства пред-
ставляет необходимую предпосылку его возникновения и воз-
действия в форме подобного бытия-для-себя. В бытии-для-себя
произведения искусства тем самым выражается значительность
правды жизни, ее имманентной бесконечности, которая прояв-
290
ляетея как интенсивная бесконечность каждой частицы и воз-
вещает отказ от всякой потусторонности с ее «совершенством»-
и «существованием», основанными на снятии утверждаемых;
здесь особенности, конкретности и на следующей из них посю-
сторонности. Всякое обобщение, стремящееся оторваться or
конкретности и особенности бытия-для-себя, теряется в тумане
гипостазирующего субъективизма. Специфические определения-
бытия-для-себя невозможно распространить на бытие-в-себе и
прежде всего на бытие-в-себе-и-для-себя.
В предыдущем изложении [см. т. 2, с. 189 и ел.] мы уже-
затрагивали другую важную проблему идеалистической фило-
софии, проблему тождества субъекта и объекта; следовательно,
здесь нужно лишь несколько подробнее рассмотреть ее с точки
зрения бытия-для-себя. Связь бытия-для-себя с самосознанием
создает своеобразное отношение между субъективностью и объ-
ективностью, которое, как мы увидим, на деле представляет
противоположность тождеству субъекта и объекта, но служит
для него (как в вышеуказанном случае) своего рода «моделью».
Как бытие-для-себя, будучи предметной формой субъективности,
так и самосознание, будучи способом ее проявления, указыва-
ют на другие отношения между субъектом и объектом, чем
те, которые обычно выступают в жизни или науке; они гораздо
теснее сближены и интенсивнее проникают друг в друга, неже-
ли в других сферах, а подчас даже объединяются вплоть да
непосредственной неразличимости. Произведение искусства про-
тивопоставлено всем другим видам отражения и объективация
тем, что его самая общая форма —это бытие-для-себя. Отсюда
и вытекает непосредственное воздействие субъективности как
на все элементы, так и на произведение в целом. Ибо в жизни
и в науке, где бытие-для-себя единичных явлений всегда входит
в более или менее обширные связи (и должно возводиться к
ним), где практика требует возможно точного обособления субъ-
ективных элементов от объективных, чистое разделение должно1
преобладать по меньшей мере как тенденция. Но бытие-для-
себя художественного произведения представляет нечто значи-
тельно большее, чем просто негативность, абстрактное от-
талкивание по отношению к любому инобытию; его бы просто-
не было, если бы основой ему не служила особая субъектив-
ность, единообразно конституирующая его конкретную целост-
ность и по духу своему позволяющая проявляться даже самым
неявным деталям, формируя их. Следовательно, для-себя-сущее
произведения искусства —это «мир», вид объективного бытия-
в-себе, противостоящий воспринимающему его во всей незамут-
ненное™ своего конкретно-данного бытия, в своей обоснованной
необходимости. Однако точно так же, как эта объективность
превращает произведение искусства в целостность и проникает
во все его поры, так его целое в совокупности всех его моментов
одновременно с объективностью и неотрывно от нее выступает
19*
291
•способом проявления определенной и особенной субъективности.
Итак, перед нами как бы тождественный субъект-объект,
точнее говоря, формообразование, в котором субъективность и
объективность приведены к органическому единству. Это пока-
зывает, как излагалось выше, что открывающаяся здесь субъ-
ективность— это не подлинный субъект; таковым является
•субъект творчества, который, однако, противостоит двойному
бытию-в-себе одновременно: бытию-в-себе действительного ми-
ра, который он отображает, и бытию-в-себе своего видения
этого мира (его видение противостоит ему — как частному ли-
цу— в качестве бытия-в-себе, объективности). Сезанн сказал:
«Мое полотно и пейзаж — они оба вне меня...»46. Таким субъ-
ектом в его отношении к произведению является воспринимаю-
щий, так что и здесь опять-таки не может быть и речи о тож-
дестве субъекта и объекта. Но сама для-себя-сущая индивиду-
альность произведения — это тоже не субъект, в той мере в
•какой это выражение сохраняет свой смысл; у нее нет субъек-
та, если не приписывать его ей в магическом смысле. Она, как
говорилось выше, представляет высший, богатейший, разветв-
леннейший способ выражения субъективности человека, и она
обладает безграничной способностью вызывать субъективность
в человеке и доводить ее до полного расцвета. Это способность
объективации, полагания, формообразования, но ни при каких
обстоятельствах не власть субъекта. Тем самым в негативно-
полемическом аспекте достаточно наглядно описывается свое-
образие для-себя-сущего произведения: в то время как все дру-
гие формообразования, созданные человеком посредством от-
ражения объективной действительности и овладения ею, должны
•выказывать тенденцию к исключению, нейтрализации, ограни-
чению действительности, насколько это возможно, сущность
индивидуальности произведения состоит как раз не только в
эвокации субъективности, но и в придании ей широты, глубины,
интенсивности, которых она никогда не смогла бы достичь в
жизни. Само собой разумеется, что жизненные события спо-
собны вызывать неизмеримо более сильные субъективные аф-
фекты, страсти и т. п., нежели произведения искусства, но здесь
речь идет только о противопоставленности им образов, служа-
щих цели фиксации отражения. При этом во всяком случае
следует еще заметить, что сила или постоянство страстей в
жизни ни в коем случае не просто безоговорочно идентична
с их подлинностью и полнотой в описанном нами — в связи с
«миром» художественных произведений — смысле.
Это противопоставление, вырастающее и весьма плодотвор-
но дополняющееся в ходе развития человечества, выявляется
со всей очевидностью, когда мы думаем о самосознании как о
собственно субъективном моменте бытия-для-себя. Ведь жиз-
ненные страсти точно так же производят самосознание в охва-
ченных ими людях, но, как правило, лишь в качестве побочного
292
продукта. Каждая страсть в жизни развертывается на почве
•конкретной целевой установки и непосредственно нуждается
в первую очередь в осознании объекта и средств его достиже-
ния; она может привести к самосознанию (и даже высокораз-
витому), но это не обязательно. Однако эмфаза, пробужденная
для-себя-сущим произведением как единым формообразованием,
■непосредственно нацелена на пробуждение самосознания. Глу-
бочайший смысл аристотелевского катарсиса, «очищения» стра-
стей, в первую очередь состоит в том, чтобы коснуться как
►сознательного, так и «бессознательного» в самой сердцевине
субъекта и возвысить его до самосознания. Уже было выяснено
в деталях, что модные теперь в этом вопросе противопоставле-
ния ложны [см. т. 2, с. 418 и ел., 434 и ел.]. Самосознание не
•означает отказа от субъективной действительности и от ее мак-
симально верного понимания, напротив, чем более развита дей-
ствительность и чем более углубленно соответствующий инди-
вид, действуя и размышляя, ее постигает, тем подлиннее и глуб-
же становится его самосознание. Но то, что жизнь может дать
.лишь ценой напряженных и длительных усилий, переживание
произведения искусства, можно сказать, дарует как милость.
(Хотя проблема предвосприятия показывает, что это пережива-
ние не может наступить без предшествующей предварительной
работы субъекта.) Однако эта сущностная разновидность воз-
действия для-себя-сущего произведения одновременно означает
.распространение самосознания далеко за пределы круга обыч-
ных, нормальных индивидуальных переживаний. Опрокиды-
ваются барьеры времени и пространства — так называемого
principium individuationis и пробуждается безграничная (по
меньшей мере в принципе) способность к переживанию всего
человеческого. И здесь эстетическое лишь осуществляет уже
действующие в жизни тенденции; но его универсальность при-
дает такому количественному расширению ярко выраженный
качественный характер.
Возможно, на первый взгляд покажется парадоксальным
приписывание предиката универсальности обособившемуся бла-
годаря отталкиванию от всего чужеродного бытию-для-себя ху-
дожественного произведения, его субъективным компонентам,
прикованным к индивидуальному самосознанию. Далее, кажет-
ся неизбежным то, что при этом на горизонте мышления снова
появляется концепция тождества субъекта и объекта. По этой
причине именно здесь следует особо точно различать реальное
и потому плодотворное и оплодотворяющее противоречие чело-
веческого бытия и его преждевременное некритическое мыслен-
ное обобщение. При непосредственном рассмотрении универ-
сальность бытия-для-себя оказывается: 1) формальной; и в дей-
ствительности она несома своеобразием художественного
формирования; в силу этого она в состоянии переместить в об-
ласть универсального отношения (благодаря способности обра-
293
зовать и сохранить свою внутреннюю законченность)/ самое
себя вместе с обладающим аналогичными свойствами бытием-
для-себя любого человека, любого человеческого отношения,,
любого объекта, который их опосредует; 2) преобразующей;,
причем повсюду может открыться и возвыситься до формы воз-
можность становления — во всей его чистоте и значительности —
бытия-для-себя; 3) рецептивной, причем становление подобного
бытия-для-себя апеллирует к самосознанию любого человека,
а эстетическое воздействие ставит каждого в такое положение,,
что он с помощью самосознания обретает как свое, органиче-
ское, все, что сделало или перестрадало, завоевало или полу-
чило человечество, переживает это (в широком смысле слова)
как элемент своего собственного бытия, своего собственного*
мира, своего собственного самосознания. Конечная истинность
художественной формы покоится именно на этой универсально-
сти, которая с ее помощью обнаруживает себя и сообщается
людям.
Однако все еще сохраняется вводящая в заблуждение пара-
доксальность, в силу которой созданные человеком образы об^
ладают властью эвоцировать созвучные им эмфатические чув-
ства, воспаряющие до высот самосознания. На низшей ступени
сознания эта особенность искусства должна создавать впечат-
ление, приближающееся к магическому, поэтому древние ска-
зания об искусстве (как на Востоке, так и на Западе) испол-
нены пережитками подобных верований. Даже в более поздние
времена появляются такого рода убеждения, и произведения
искусства благодаря этой своей силе воздействия отчасти пре-
вращаются в инструмент магии или религии, отчасти образуют
сплав с религиозными верованиями. В эстетической эманации
учения о едином субъекте-объекте в философски-секуляризо-
ванной форме продолжают существовать пережитки подобных
древнейших воззрений, а именно: универсальный возбудитель
субъективных переживаний сам необходимо должен иметь ха-
рактер субъекта. Только кропотливый анализ сущности произ-
ведений, непредвзято раскрывающий их категориальную струк-
туру и в том же духе исследующий время от времени обнов-
ляющиеся общественные потребности, которые с необходимо-
стью вызвали к жизни эти произведения, может выявить
подлинные и плодотворные противоречия, определяющие собой
движение в сфере эстетического. Переведенные на язык поня-
тийного мышления, эти противоречия кажутся всего лишь пара-
доксальными, «чудом»; сами по себе они —скромные факты
человеческого существования. Такая транспозиция неизбежна,
потому что иначе выпадает столь важная область, как искус-
ство мистицизма, иррационализма, однако она должна осуще-
ствляться лишь на основе того воззрения, что повседневность,
искусство и наука отражают одну и ту же объективную дей-
ствительность и что категории, их своеобразие и упорядочен-.
294
ность точно так же суть отображения общей объективной дей-
ствительности. Идеалистическая философия всегда стремилась
распространить на другие области те формы и сочетания кате-
горий, которые, правильно или замещенным образом, возникают
в сознании, и поэтому часто (и с далеко идущими последствия-
ми) насильственно искажала изначальные свойства эстетиче-
ского. Только исходя из объективной действительности можно
правильно понять фактическое положение дел. Появляющаяся
на уровне мышления парадоксальность показывает лишь, что
эти структуры значительно сложнее, чем мы это себе зачастую
представляем; но одновременно она свидетельствует и о том,
что человечество, удовлетворяя свои подлинные потребности,
может очень просто осуществить на практике нечто, характе-
ризующееся высшей степенью сложности. В данном случае,
например, это полагание бытия-для-себя как середины, благо-
даря чему категории бытия-в-себе и бытия в-себе-и-для-себя,.
взаимно сливаясь, снимаются и превращаются в обработанный
жизненный материал центральной категории.
ПРИМЕЧАНИЯ
Глава 11. Сигнальная система Г
1 Павлов И. П. Поли. собр. соч., т. Ш/2. М. —Л., 1951, с. 345—34&
2 Павловские среды, т. I. М., 1949, с. 267.
3 Там же, с. 273.
4 Павловские среды, т. II, с. 493. »
5 Павлов И. П. Избр. произв. М., 1949, с. 505. В таком же смысле»,
хотя и не в такой парадоксальной формулировке. Павлов характеризует это
противоречие в другой работе (см.: Павлов И. П. Поли. собр. соч., т. Ш/2,,
с. 346 и ел.).
6 Павловские среды, т. III, с. 109.
7 Подробнее см. в: Павловские среды, т. II, с. 540—556.
8 Павловские среды, т. III, с. 262.
9 Павловские среды, т. II, с. 25.
10 Павловские среды, т. III, с. 401.
11 Павловские среды, т. II, с. 153; см. также с. 378.
12 Там же, с. 567.
13 Павловские среды, т. III, с. 7.
14 Там же.
15 П а в л о в И. П. Избр. произв., с. 503.
16 Павловские среды, т. III, с. 318.
17 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 489.
18 Г е г е л ь Г. В. Ф. Соч., т. IV. М., 1959, с. 16.
19 Павловские среды, т. III, с. 17.
20 Там же, с. 17.
21 Там же, с. 276.
22 Gehlen A. Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt,
Bonn, 1950, S. 161.
23 Ibid., S. 141.
24 Ibid., S. 152 f.
25 Ibid., S. 204.
26 Ibid., S. 205.
27 Ibid., S. 196, 197.
28 Ibid., S. 195, 197.
29 Л e h и н В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 330.
30 Павловские среды, т. I, с. 232.
31 Павловские среды, т. II, с. 496.
32 Гегель Г. В. Ф., Энциклопедия философских наук, т. 3. М., 1977,
с. 282.
33 Там же, с. 288.
34 Павловские среды, т. III, с. 319.
35 Павловские среды, т. II, с. 525.
36 Volkelt H. Über die Vorstellungen der Tiere, Leipzig— Berlin, 1914.
S. 15, 17 f.
37 См.: Павловские среды, т. I.
38 Павловские среды, т. III, с. 196.
39 Rothacker Е. Probleme der Kulturanthropologie. Bonn, 1948, S, 161
[107], 166 [112].
296
40 Ibid., S. 165 [111].
41 Аристотель. Соч. в четырех томах, т. 4. М., 1983, с. 184—185.
42 Там же, с. 185.
43 Prantl v.C. Geschichte der Logik im Abendlande, Bd. 1. Berlin, 1955,
S. 107, Anm. 59.
44 Аристотель. Соч., т. 4, с. 185.
45 Павловские среды, т. II, с. 227. Прежде чем подробно изучить учение
Павлова, я уже предложил сходную постановку этой проблемы и дал анало-
гичное решение: «И психологически в отношении интуиции возникает ощуще-
ние, что она как будто конкретнее, синтетичнее, чем абстрактное, оперирующее
лишь понятиями дискурсивное мышление. Правда, это лишь иллюзия, так как
интуиция психологически есть не что иное, как внезапное осознание проте-
кавшего бессознательно мыслительного процесса» (см.: Lukâcs G. Existen-
tialismus oder Marxismus. Berlin, 1951, S. 24).
46 G e h 1 e n A. Der Mensch, S. 67.
47 Ст.: Аристотель. Риторика, ч. II, Спб., 1894, с. 124.
48 G eh 1 en A. Der Mensch, S. 49.
49 Ibid., S. 54; см. также: Гоббс T. Избр. произв., т. 1. М., 1964, с. 235.
ъо Г о б б с Т. Избр. произв., т. 1, с. 235.
51 Map кс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 99.
62Ксенофонт Афинский. Сократические соч. М., 1935, с. 123.
53 Эта проблема, проблема категории особенного, будет подробно рас-
смотрена в следующей главе. О логической взаимосвязи особенного и типиче-
ского см.: Lukâcs G. Prolegomeni a un' estetica marxista. Roma, 1957,
p. 228 f.
54 Горький M. Собр. соч., т. 16, M., 1933, с. 258. Ранее молодой Горь-
кий пытался представить бальзаковского Гранде и своего деда как принадле-
жащих к одному и тому же типу людей.
55 См.: Чернышевский Н. Г. Избр. филос. соч., т. 1. М., 1950.
56 См.: Jean Paul. Vorschule der Ästhetik. Nebst einigen Vorlesungen in
Leipzig über die Parteien der Zeit. Weimar, 1935, S. 98 f.
57 См.: Д а p в и н Ч. Собр. соч., т. 4, Спб., 1894, с. 150 и ел.
68 См.: Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. М., 1936, с. 27.
59 Павловские среды, т. II, с. 398; ср. там же, с. 371, об абстрактных пред-
ставлениях о форме в экспериментах над обезьянами.
60 Там же, с. 297.
61 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 489.
62 См.: Д а р в и н Ч. Собр. соч., т. 4, с. 151.
63 Павловские среды, т. III, с. 408.
64 Павловские среды, т. II, с. 468. Далее автор не пытается дать даже
самый общий обзор богатой литературы по данной проблематике. Здесь пред-
лагается самая общая характеристика проблемы.
65 Там же, с. 470.
66 См.: Prinzhorn H. Bildnereien der Geisteskranken. Berlin, 1923, S. 15,
340.
67 См.: Jakab I. Dessins et peintures des aliénés. Analyse au point de
vue psychiatrique et artistique. Budapest, 1956, p. 120 f.
68 Ibid., p. 48.
69 Ibid., p. 15.
70 Ibid., p. 112, 115.
71 Ibid., p. .119 f.
72 См.: Prinzhorn H. Bildnereien der Geisteskranken, S. 271 f.
73 Ibid., S. 340.
74 Ibid., S. 256 ff.
75 Ibid., S. 270.
76 Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. M., 1965, с. 102,
77 Там же, с. 100.
78 Яснее всего этот процесс проявляется у малоизвестного художника,
страдающего шизофренией, работы которого находятся в собрании У. Маклея
в Лондоне. Там имеется пять изображений кошек его кисти. Первая картина
297
еще вполне реалистична. В ходе развития болезни происходит изменение сти-
ля работ в сторону преобладания двухмерного декоративного принципа, пока,
очертания кошек не растворяются полностью в декоративной орнаментике.
Но и последняя картина «эстетична» в рассматриваемом здесь психологиче-
ском смысле (см.: Volmat R. L'art psychopathologique. Paris, 1955, p. 59,.
166, ill. № 105—109.
79 Основные стороны этой проблемы применительно к одному конкретному
случаю см.: L u k à с s G. Tolstoi und die westliche Literatur. — In: L и к а с s G..
Der russische Realismus in der Weltliteratur. Berlin, 1952, S. 235 ff.
80 См.: Jaspers K. Strindberg und van Gogh. Versuch einer pathogra-
phischen Analyse unter vergleichender Heranziehung von Swedenborg und Höl-
derlin. Leipzig, 1922, S. 72.
81 Ibid., S. 102.
82 Ван Г or В. Письма. Л. — М., 1966, с. 566; ср. сходное описание зда-
ния кафе в: Jaspers К. Strindberg und van Gogh, S. 108.
83 См.: Jaspers К. Strindberg und van Gogh, S. 84.
84 Lange W. Hölderlin. Eine Pathographie. Stuttgart, 1909, S. 104 f.
85 D i 11 h e y W. Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing, Qoethe, Novalis,.
Hölderlin. Leipzig — Berlin, 1939, S. 456.
86 Hellingrath v.N. Pindarübertragungen von Hölderlin. Prolegomena
zu einer Erstausgabe. Jena, 1911, S. 75.
87Waiblinger W. Der kranke Hölderlin. Hrsg. und eingel. von Paul
Friedrich. Leipzig, o.J., S. 43; см. также: Waiblinger W. Friedrich Hölder-
lins Leben. Dichtung und Wahnsinn. — In: Waiblinger W. Mein fiüchtiges
Glück. Berlin, 1954, S. 303.
88 Waiblinger W. Der kranke Hölderlin, S. 54, 47, 54; см. также: Wai-
blinger W. Mein flüchtiges Glück, S. 313, 306, 313. Эта тенденция проявляет-
ся и у многократно упоминаемого шведского художника Эрнста Иозефсона
(1849—1906). Его работы периода болезни свидетельствуют о сохранившемся
чувстве художественной целостности (см.: Volmat R. L'art Psychopathologie
que, p. 81 f. ill. № 57—59, 149—152).
89 Lange W. Hölderlin, S. 141.
90 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 35.
91 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 122.
92 Там же.
93 Gehlen А. Urmensch und Spätkultur, S. 139.
94 Ibid., S. 139 f., 67.
95 Павловские среды, т. II, с. 507.
96 Там же, с. 60.
97 На этих специфических противоречиях мы остановимся в главе 14.
98 См.: Балаж Б. Становление и сущность нового искусства. М., 1968»
с. 50—51.
99 К а н т И. Соч. в шести томах, т. 5, М., 1966, с. 324.
100 Там же, с. 212, 213.
101 Шеллинг Ф. В. И. Система трансцендентального идеализма. М.„
1936, с. 374.
102 Там же.
103 См.: Freud S. Das Unbehagen in der Kultur. Wien, 1930, S. 31. Annu
1, S. 30.
104 См.: Спиноза Б. Этика. M., 1970, с. 350.
105-юб L u к а с s G. Goethe und seine Zeit. — In: LukâcsG. Werke, Bd. 7.
Neuwied und Berlin, 1964, S. 52 ff.
107 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen. — In: Goethe J. W. Sämt-
liche Werke. Jubiläums-Ausgabe in 40 Bänden, Bd. 35. Stuttgart: Cotta, 1902—
1907, S. 326. Для некоторых современных читателей отметим, что под сим-
воликой Гёте понимает примерно то, что здесь обозначается как эвокативно-
миметическое отображение; то, что в литературе и искусстве второй полови-
ны XIX в. именовалось «символизмом», он бы отнес по большей части к ал:-
легории.
298
108 Гёте И. В. Собр. соч., т. 10. М., 1980, с. 713.
109 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen.-—In: Goethe J. W. Sämt-
liche Werke, Bd. 4, S. 210.
110 Гёте И. В. Собр. соч., т. 10, с. 717.
111 Ludwig О. Shakespeare-Studien. — In: Ludwig О. Werke in sechs
Bänden, Bd. 6. Leipzig, 1909, S. 73.
112 Цит. по: Rolland R. Musikalische Reise ins Land der Vergangenheit.
Frankfurt am Main, 1921, S. 160.
113 См.: Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. М., 1981, с. 284.
114 Плато н. Теэтет. М. — Л., 1936, с. 32.
115 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen. — In: Goethe J. W. Sämt-
liche Werke, Bd. 4, S. 210.
116 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen. — In: Goethe J. W. Sämt-
liche Werke, Bd. 38, S. 280.
117 Еще раз укажем на критику современной теории интерпретации Чезаре
Казесом (см.: «Societa», 1—2/1955).
118 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen. — In: Goethe J. W. Sämtliche
Werke, Bd. 39, S. 68.
119 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen. — In: Goethe J. W. Sämtliche
Werke, Bd. 4, S. 231.
120 G о e t h e J. W. Maximen und Reflexionen. — In: Goethe J. W. Sämtliche
Werke, Bd. 39, S. 87.
121 Гер дер Г. Начало языка. Рига, 1906, с. 6.
122 Ludwig О. Shakespeare-Studien. — In: Ludwig О. Werke, Bd. 6,
S 79
123 Theodor Fontanean Gustav Karpeles. 3 März 1881. —In: Briefe Theodor
Fontane. Zweite Sammlung, Bd. 2. Berlin, 1910, S. 33.
124 Б p ехт Б. О театре. M., 1960, с. 60.
125 Там же, с. 62.
126 Там же, с. 162.
127 См.: Добролюбов Н. А. Избр. филос. произв. М., 1951, с. 615—704.
128 Б р е х т Б. О театре, с. 62.
129 цит по: s с h u m а с h er Е. Brechts Galilei: Form und Einfühlung. —
«Sinn und Form» (Berlin), 4/1960, S. 510 f., 522 f.
130 При характеристике собственно теоретического основателя этого уче-
ния, Ф. Т. Фишера я описал и существо его теории (термин «вчувствование»
был фактически введен его сыном Робертом Фишером). Философскую сущ-
ность вчувствования Фишер формулирует так: «...Идеальное созерцание позво-
ляет узреть в объекте то, чего в нем нет» (курсив наш. — Д. Л.) (см.: Lu-
it âcs G. Beiträge zur Geschichte der Ästhetik. Berlin, 1954, S. 263 f.; см. также:
V i s с h e r F. T, Kritische Gänge, Bd. 4. München, 1922, S. 305 f.).
Глава 12. Категория особенного
1 См.: «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 4. Jg., 1956, Heft 2, 4; Lu-
k âcs G. Prolegomeni a un' estetica marxista, Kap. 1—4.
2 Гегель Г. В. Ф. Наука логики в трех томах, т. 3. М., 1972, с. 38.
3 Там же, с. 39.
4 См. там же, с. 56—58.
6 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen. — In: Goethe J. W. Sämt-
liche Werke, Bd. 39, S. 71.
6 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen. — In: Goethe J. W. Sämt-
liche Werke, Bd. 4, S. 209.
7 ГегельГ.В.Ф. Соч., т. IV, с. 55.
8 Там же, с. 58.
9 Фейербах Л. Избр. филос. произв., т. 1. М., 1955, с. 79.
10 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 37.
11 ЛенинВ.Й. Поли. собр. соч., т. 29, с. 318.
299
12 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 2, с. 57—58.
13 См. там же, с. 58.
и Там же, с. 57.
15 Там же, с. 40.
16 В этом также одна из причин того, почему всеобщее и единичное выяв-
ляются раньше, описываются чаще и пространнее, чем особенное; особенное
впервые было выделено лишь Кантом, и только в диалектике Гегеля и клас-
сиков марксизма было охарактеризовано исходя из существа дела. Частные
аспекты проблемы рассмотрены в моих работах, упомянутых, выше.
17 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук в трех« томах*
т. 3. М., 1975, с. 208.
18 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 2, с. 196—197.
19 Там же, с. 200.
20 Р lotin. Enneaden IV, 4, 16, VII, 1, 7; см. также: Drews A. Plotirs
und der Untergang der antiken Weltanschauung. Jena, 1907,. S, 132—137. У нас
нет оснований более подробно останавливаться на общей близости и противо-
положности неоплатонизма и христианства во многих конкретных случаях,.
о чем речь идет у Древса. Следует лишь отметить, что Ориген называет
Христа «живой ипостасью божественной мысли» (цит. по: Ball H. Einfüh-
rung. — In: Dionysios Areopagita. Die Hierarchien der Engel und der
Kirche, S. 25).
21 К а н т И. Соч., т. 4. М., 1959, с. 100.
22 См. об этом: Lukacs G. Der junge Hegel und die Probleme der kapi-
talistischen Gesellschaft. Berlin, 1954, S. 342 f.
23 См. подробный критический разбор философии общества и государства
по Гегелю у молодого Маркса: См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 40,.
с. ПО и ел.
24 H е g е 1 G. W. F. Grundlinien der Philosophie des Rechts- oder Naturrecht
und Staatswissenschaft im Grundrisse. — In: H e g e 1 G. W. F. Sämtliche Werke»
Jubiläumsausgabe in Zwanzig Bänden, Bd. 7. Stuttgart, 1927—1940, S. 265.
25 Ibid., S. 175.
26 Аристотель. Соч., т. 4, с. 87.
27 К а н т И. Соч., т. 5, с. 204.
28 Аристотель. Соч., т. 4, с. 93.
29 Там же, с. 97.
30 Там же, с. 192. В новом издании «Никомаховой этики», которым мы
пользовались, дается в примечаниях сопоставление различных мест, в которых
Аристотель обращается к этой проблематике. См.: Arist. Nik. Eth. VI, 9
(übers von F. Diremeier. Werke, Bd. 6. Berlin, 1974, S. 319—321).
31 Л e h и н В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 326.
32 Выше мы уже указывали на сходную пробему транспозиции изначаль-
но эстетических актов и образов во всеобщие категории философии искусства-.
Правда, аналогия кончается на абстрактном сходстве транспозиции. Такая
сфера практики, как этика, где не представлены объективированные образы,
оказывается принципиально иной, чем эстетика. Более подробное описание
этой проблематики выходит за рамки нашего анализа.
33 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 290.
34 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen. — In: Goethe J. W. Sämt-
liche Werke, Bd. 4, S. 226.
35 Riemer F. W. Mitteilungen über Goethe. Auf Grund der Ausgabe vom
1841 und des handschriftlichen Nachlasses hrsg. von Arthur Pollmer. Leipzigs.
1921, S. 261.
36 Э к к e p м а н И. П. Разговоры с Гёте, с. 84. Гёте резко выступает про-
тив чрезмерного приближения к единичному и индивидуальному, характерного»
для романтиков его времени, в письме к Цельтеру 30 октября 1808 г.
37 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 333.
38 Maupassant de G. Etudes sur le roman. — In: Oeuvres complètes-,
v. 10. Paris, 1935, p. 281 f.
39 Gézanne P. Über die Kunst. Gespräche mit Gasquet und Briefe. Ham-
burg, 1957, S. 9. — Русск. перев.: Сезанн П. Переписка. Воспоминания со»
300
временников. M., 1972, с. 276.
40 Ibid., S. 22.
41 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen. — In: Goethe J. W. Sämt-
liche Werke, Bd. 35, S. 325 f.
42 К а н т И. Соч., т. 5, с. 322.
43 Мы уже указывали на то, что эти последние проблемы могут быть рас-
смотрены только во второй части настоящей работы.
44 Маркс К. у Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 47.
Глава 13. Бытие-в-себе, бытие-для-нас, бытие-для-себя
1 L a s к Е. Platon. — In: L a s к Е. Gesammelte Schriften, Bd. 3. Tübingen*.
1924, S. 18. Ласк добавляет: «...Психическое в той же мере относится к чув-
ственно-временному миру, в какой и физическое» (ibid., S. 17).
2 Аристотель. Соч., т. 1. М., 1975, с. 105. Аристотель не упускает
случая обратить в связи с этим внимание на несостоятельность тех теорий,,
которые кладут в основу идей и движущих причин материального мира числа.
3 Об этом вопросе, в особенности о его общественных основаниях см.:
Thomson G. Studies in Ancient Greek Society. The Prehistorian Aegean. London*.
1949, p. 331—347. Томсон, очевидно, с полным правом подчеркивает, что кон-
цепция неумолимой судьбы после крушения изначальной социальной организа-
ции приобретает все большую интенсивность и все более широкое распростра-
нение (ibid., р. 347).
4 Hartmann v.E. Geschichte der Methaphysik. — In: Hartmann v.E*
Ausgewählte Werke, Bd. 11. Leipzig, 1899, S. 154 f.
5 Wulf de M. Geschichte der mittelalterlichen Philosophie. Tübingen, 1913»,..
S. 141—143.
6 Ibid., S. 294.
7 В u о n a i u t i E. Geschichte des Christentums, Bd. 2. Bern, 1957, S. 279.
8 W u 1 f de M. Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, S. 299.
9 См.: Buonaiuti E. Geschichte des Christentums, Bd. 2, S. 149.
10 W u 1 f de M. Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, S. 299.
11 Ibid., S. 342. Цитата \y Вульфа — только смысловая передача] взята.
из церковного обвинения 1277 года против аверроистов, и некоторые исследо-
ватели сомневаются в том, что она правильно передает их воззрения. В недав-
но открытом и опубликованном трактате Боэция Дакийского (Boetii Dacî
Quaestio naturalis de mundi aeternitate. — In: Un traité récemment découvert
de Boéce de Dacie De mundi aeternitate. Texte inédit avec une introduction cri-
tique par Géza Sajo. Budapest, 1954, с 102, 118 f.) содержится откровенное-
признание автора в следовании этому учению. Автор этих строк, не будучи
специалистом в области средневековой философии, чувствует себя не в праве-
вдаваться в ähckvcchio, cкoлькo-нибvдь распространенную.
12 Duhem P. EßZEINTA CDAINOMENA. Essai sur la notion de théorie-
physique de Platon à Galilée. Paris, 1909, p. 77 f., 128 f.
13 К a н т И. Соч., т. 3. M., 1964, с. 101.
14 К а н т И. Соч., т. 4. М., 1965, с. 105.
15 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 1. М., 1970, с. 182—183.
16 См. критику Маркса (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 165
и ел.) и мою характеристику противоположности концепций Гегеля и Маркса:
L u к а с s G. Der junge Hegel, S. 611 f., 620 f.
17 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 1, с. 182.
18 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 2, с. 121.
19 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 276.
20 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук, т. 1. М., 1974,..
с. 384. Примечательно, что приведенное здесь высказывание одобрительно ци-
тируется Лениным, см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 166.
21 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 115.
22 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 46, ч. I, с. 37—38.
23 См.: Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 20, с. 545 и ел.
ЗОЙ
24 К а н т И. Соч., т. 4, с. 422.
25 Cézanne Р. Über Kunst, S. 9. — Русск. перев.: Сезанн П. Перепи-
<ека... с. 9.
26 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 383.
27 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. II, с. 384.
28 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 2. М., 1971, с. 140. Одобрительно
цитируется Лениным в «Философских тетрадях»: Ленин В. И. Поли. собр.
«соч., т. 29, с. 137.
29 Г е г е л ь Г. В. Ф. Наука логики, т. 1, с. 110.
30 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 2, с. 12.
31 Там же, с. 112.
32 См.: Маркс К. и ЭнгельсФ. Соч., т. 37, с. 394—395.
33 Как уже неоднократно говорилось, подробный анализ творческого про-
цесса может быть дан только во второй части этого труда.
34 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 1, с. 224—225.
35 Г е г е л ь Г. В. Ф. Соч., т. IV, с. 67—68.
86 Гегель Г. В. Ф. Соч., т. IX. Л., 1932, с. 266.
37 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 1, с. 276.
88 Там же, с. 441.
39 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук, т. 1. М., 1974,
-с. 407.
40 Г е г е л ь Г. В. Ф. Соч., т. IV, с. 372.
41 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 3. М., 1972, с. 281. Здесь, очевидно,
уместно заметить, что Ленин сопровождает цитируемое высказывание глубо-
кими размышлениями, кульминирующимисл на том, что Маркс «непосредствен-
но... к Гегелю примыкает» (см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 193).
42 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 3, с. 281. И в этом случае также
небезынтересно упомянуть, что молодой Маркс в своей диссертации об Эпи-
куре присоединяется к воззрениям Гегеля относительно связи отталкивания и
самосознания: «Отталкивание есть первая форма самосознания» (Маркс К*
•и ЭнгельсФ. Соч., т. 40, с. 175).
43 Г е г е л ь Г. В. Ф. Соч., т. VIII. М. — Л., 1935, с. 304.
44 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 183.
45 Г ё т е И. В. Собр. соч., т. 10, с. 116.
46 С é z а п п е. Р. Über Kunst, S. 10. j
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 11. Сигнальная система Г
1. Характеристика явления
2. Сигнальная система Г в жизни
3. Косвенные свидетельства (домашние животные, патология)
4. Сигнальная система Г в эстетическом поведении . .
5. Поэтический язык и сигнальная система Г . . .
Глава 12. Категория особенного .
1. Особенное, опосредование и среда . .
2. Особенное как эстетическая категория
Глава 13. Бытие-в-себе, бытие-для-нас, бытие-для-себя .
1. Бытие-в-себе, бытие-для-нас в научном отражении
2. Произведение искусства как для-себя-сущее . . .
Примечания
МБ № 14472
Редактор H. В. Вербицкая
Художник В. Г. Штанько
Художественный редактор Ю. В. Булдаков
Технические редакторы В. Ю. Никитина, Ю. А. Веникеева
Корректор М. А. Таги-заде
Сдано в набор 23.01.86. Подписано в печать 27.05.86. Формат
60x90Vi6. Бумага типогр. № 1. Гарнитура литературная. Печать
высокая. Условн. печ. л. 19,0. Усл. кр.-отт. 19,0. Уч.-изд. л. 20,57.
Тираж 6000 экз. Заказ № 102. Цена 1 р. 80 к. Изд. № 41151.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс»
Государственного комитета СССР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли. 119847, ГСП, Москва, Г-21, Зу-
бовский бульвар, 17.
Московская типография № 11 Союзполиграфпрома при Госу-
дарственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. 113105, Москва, Нагатинская ул., д. 1.