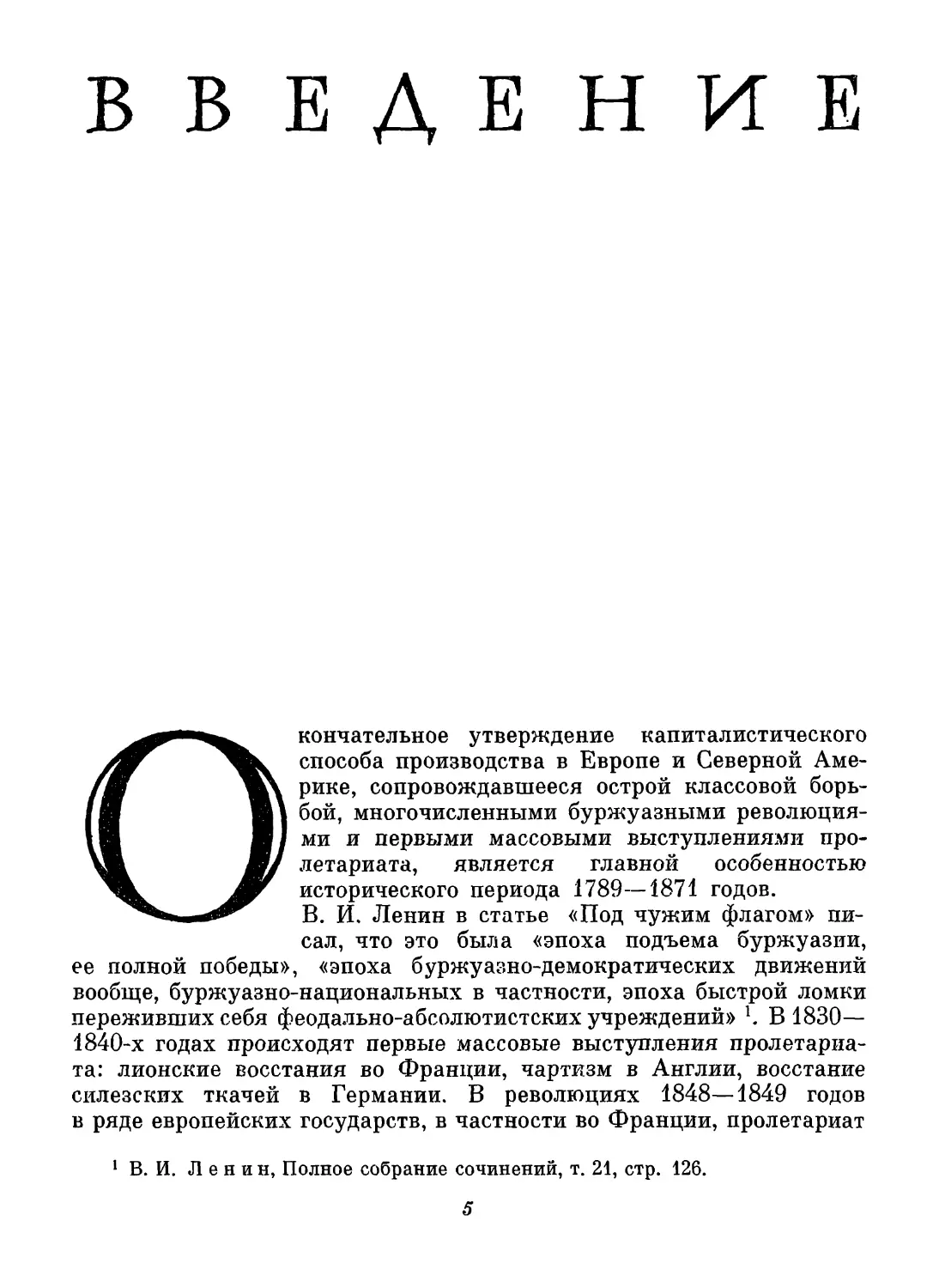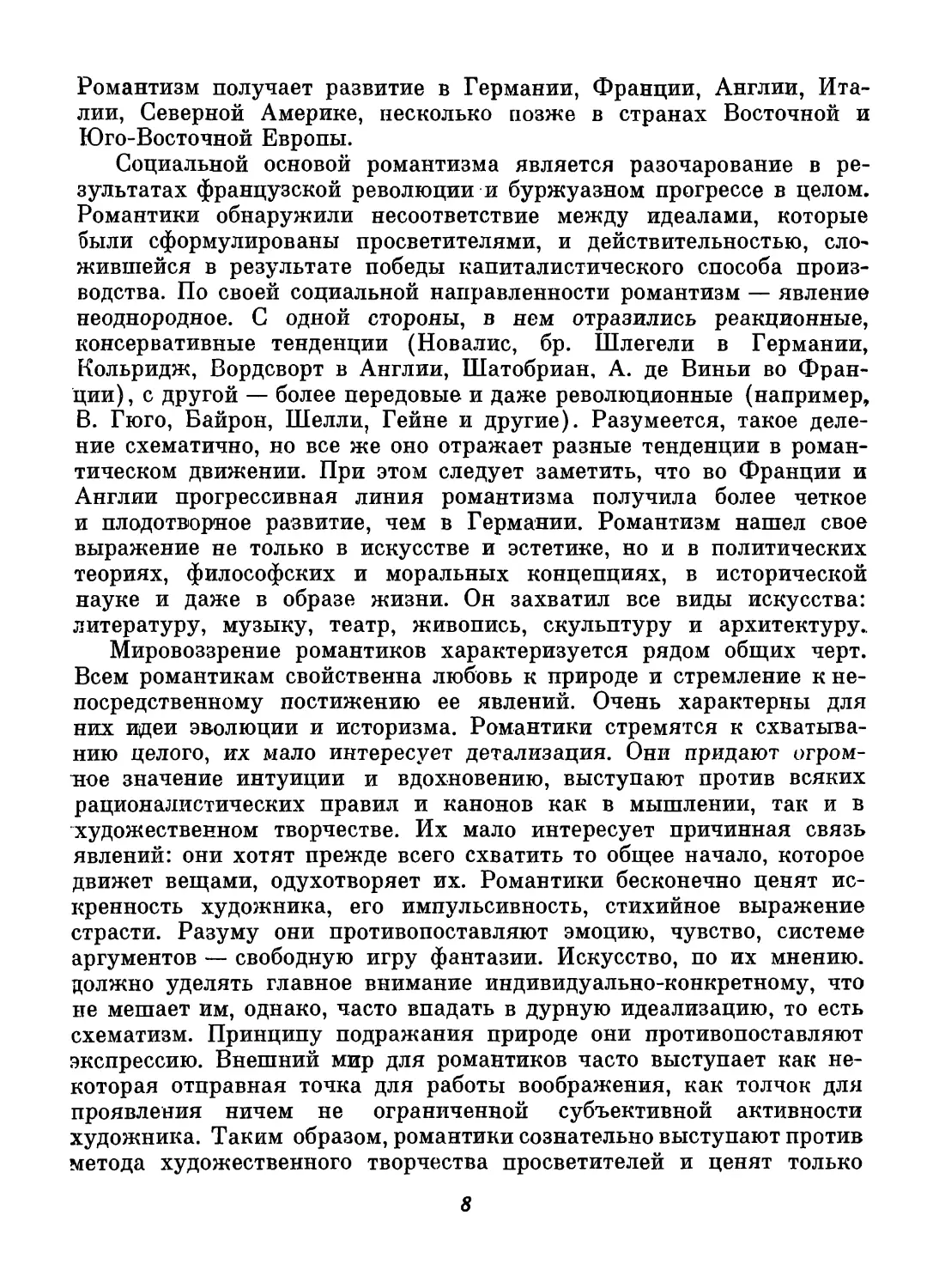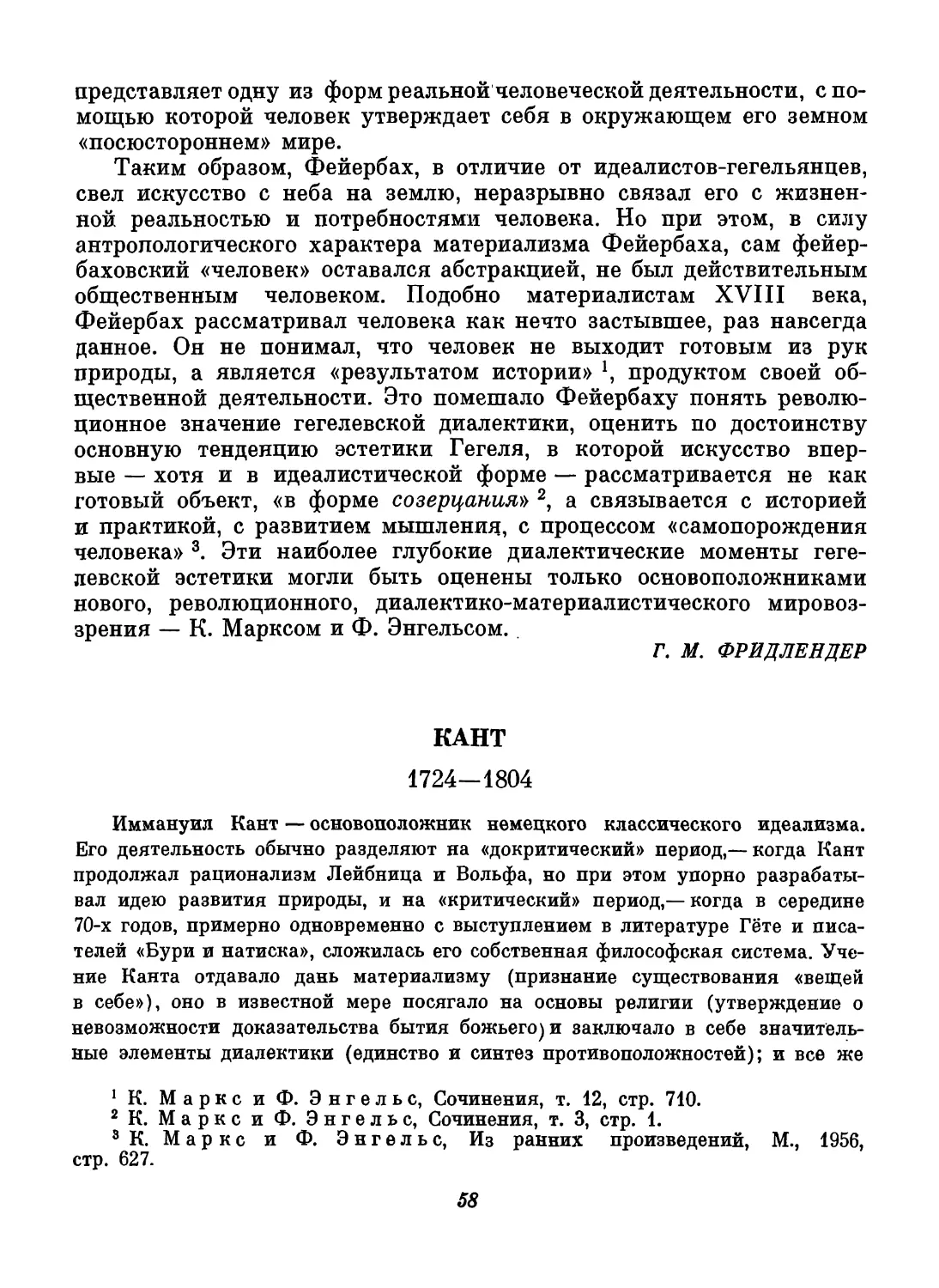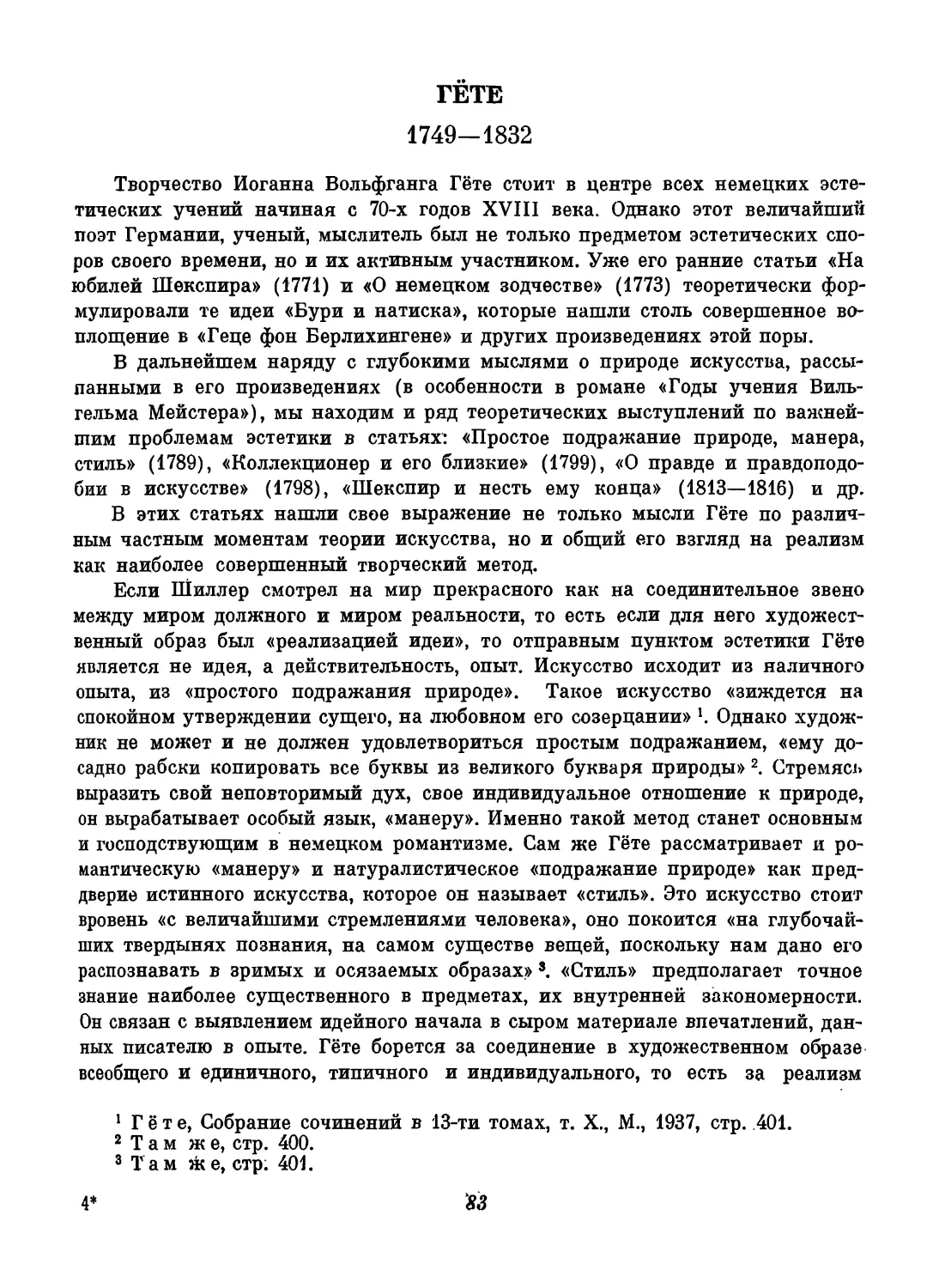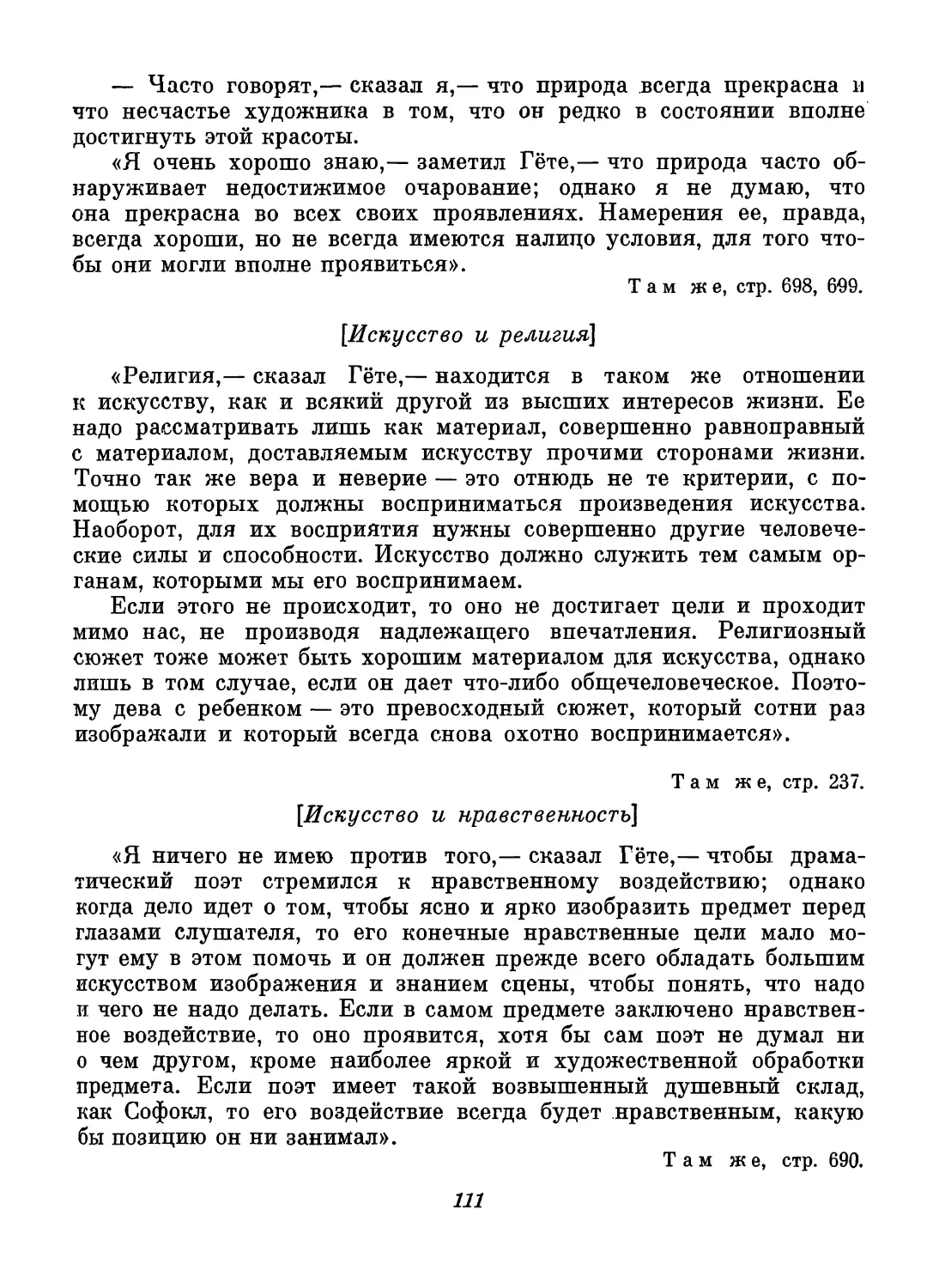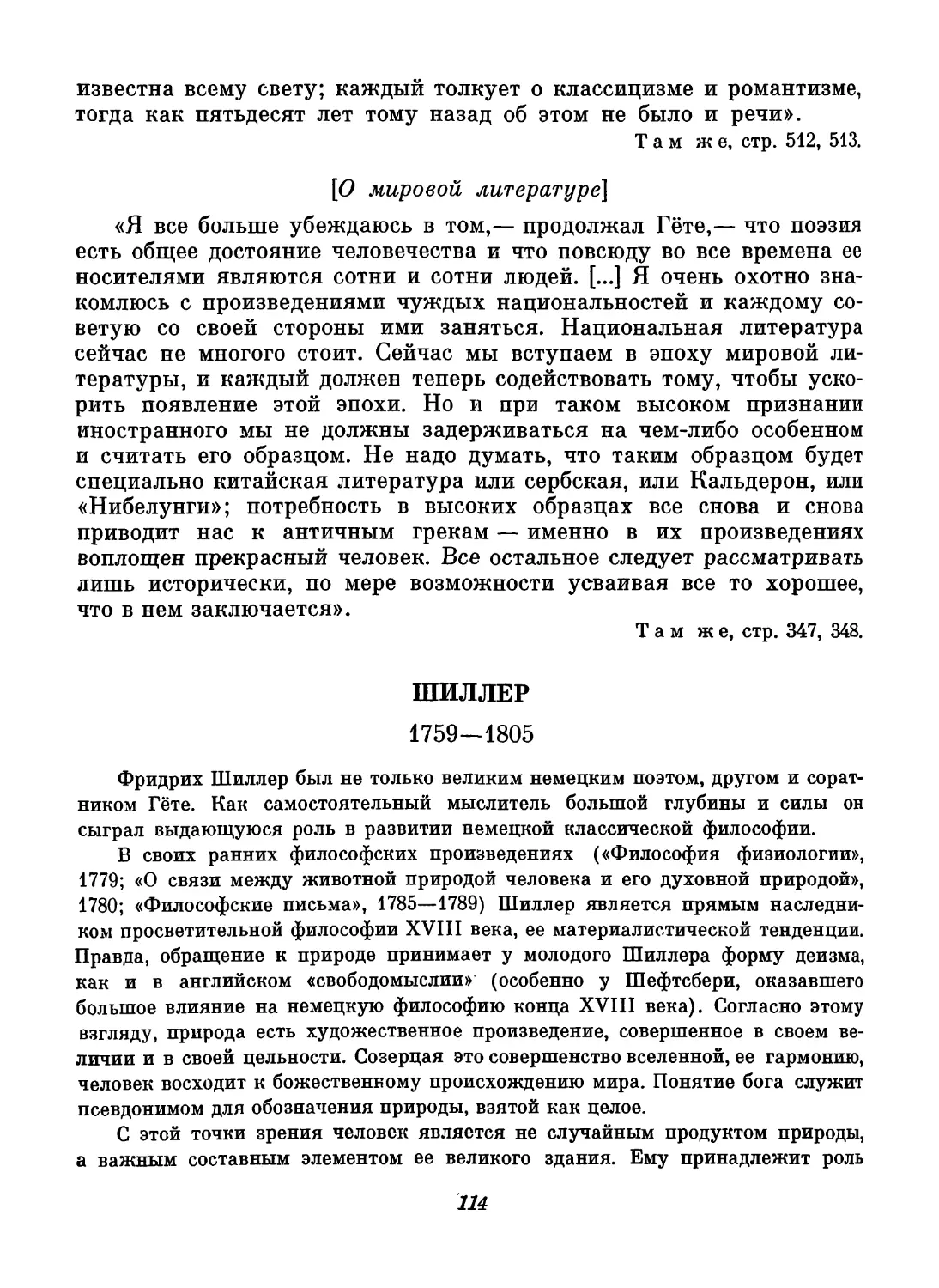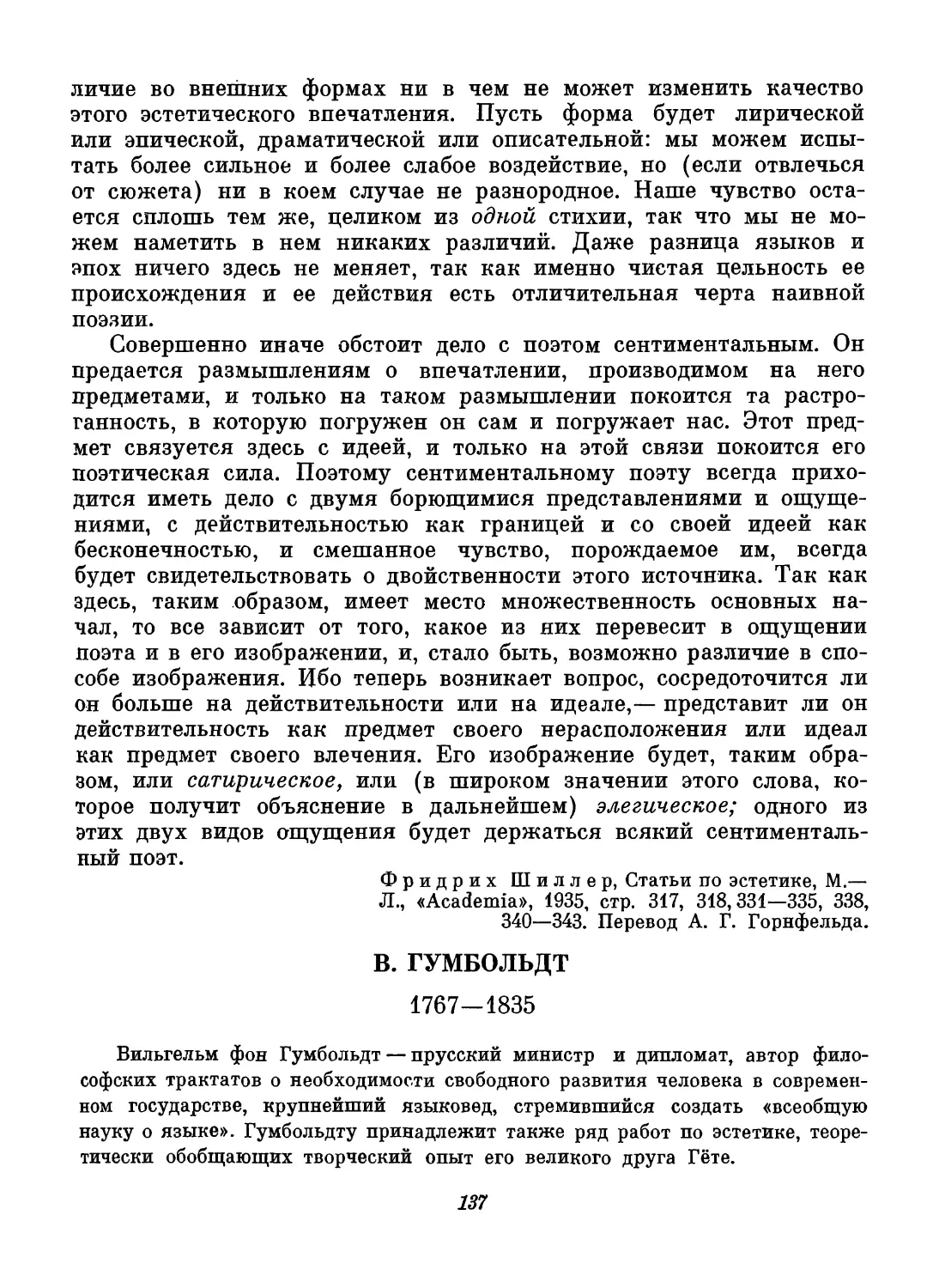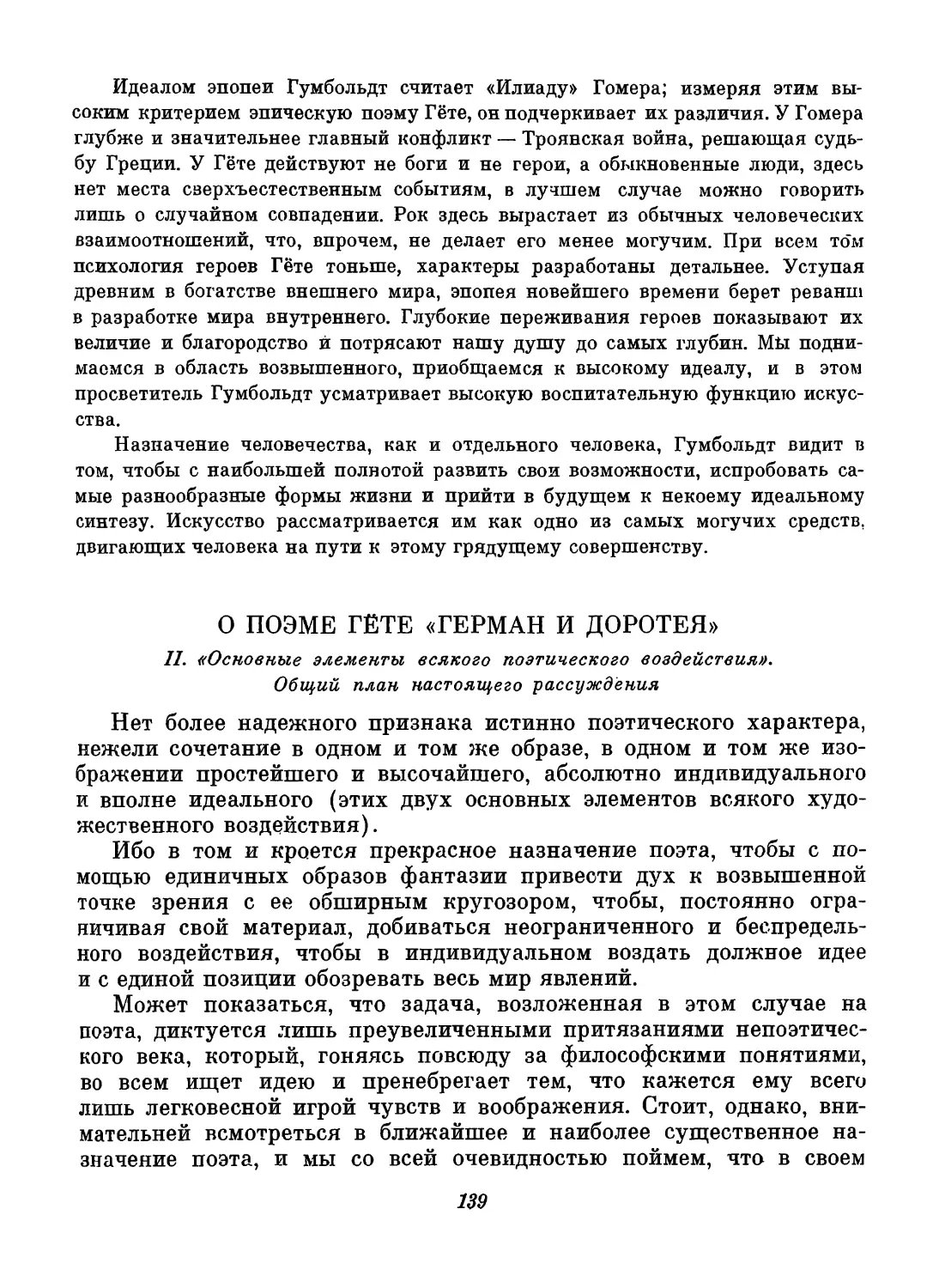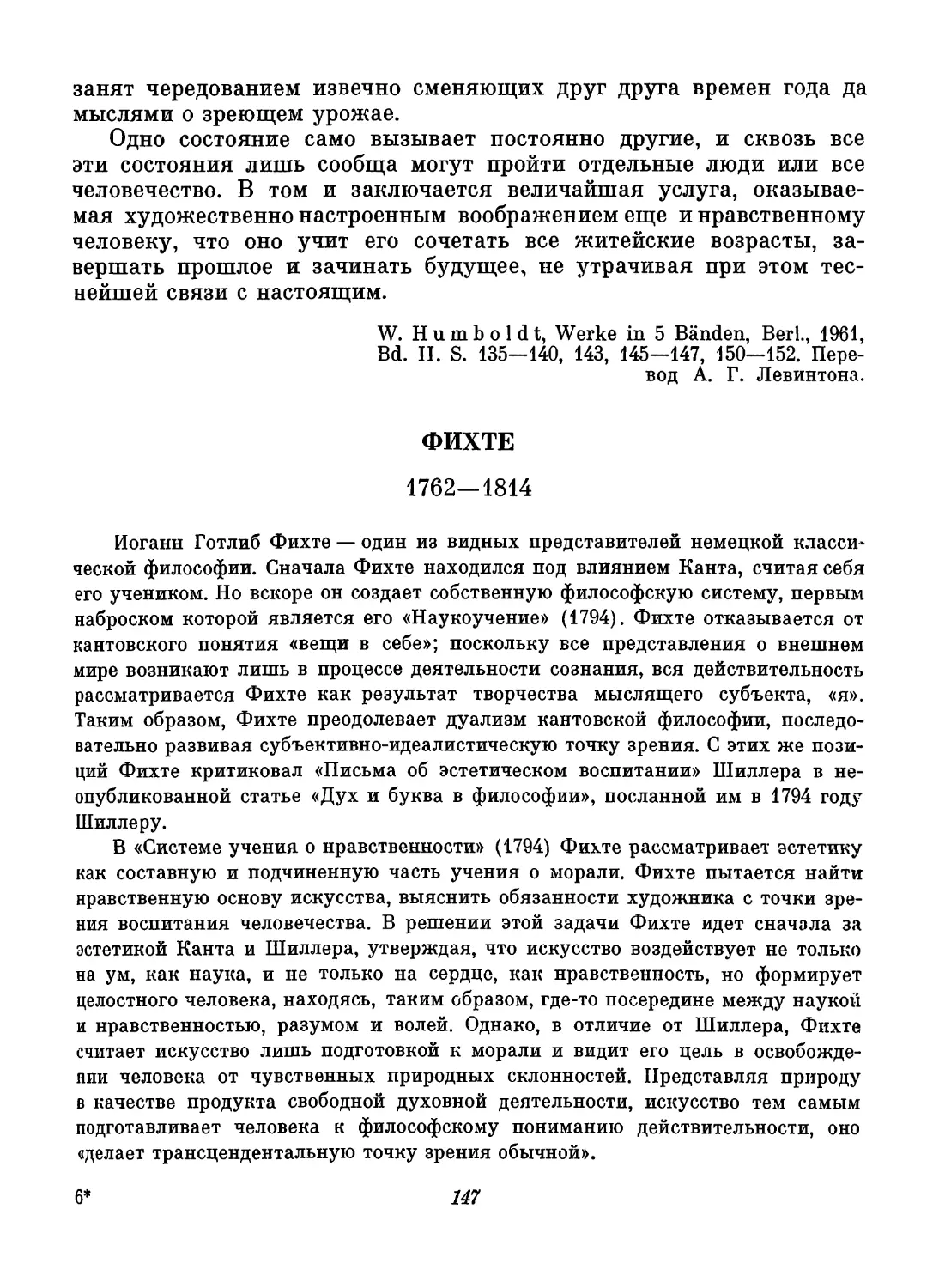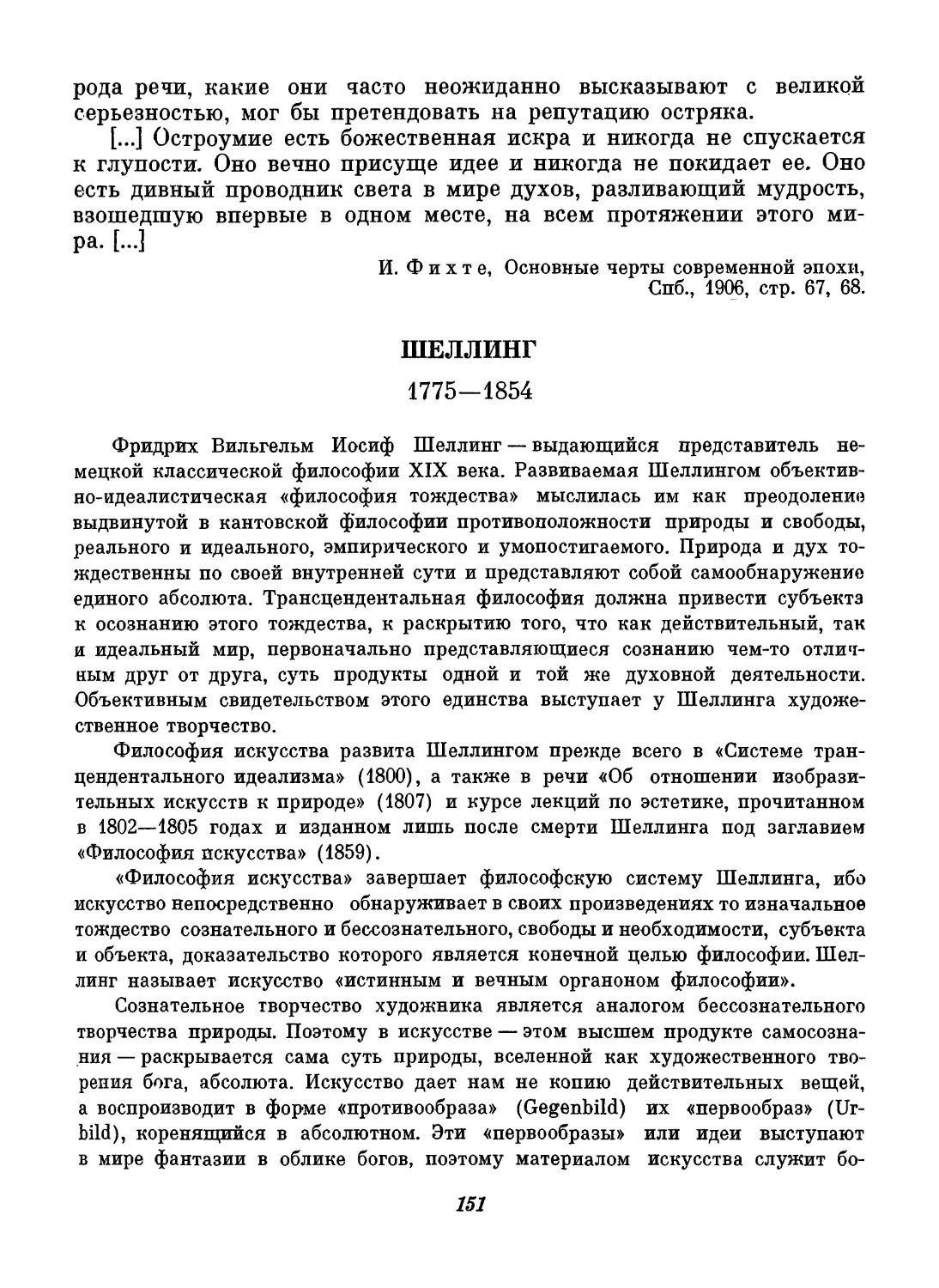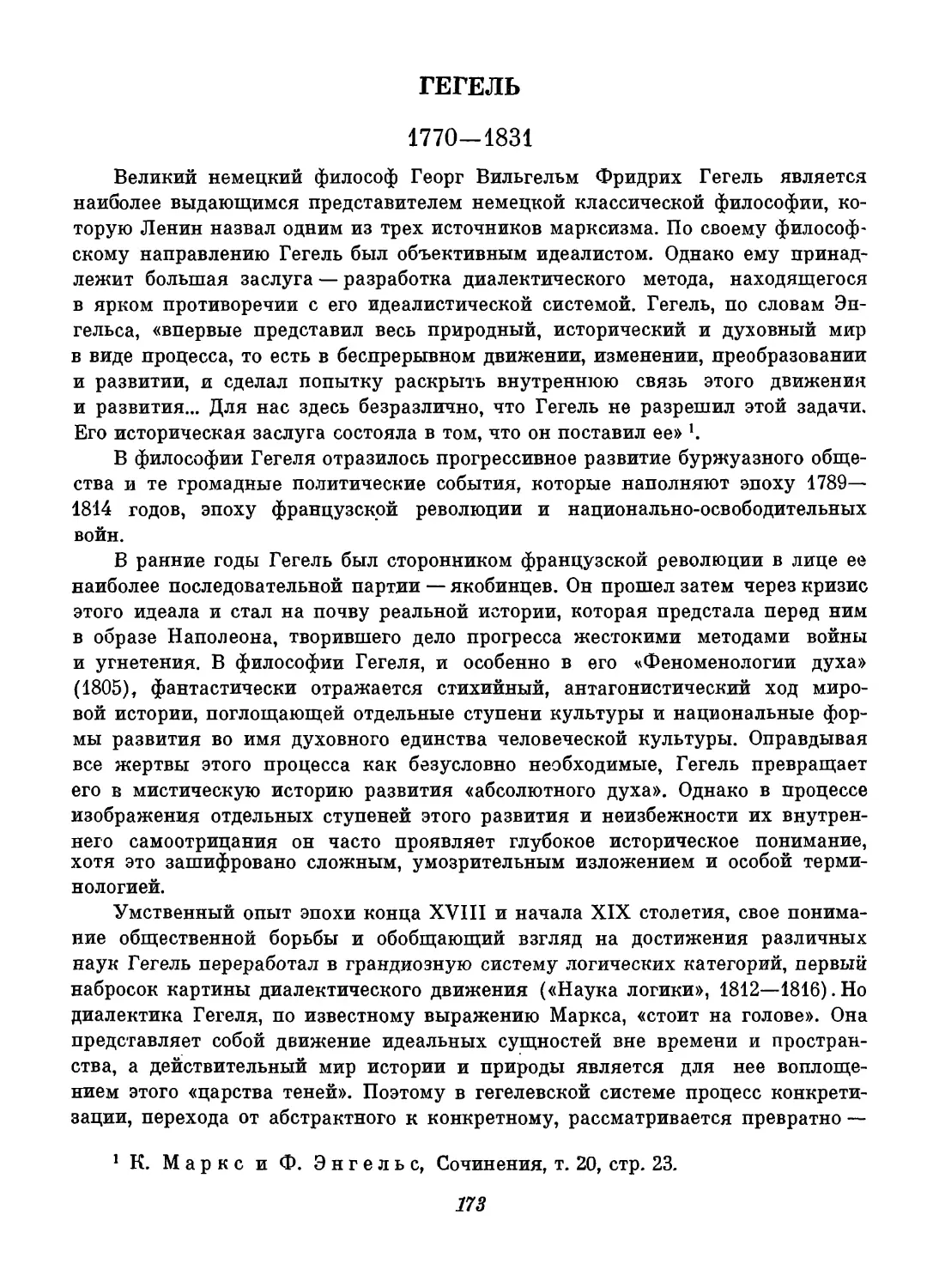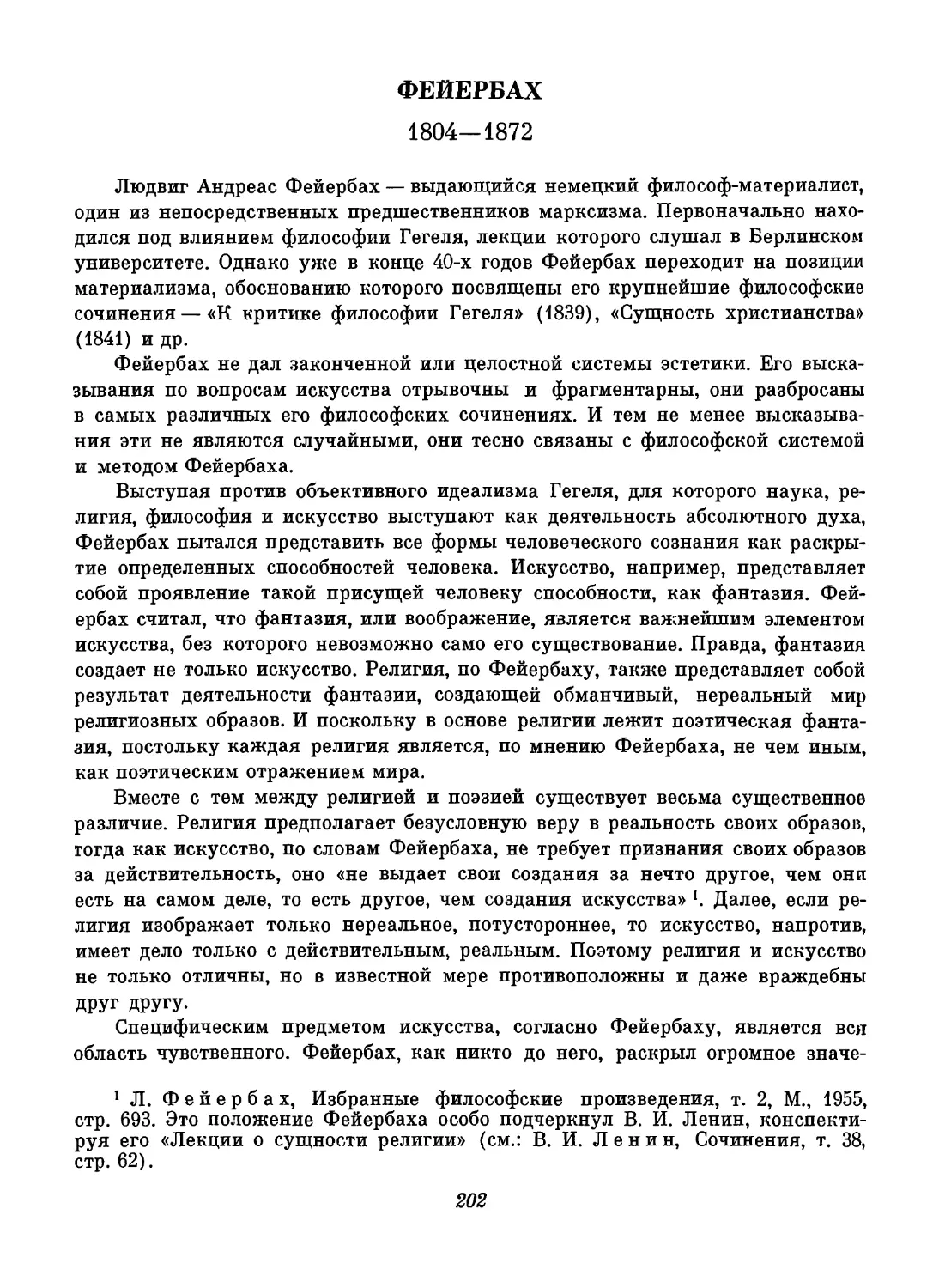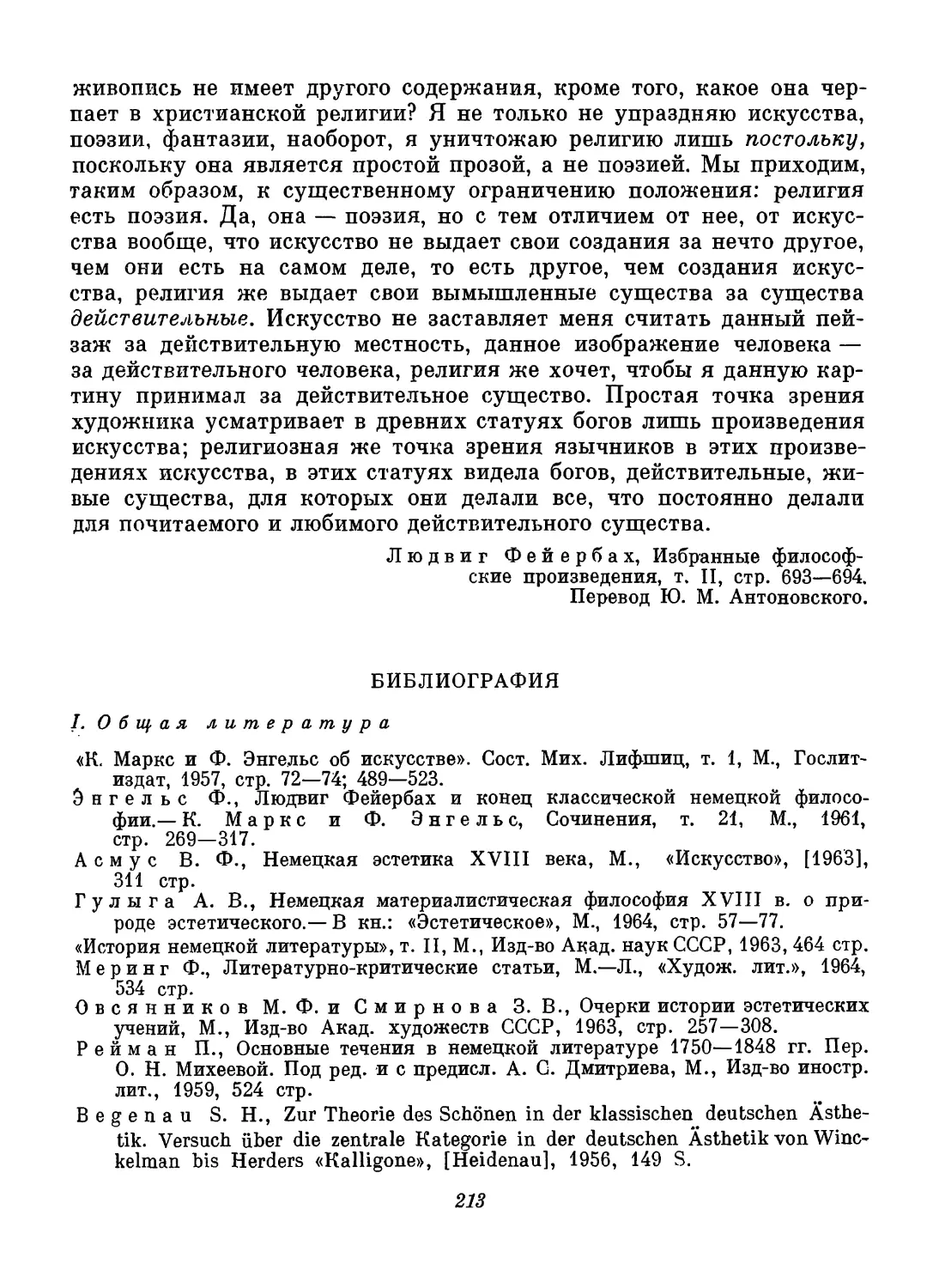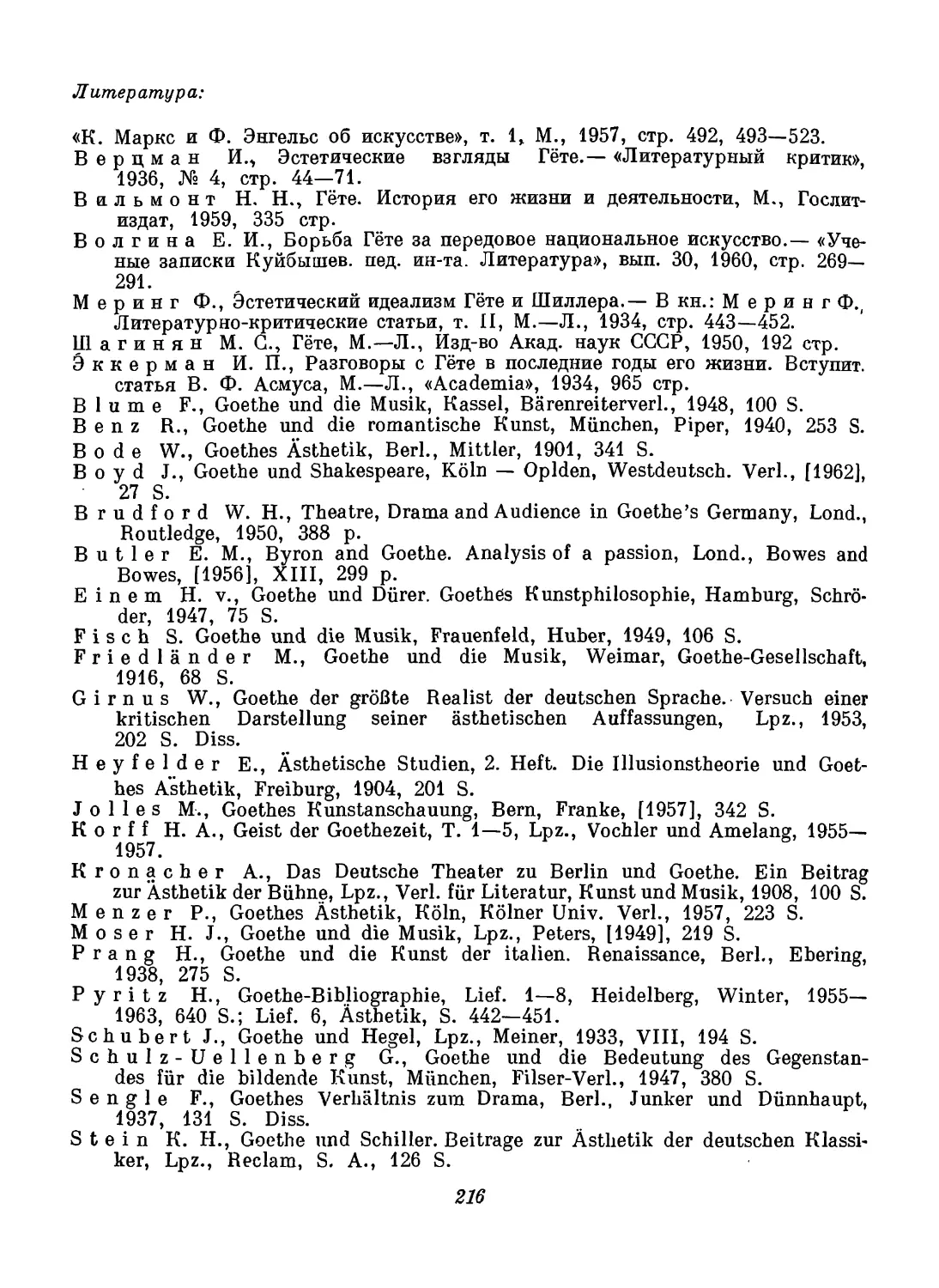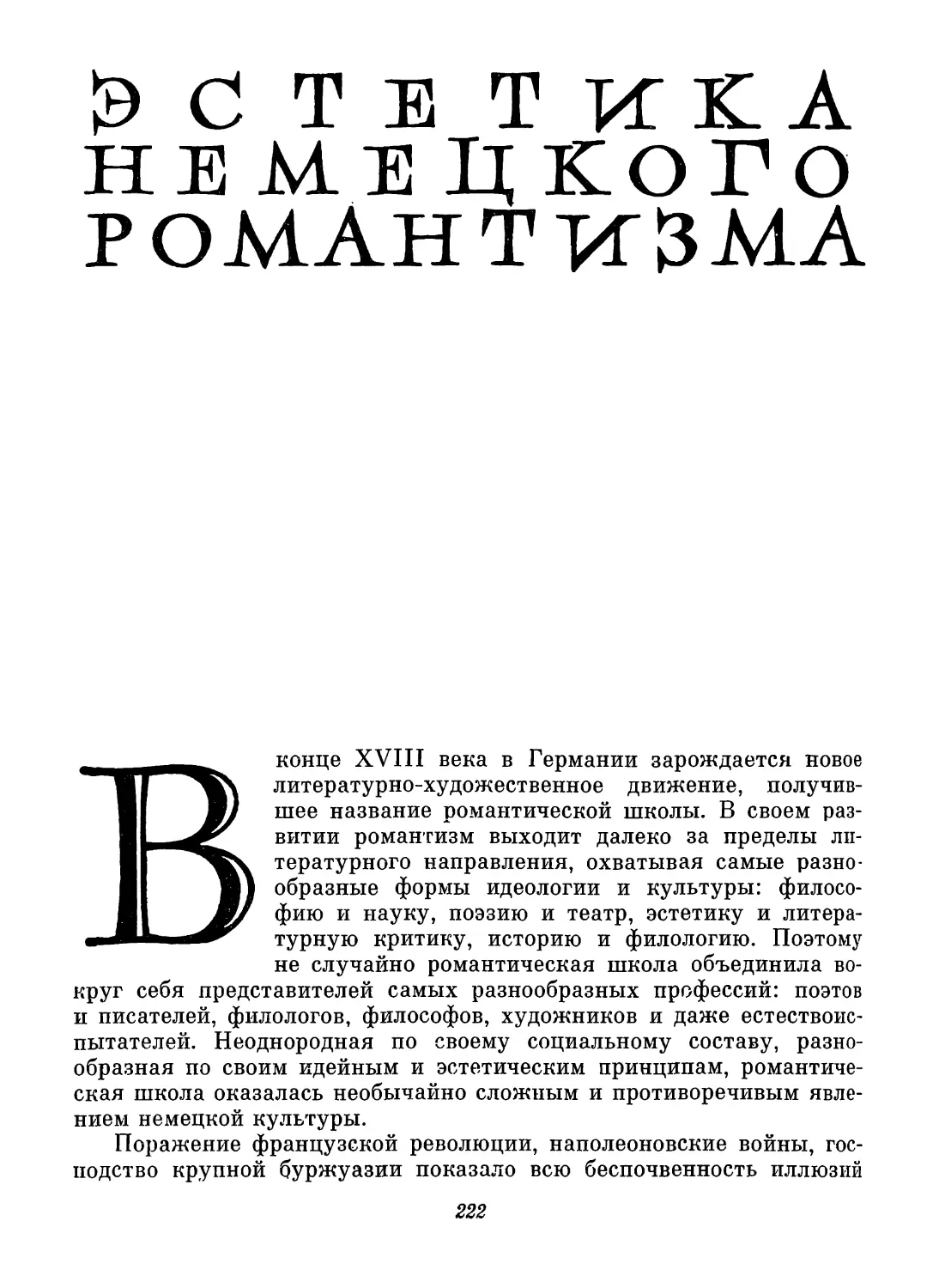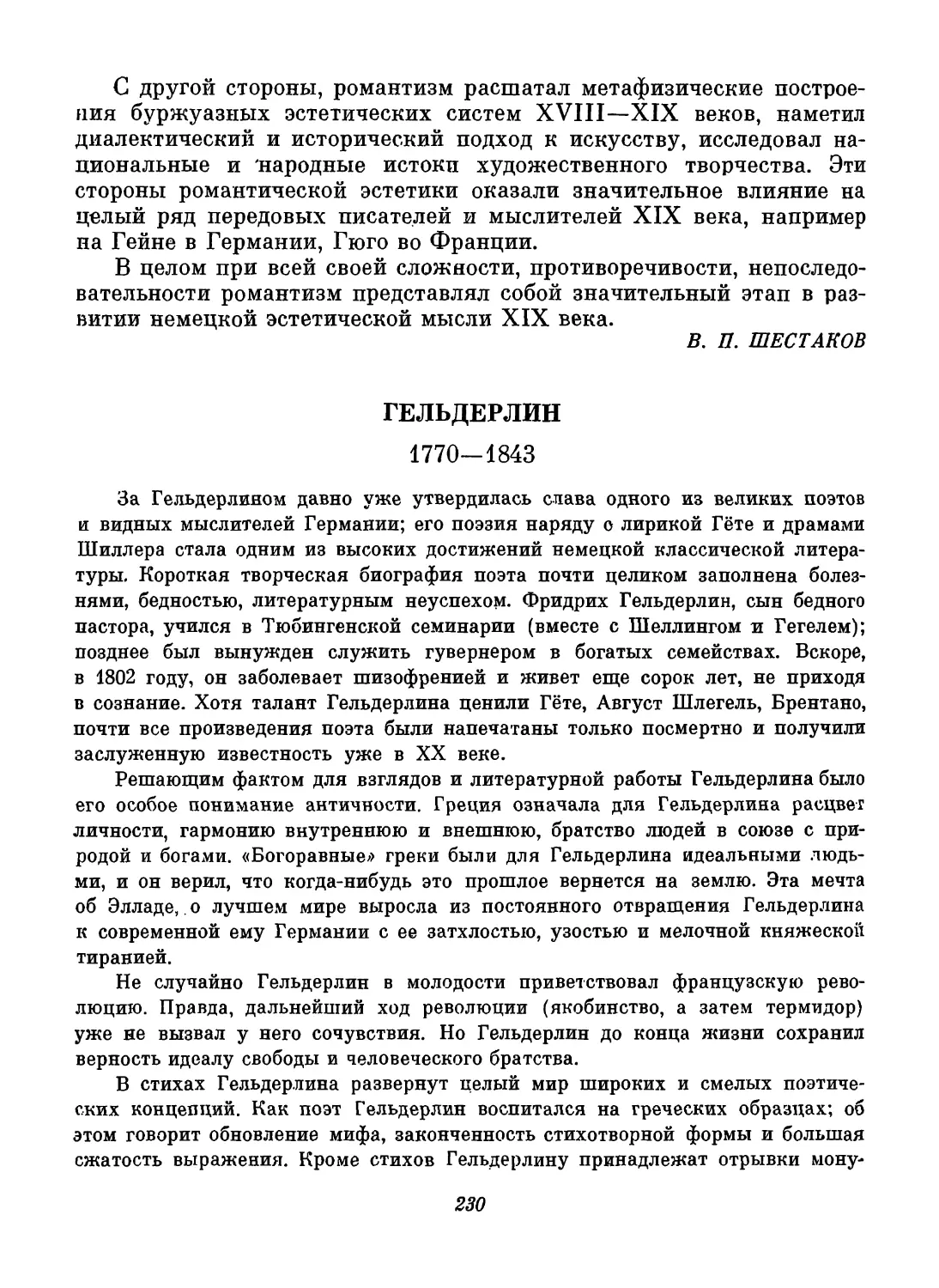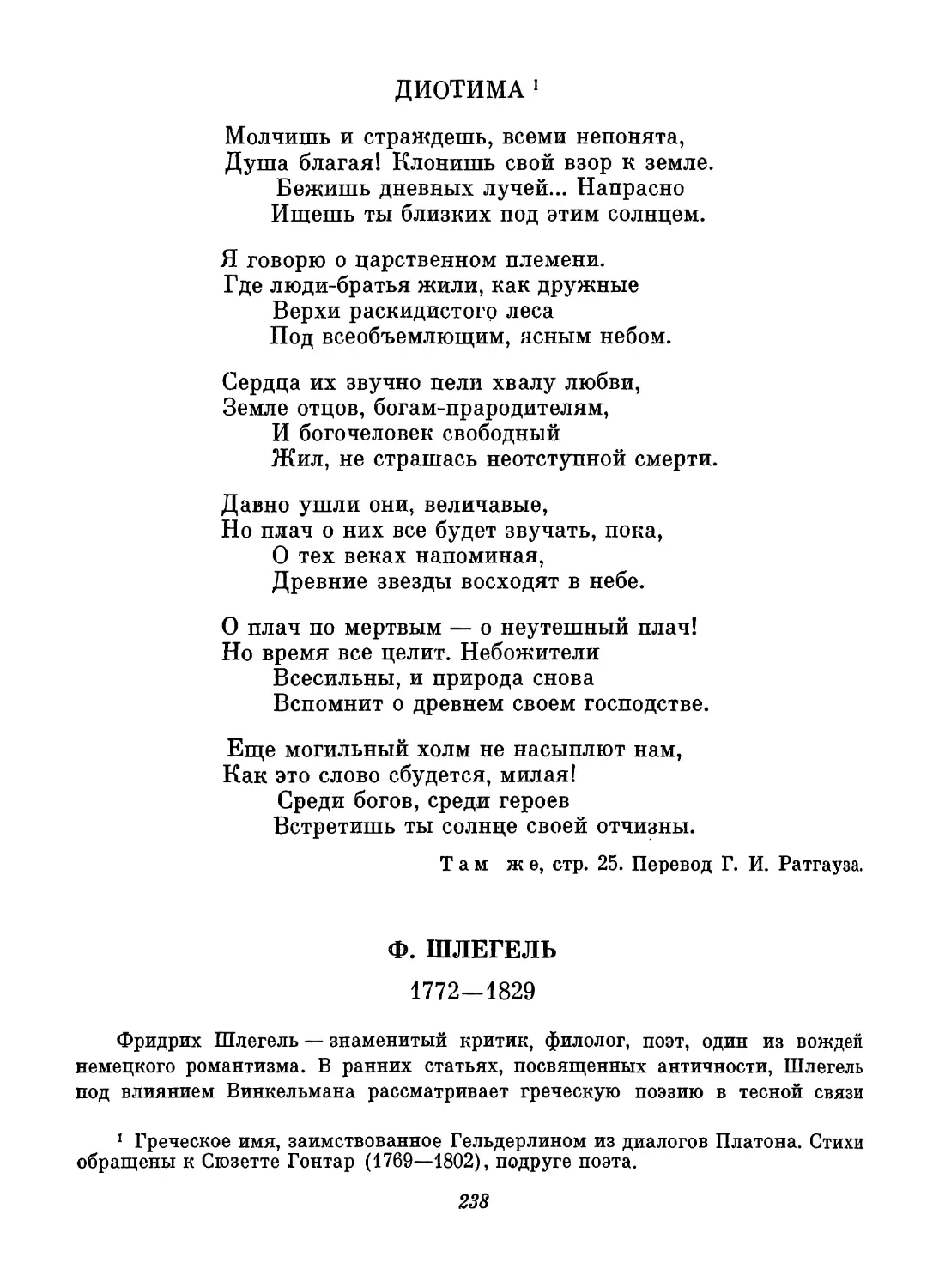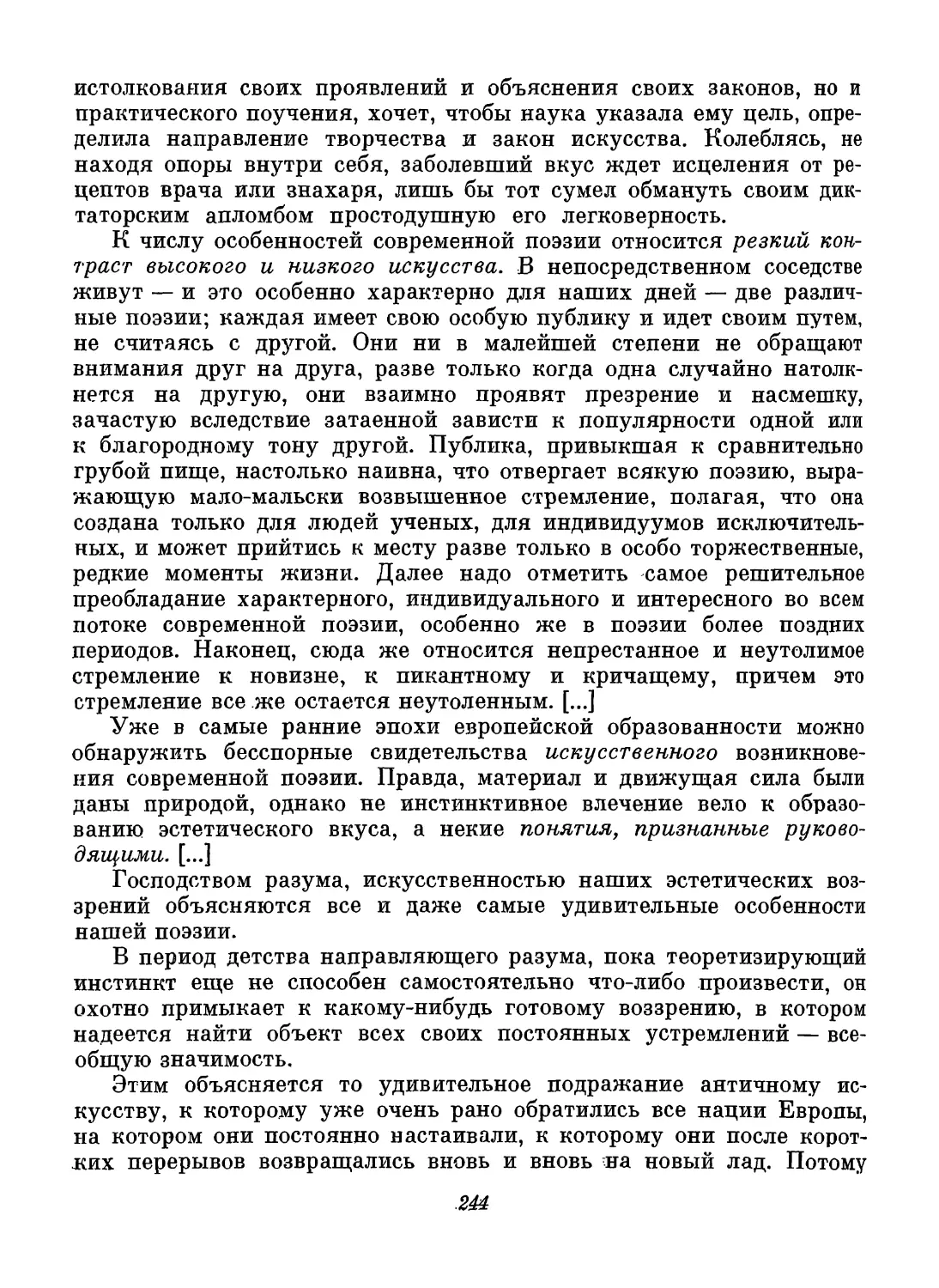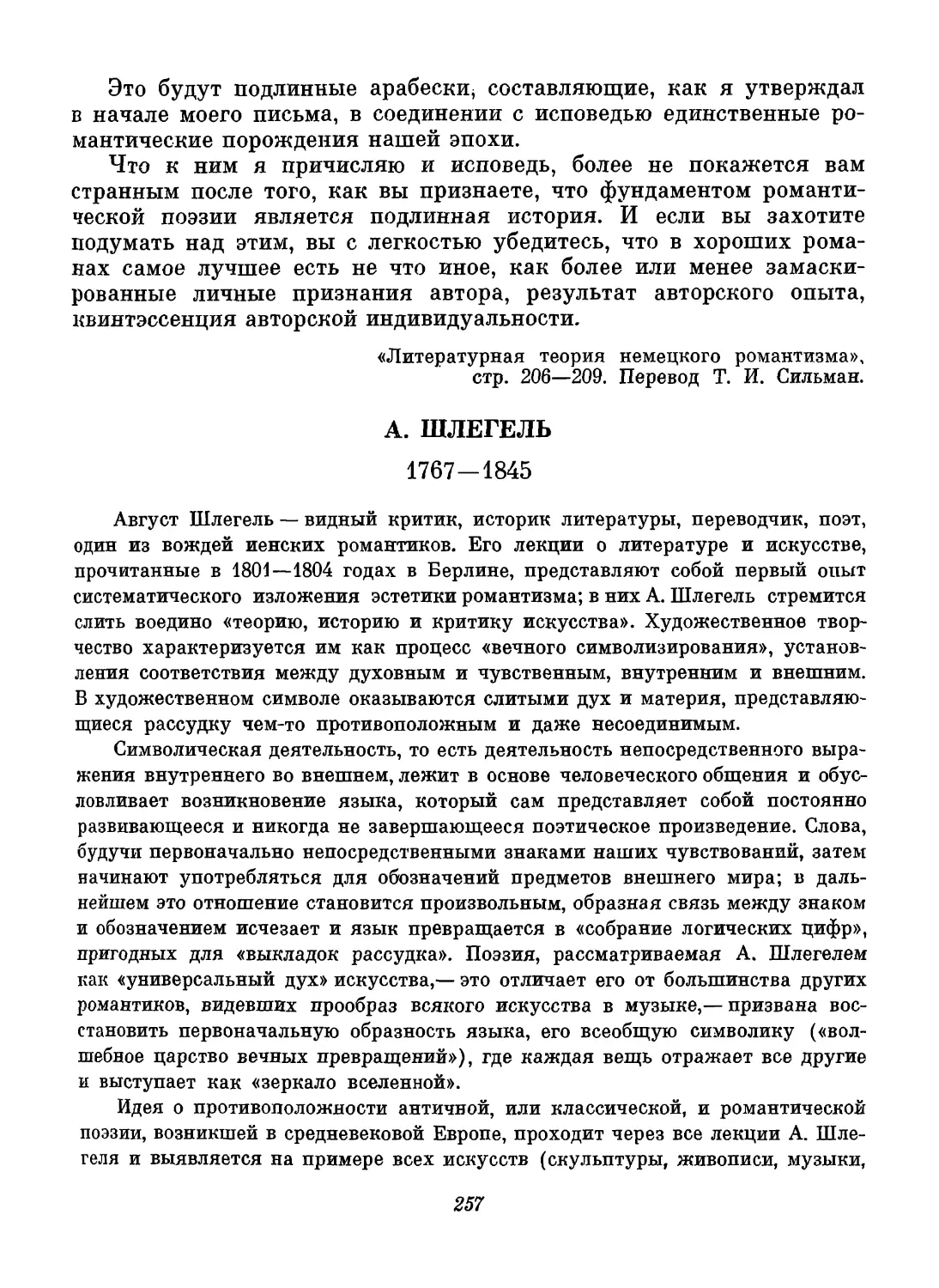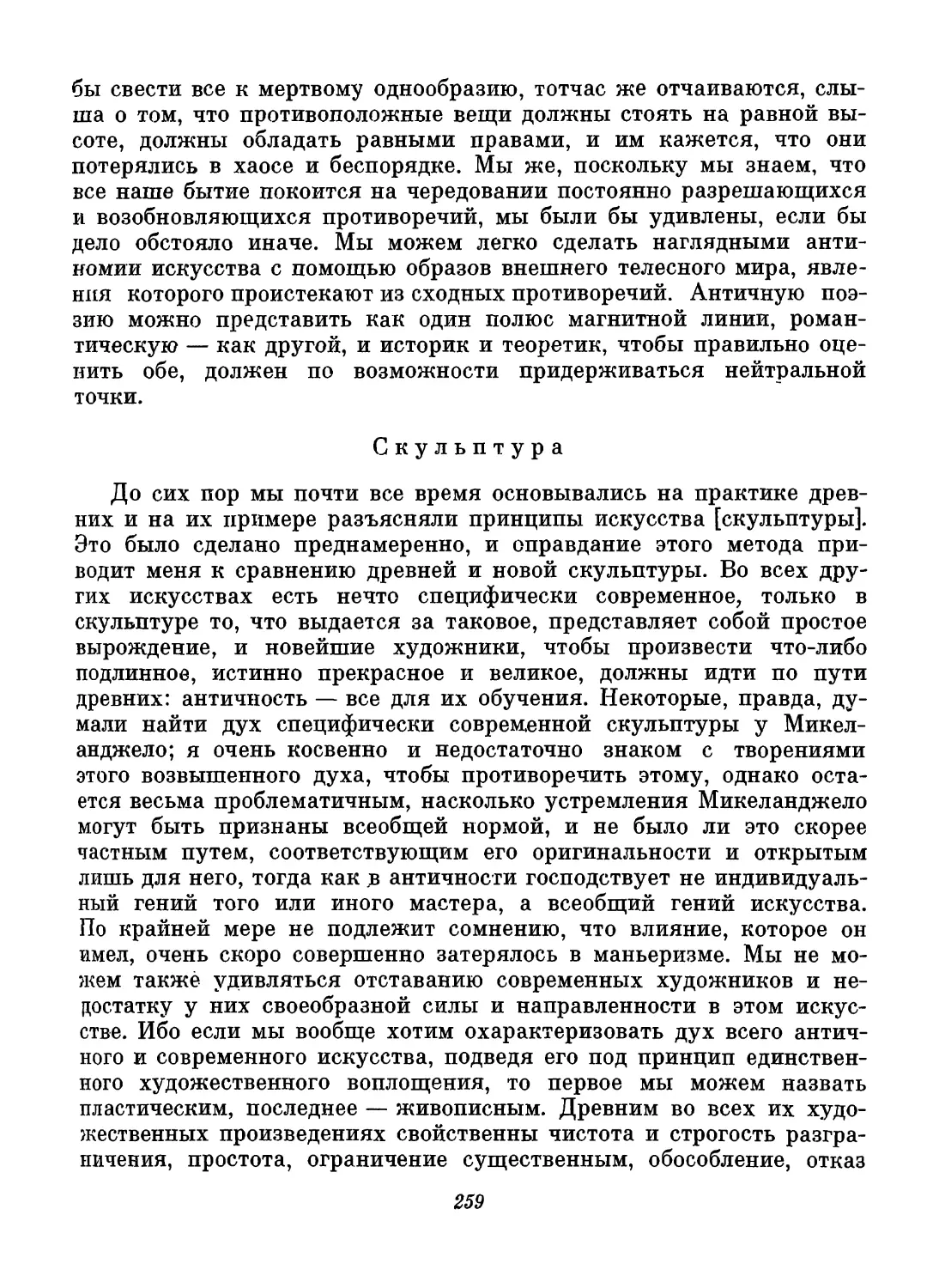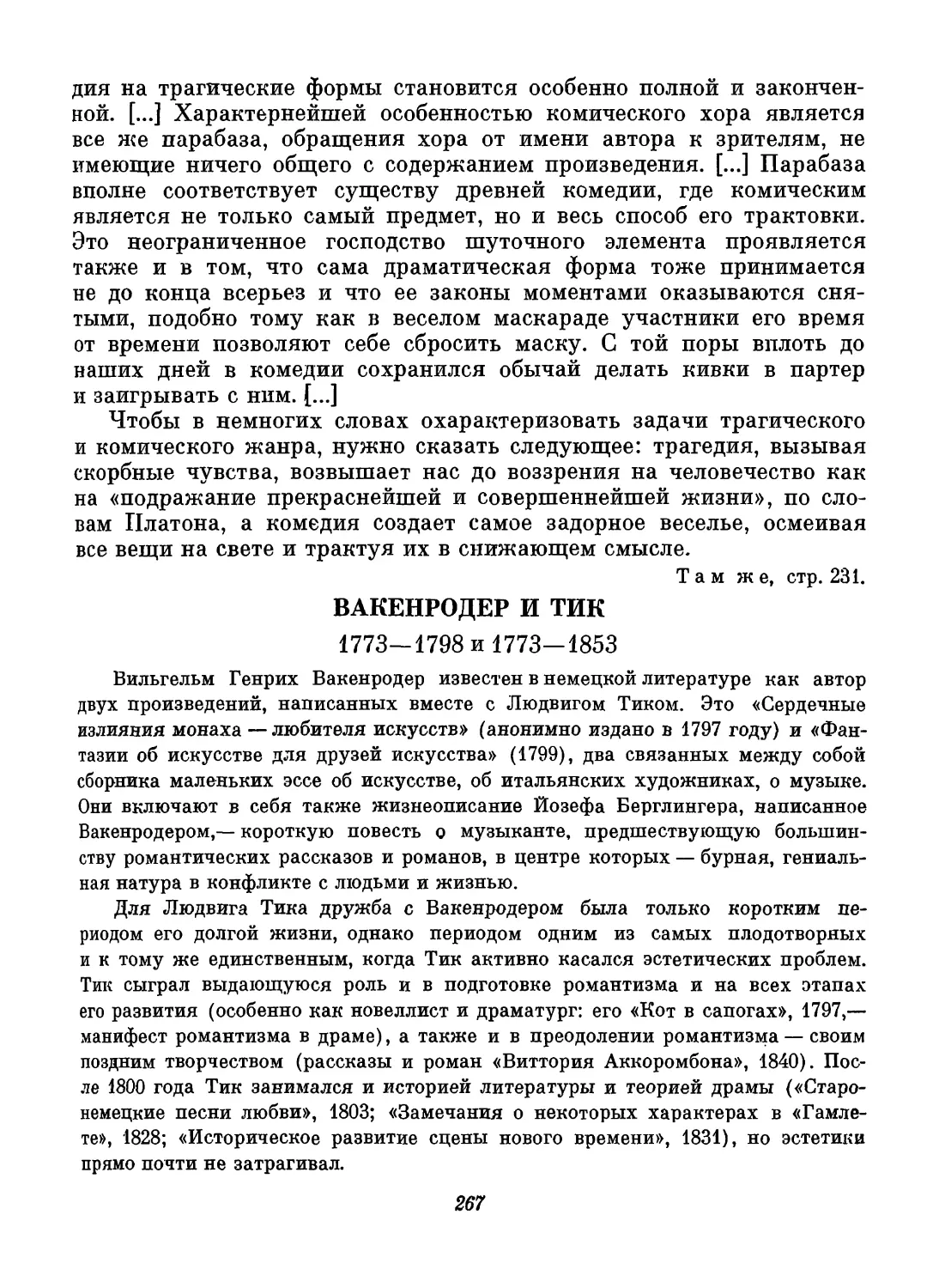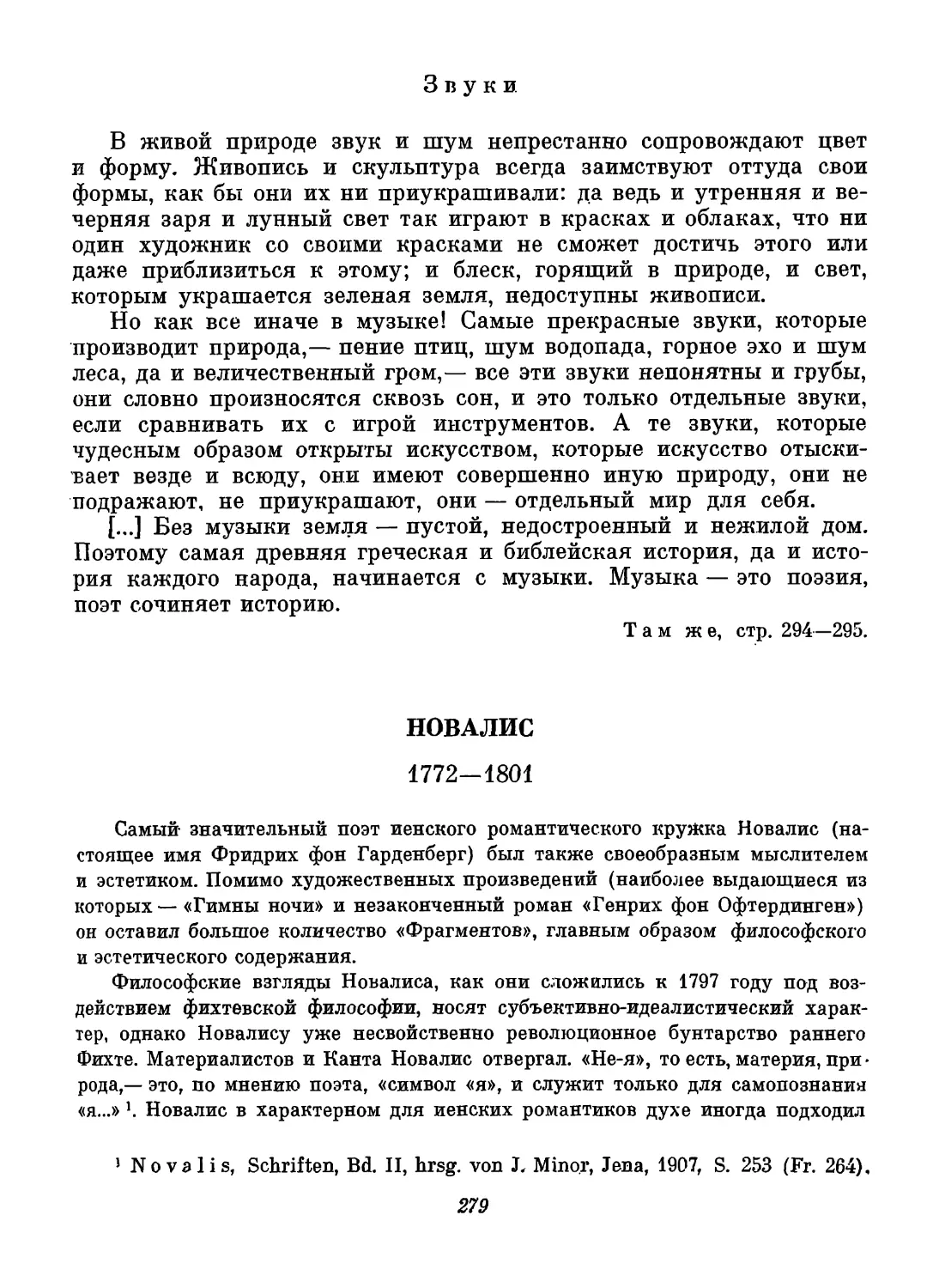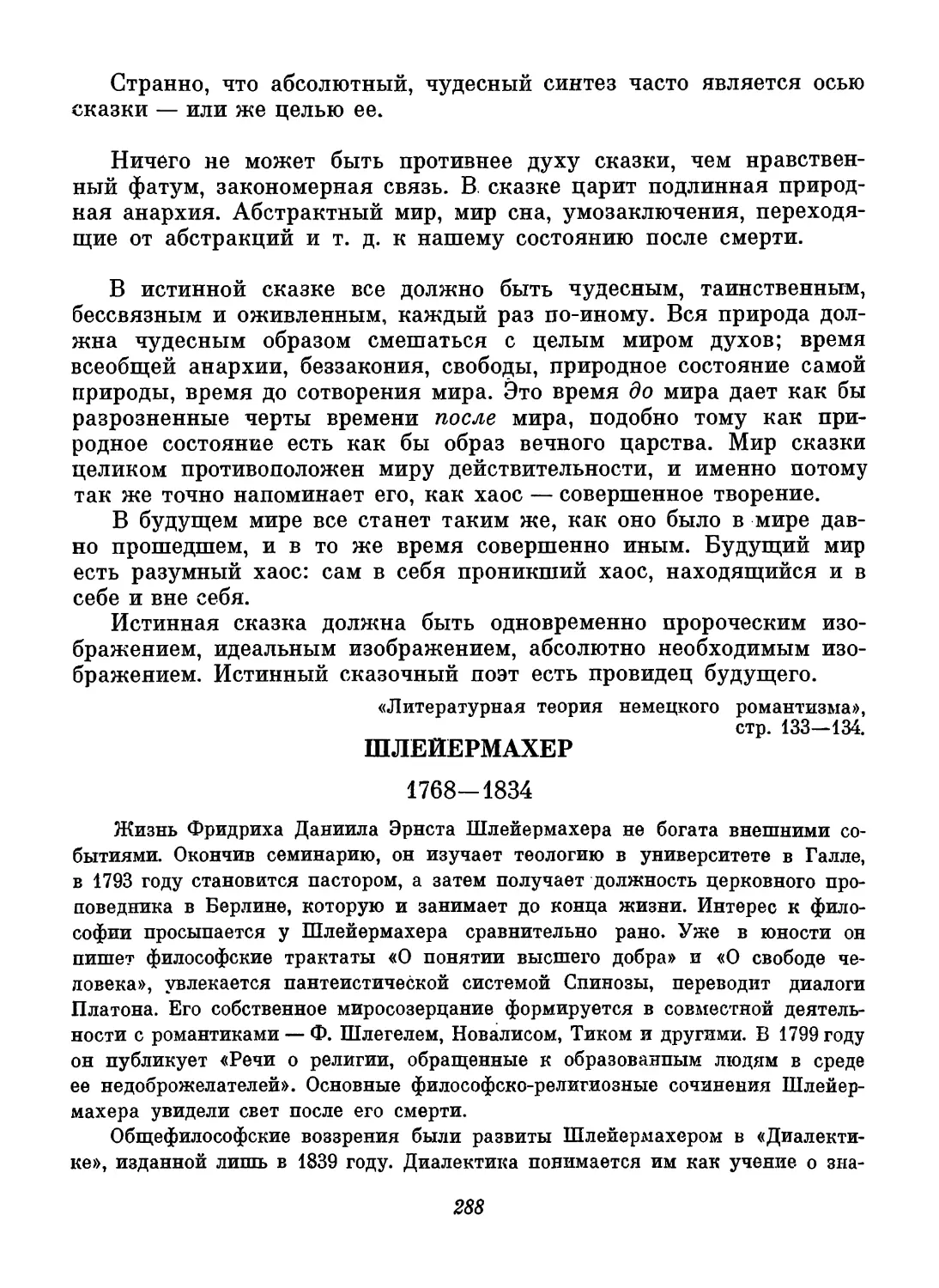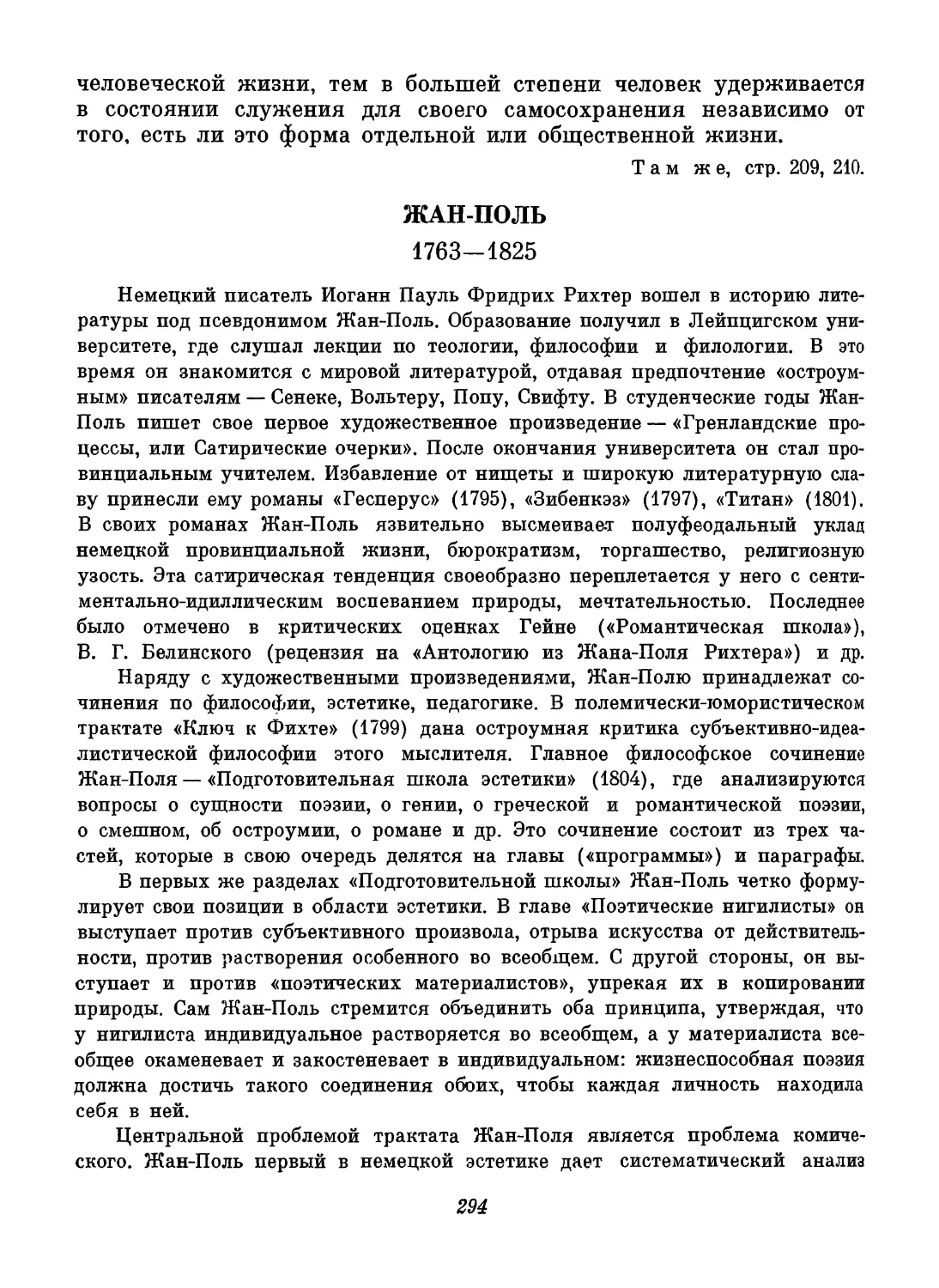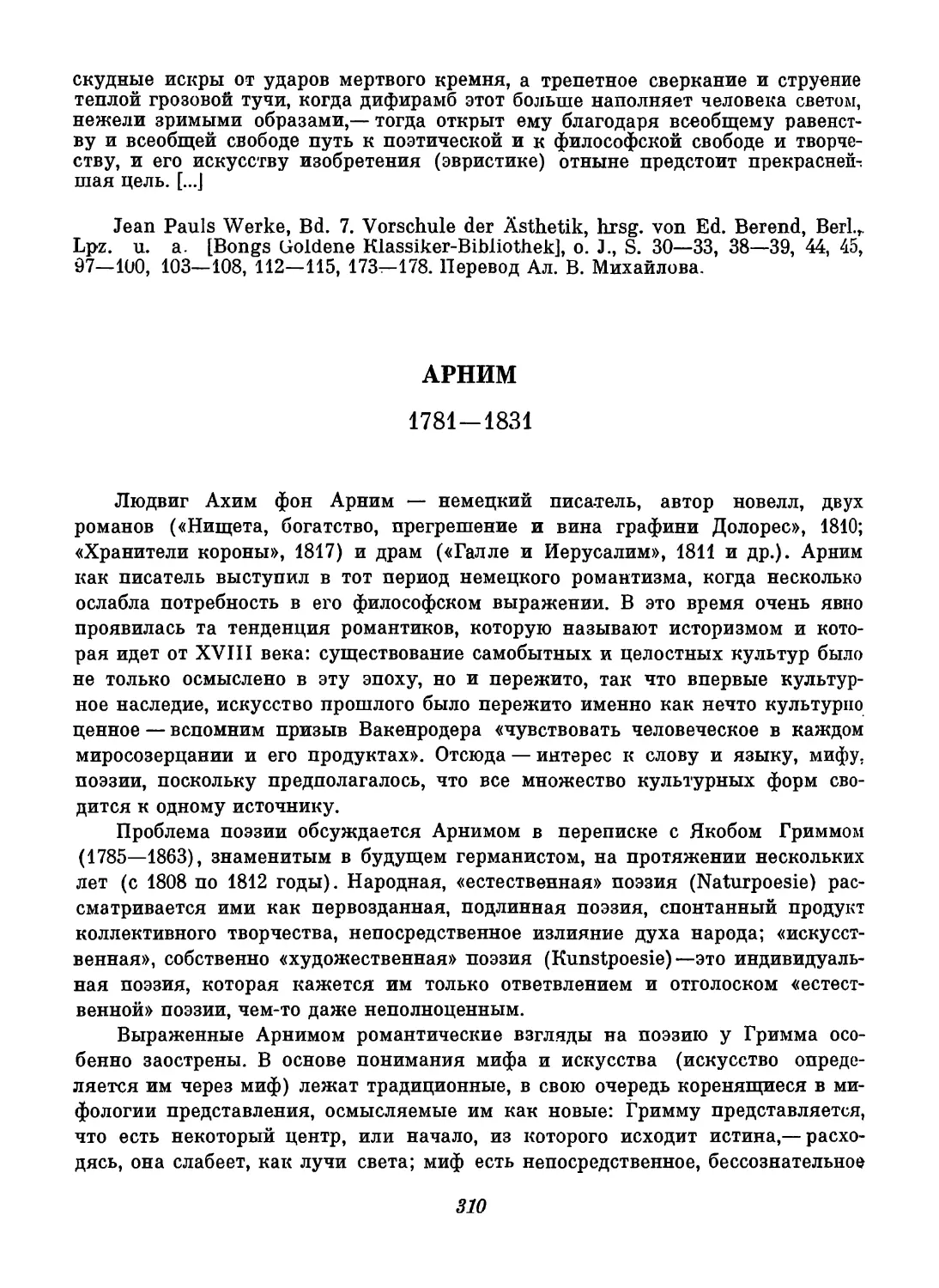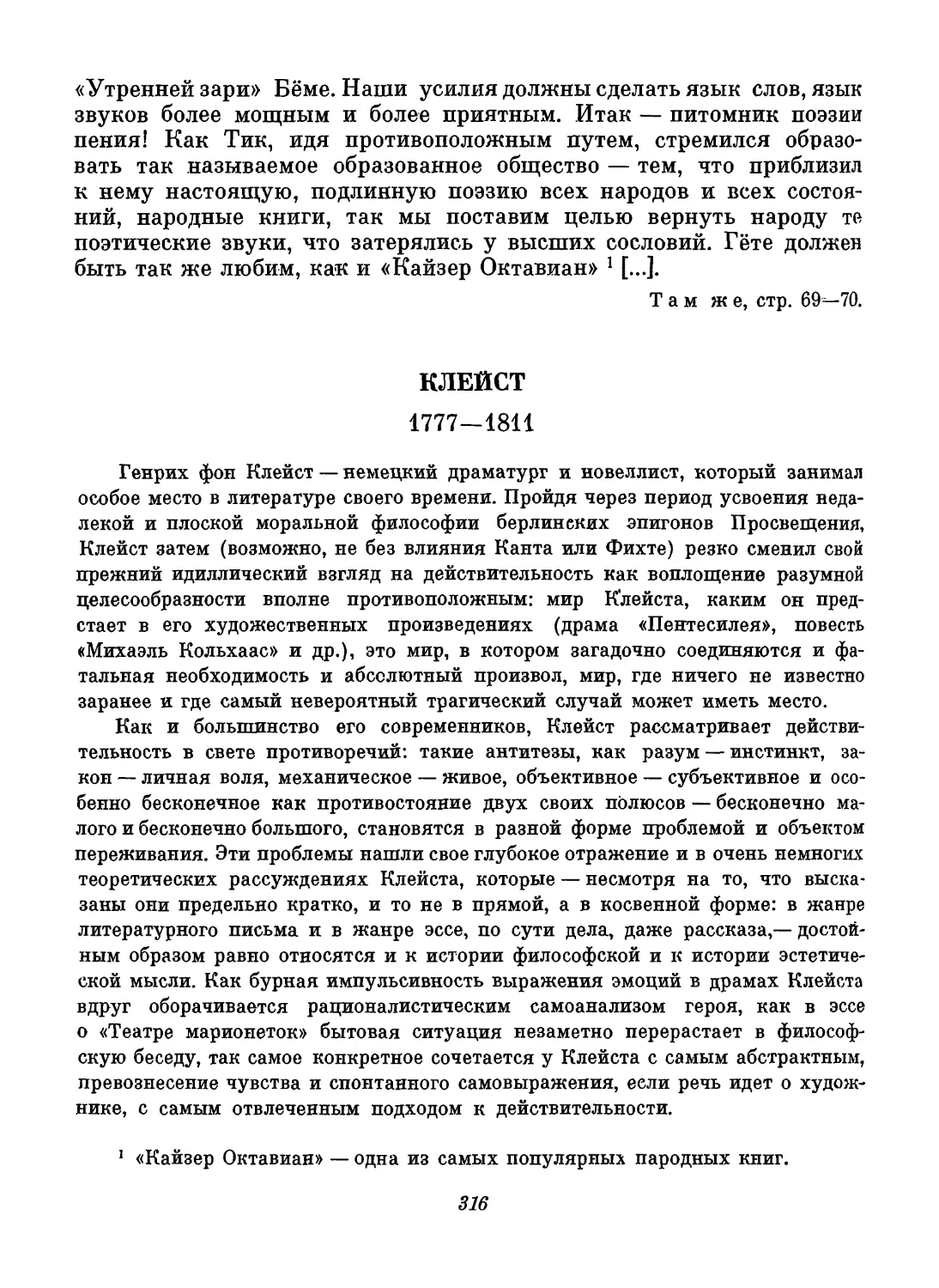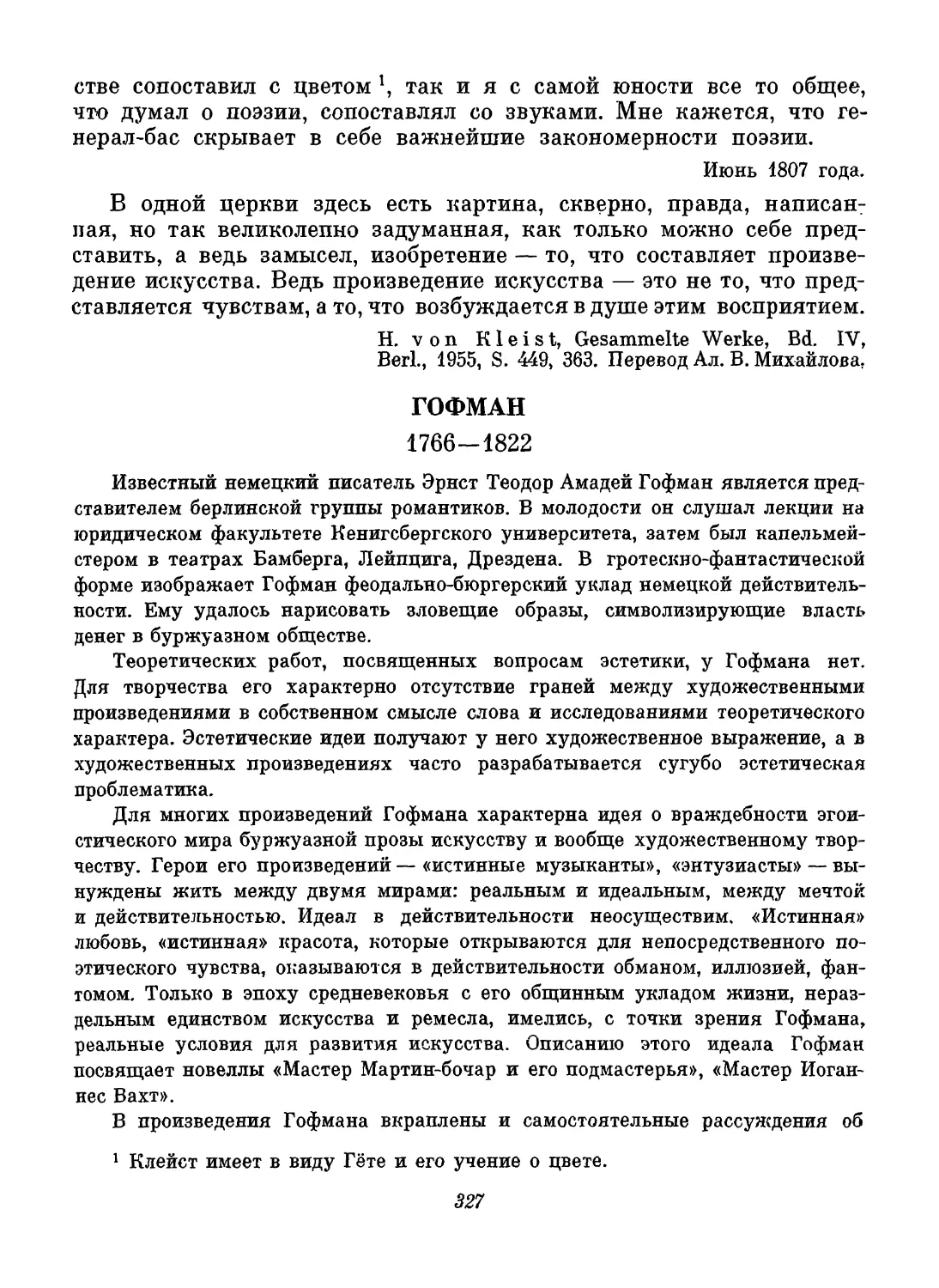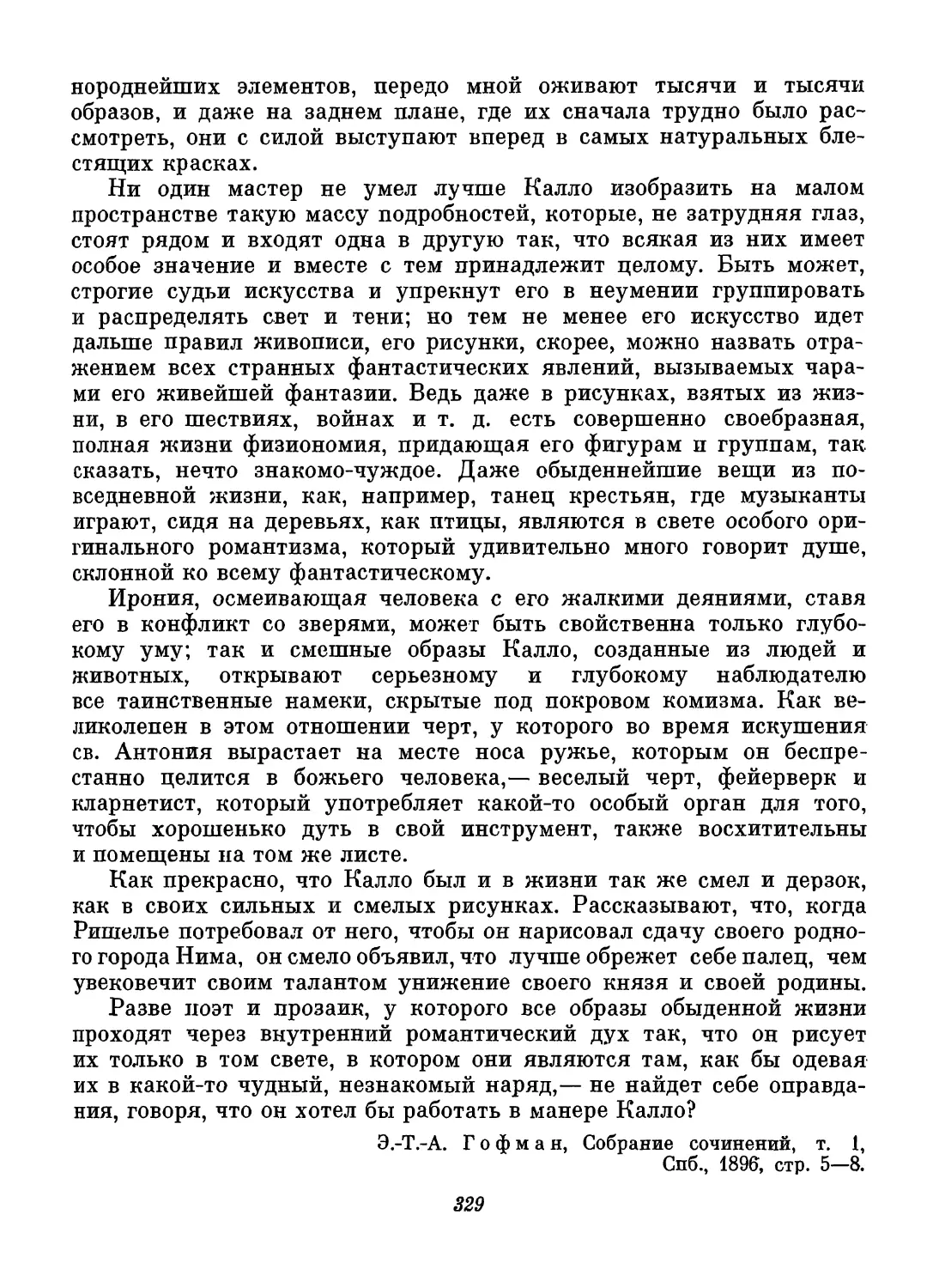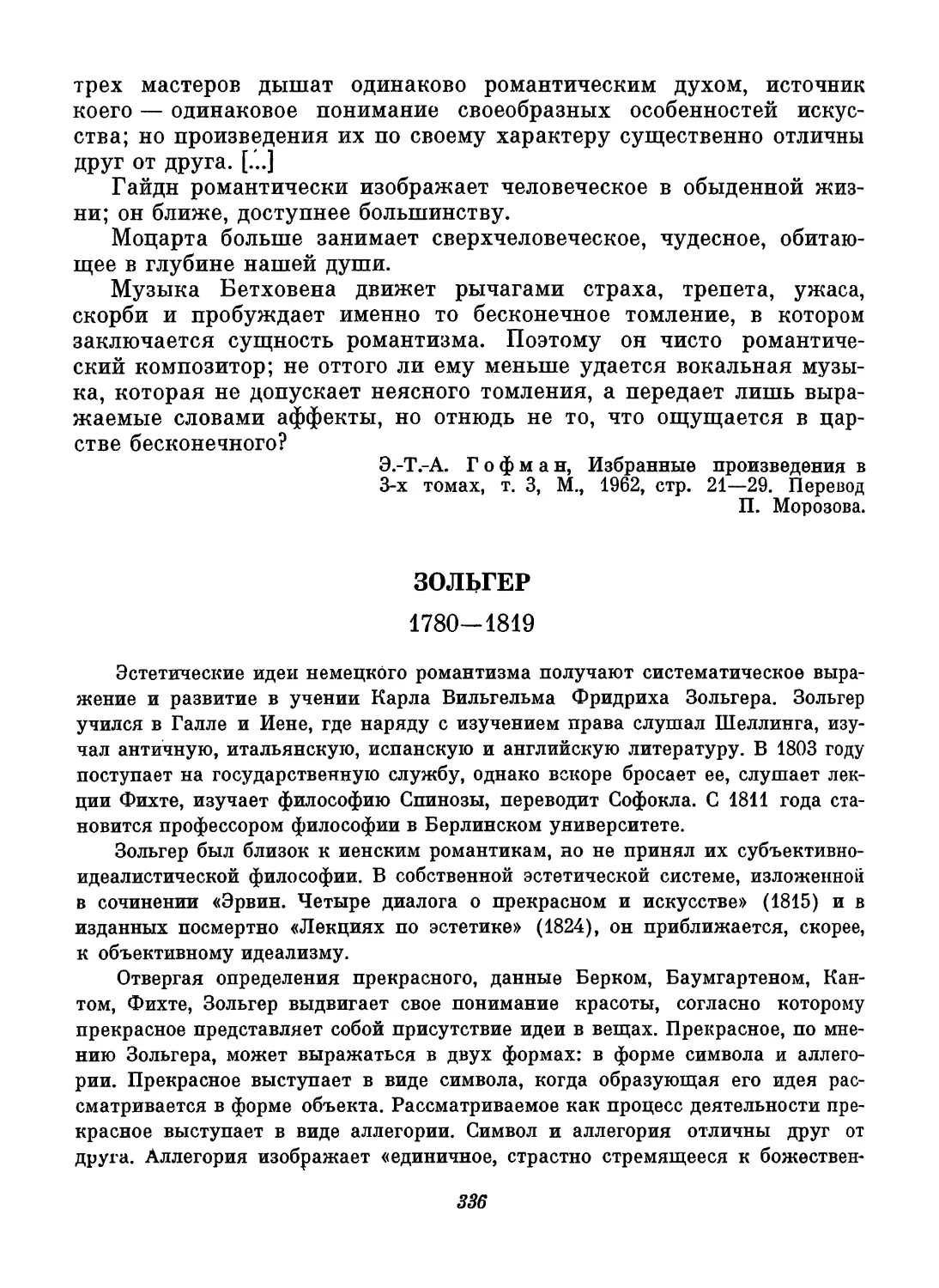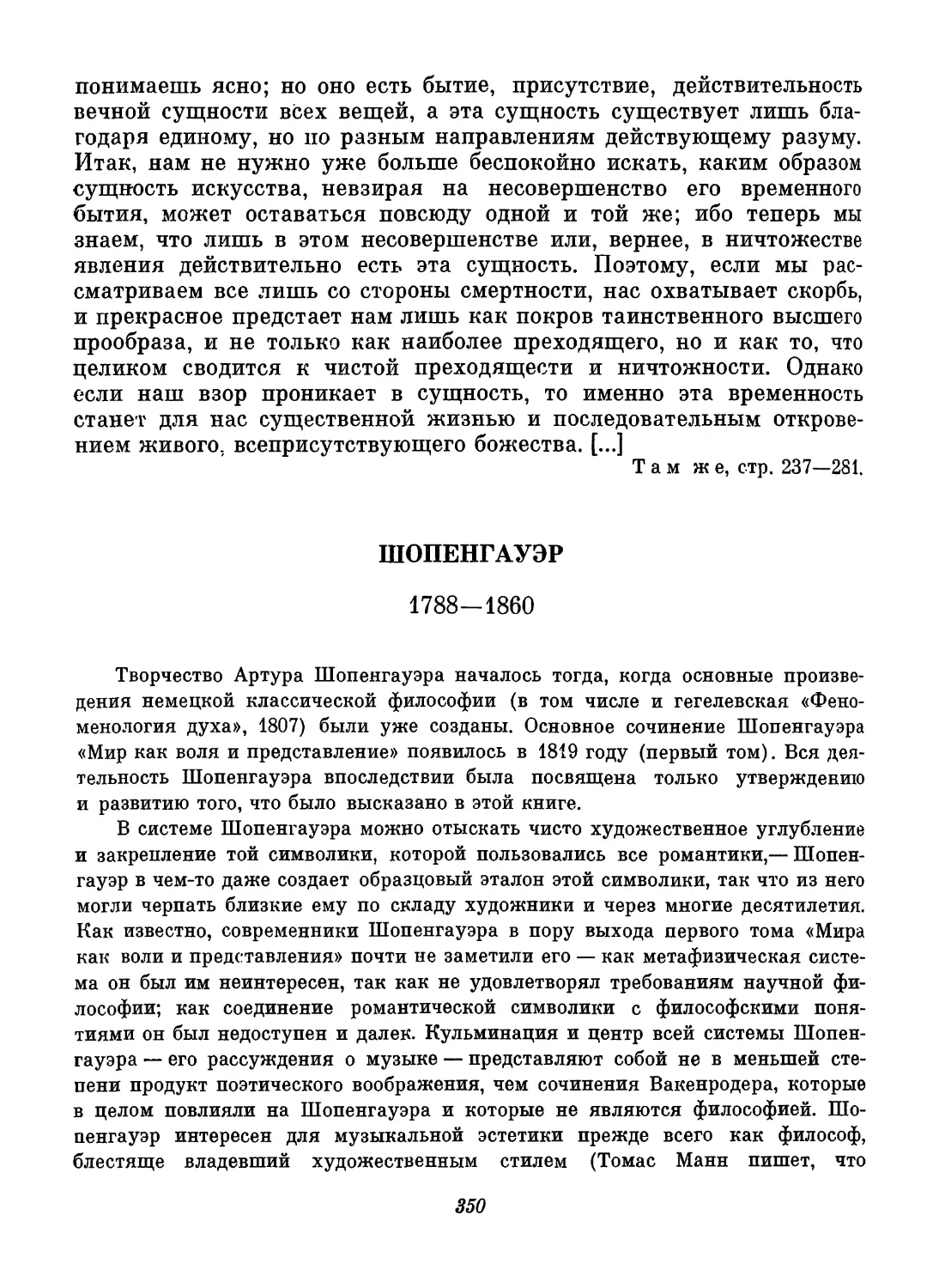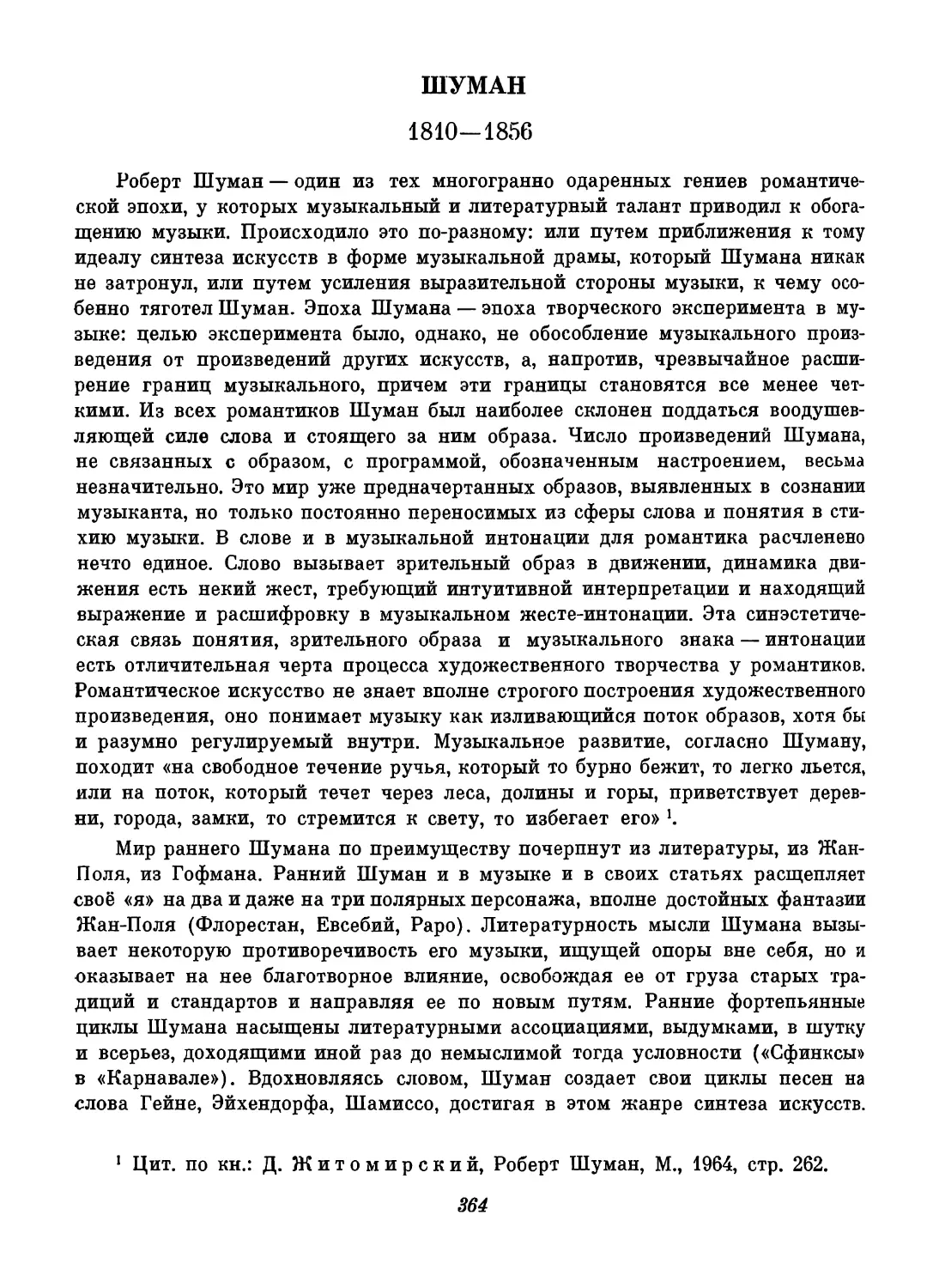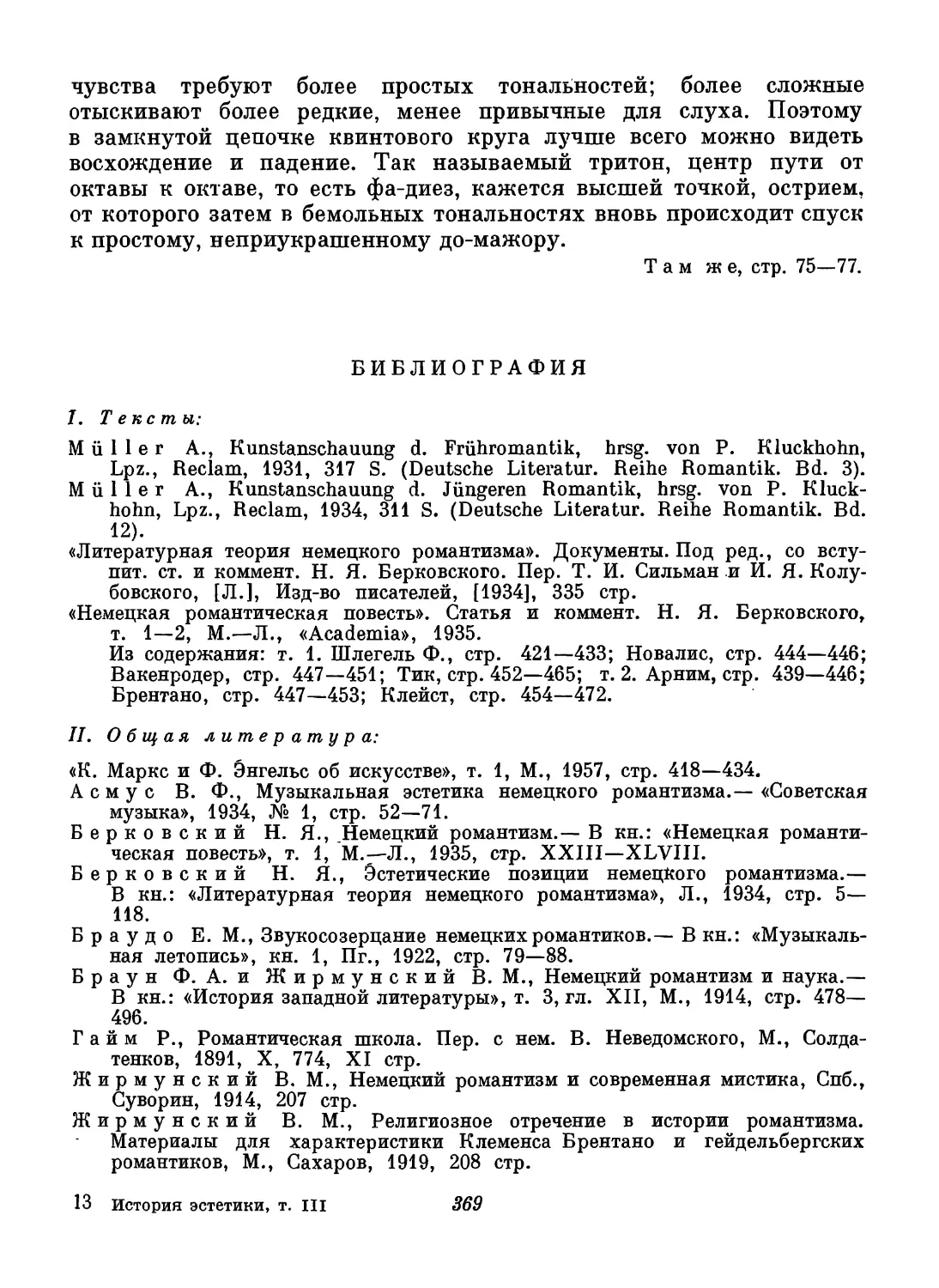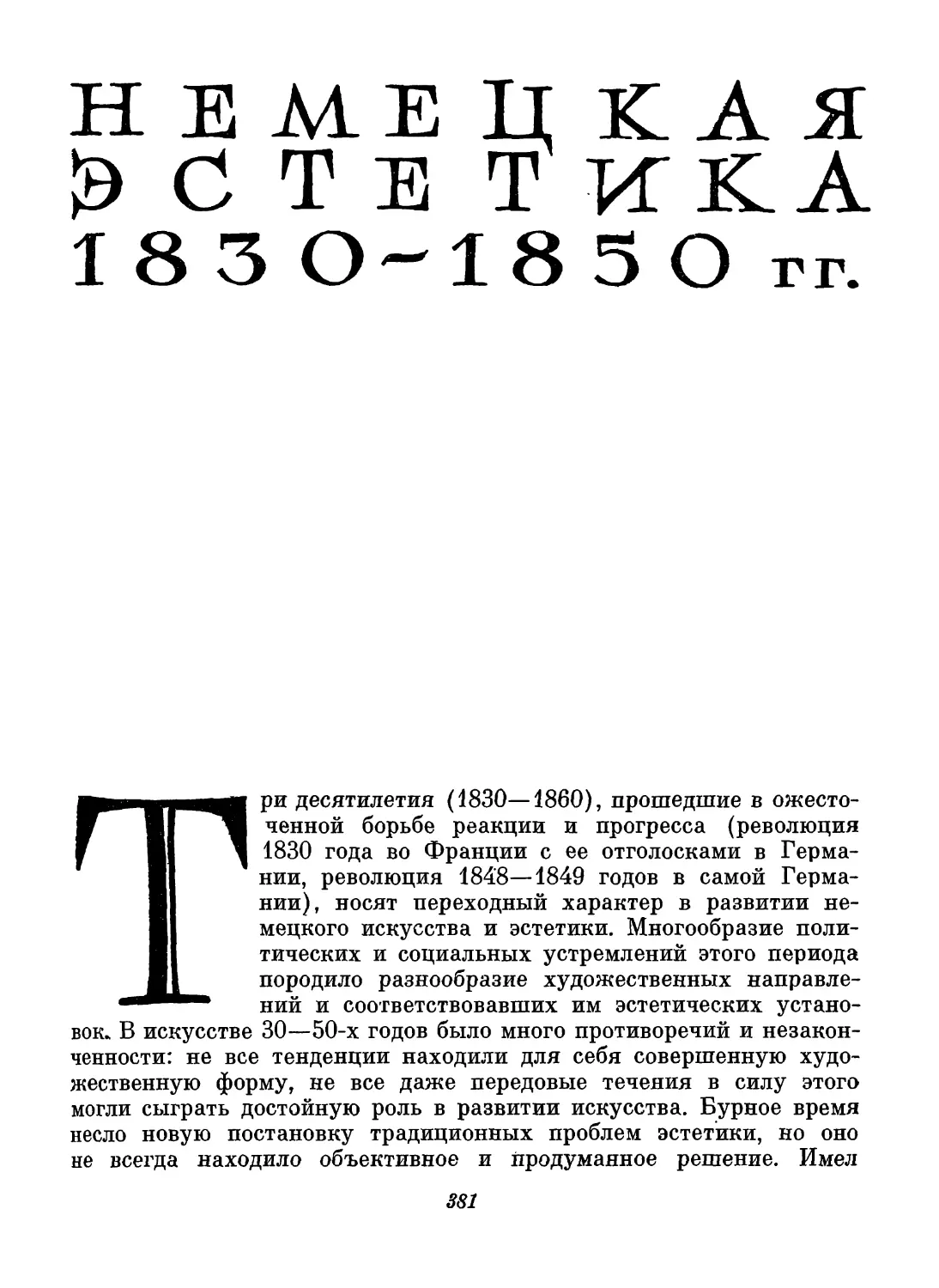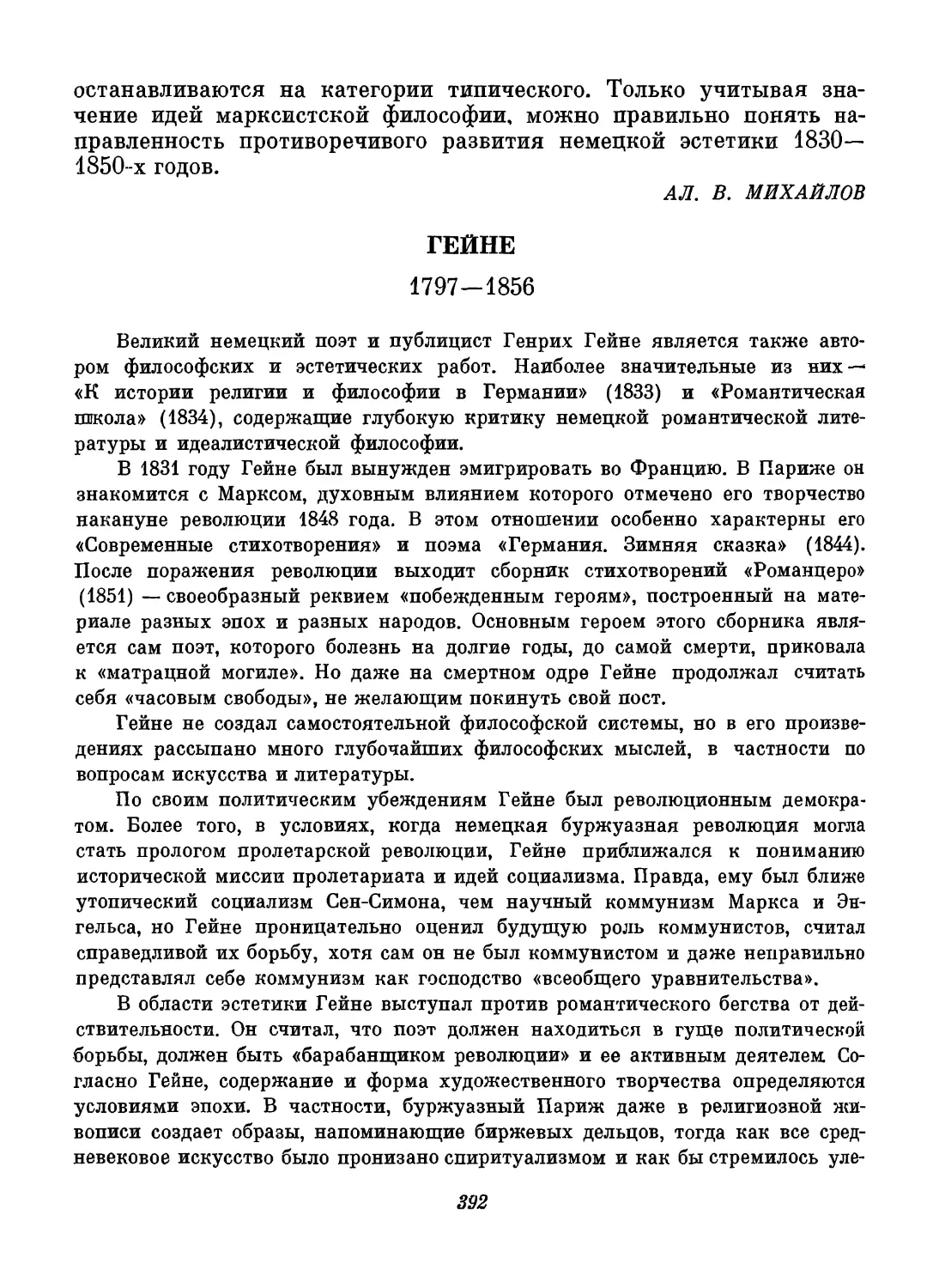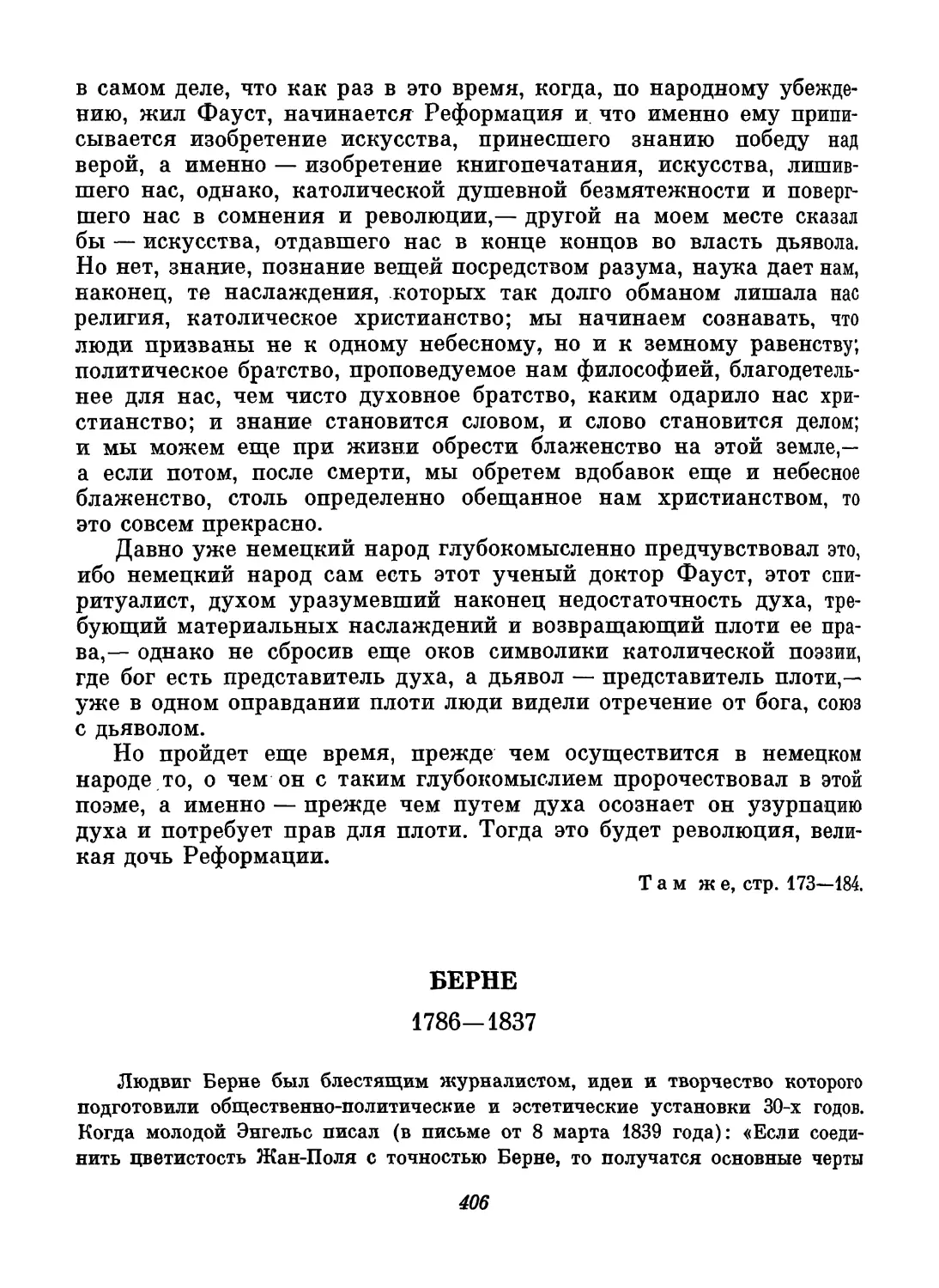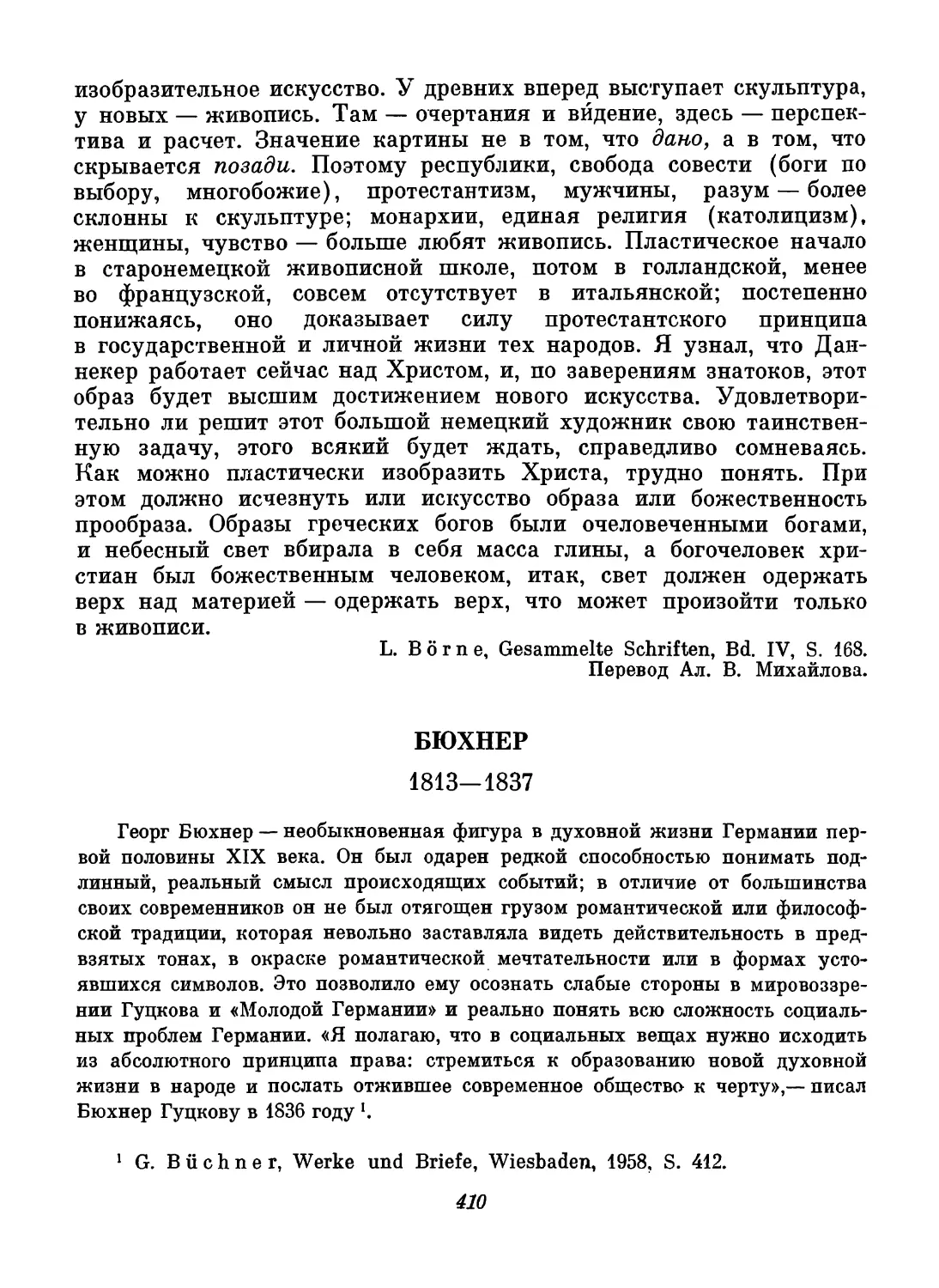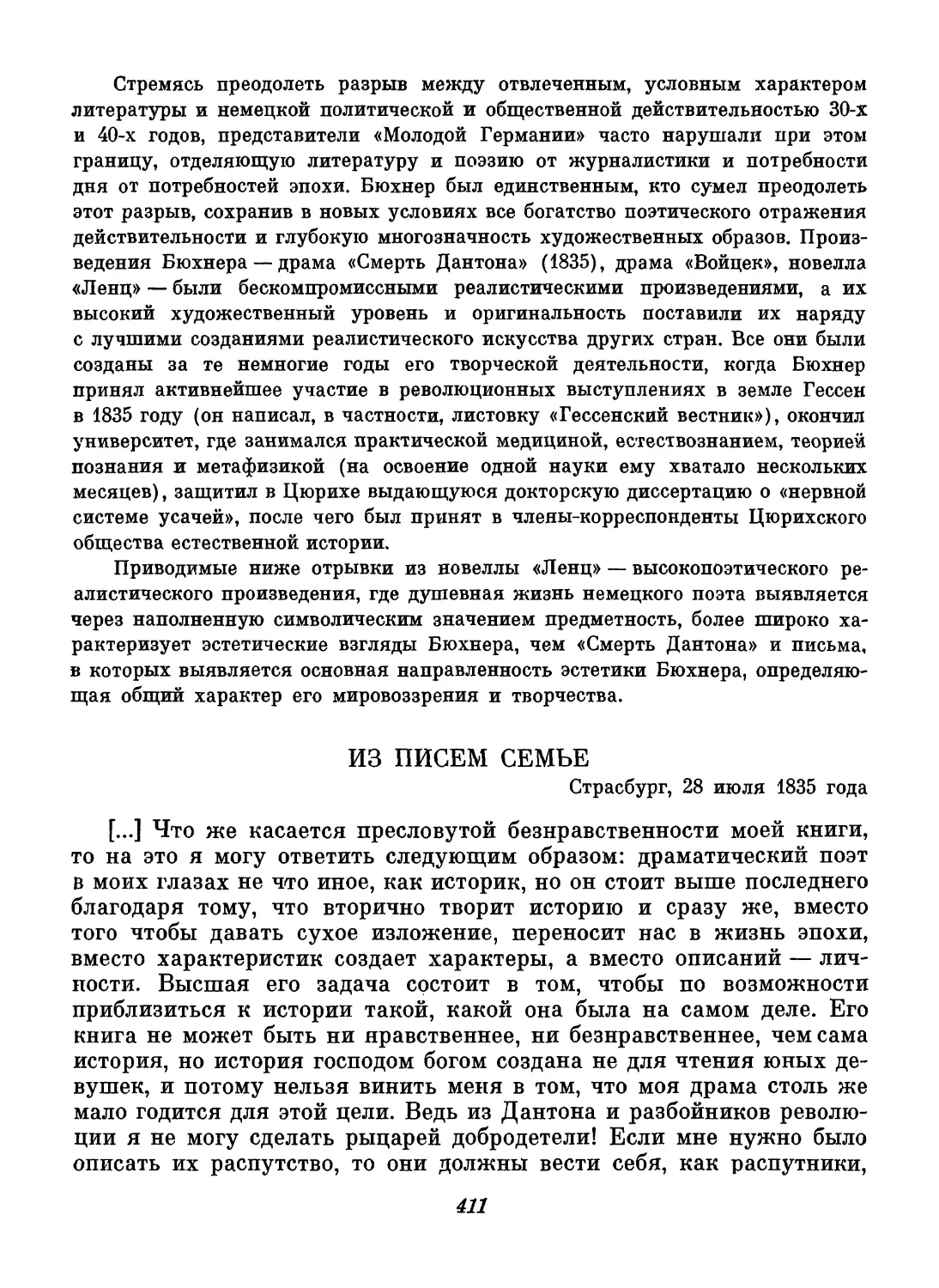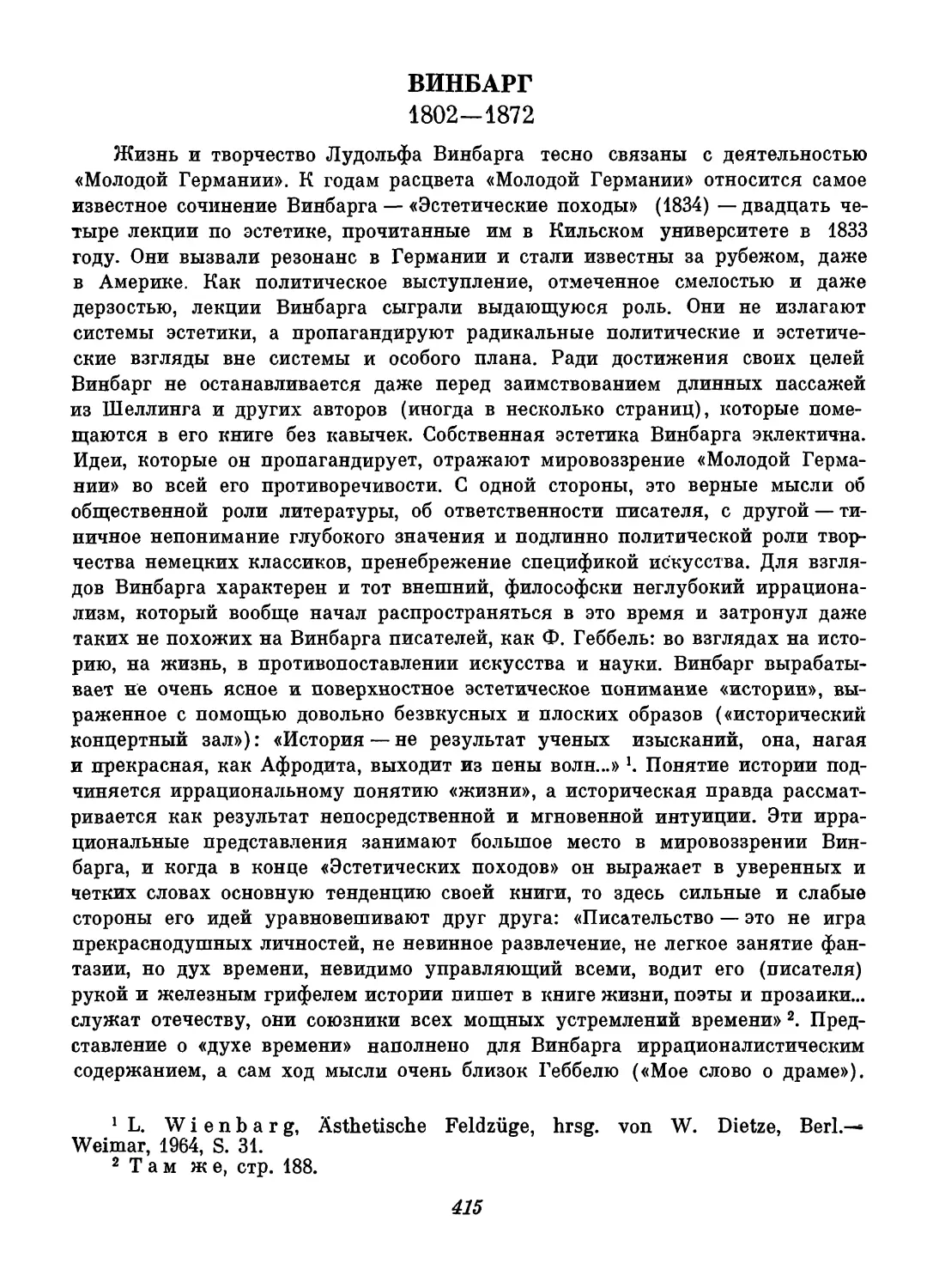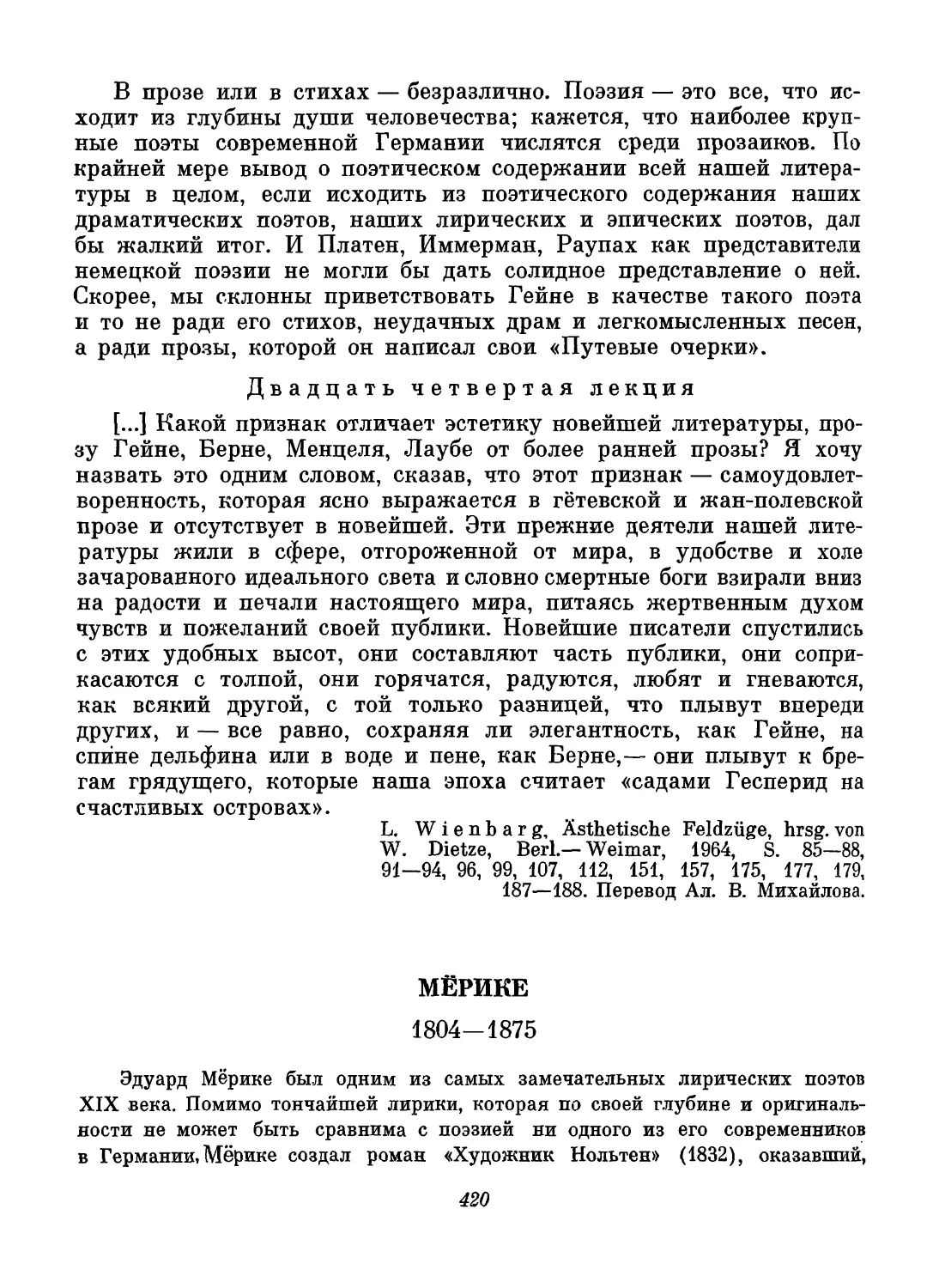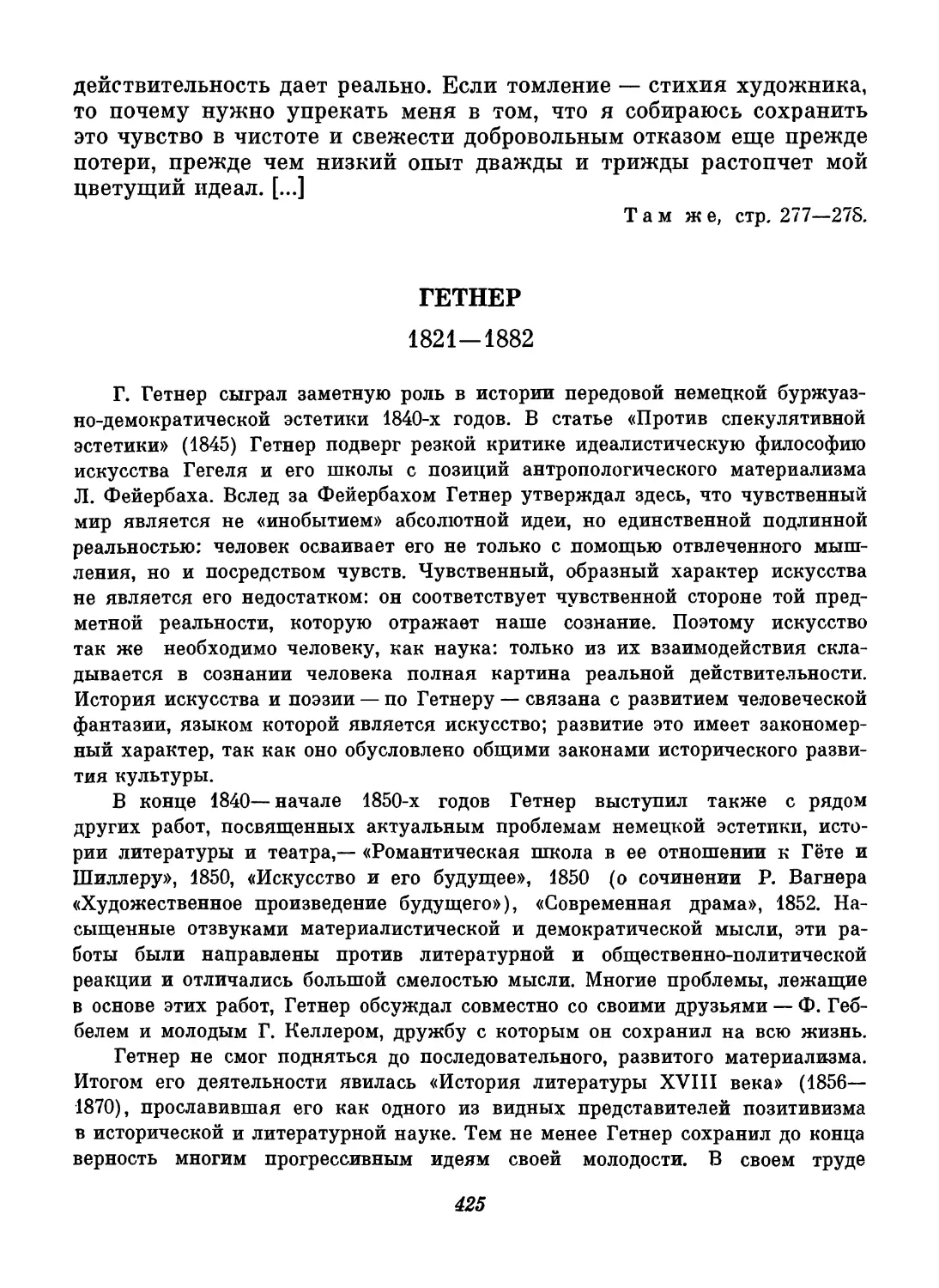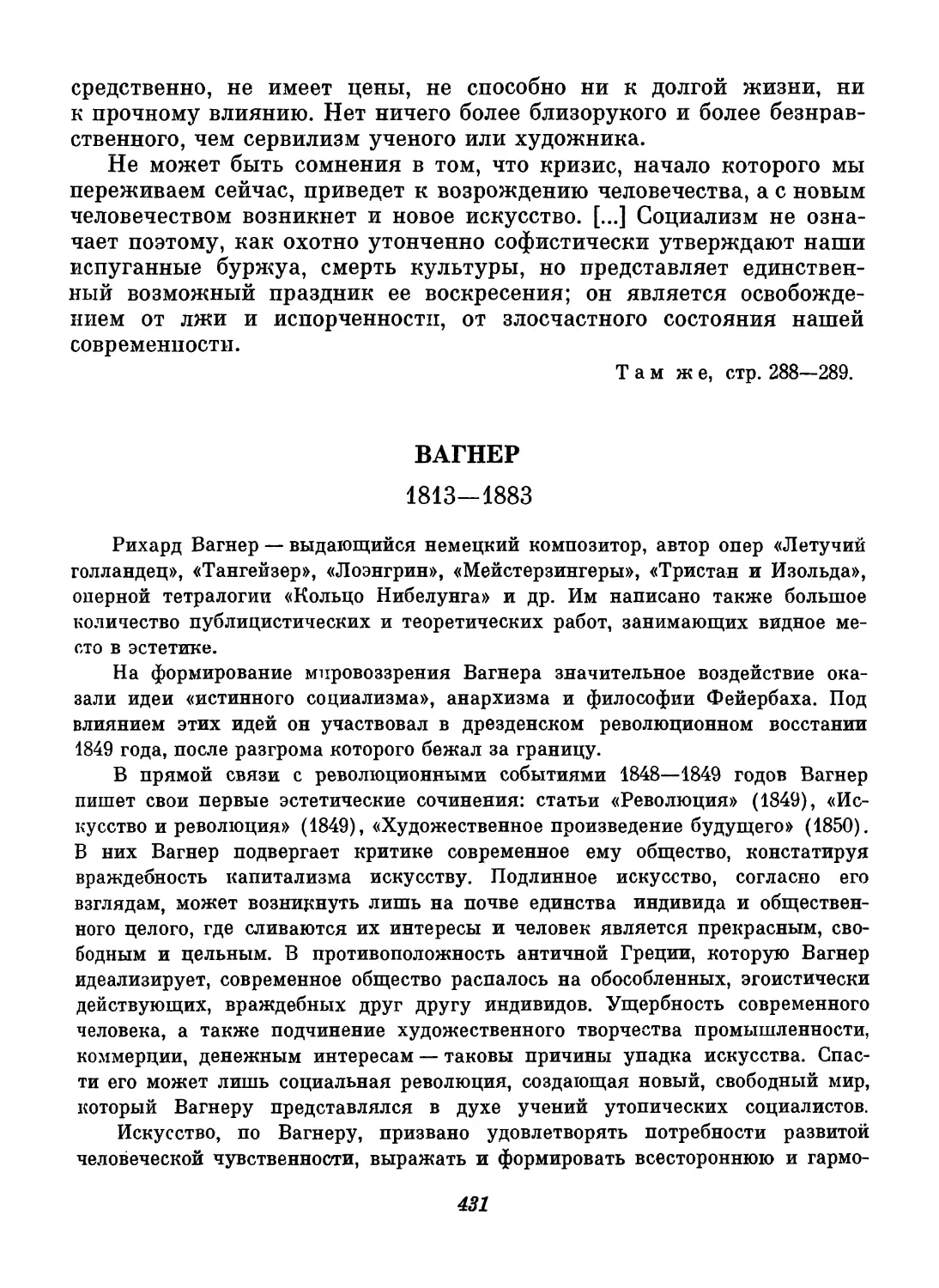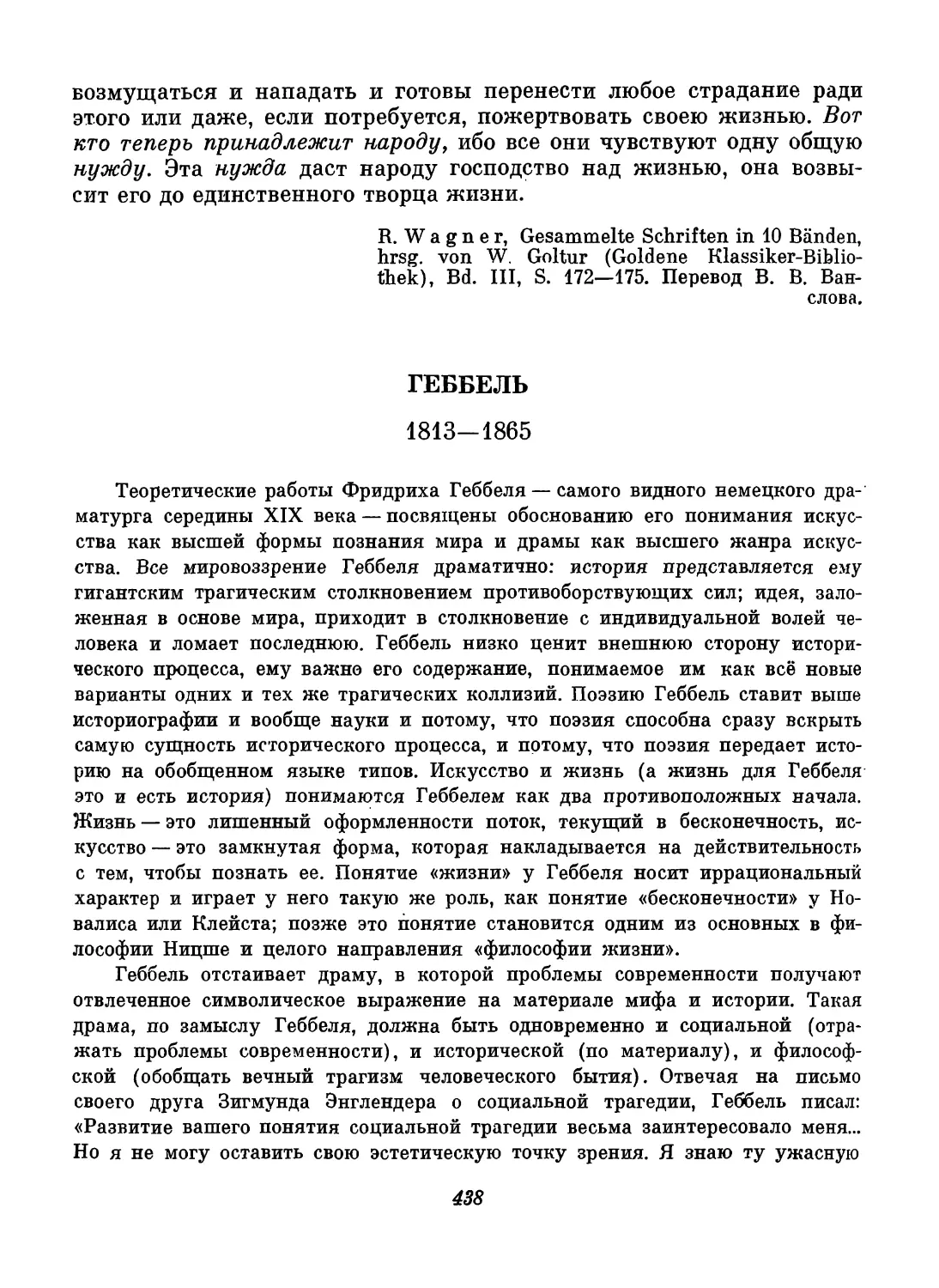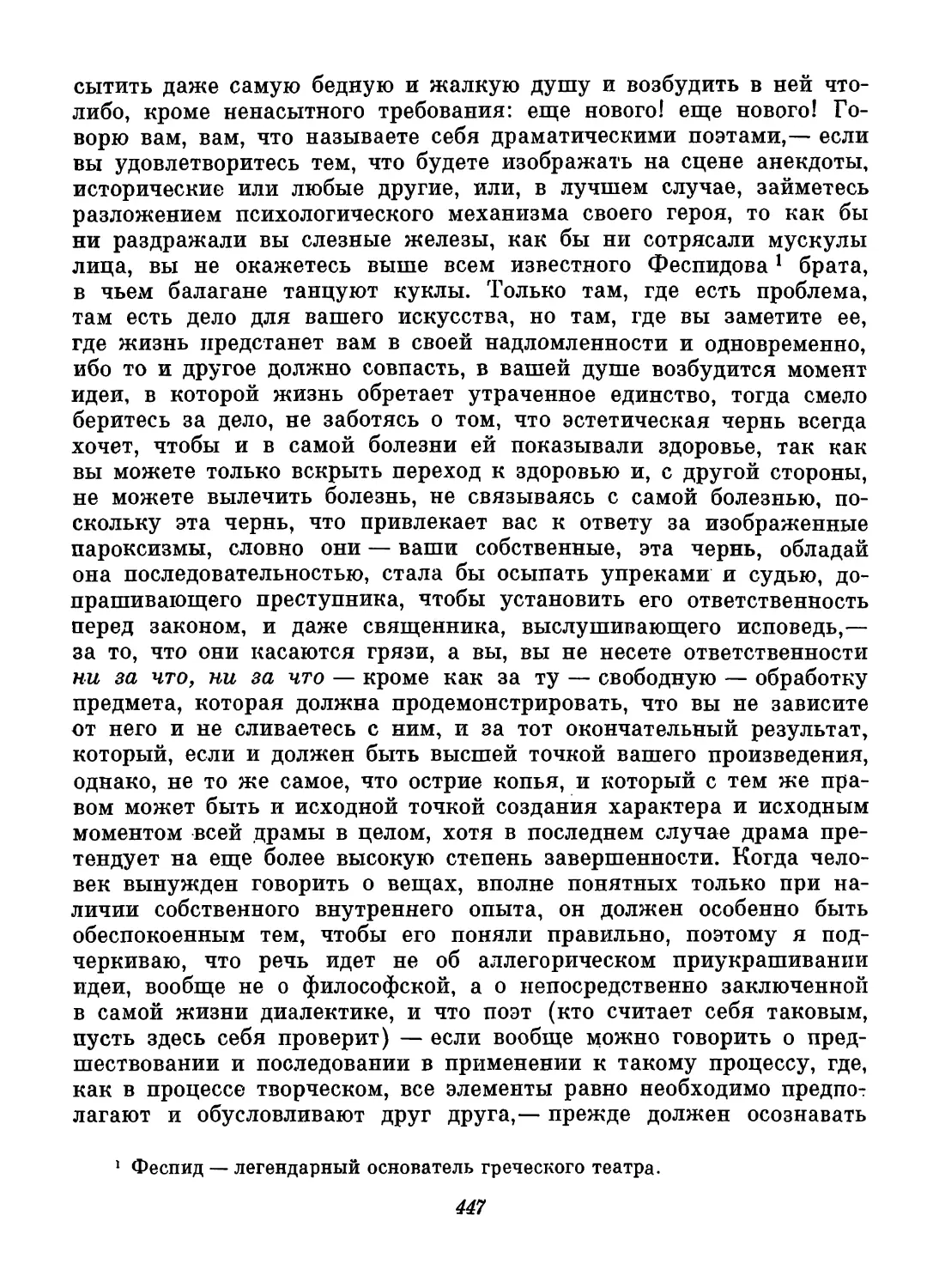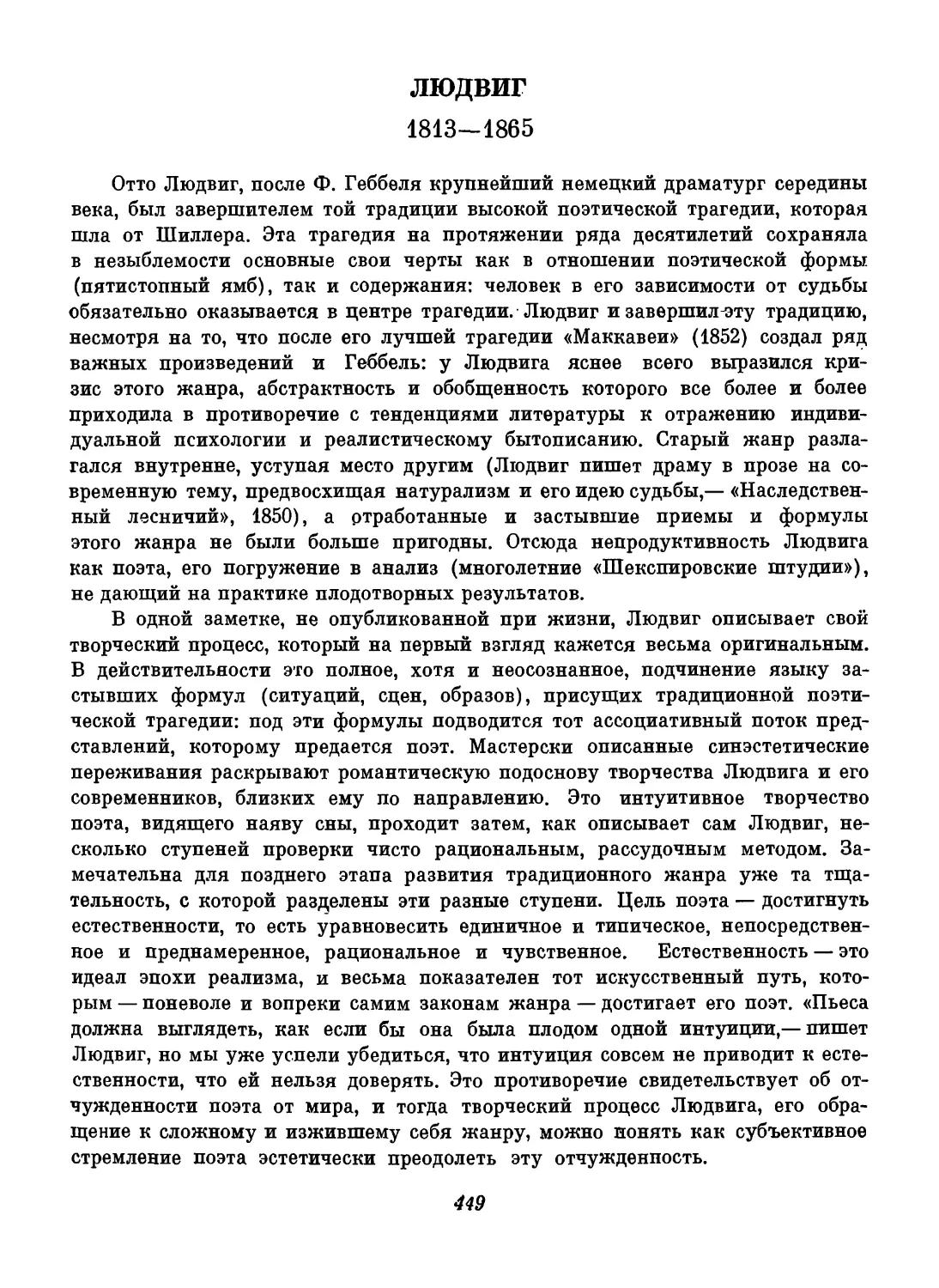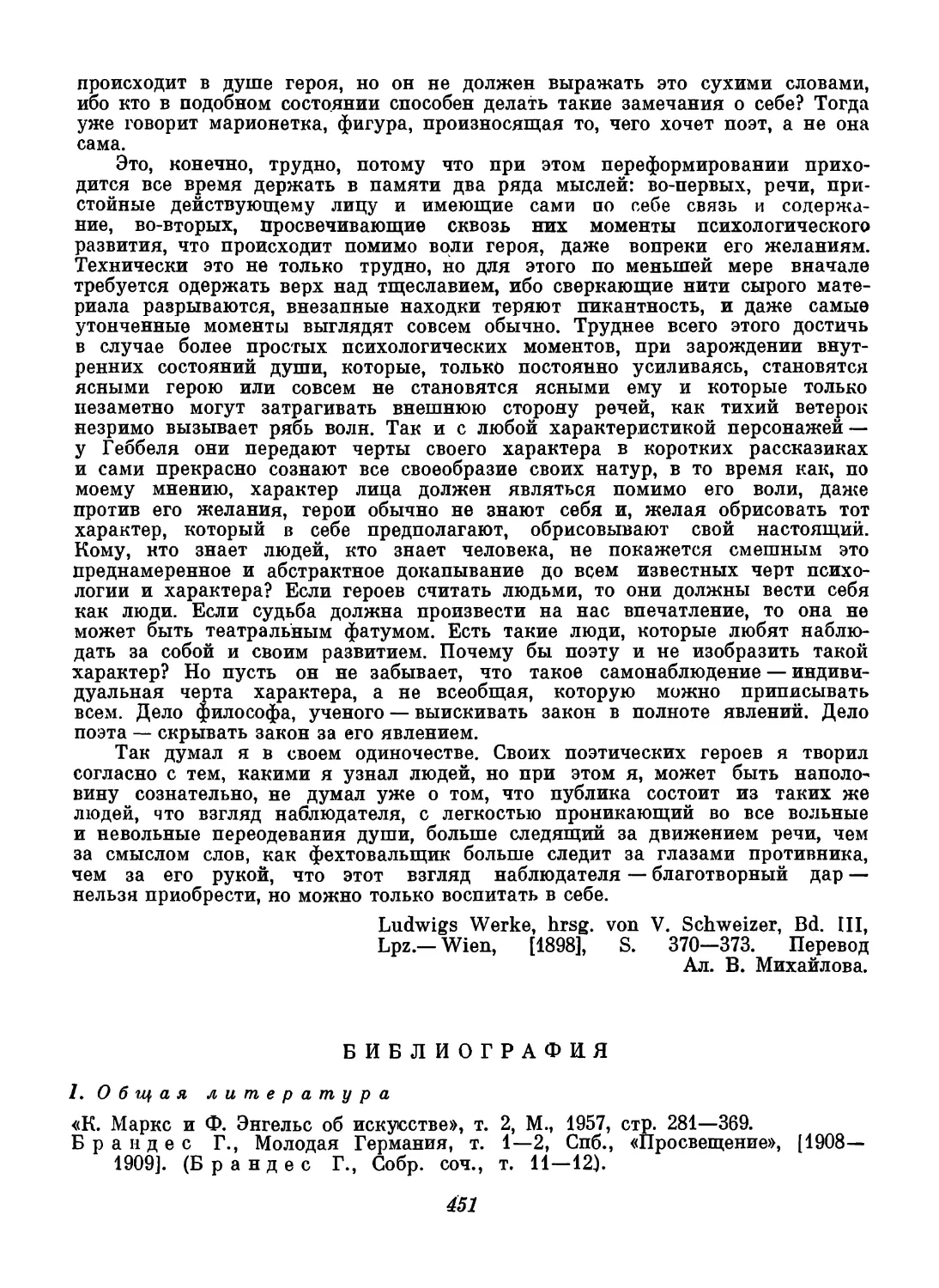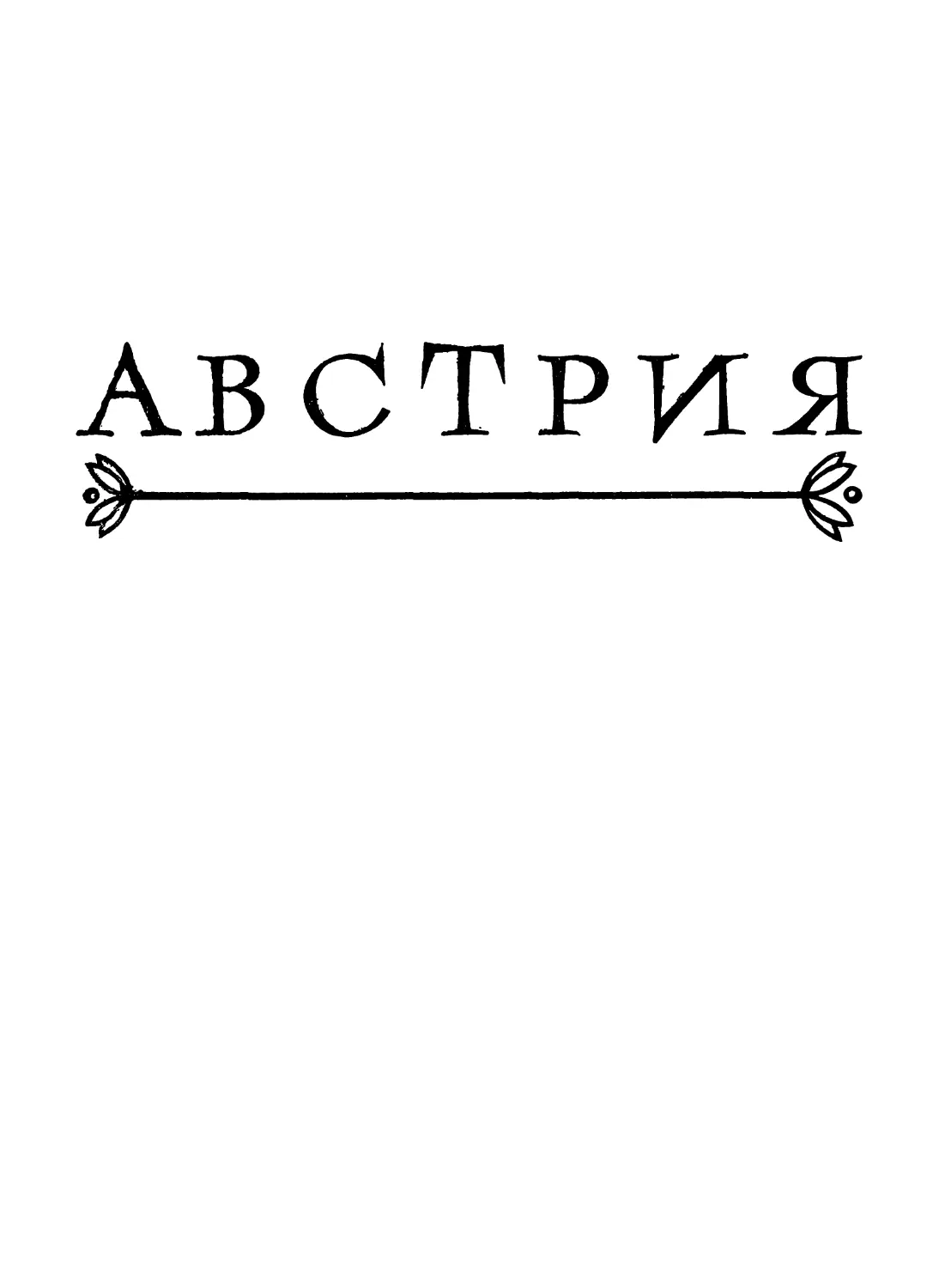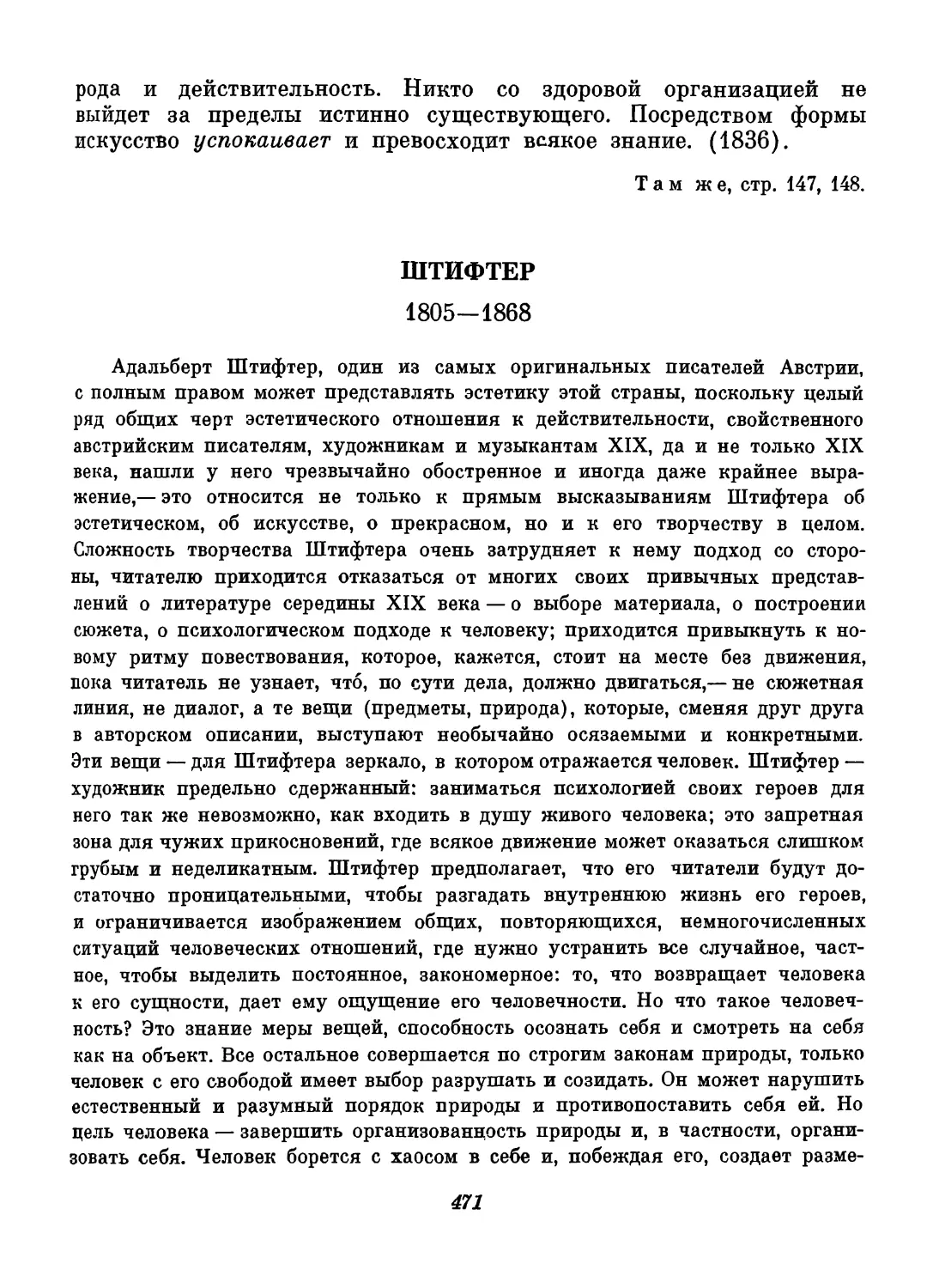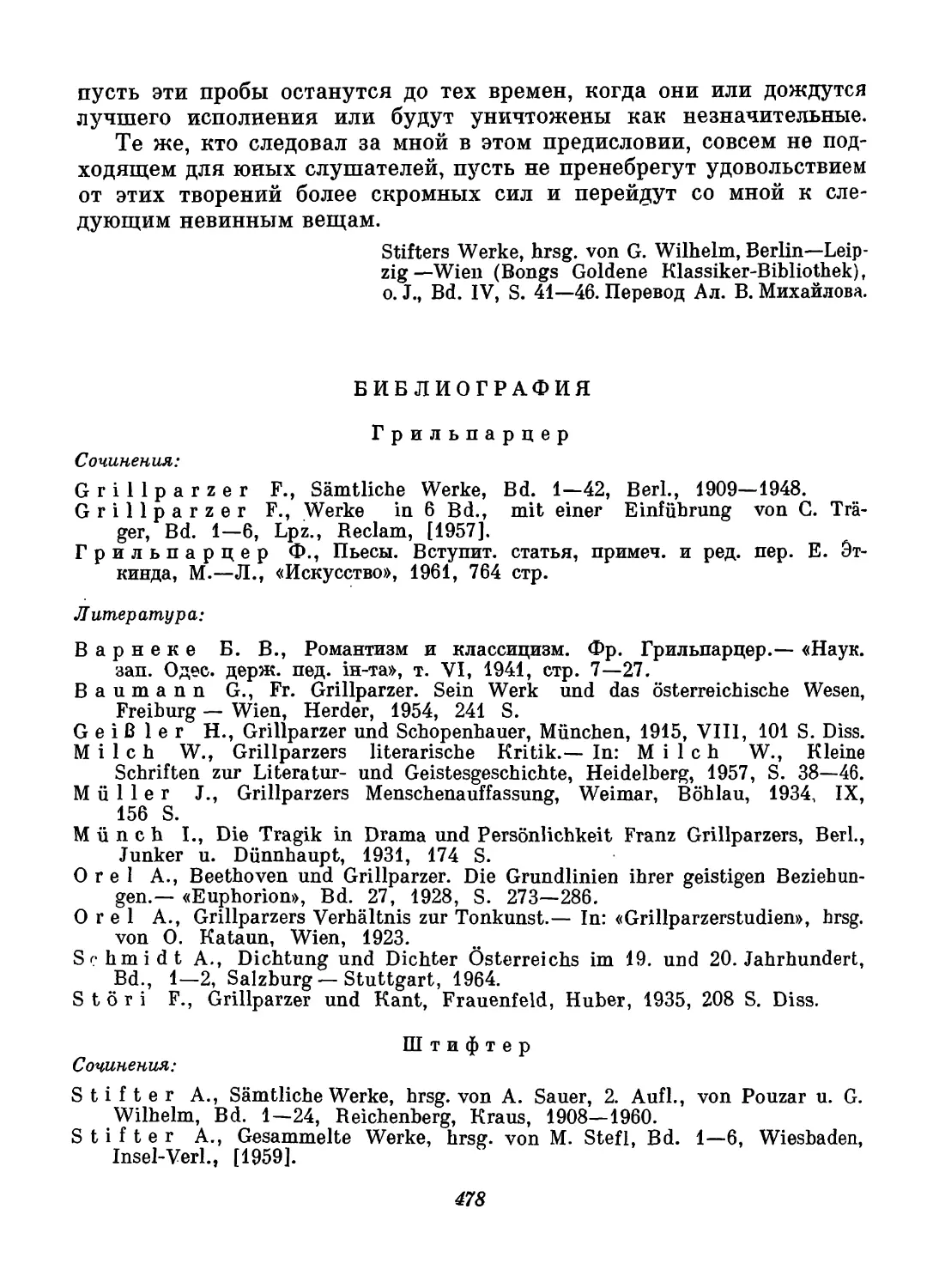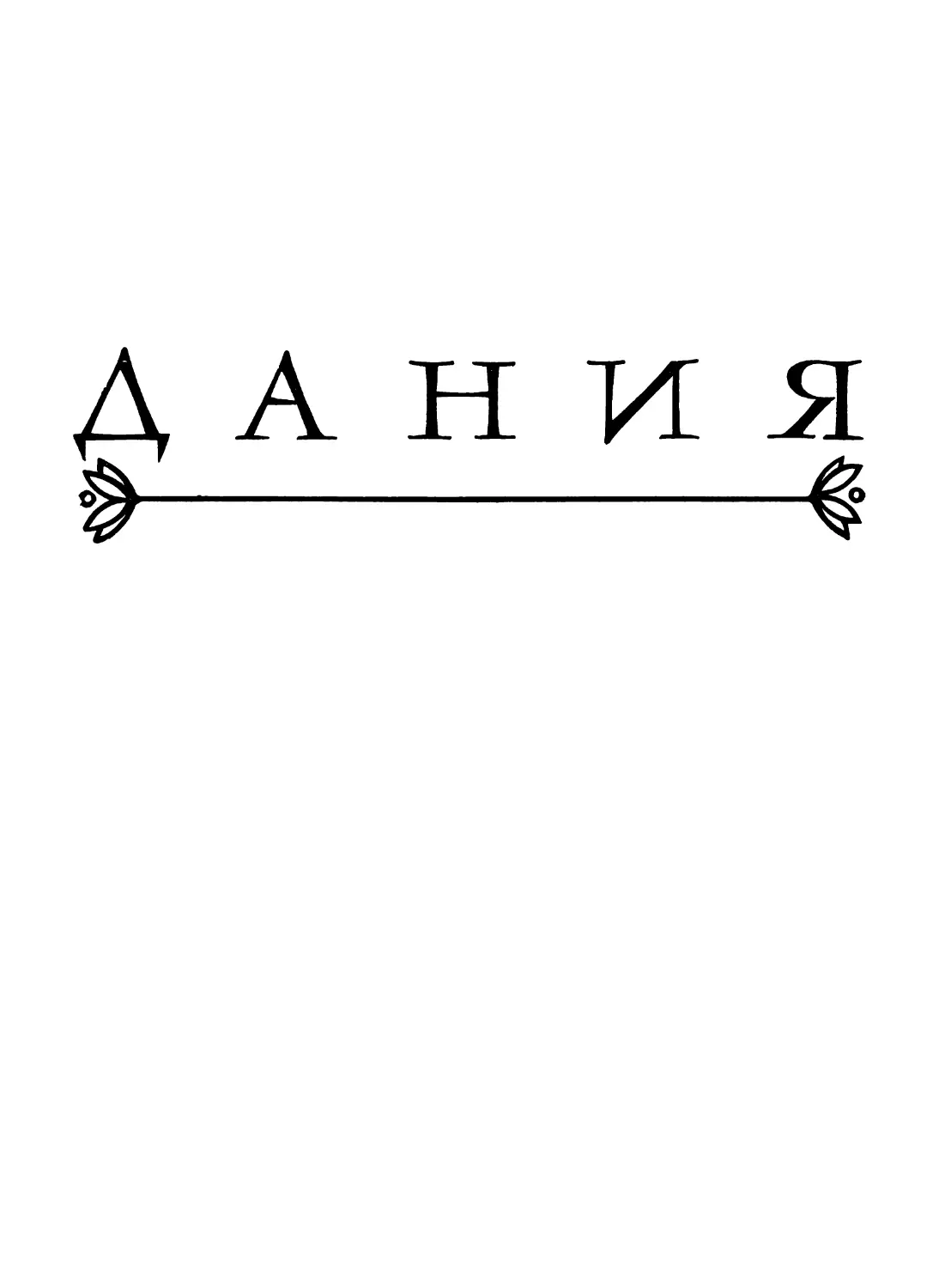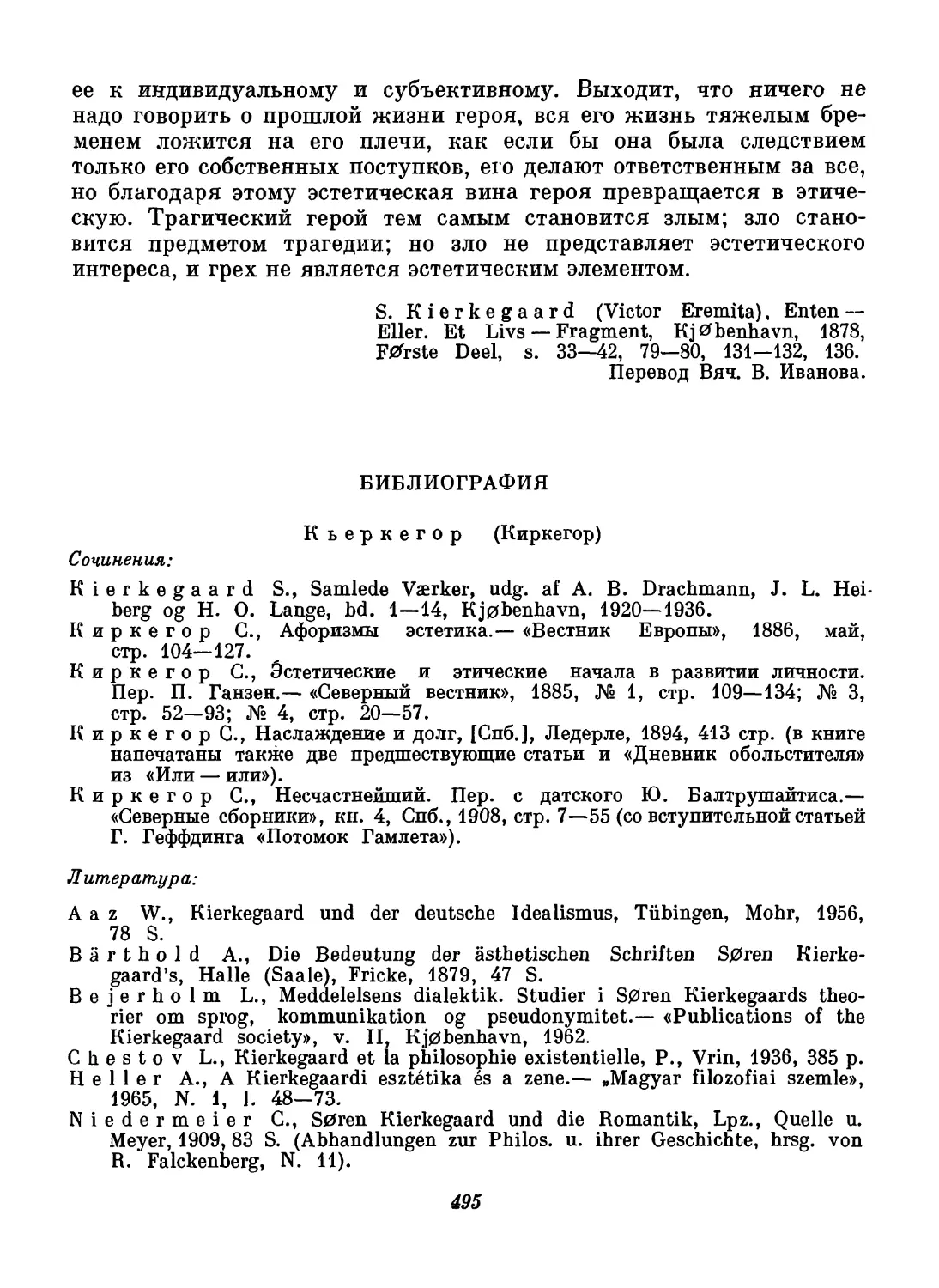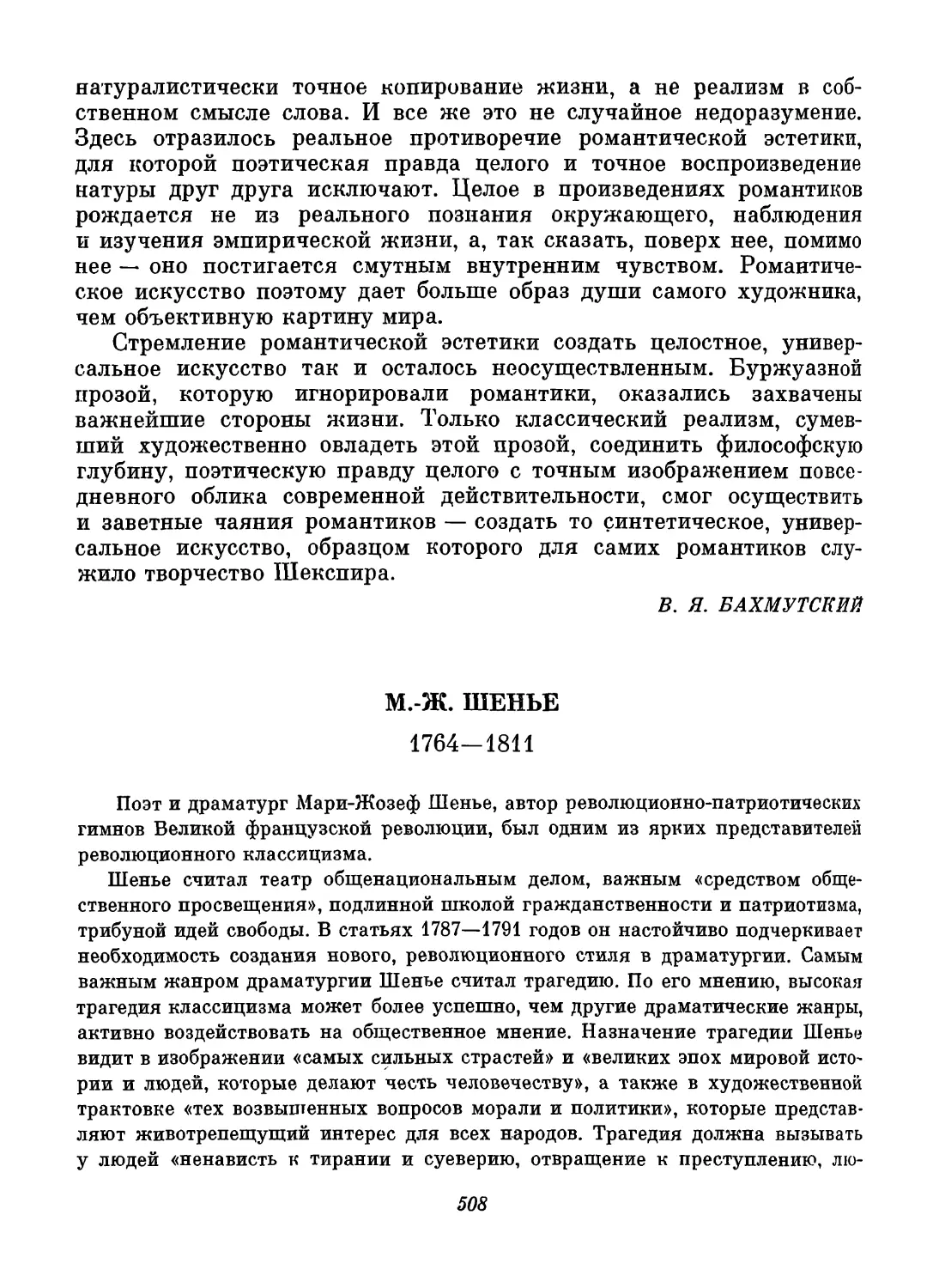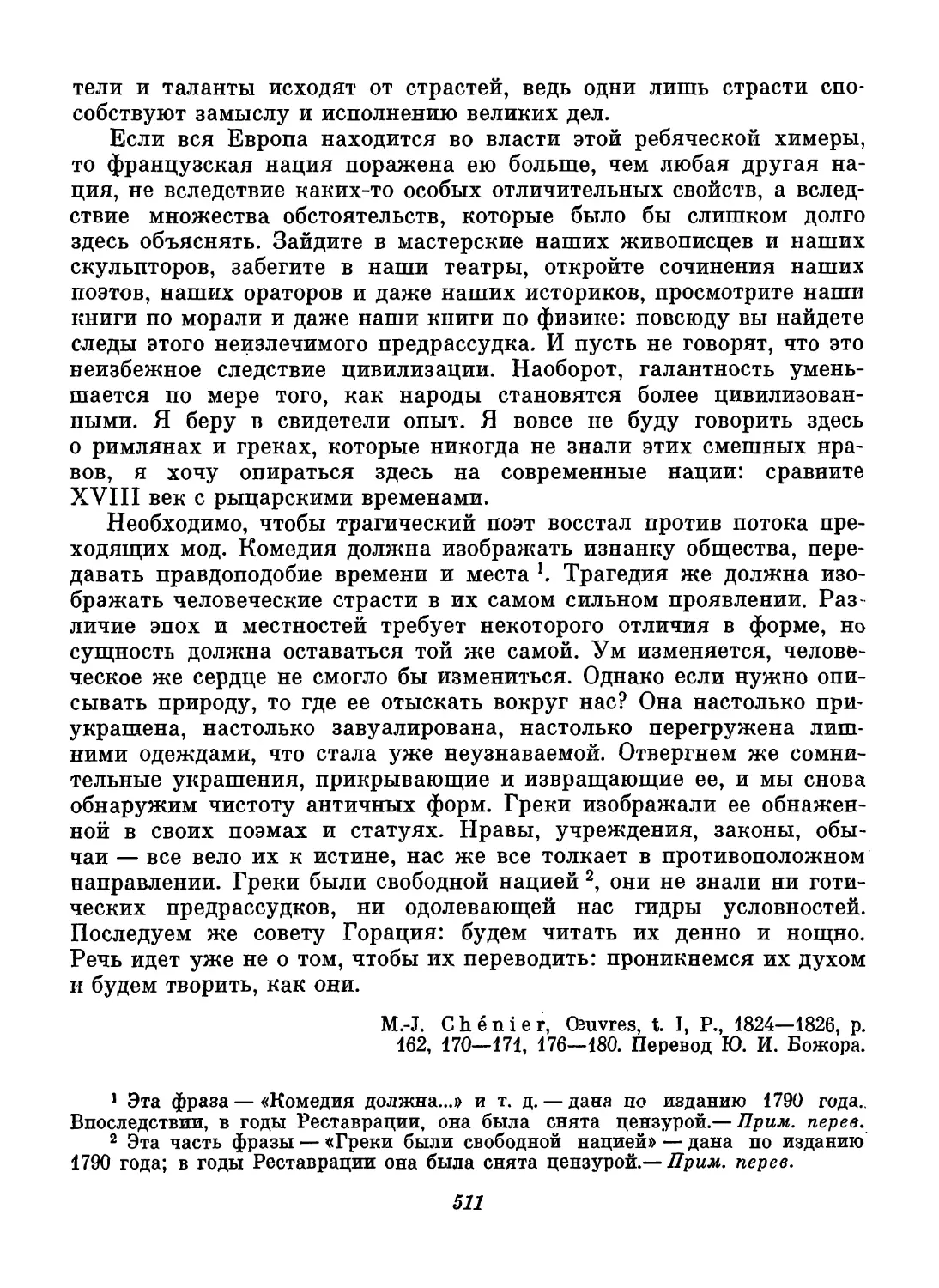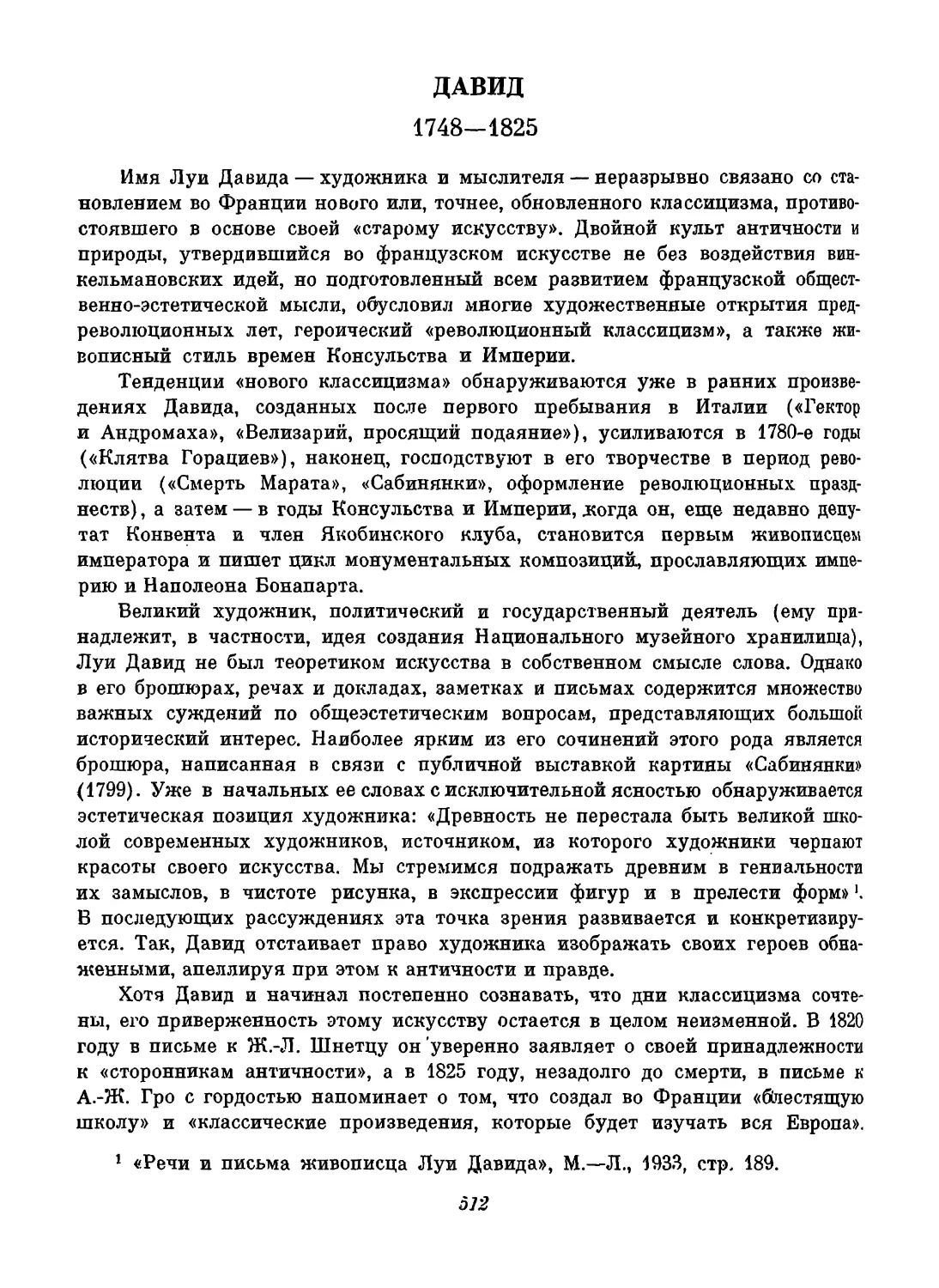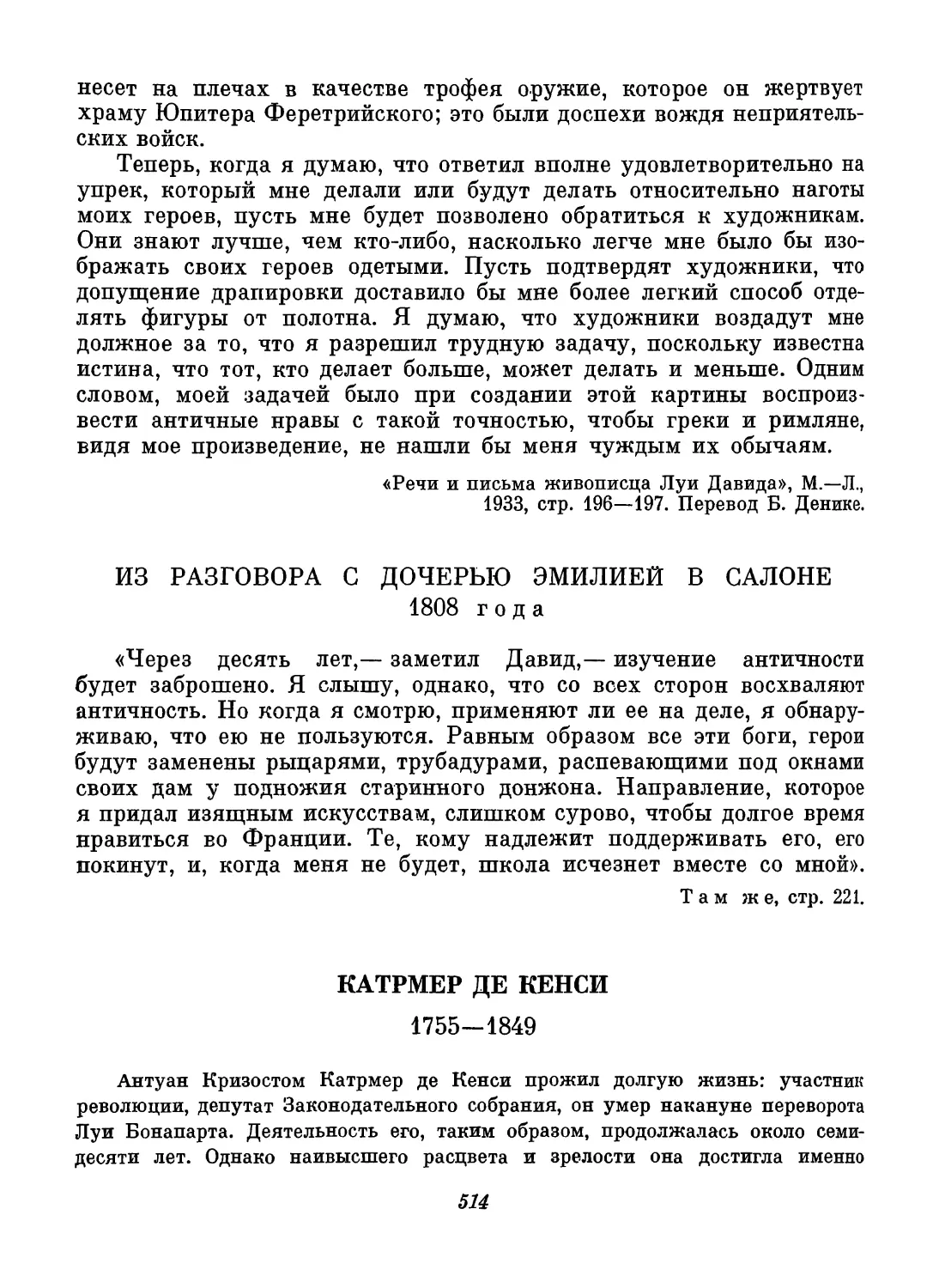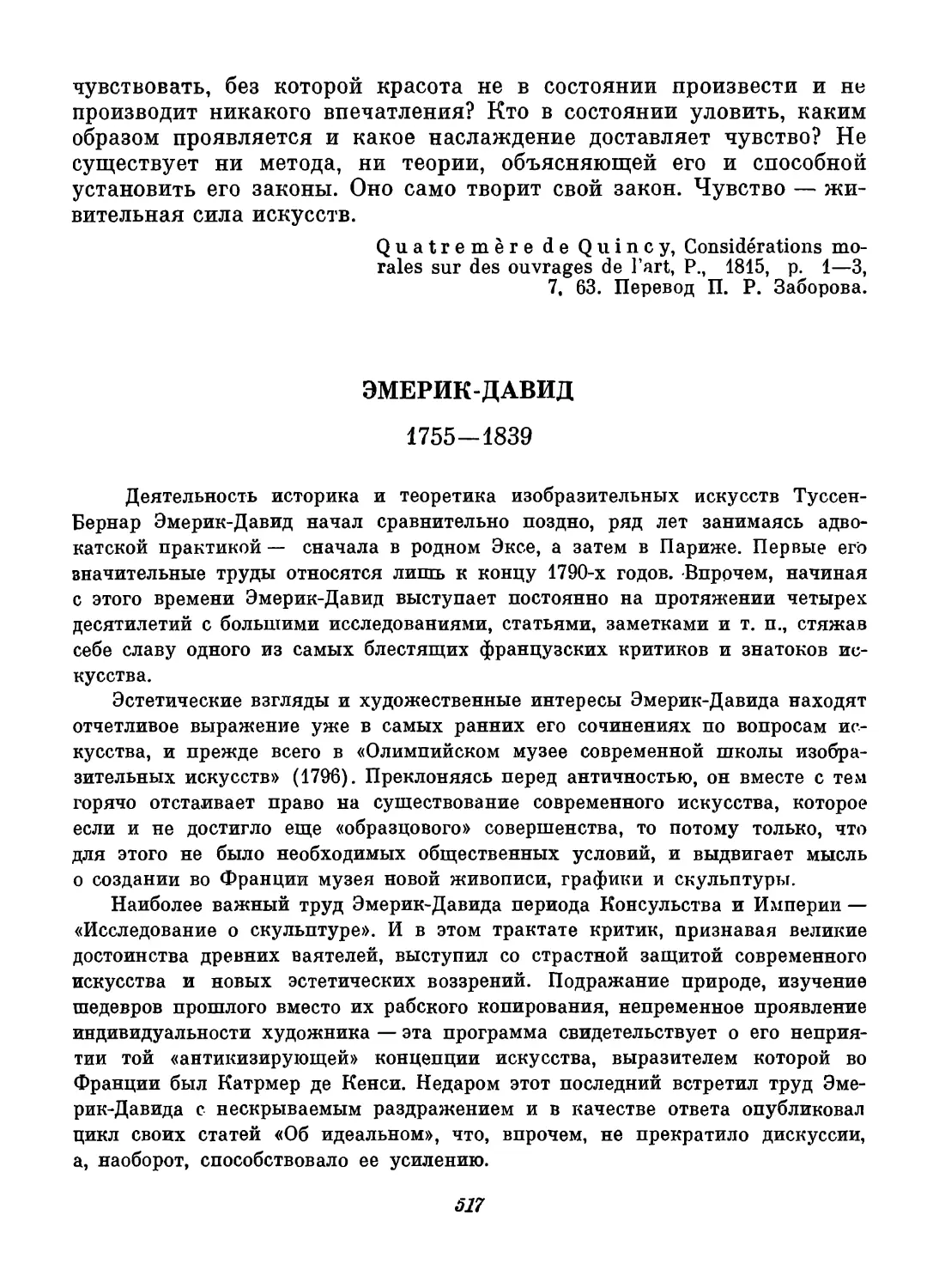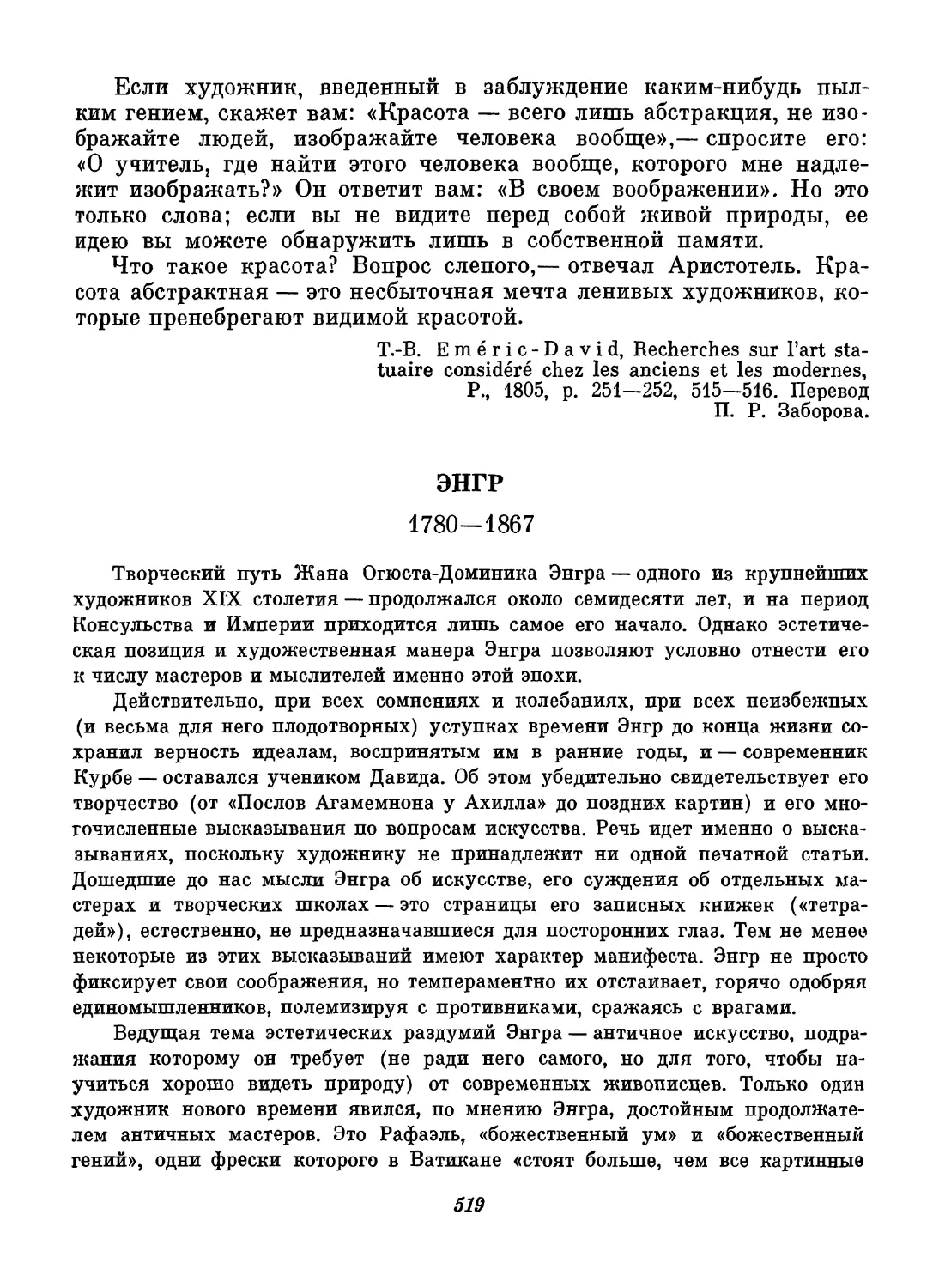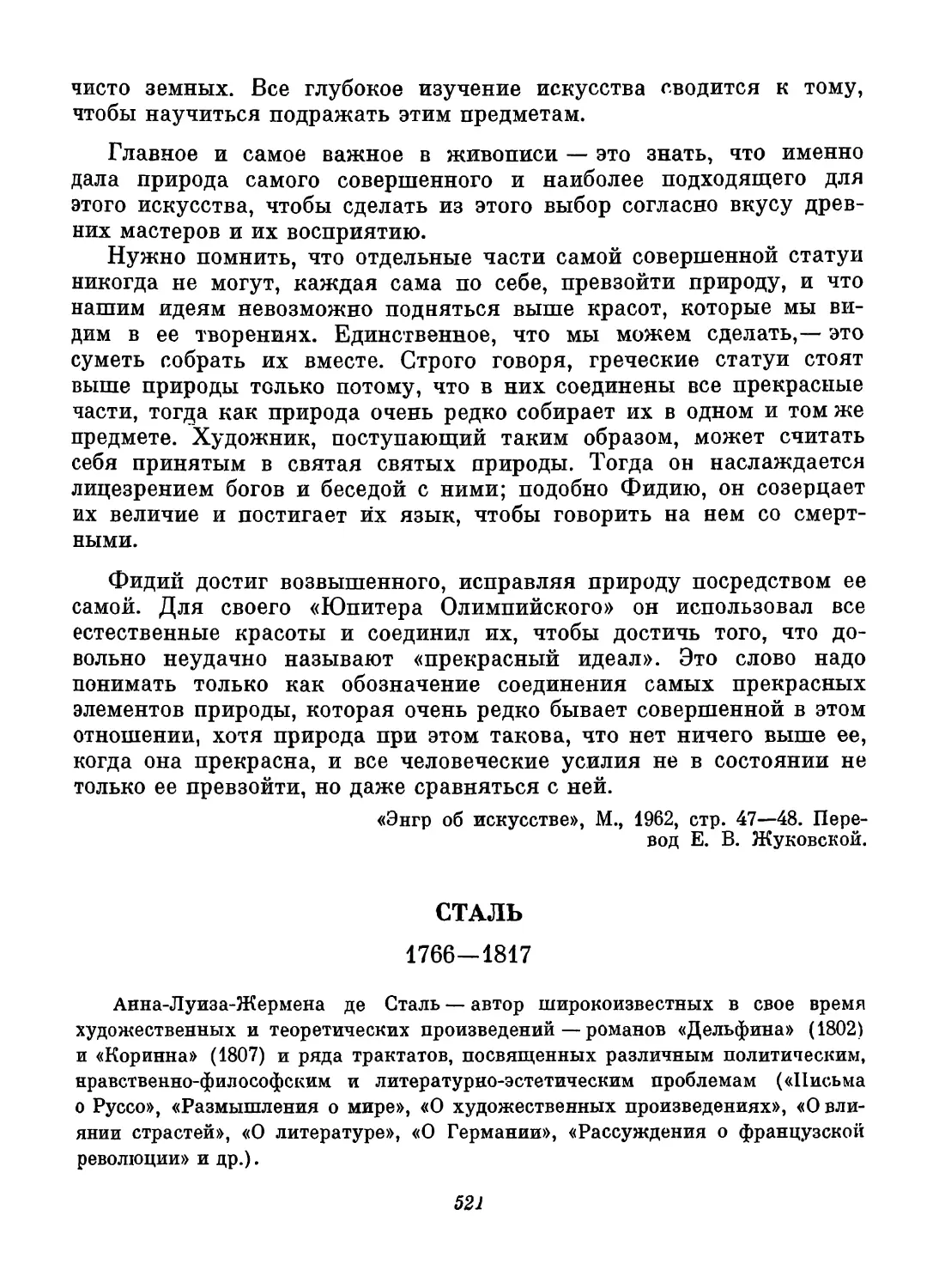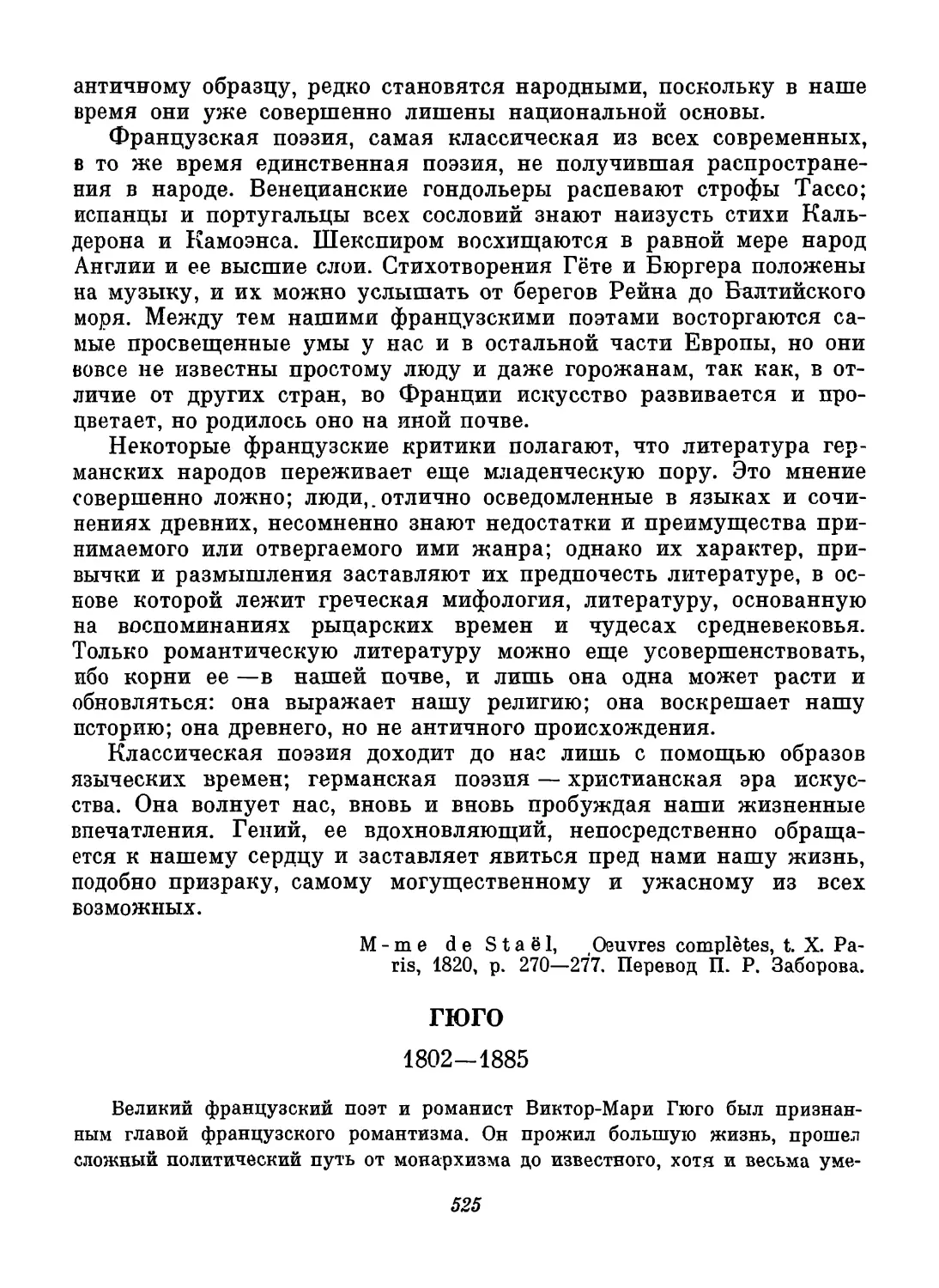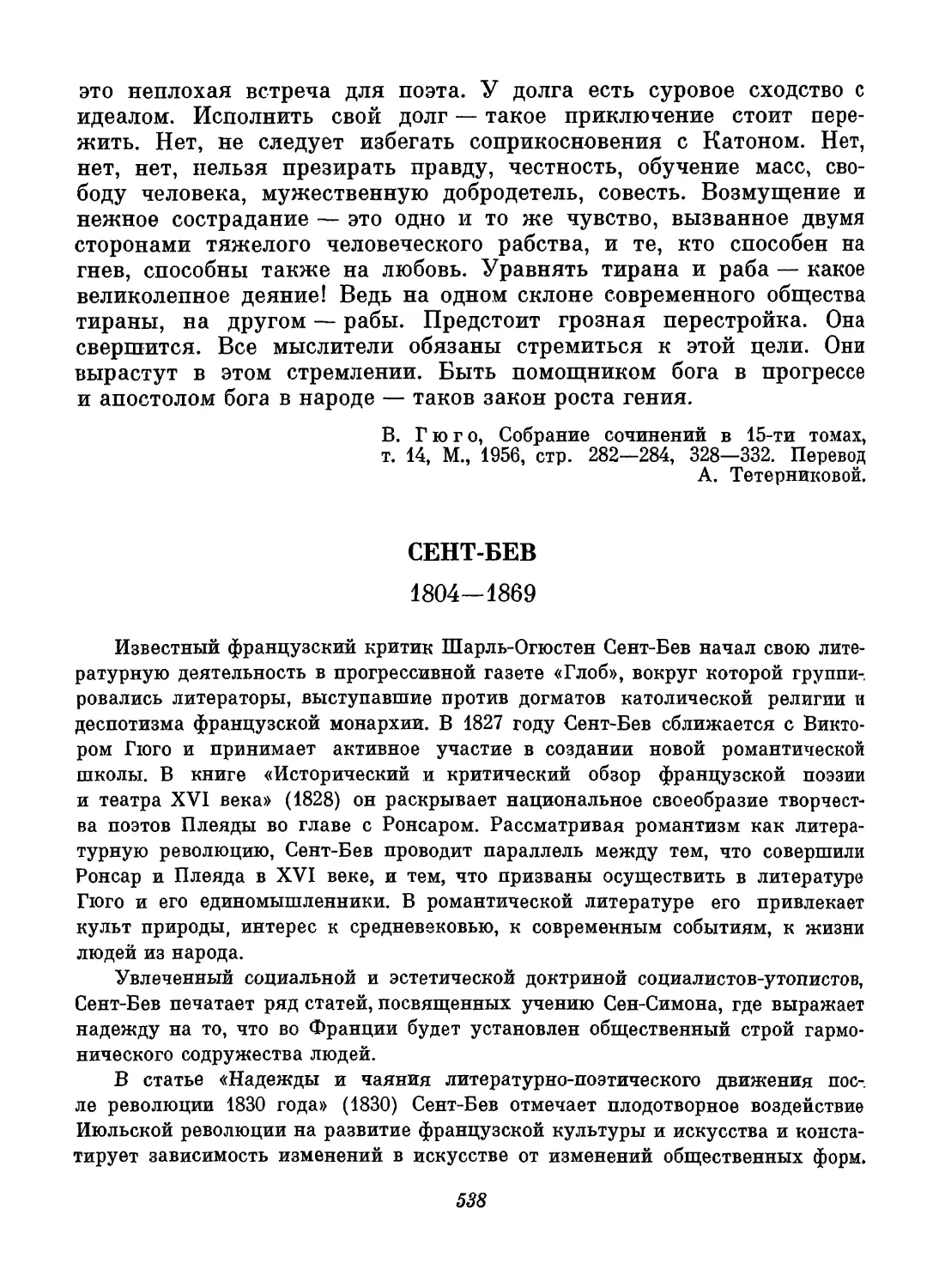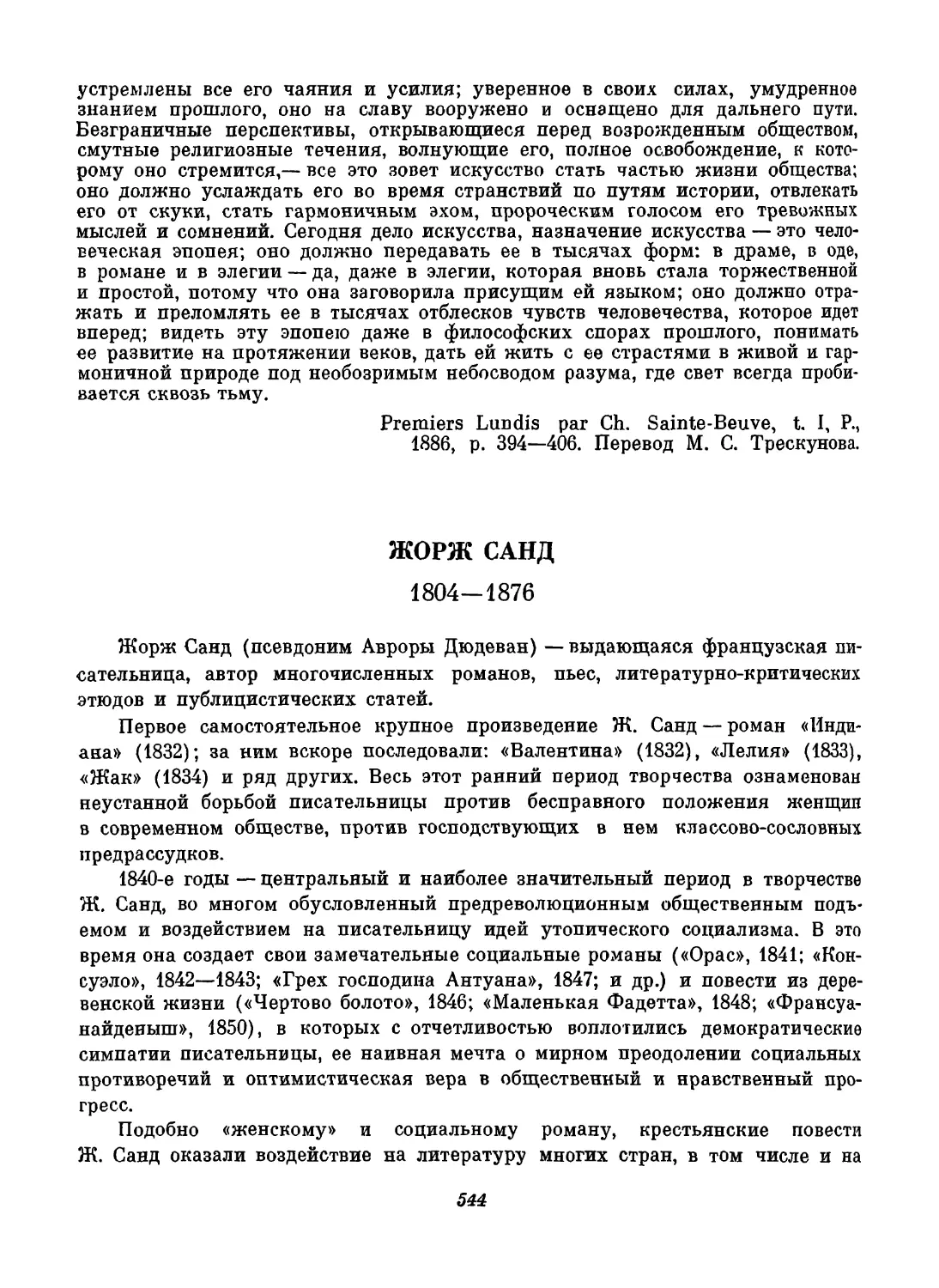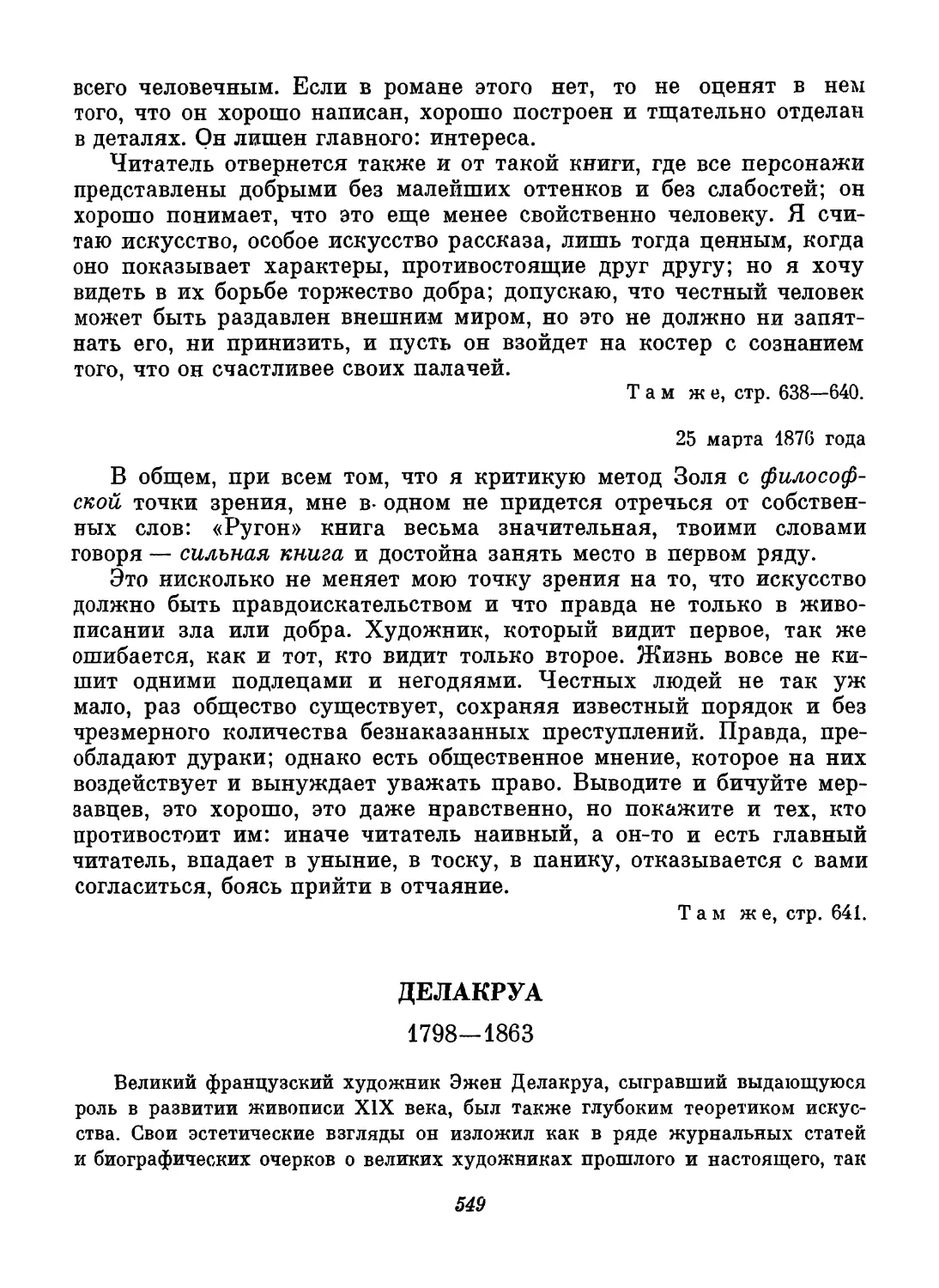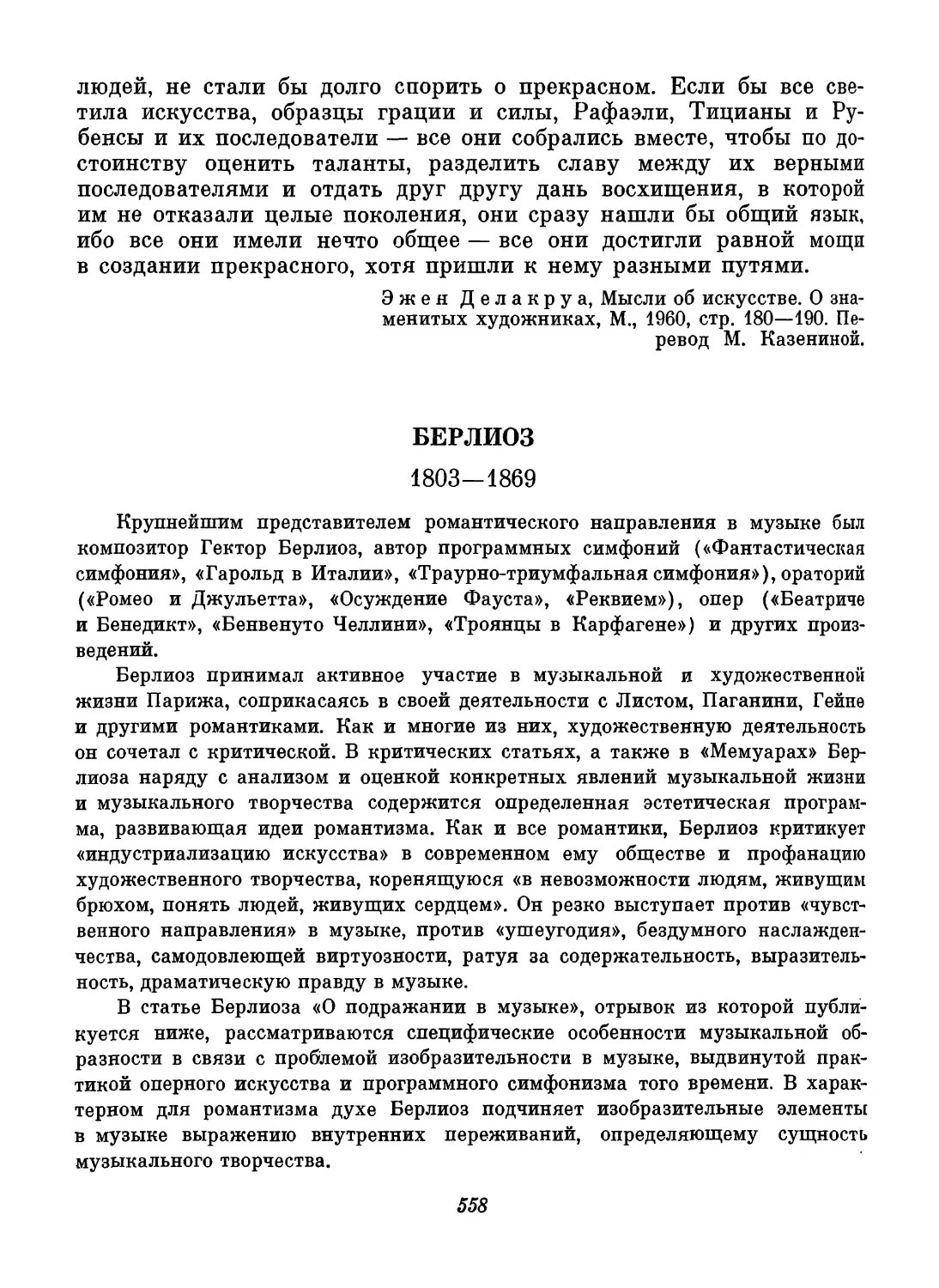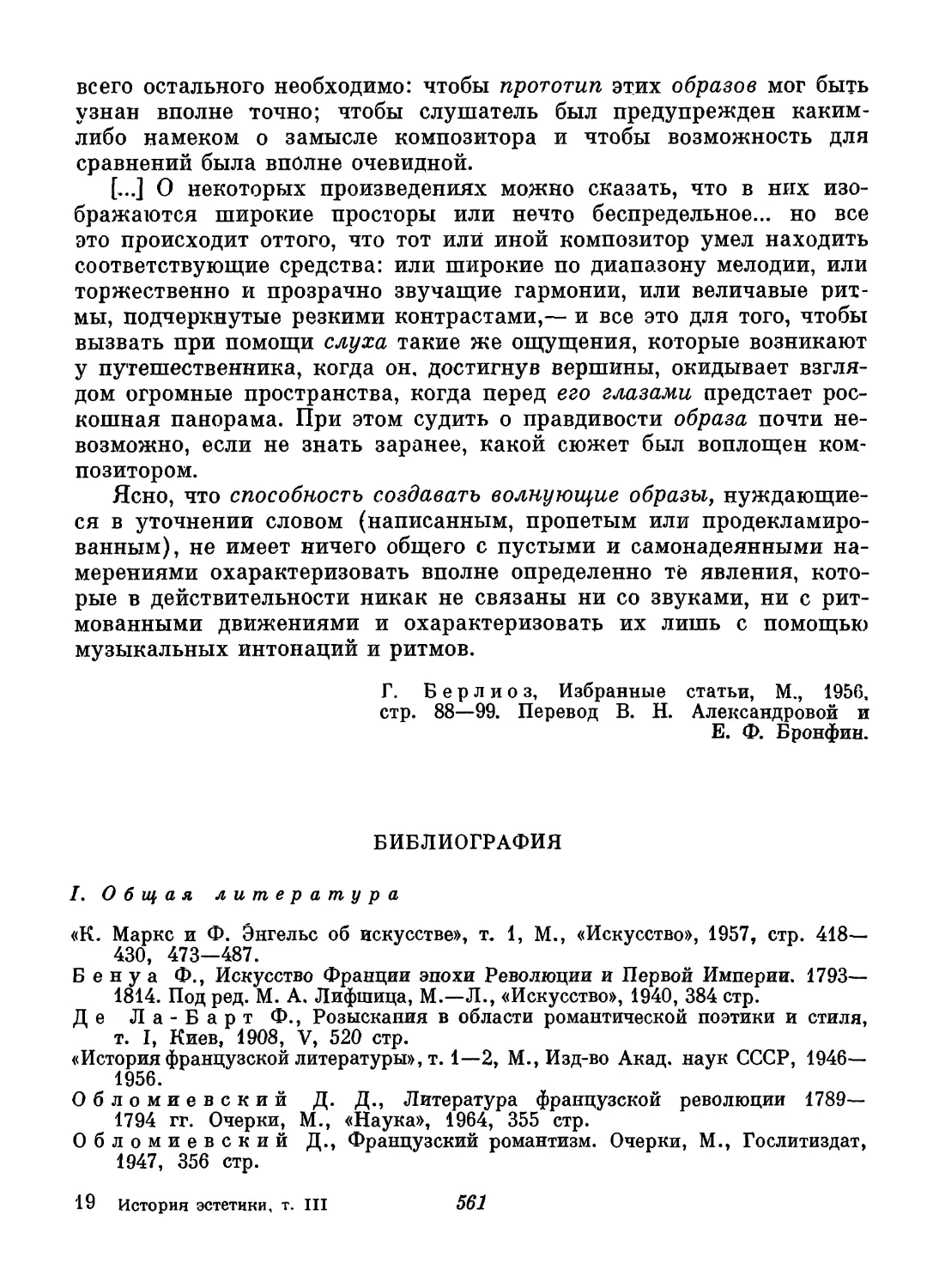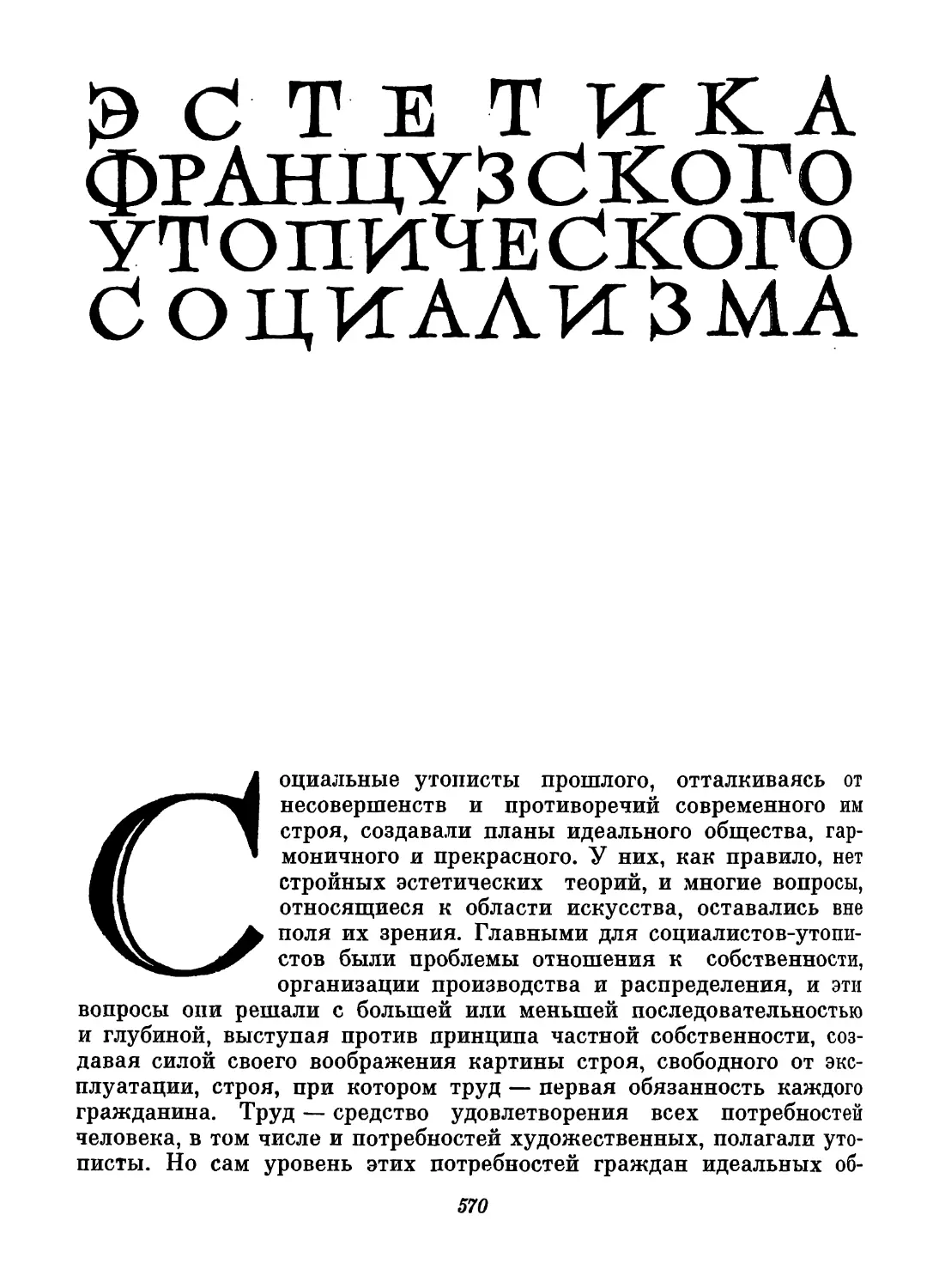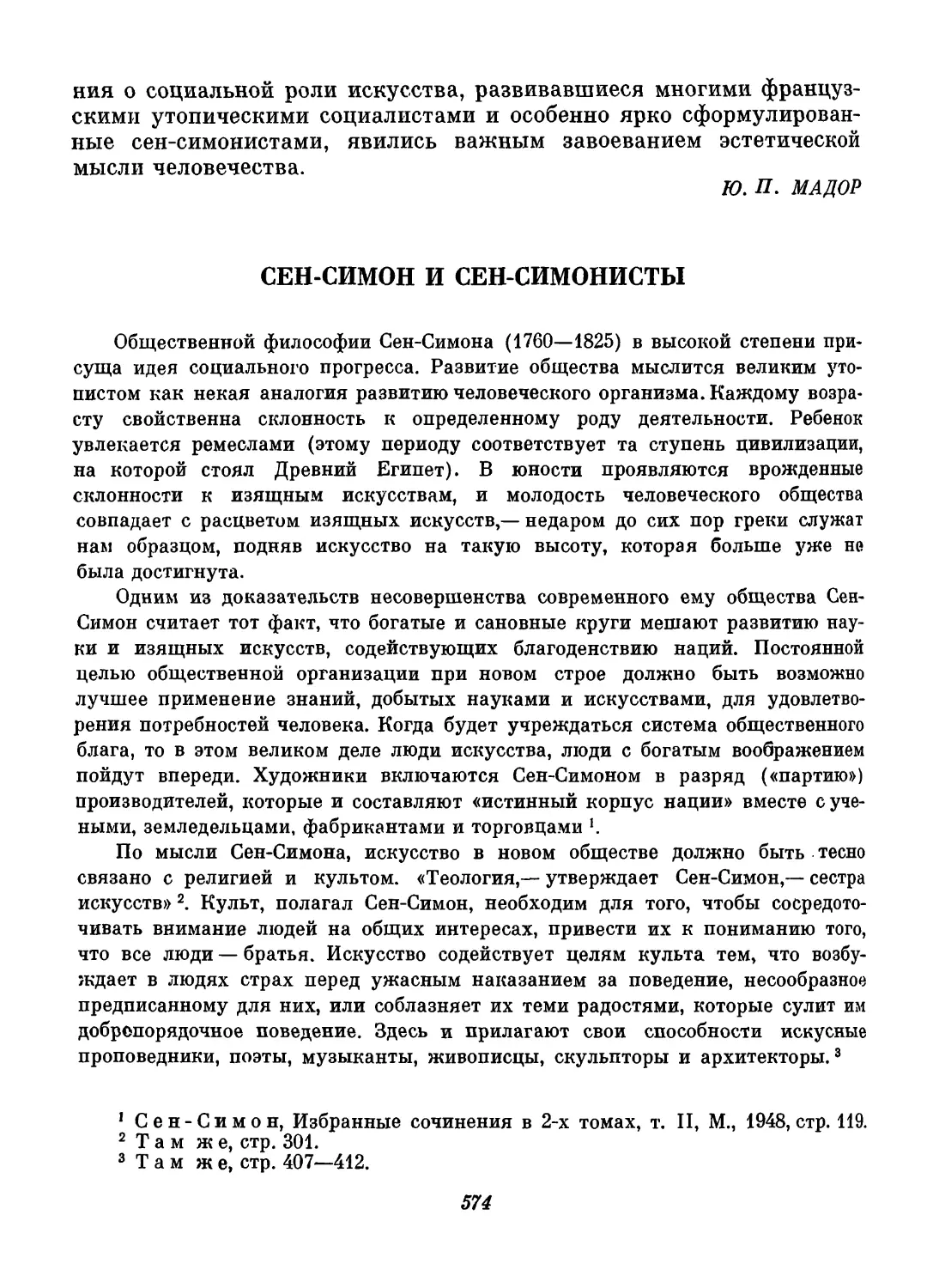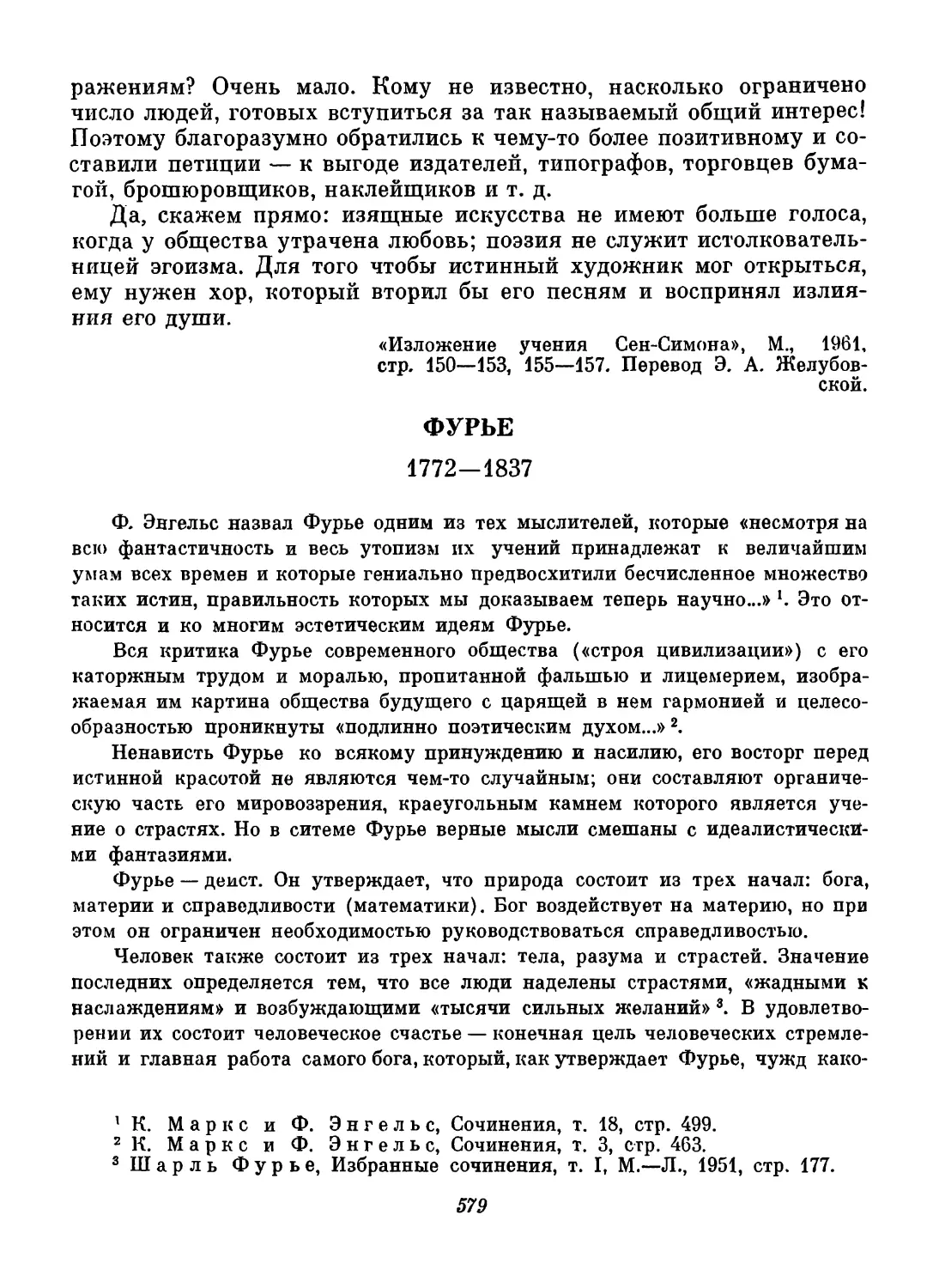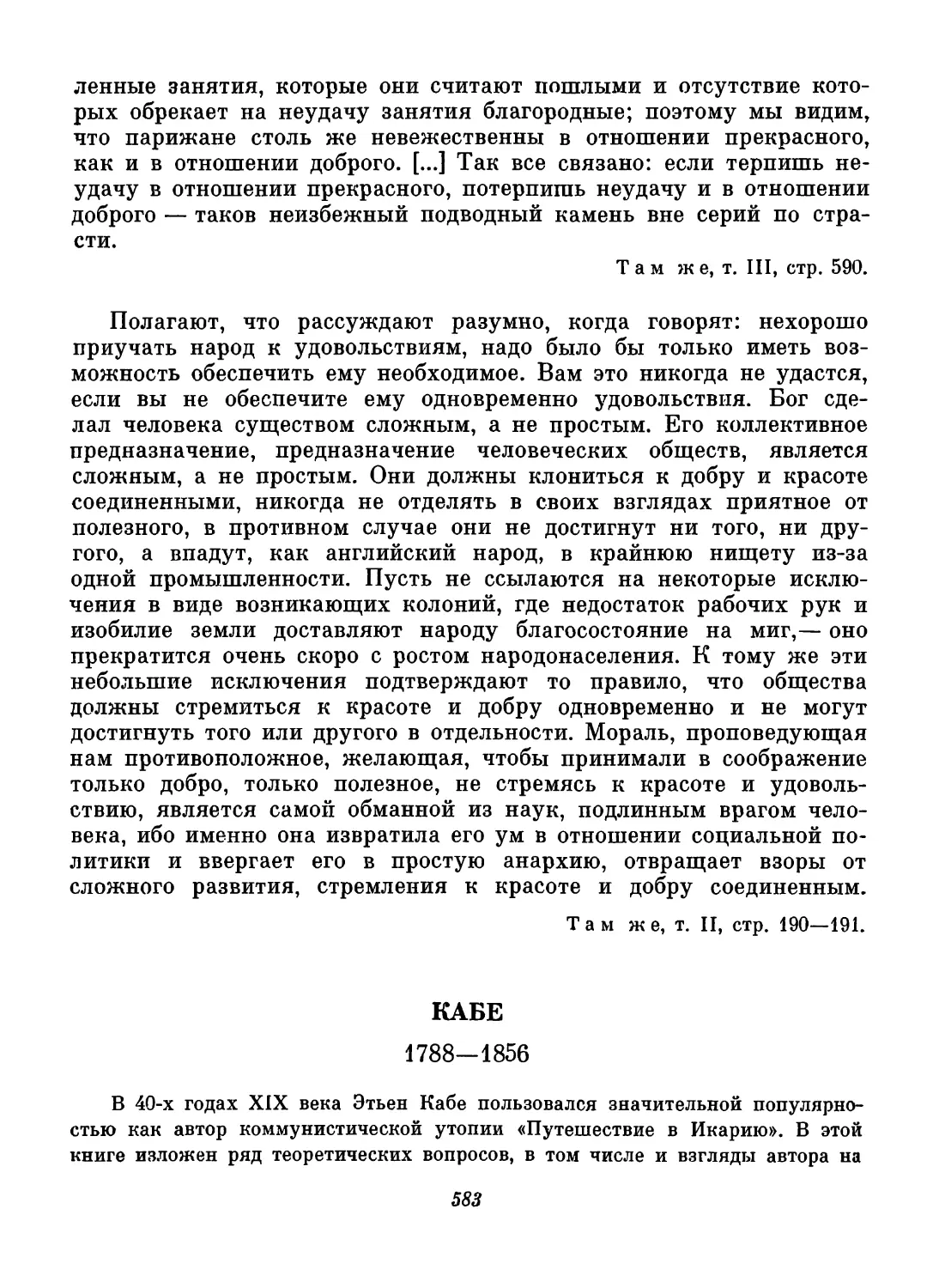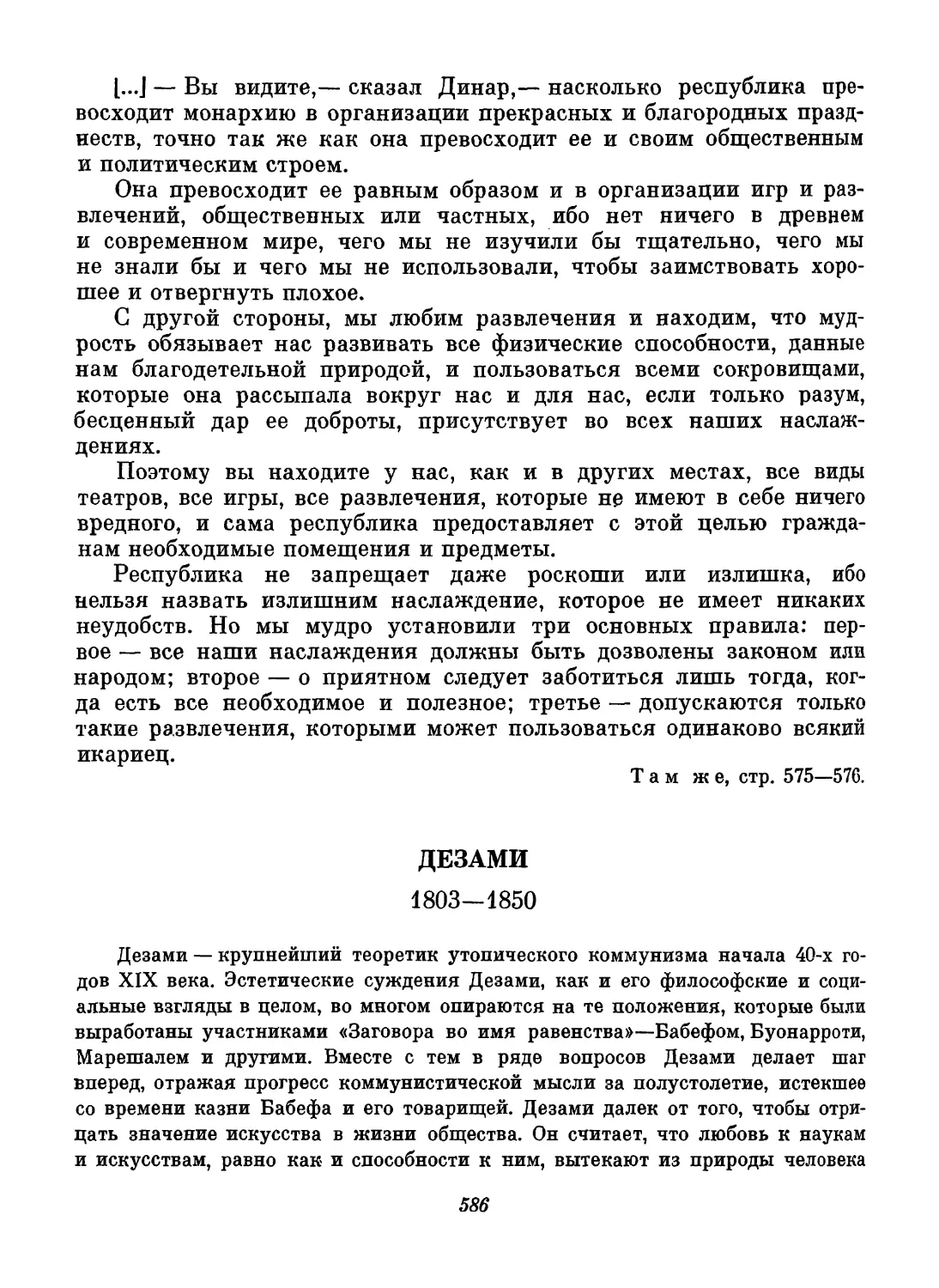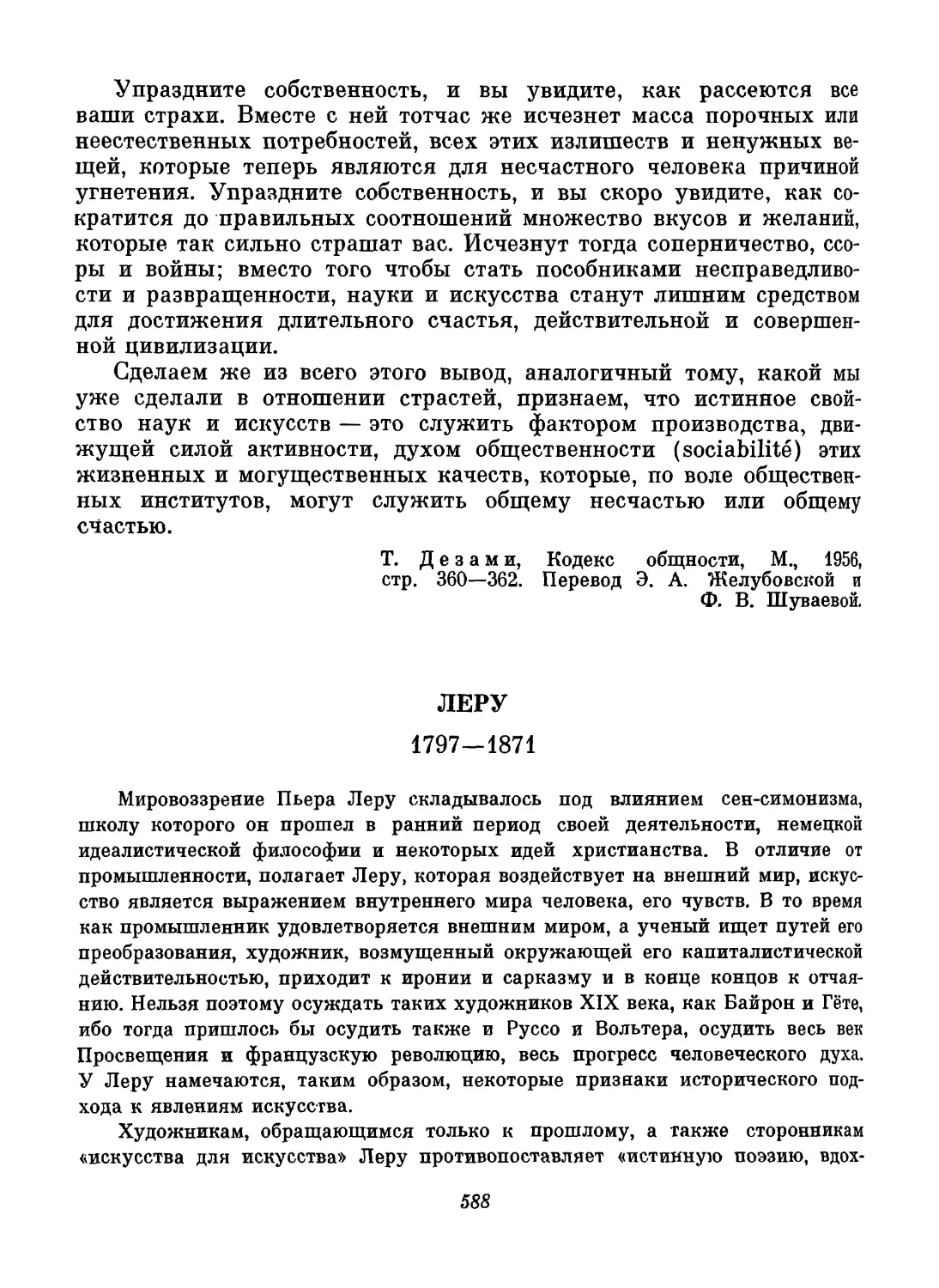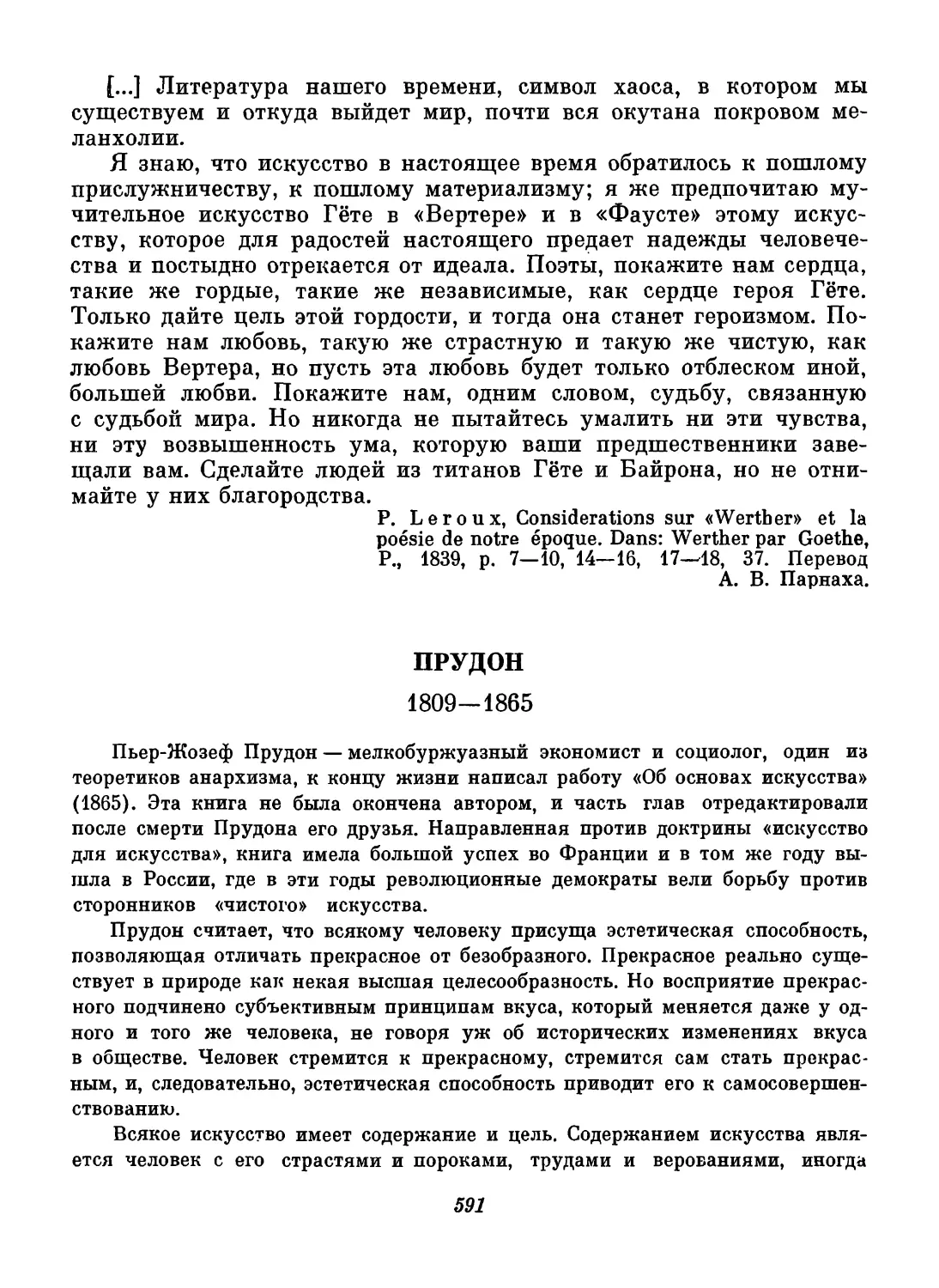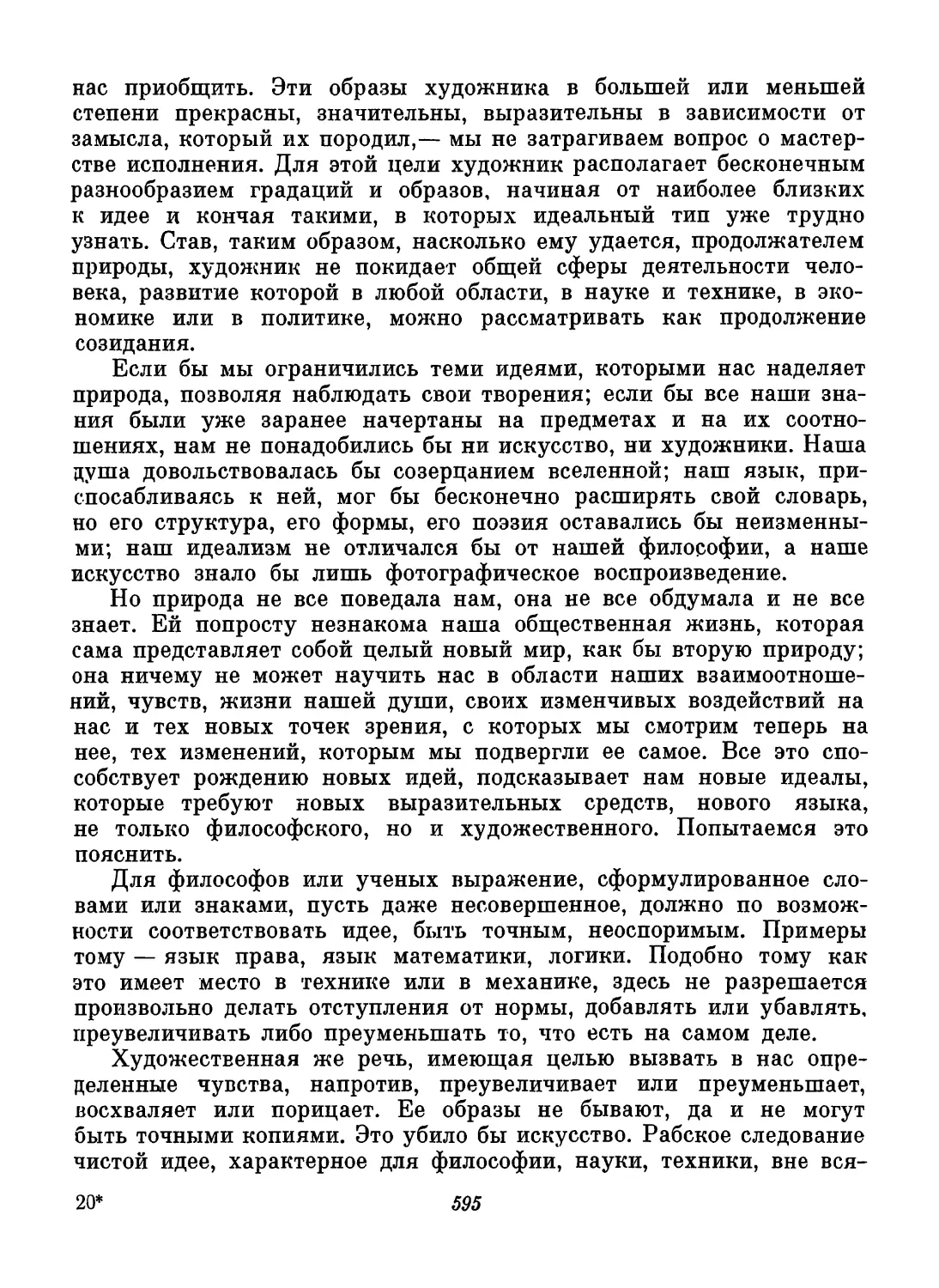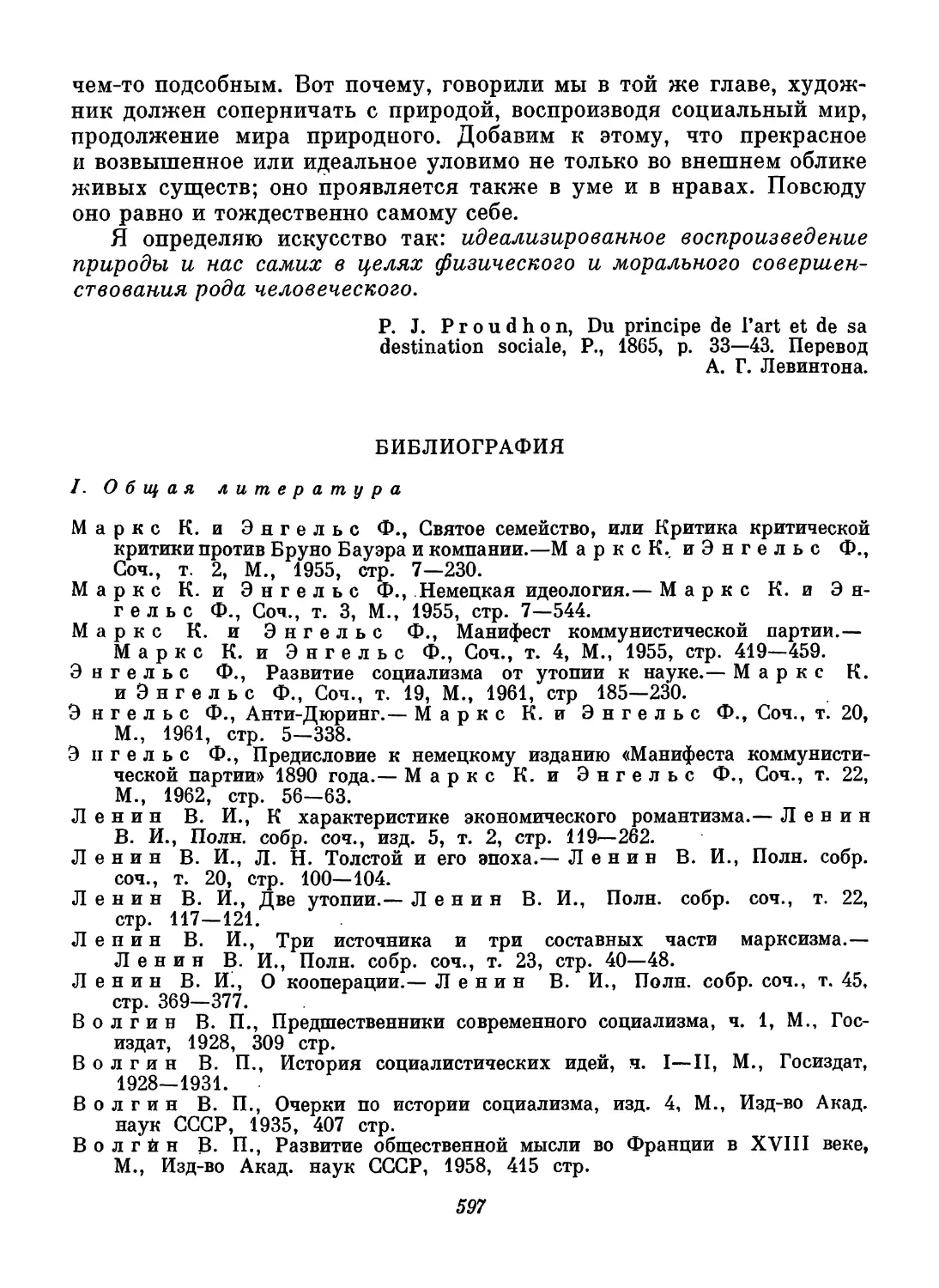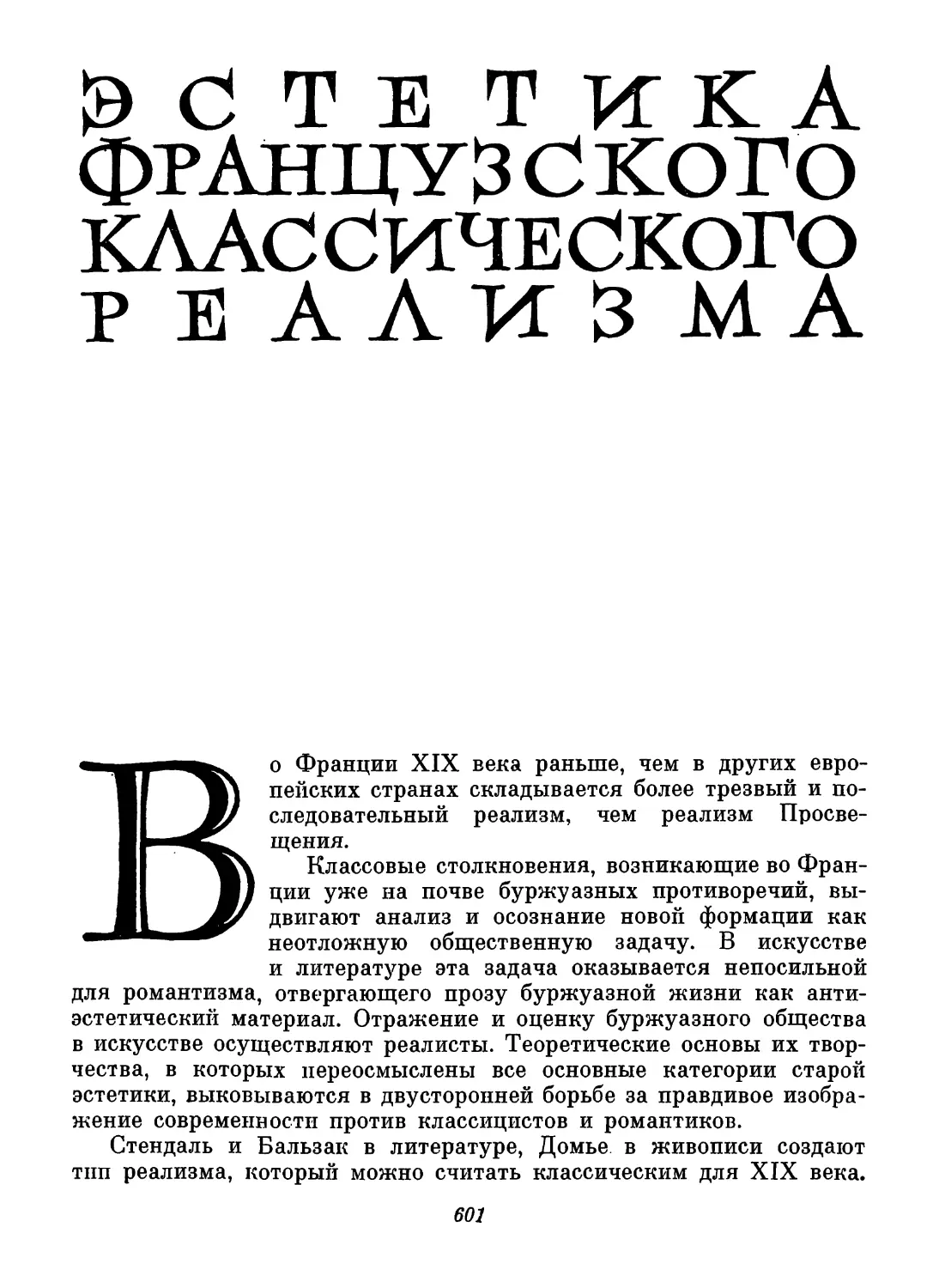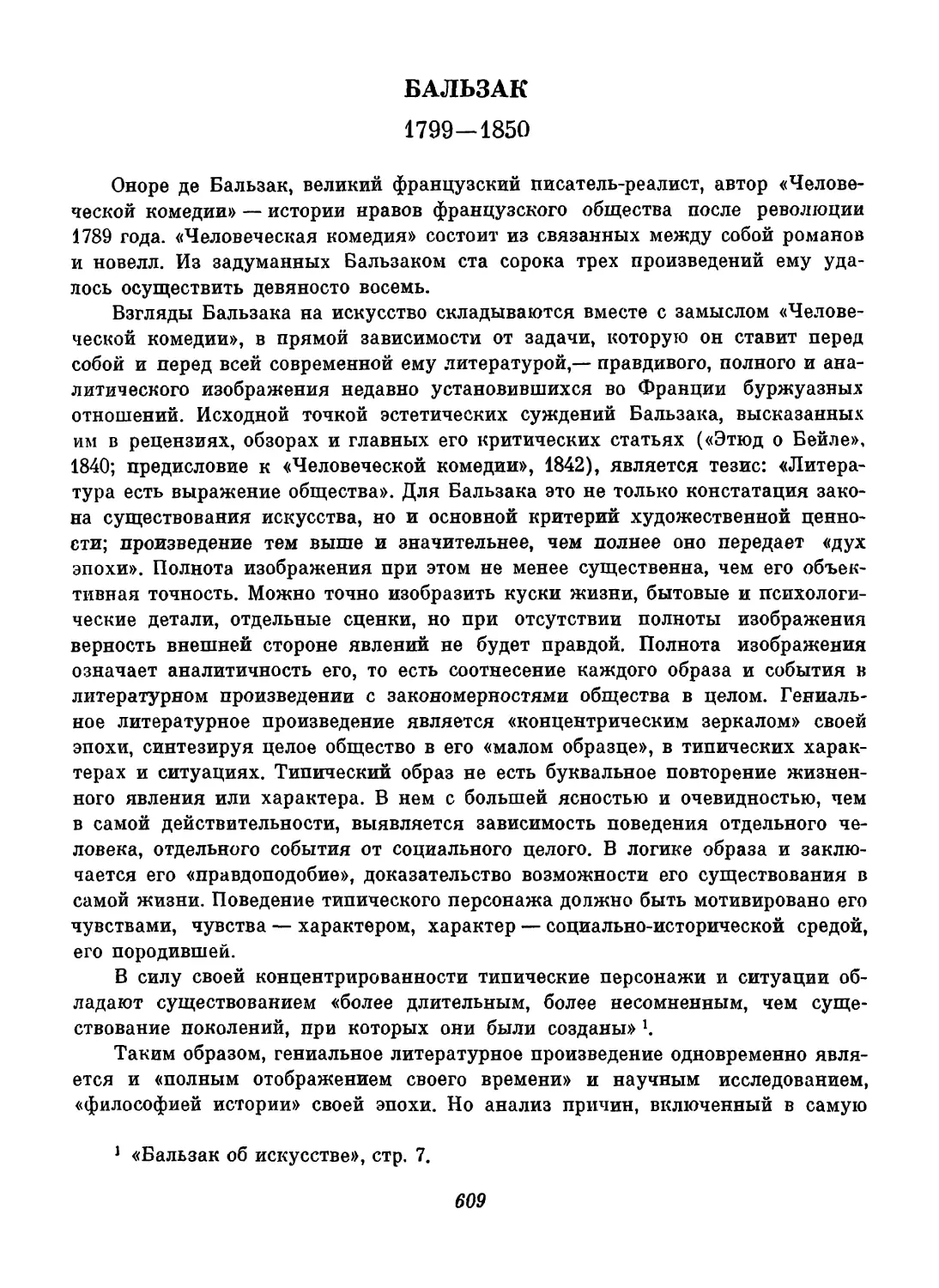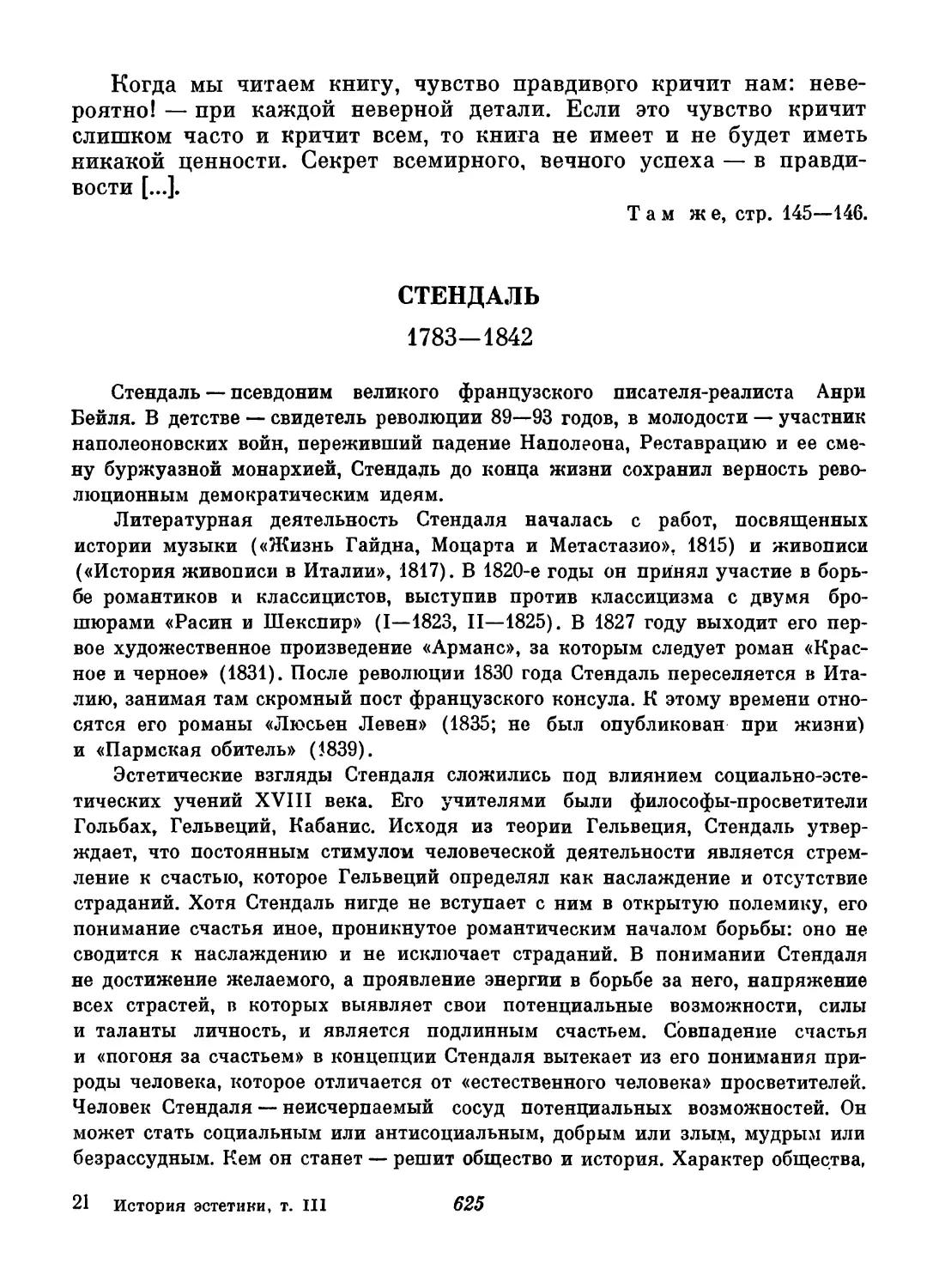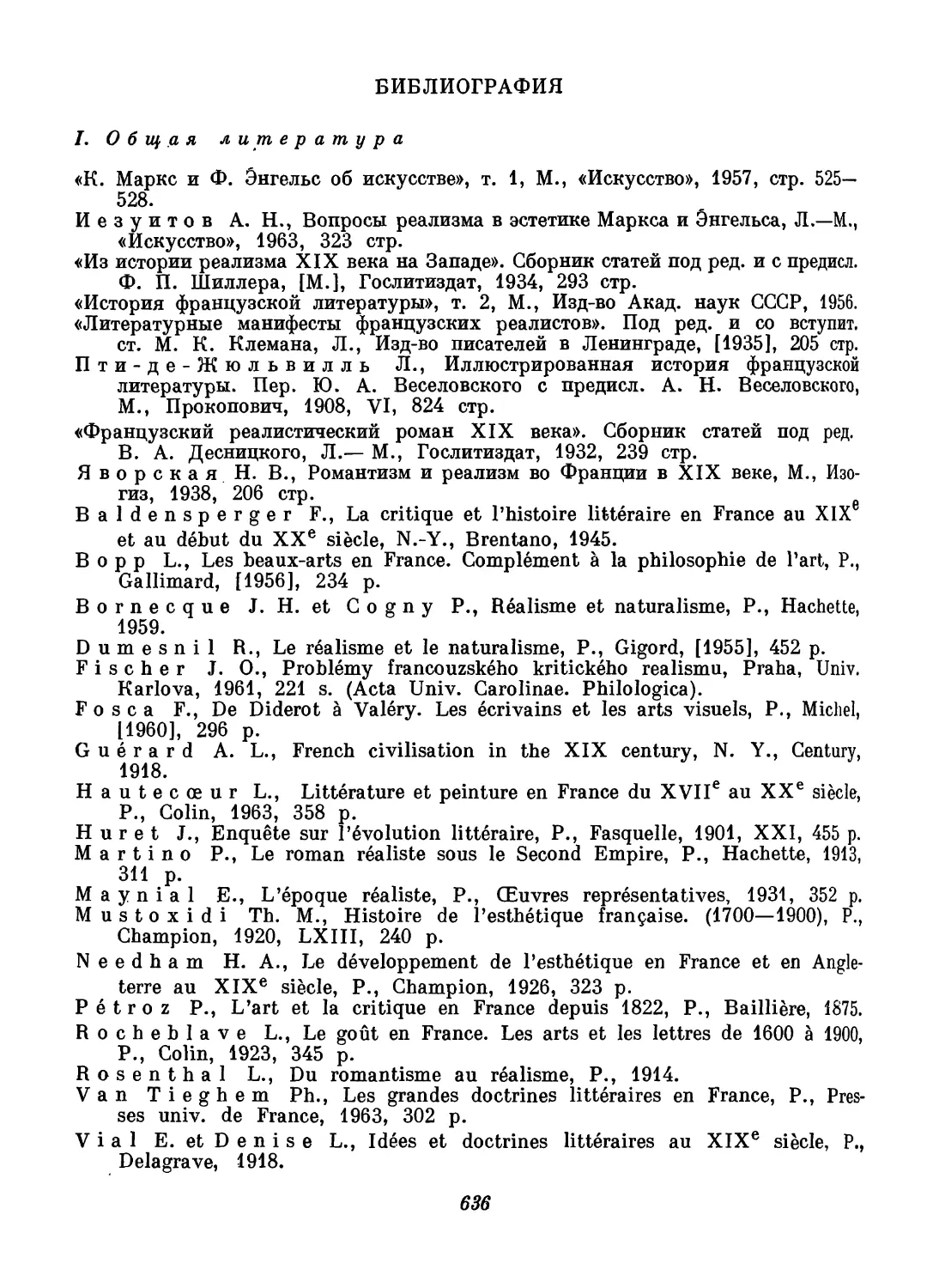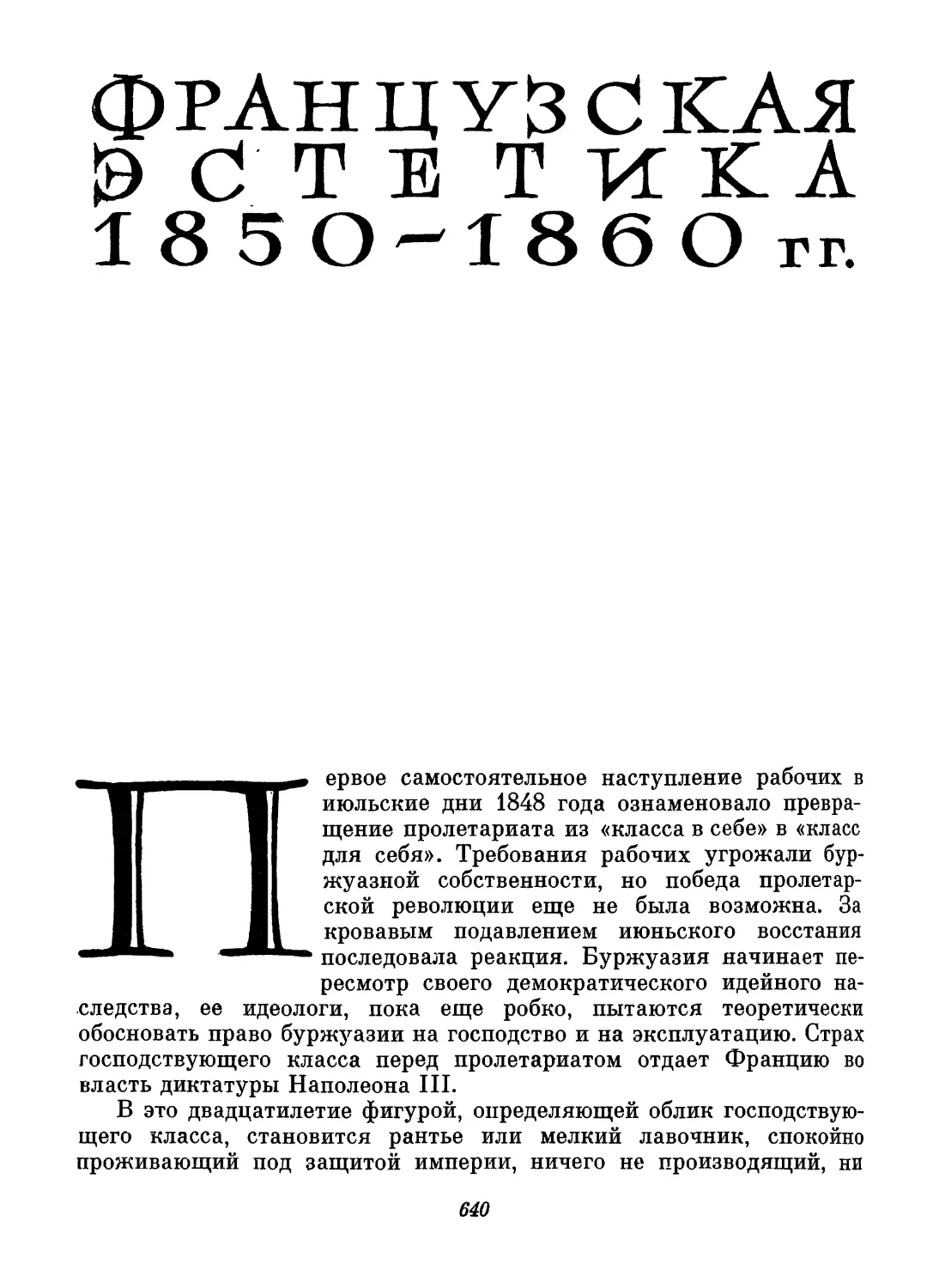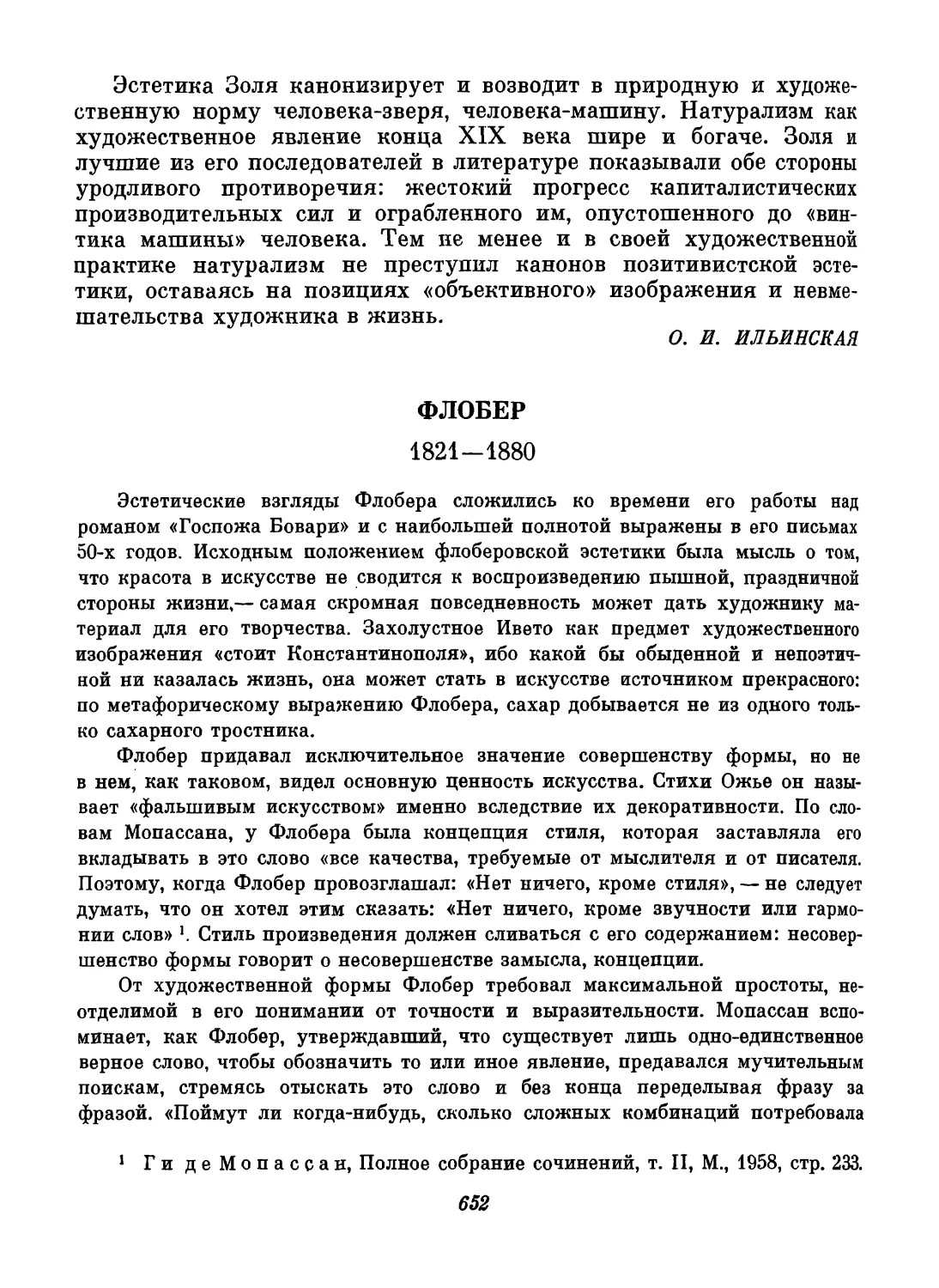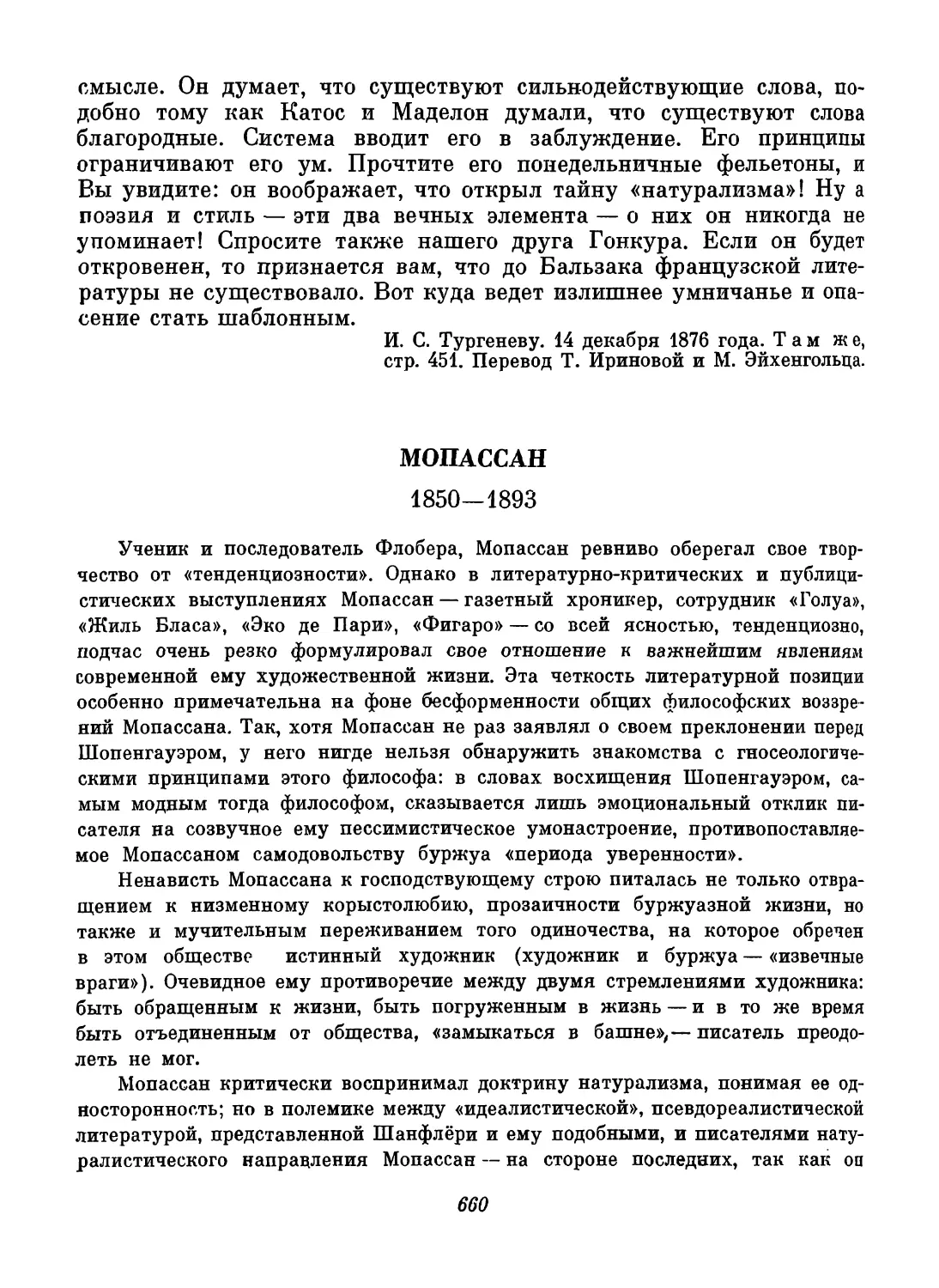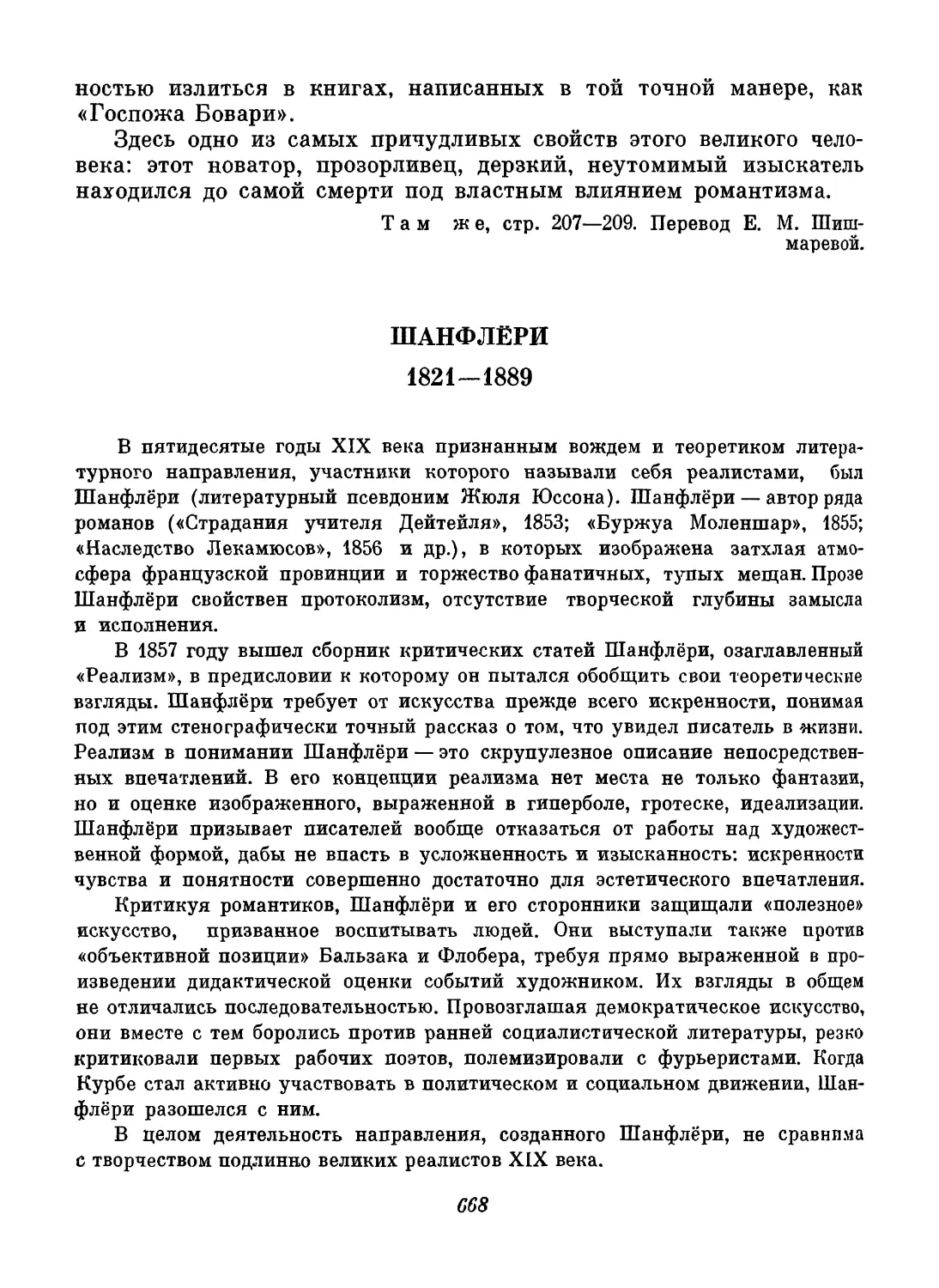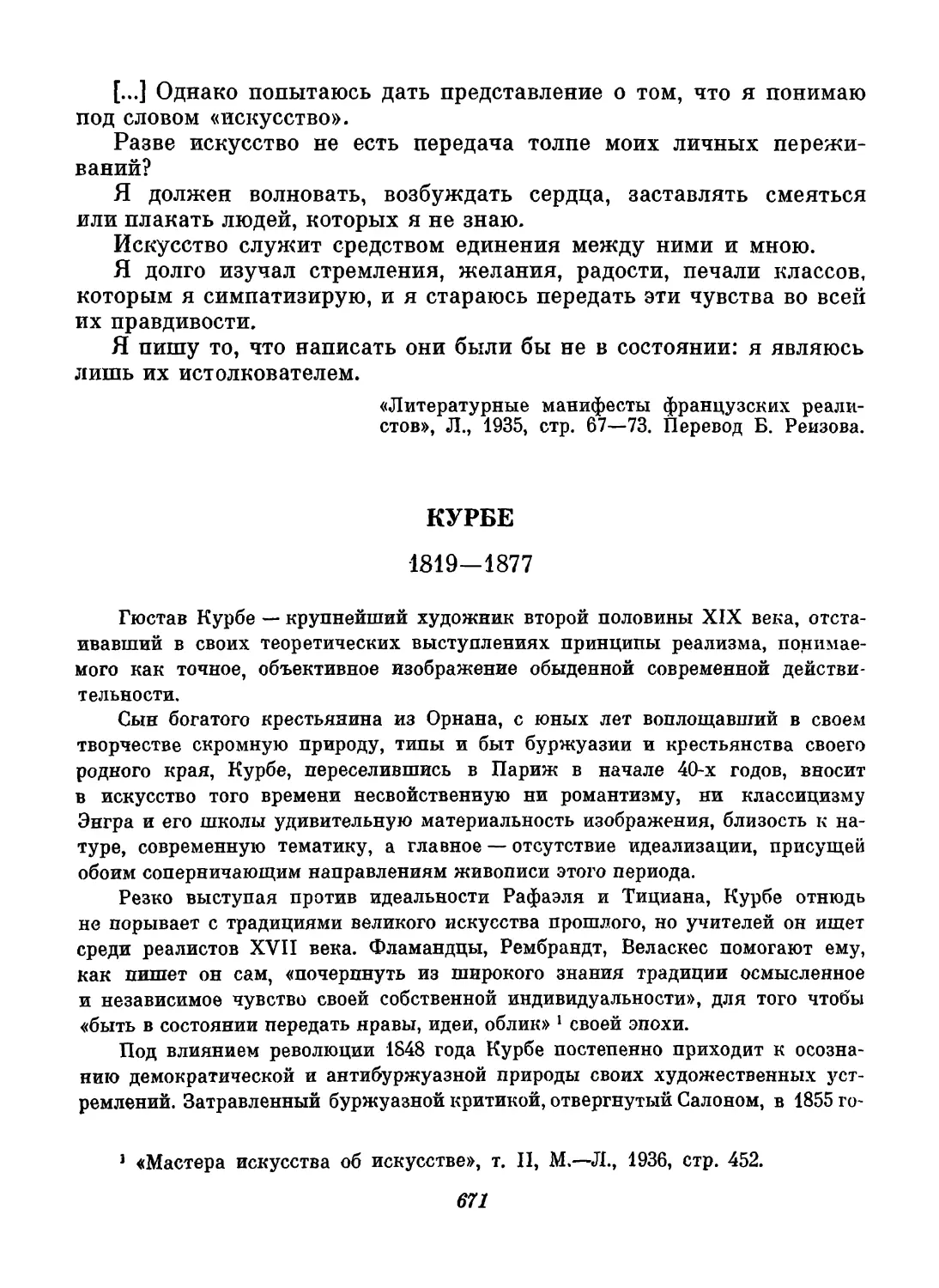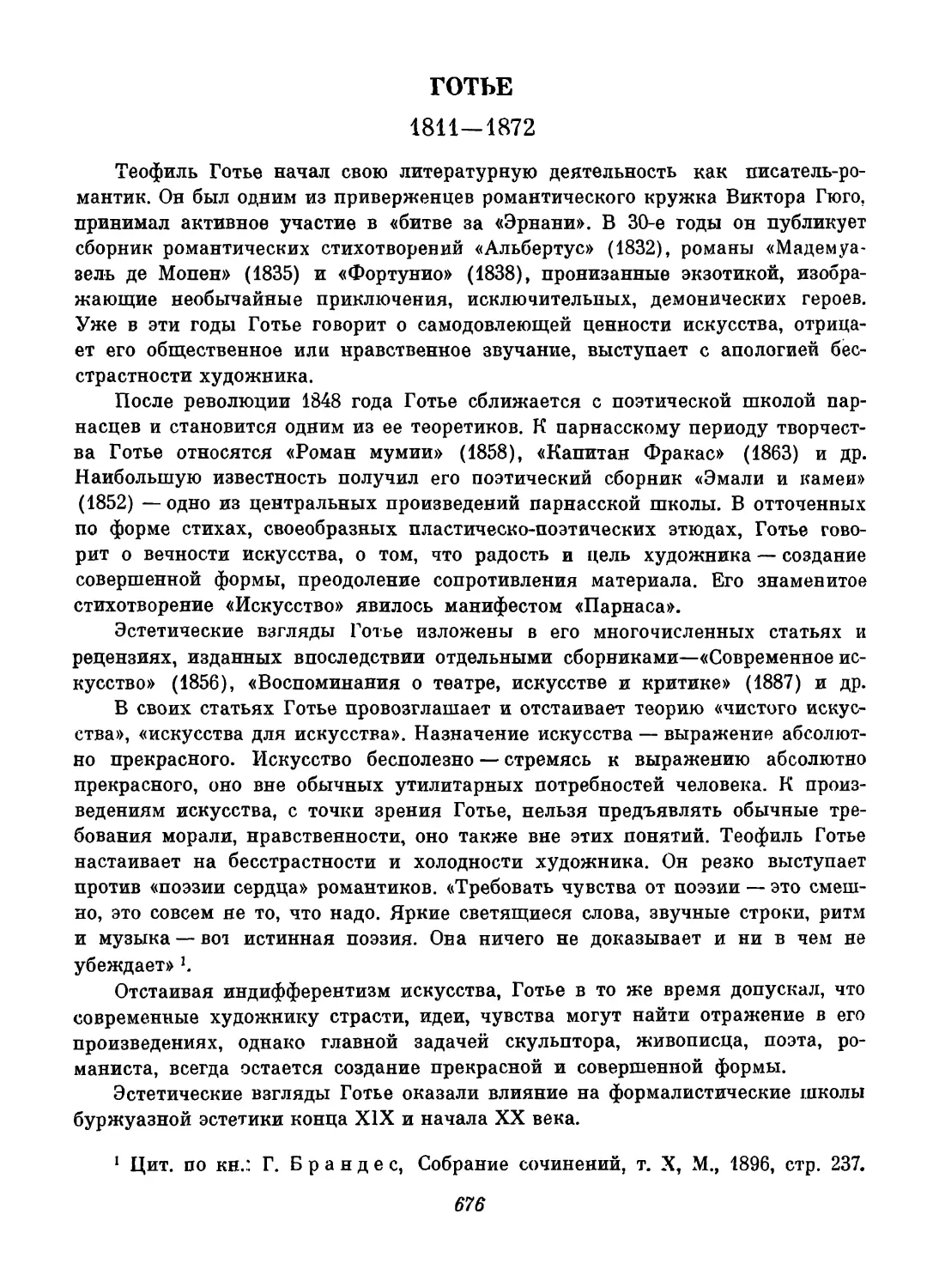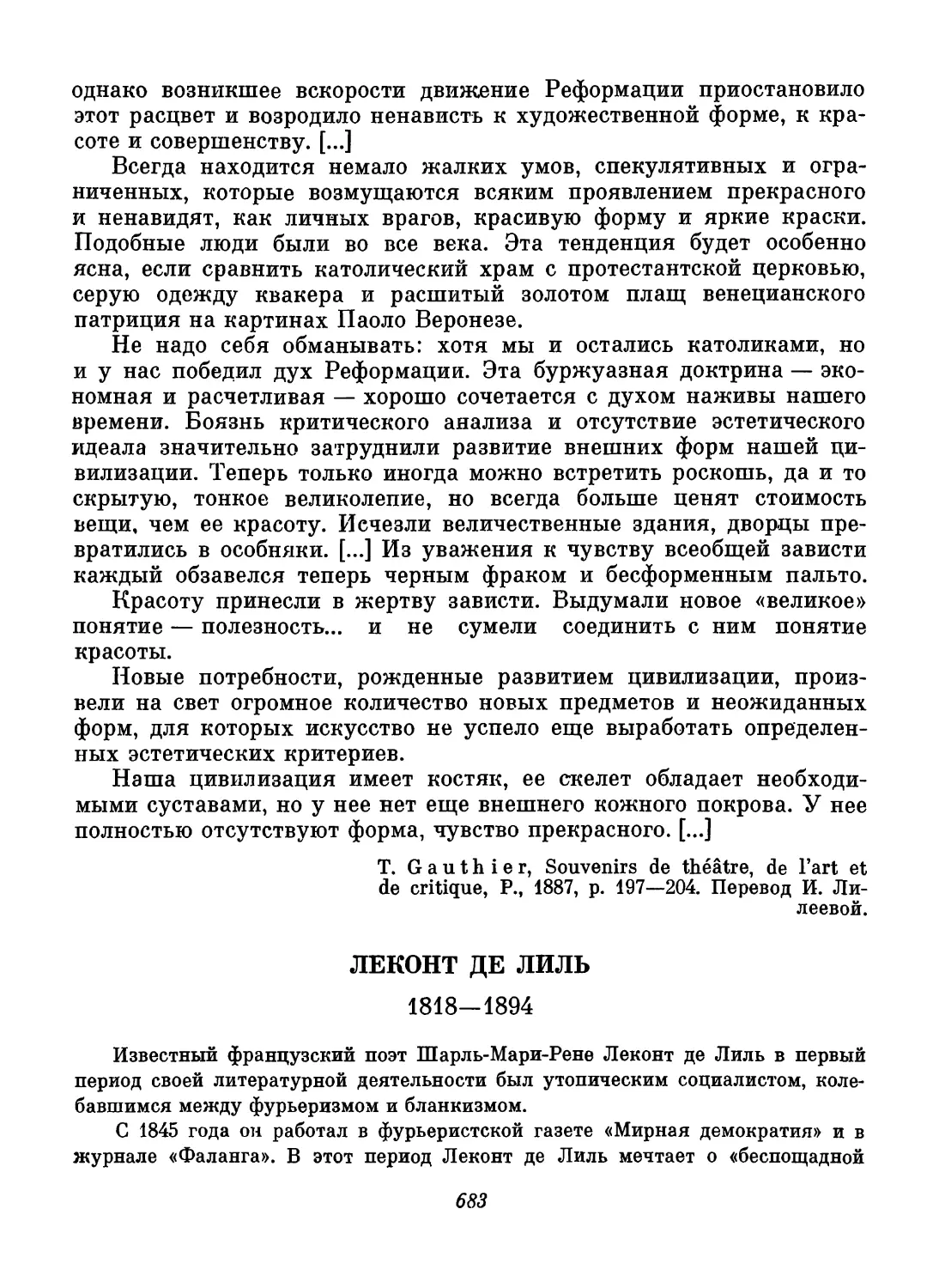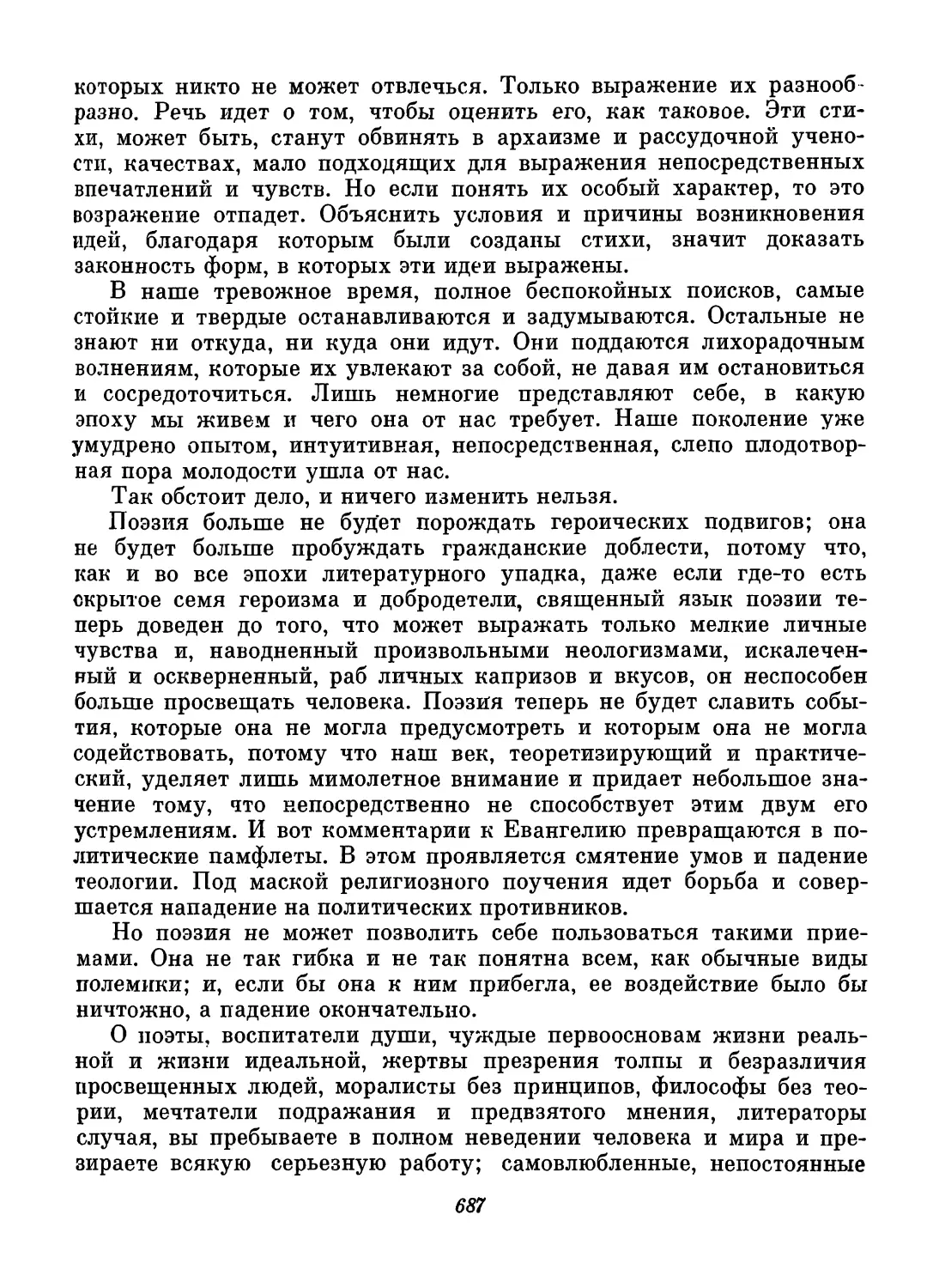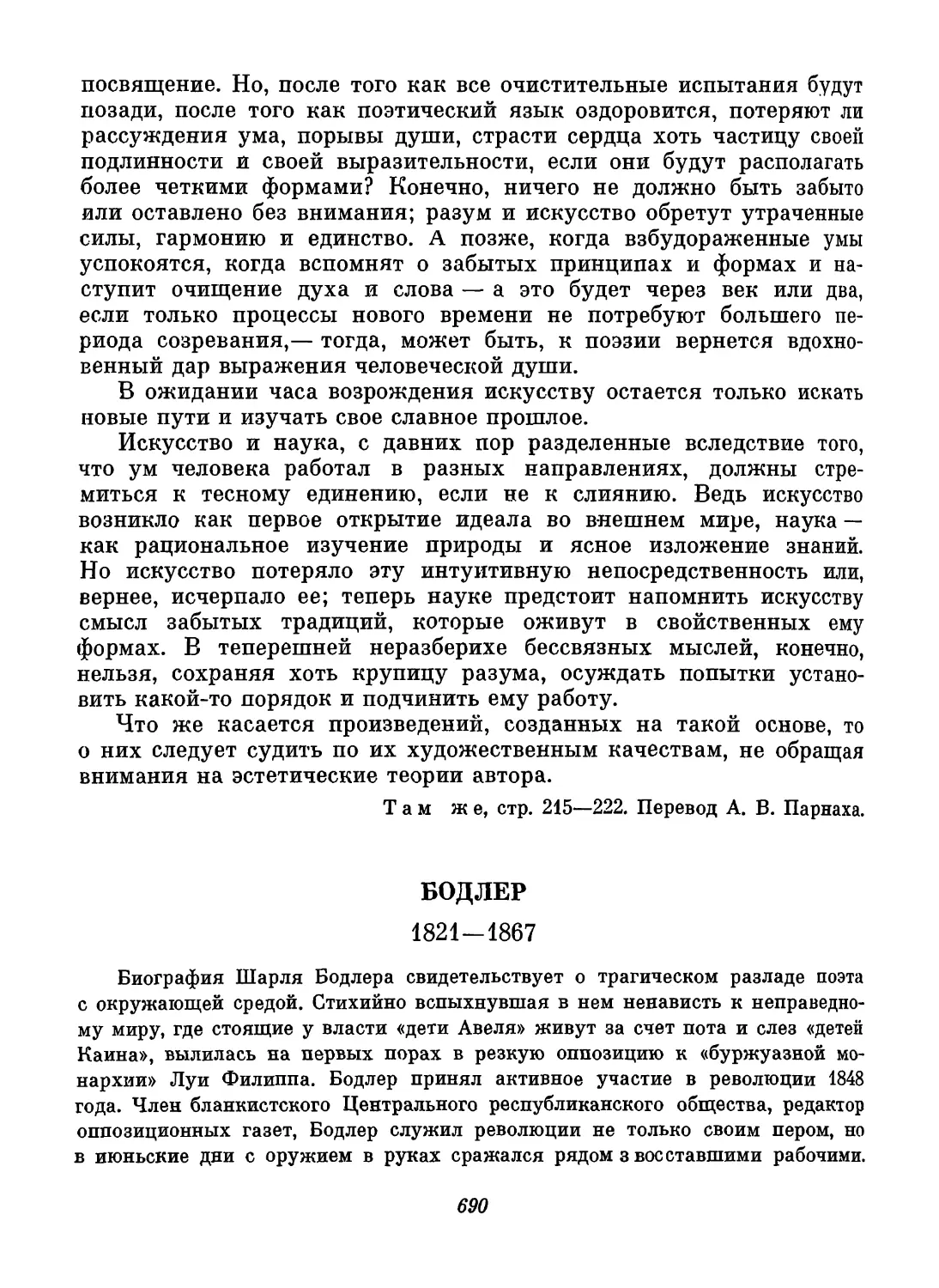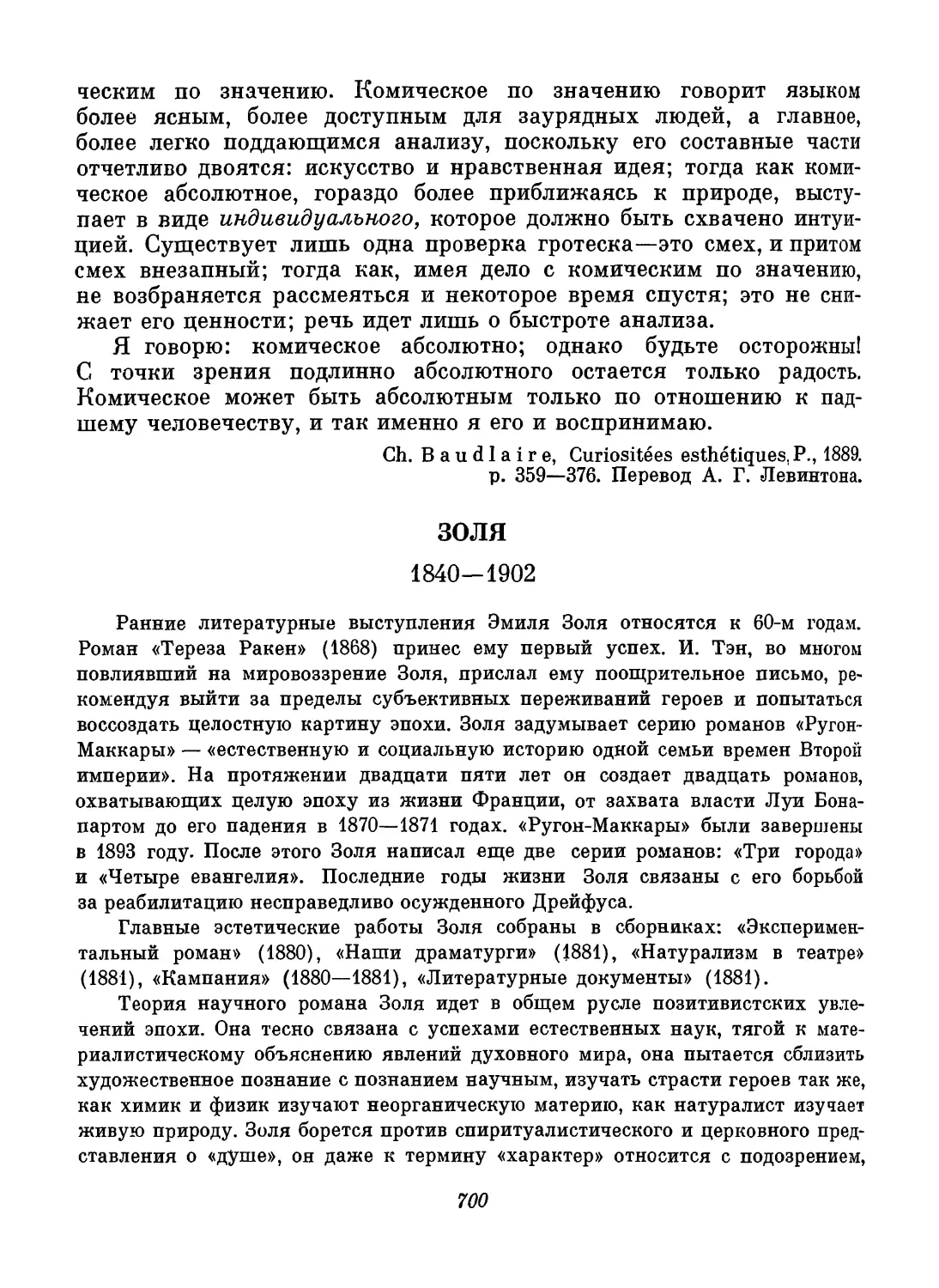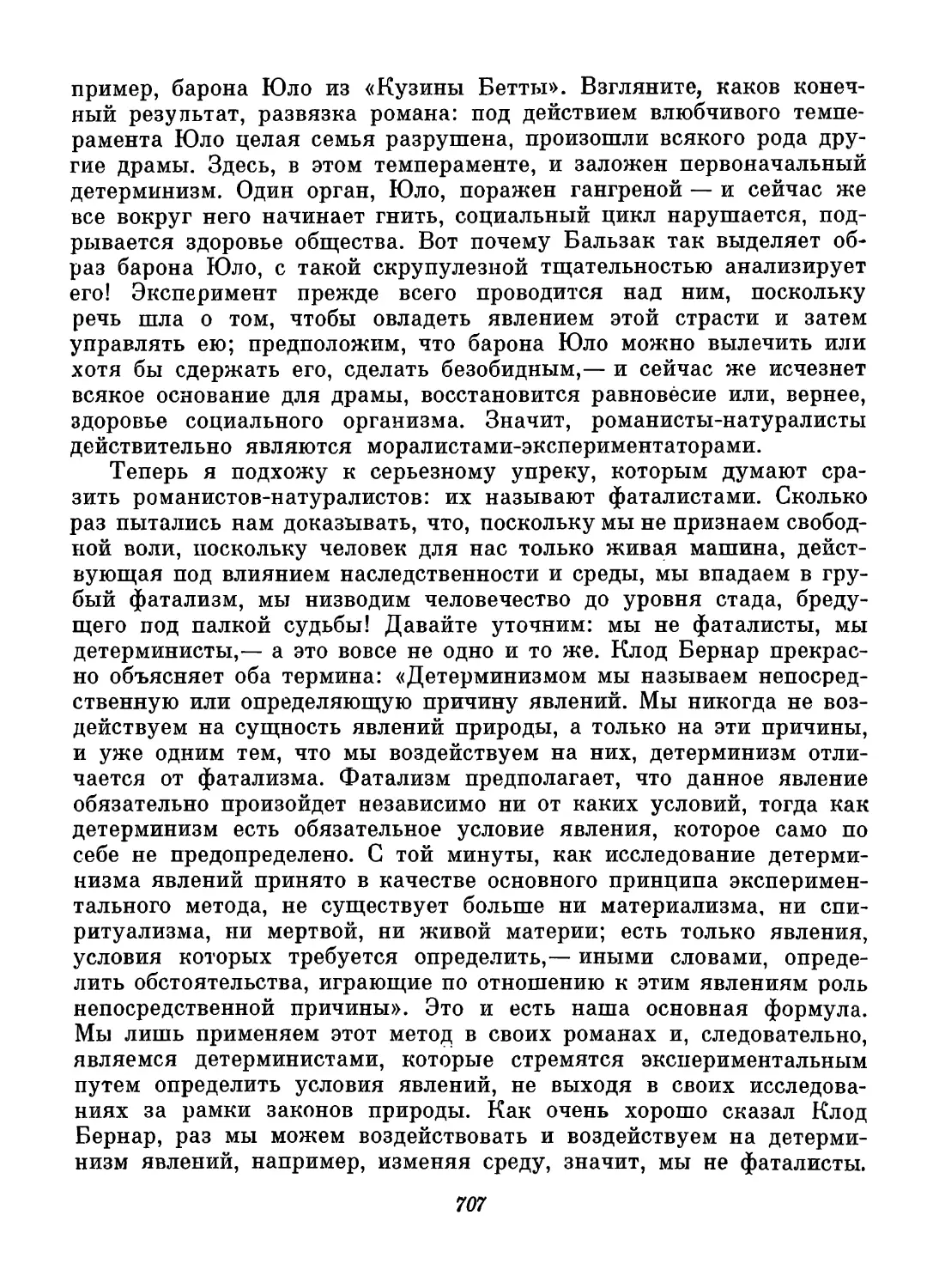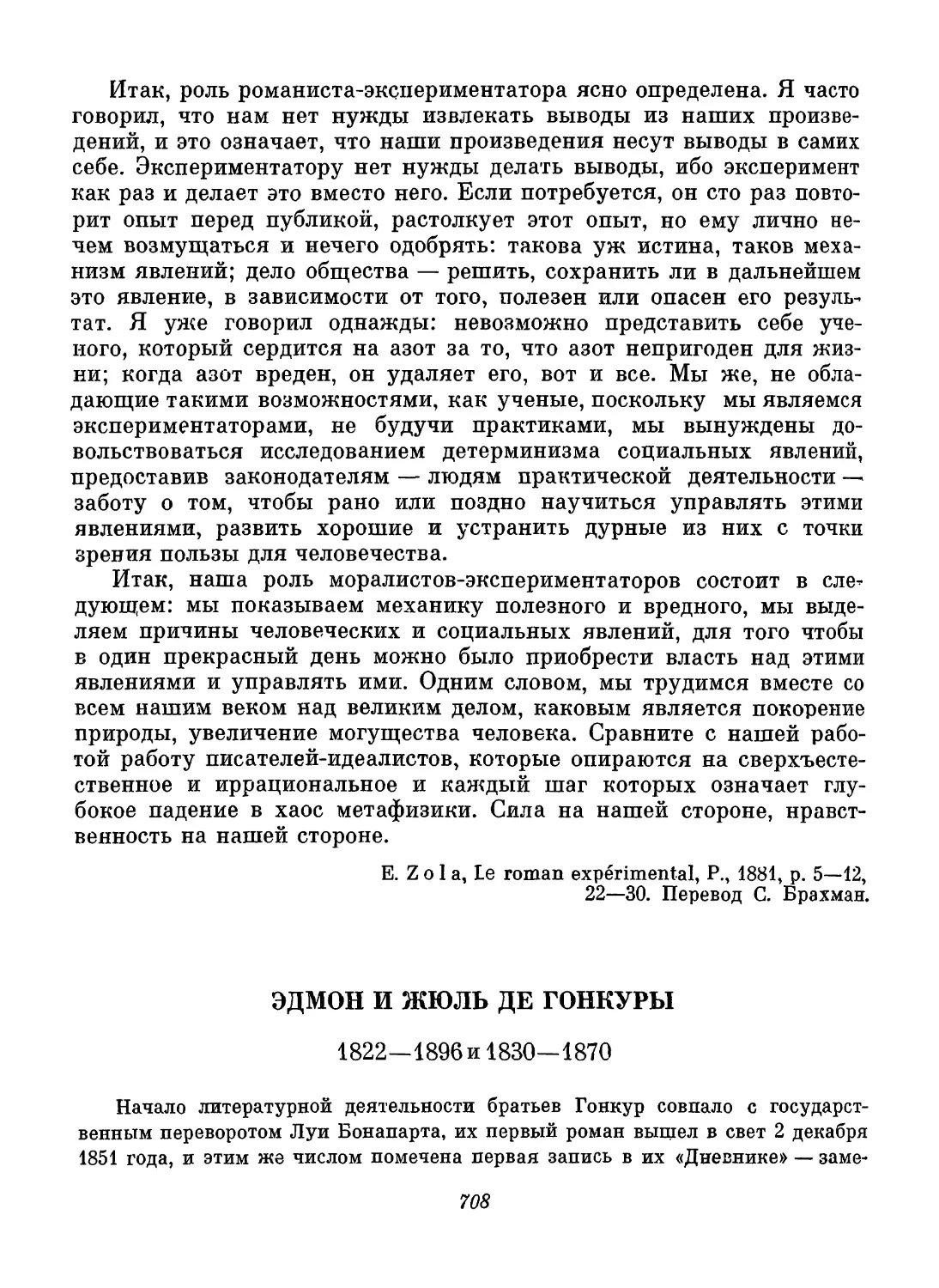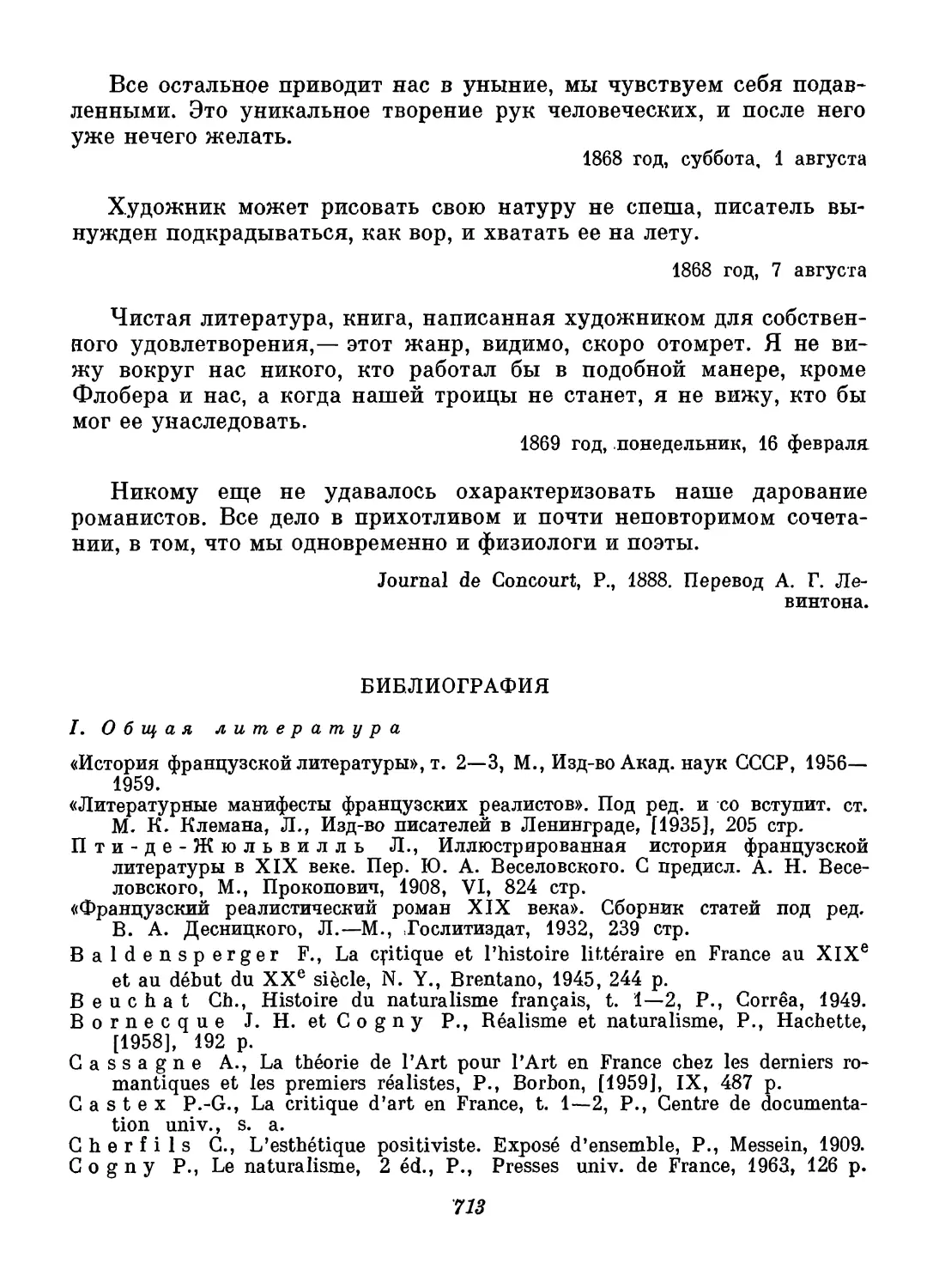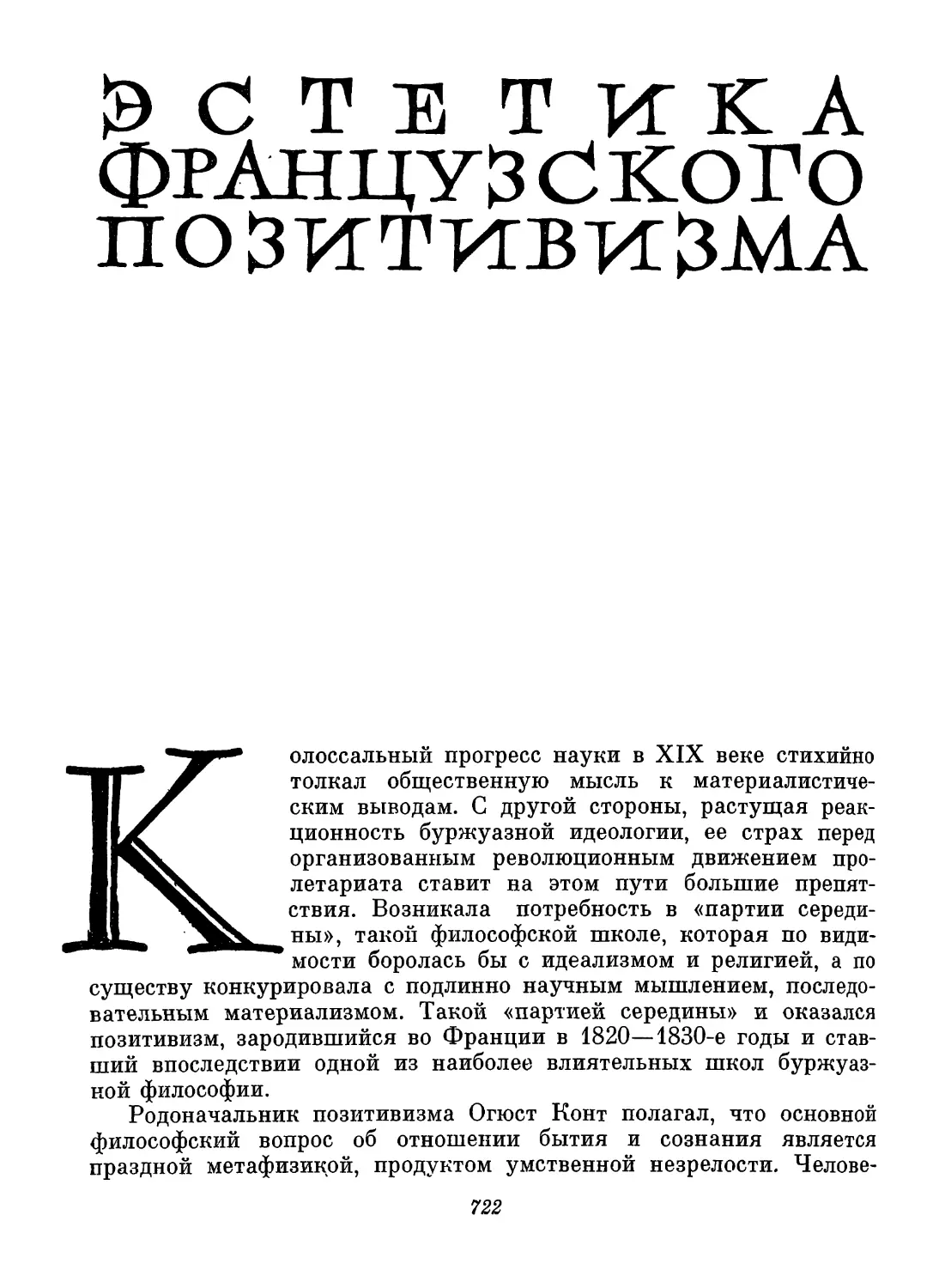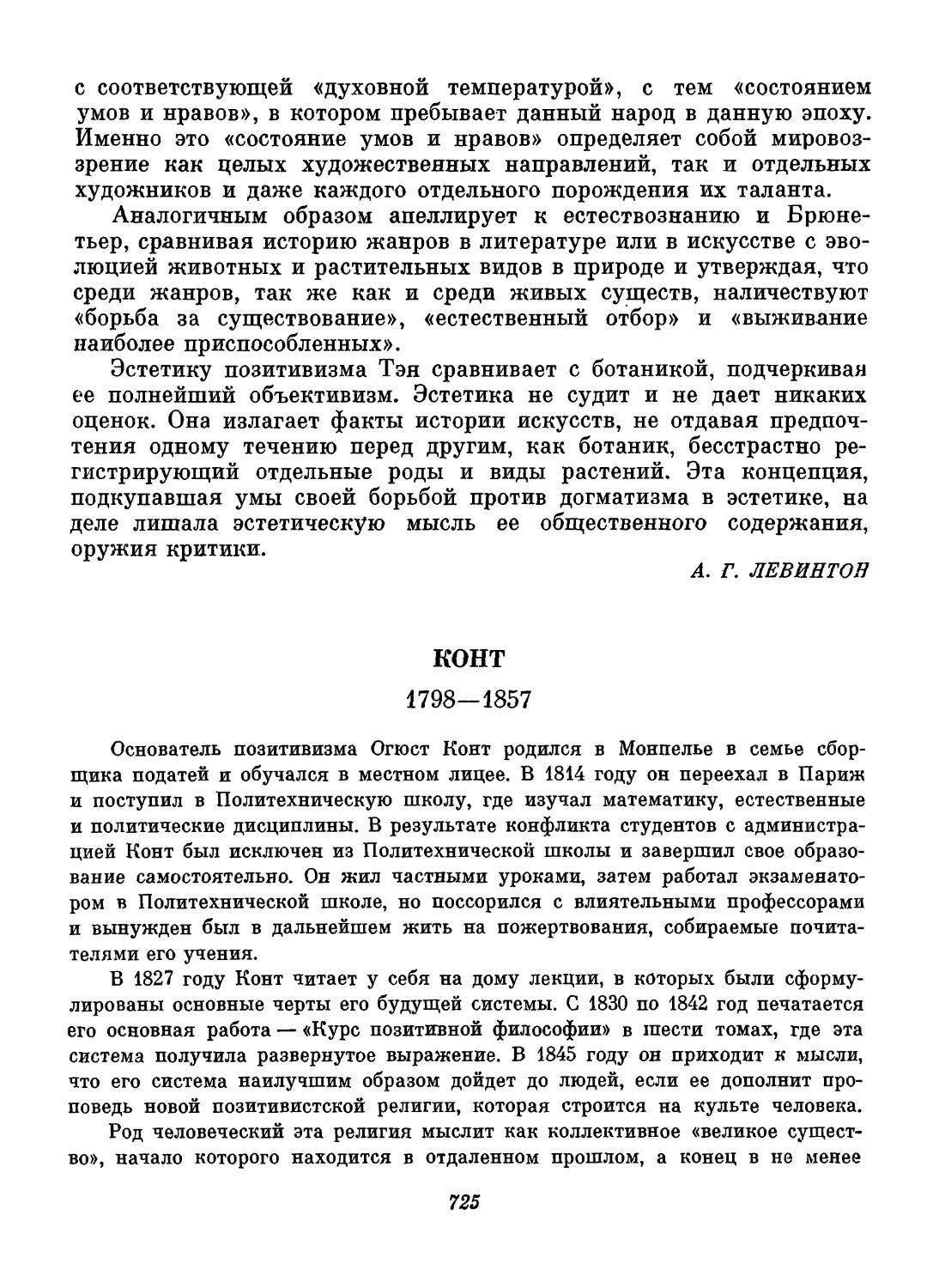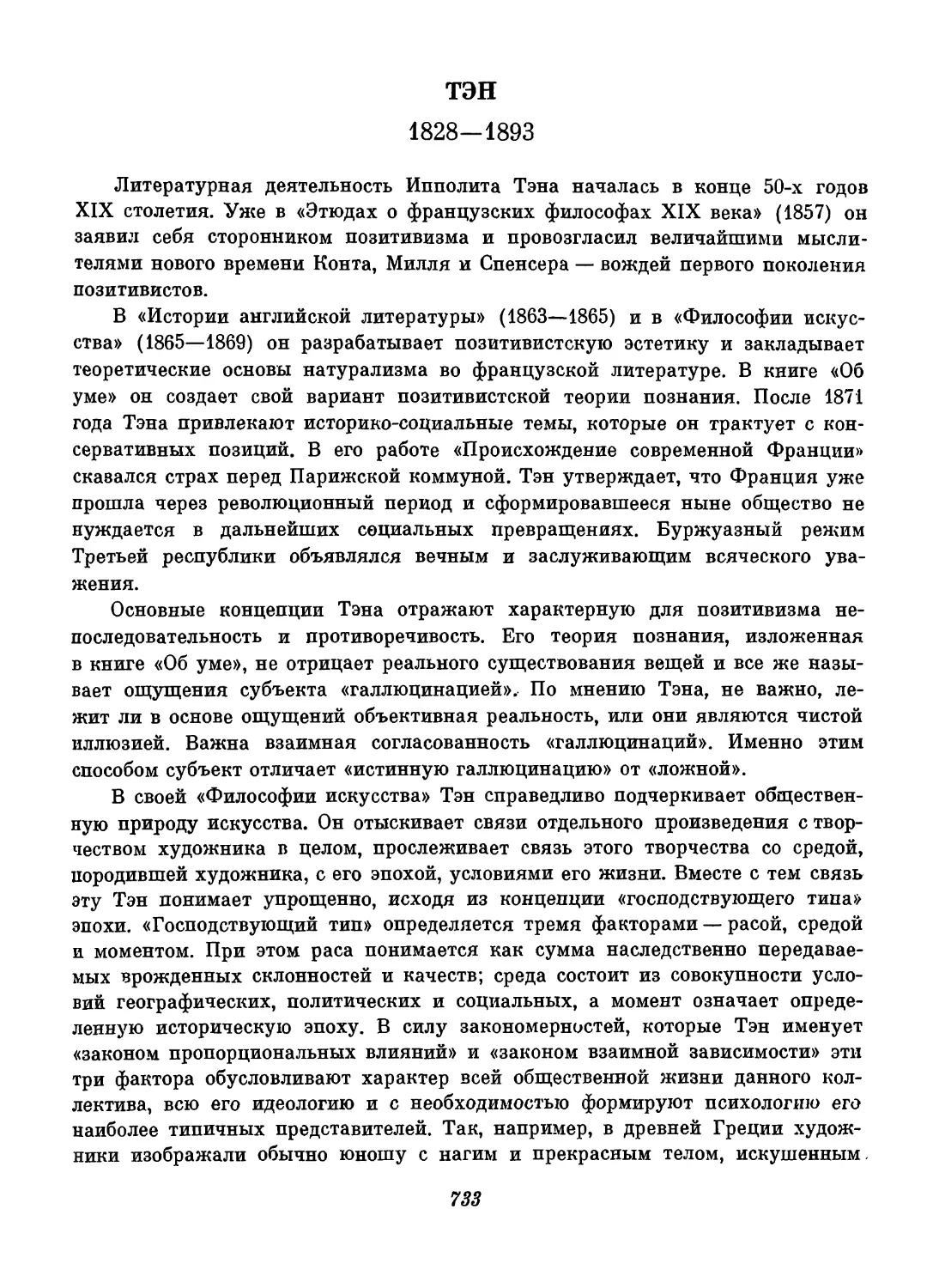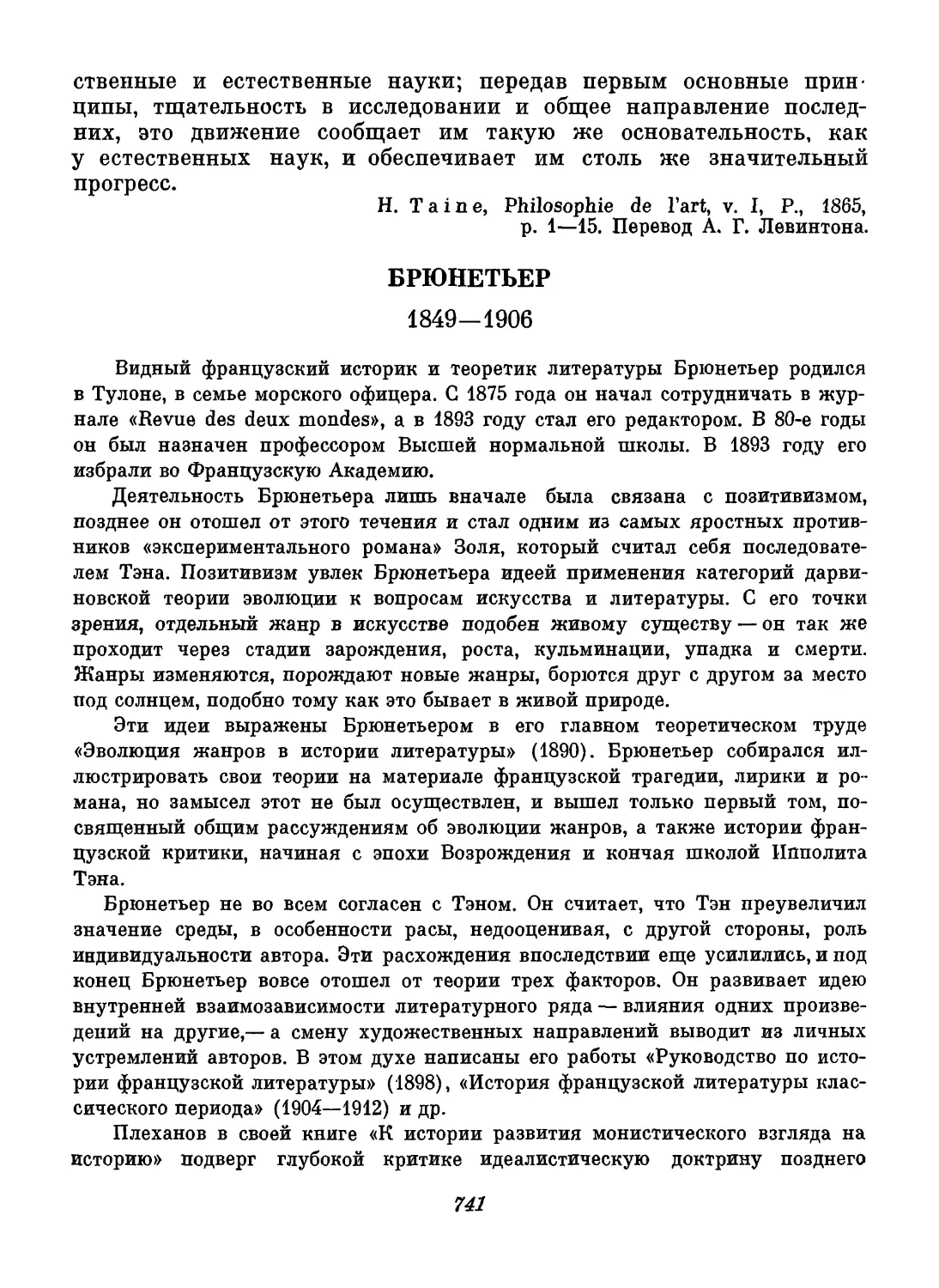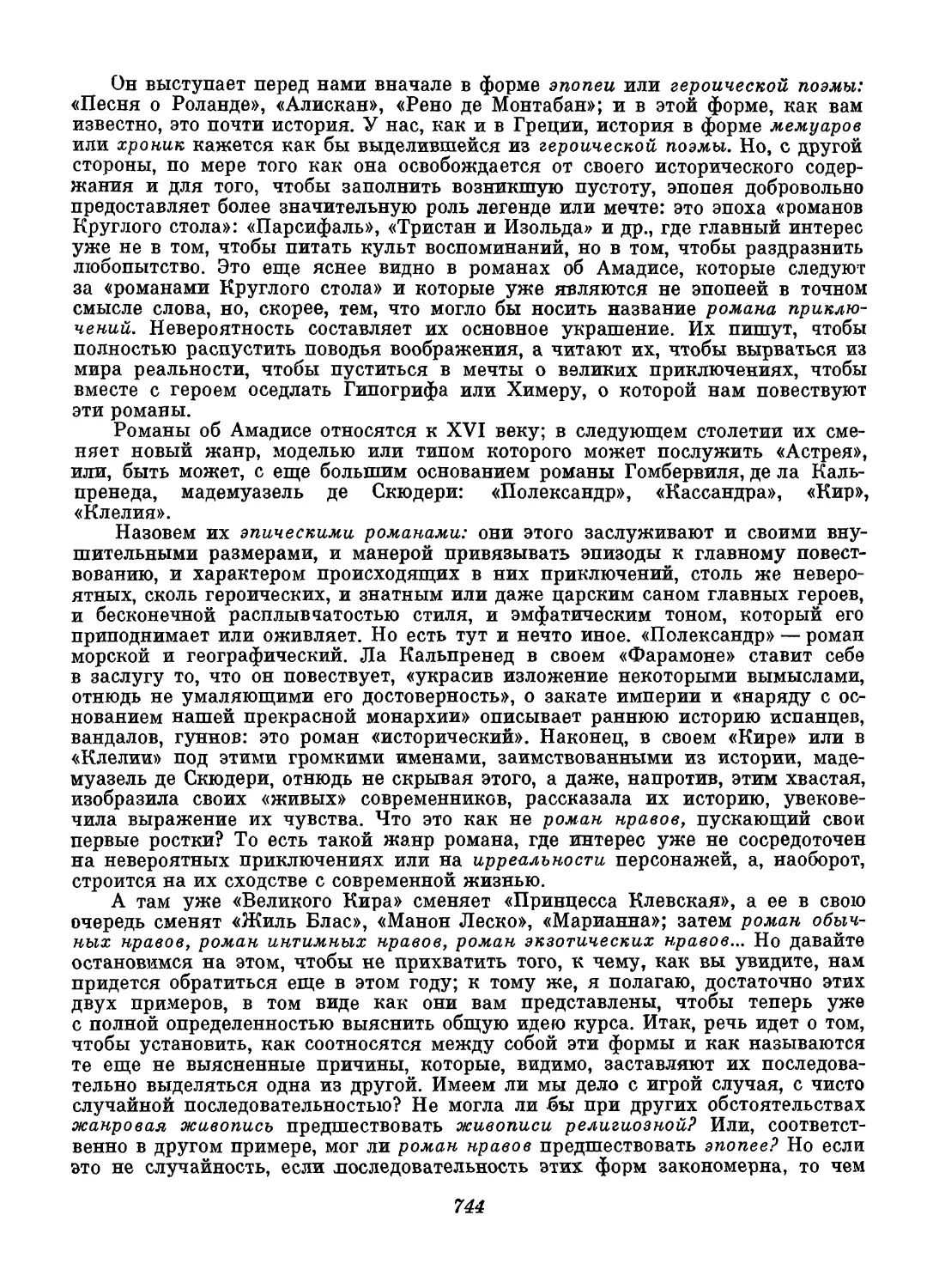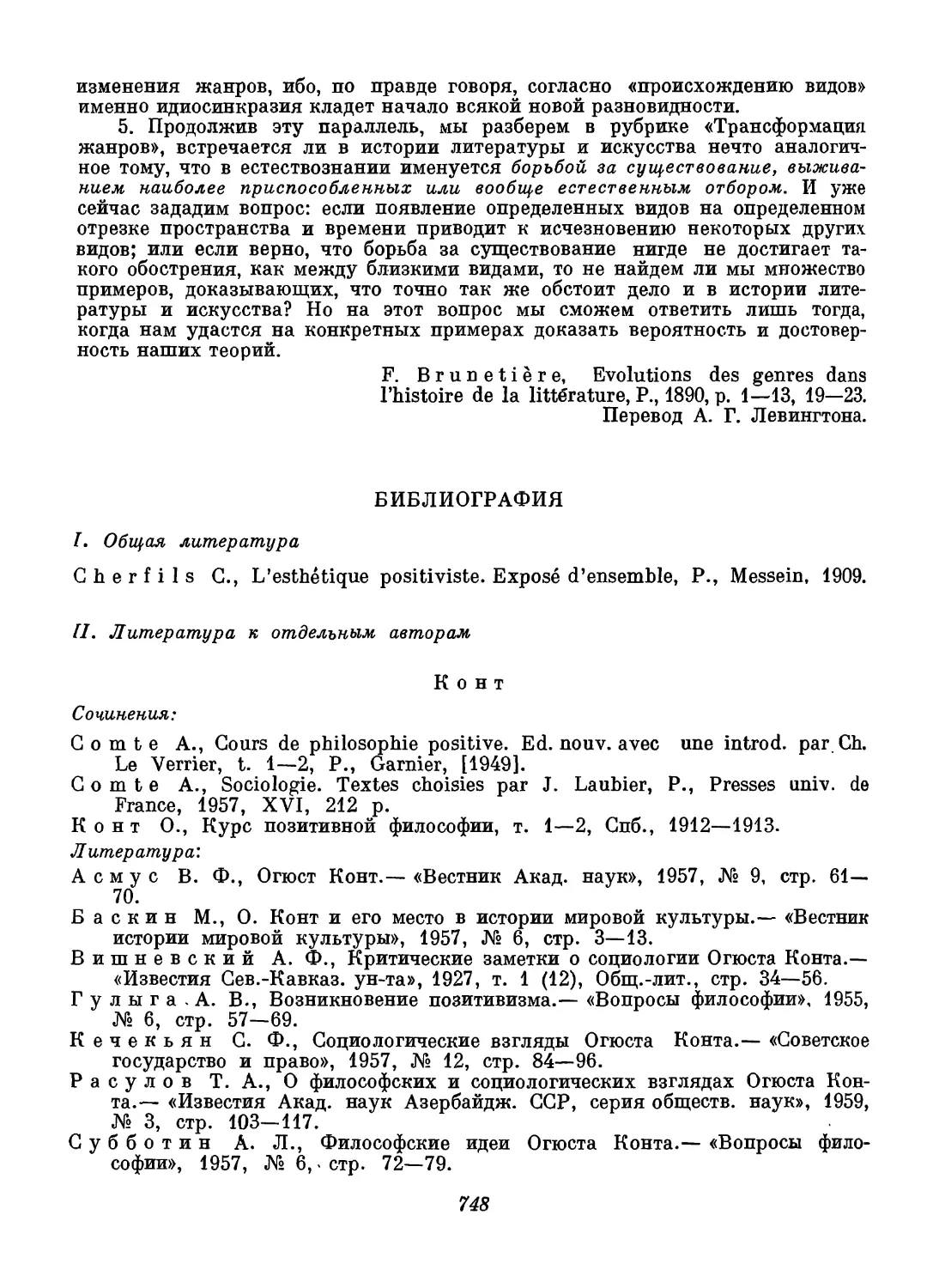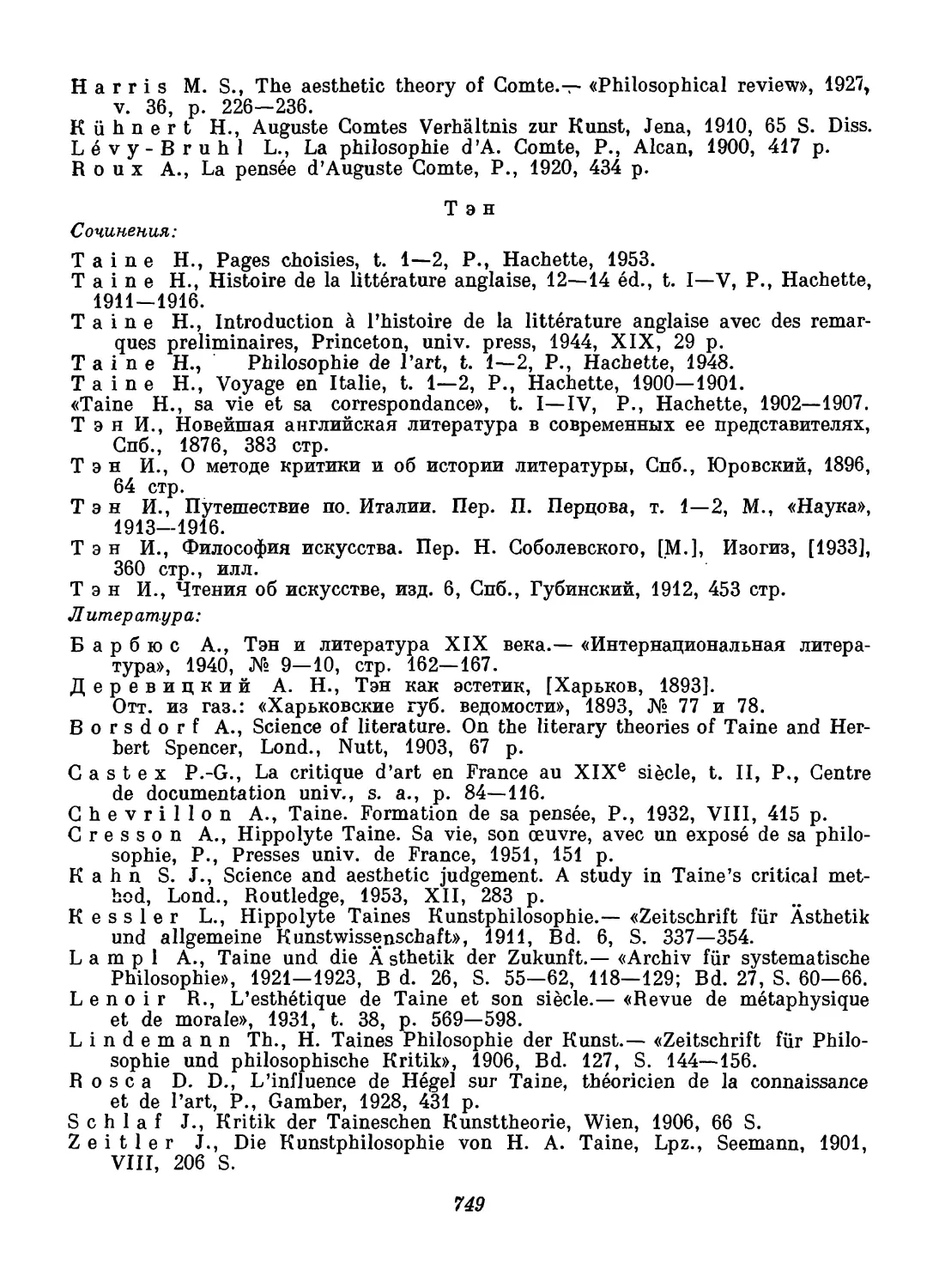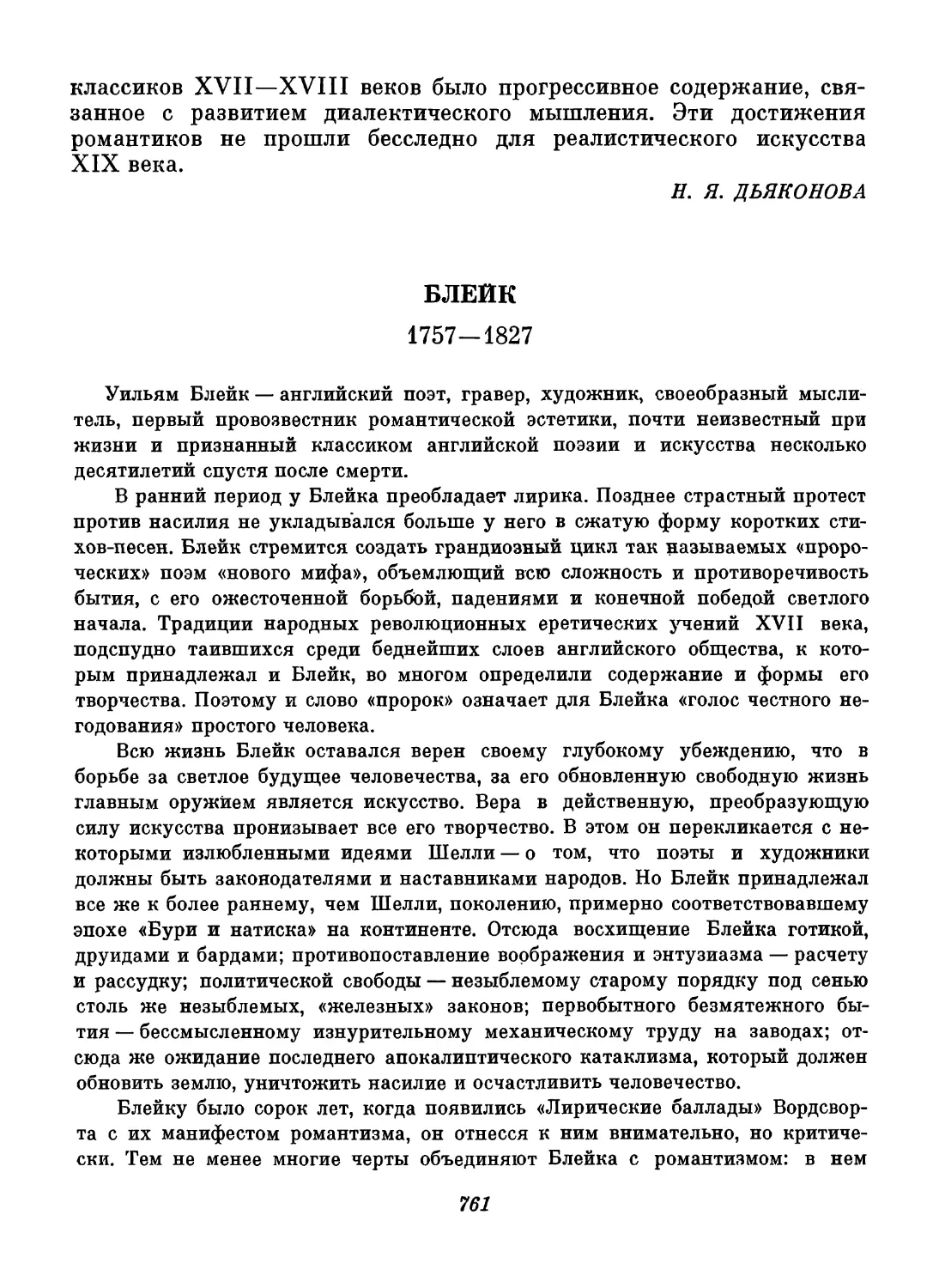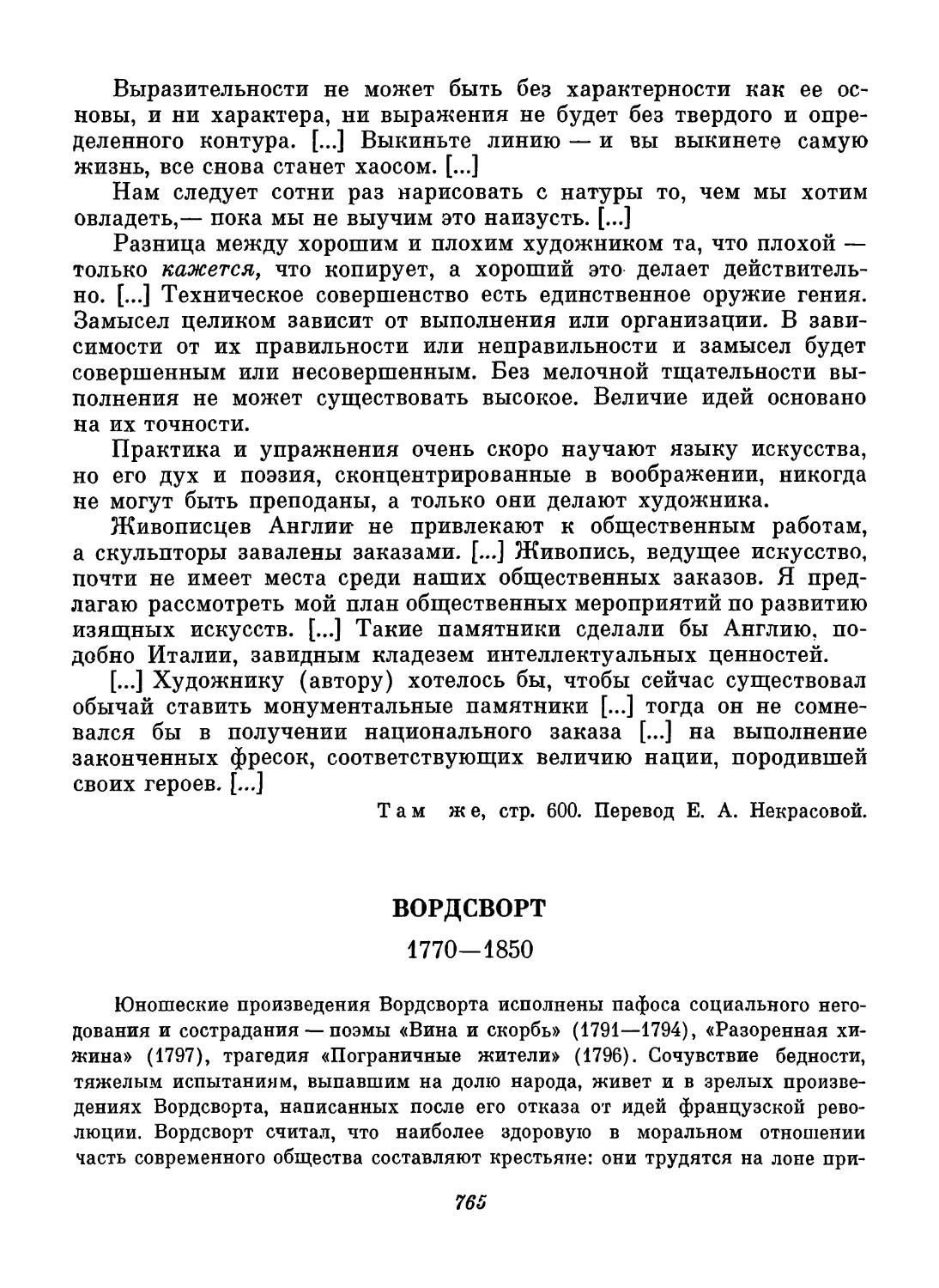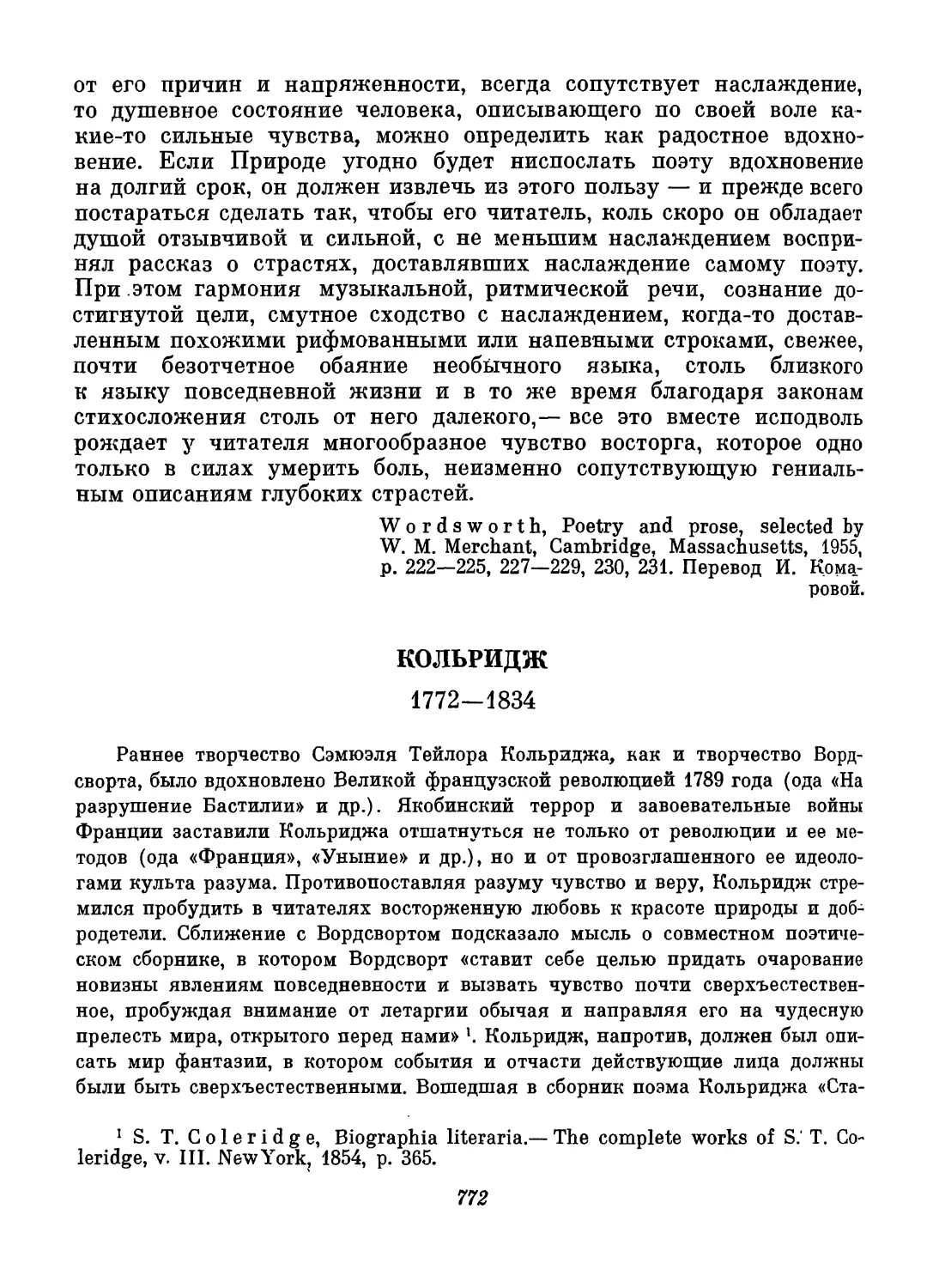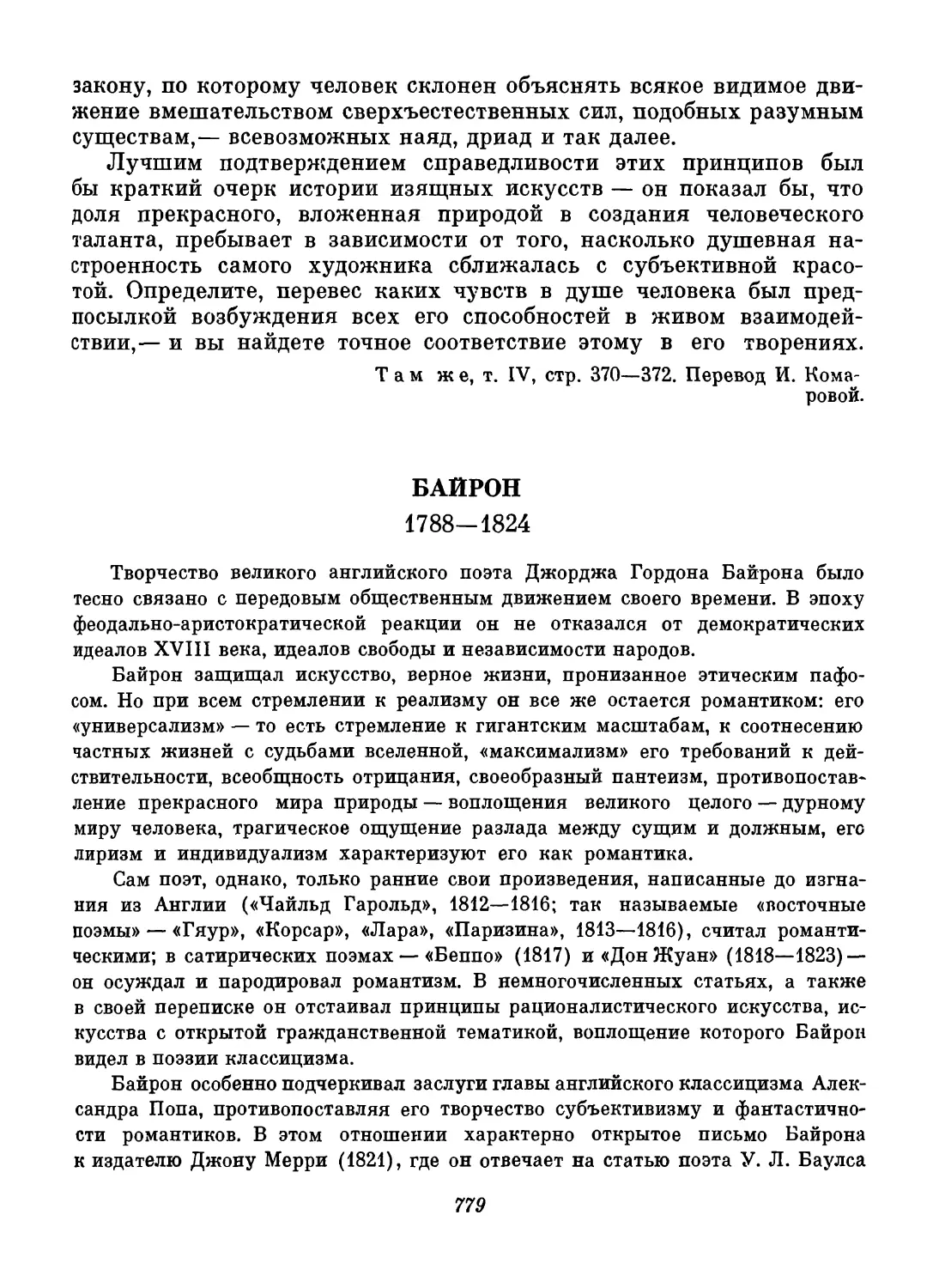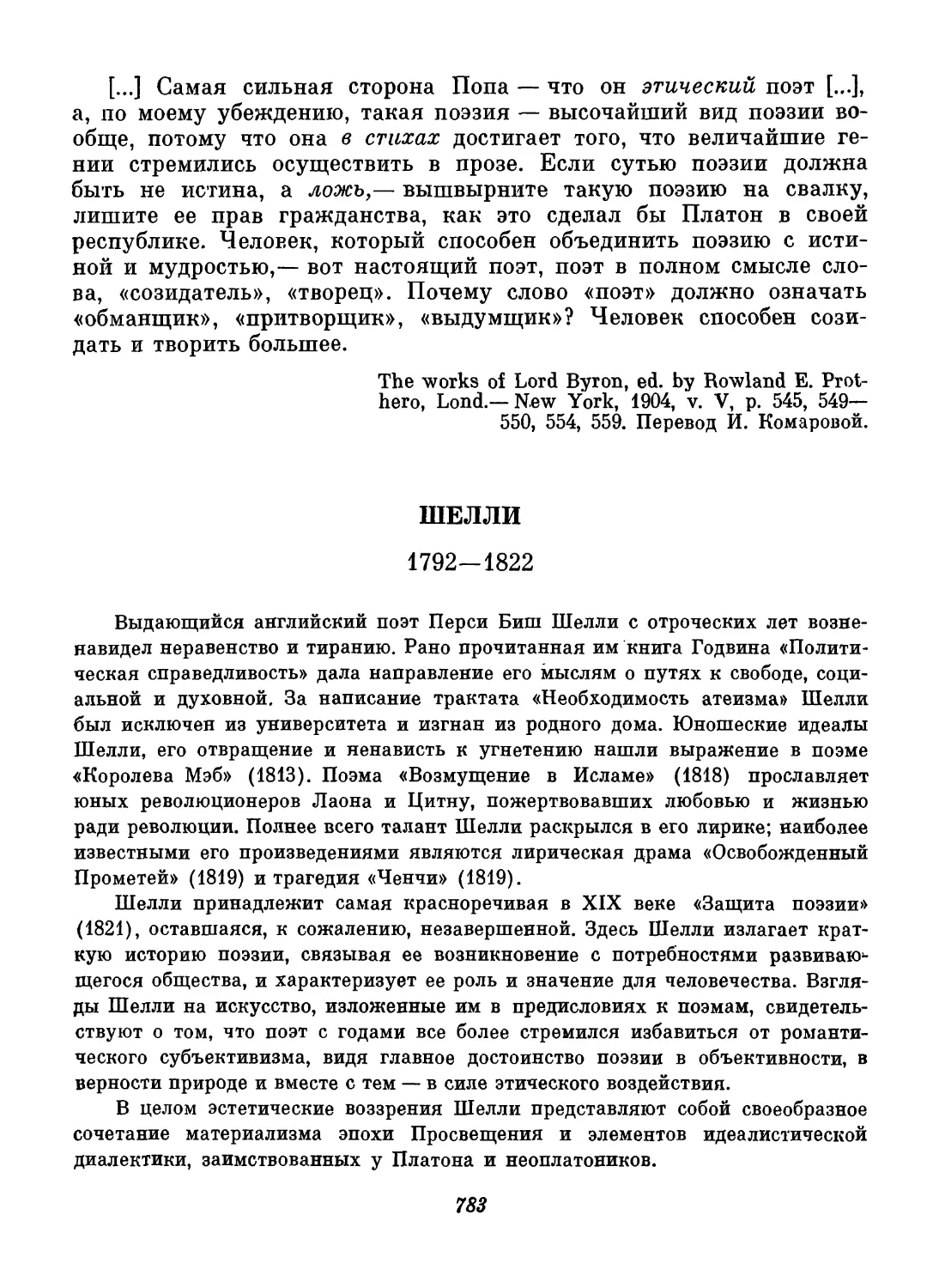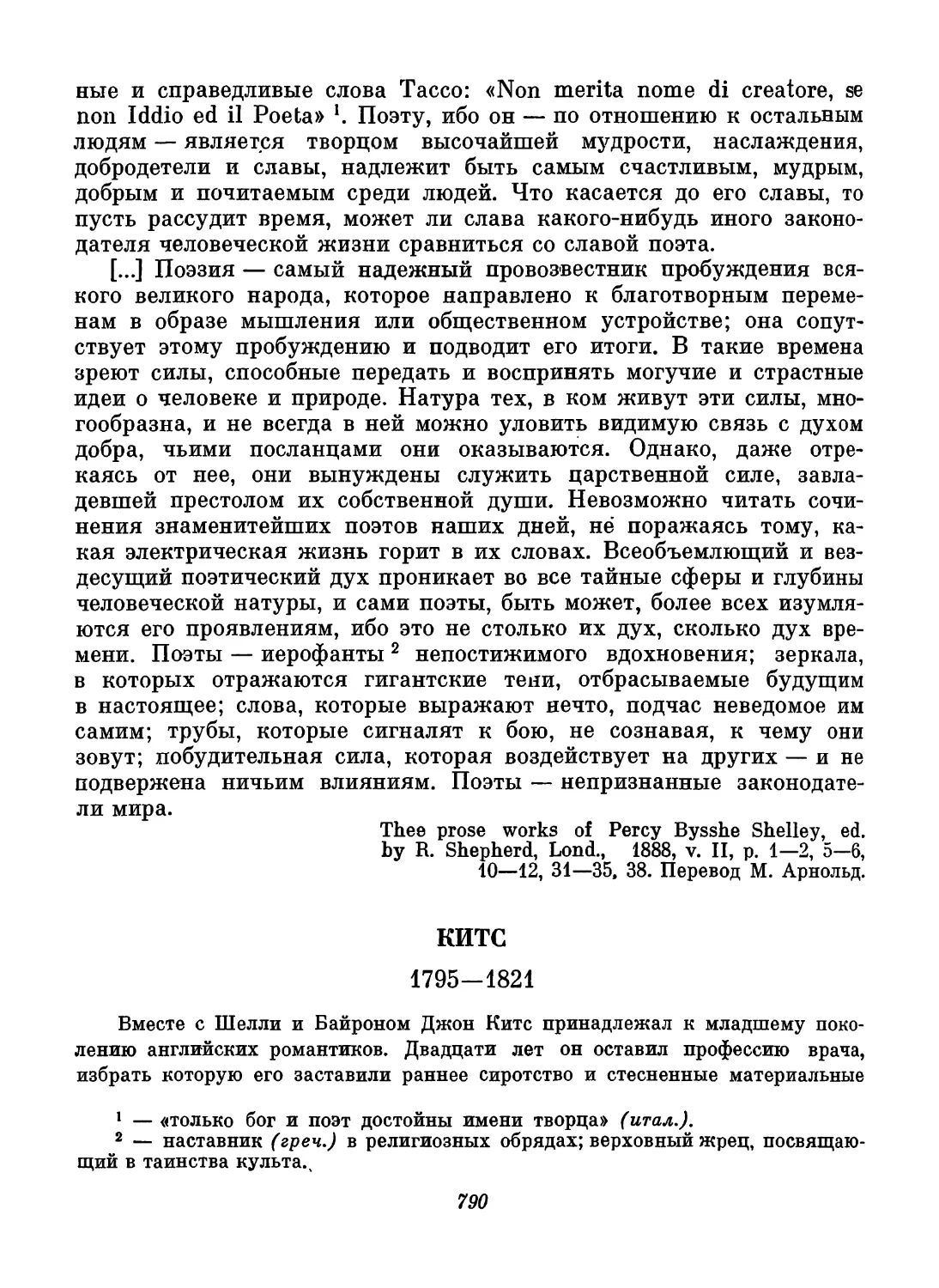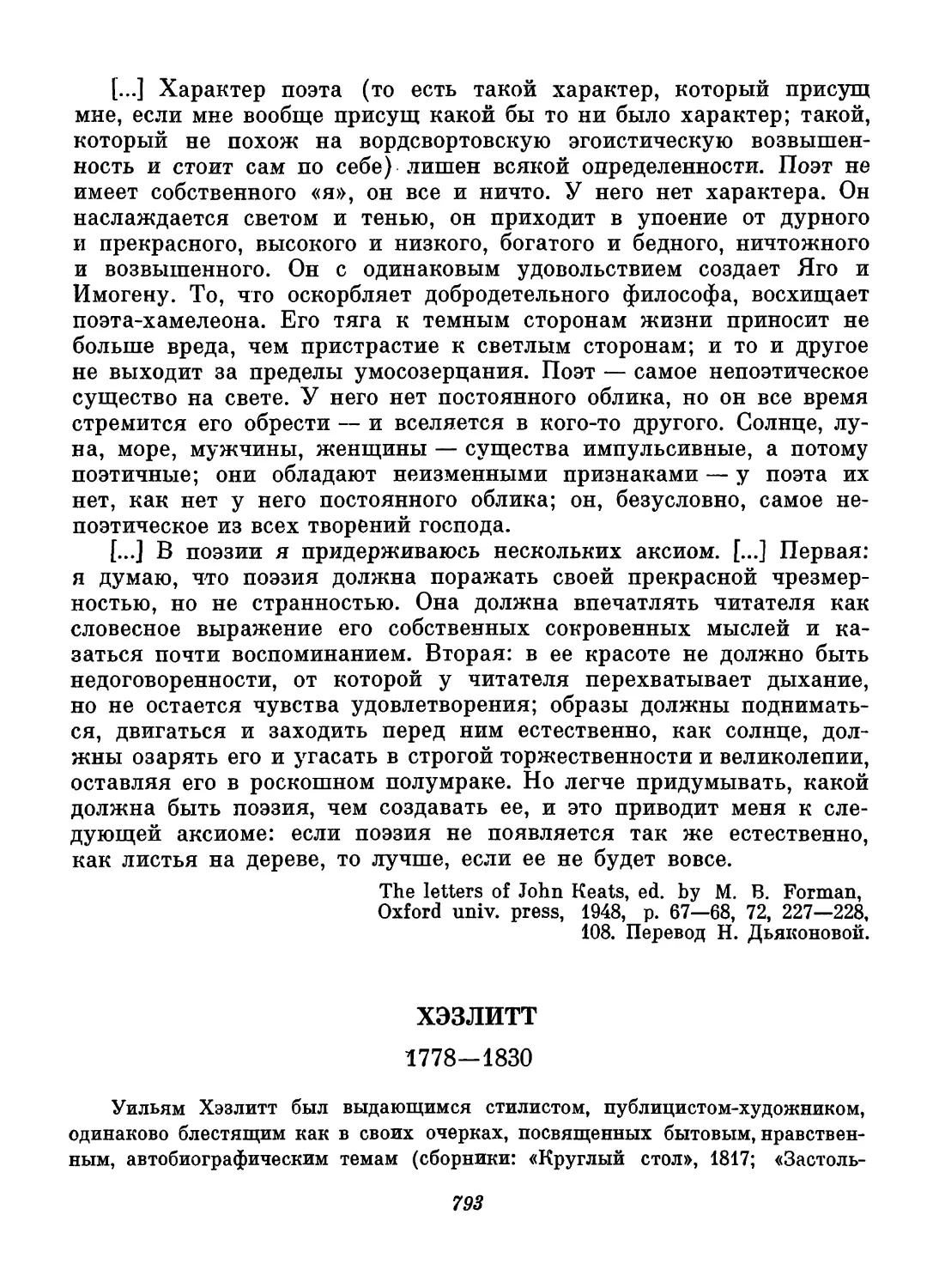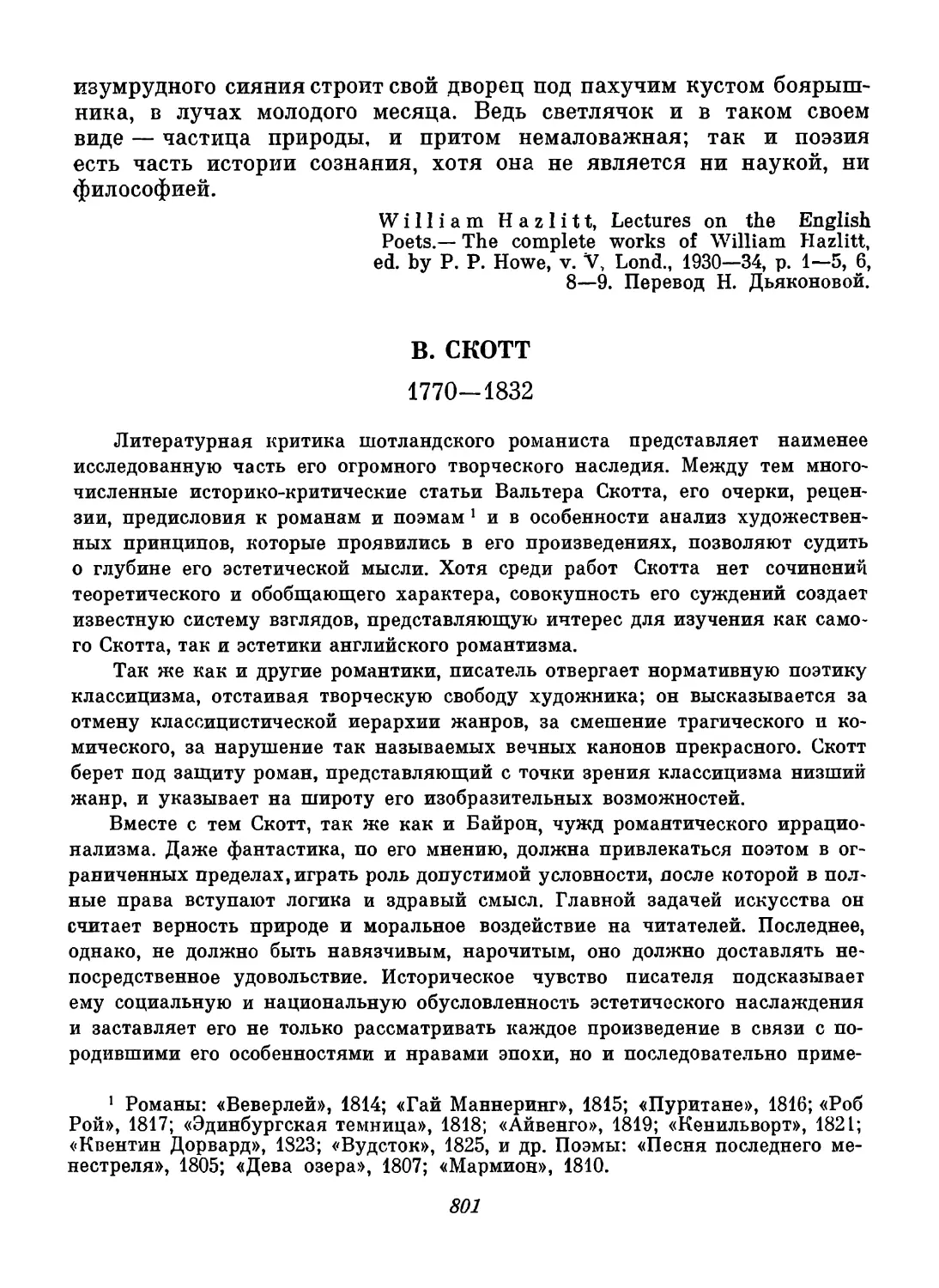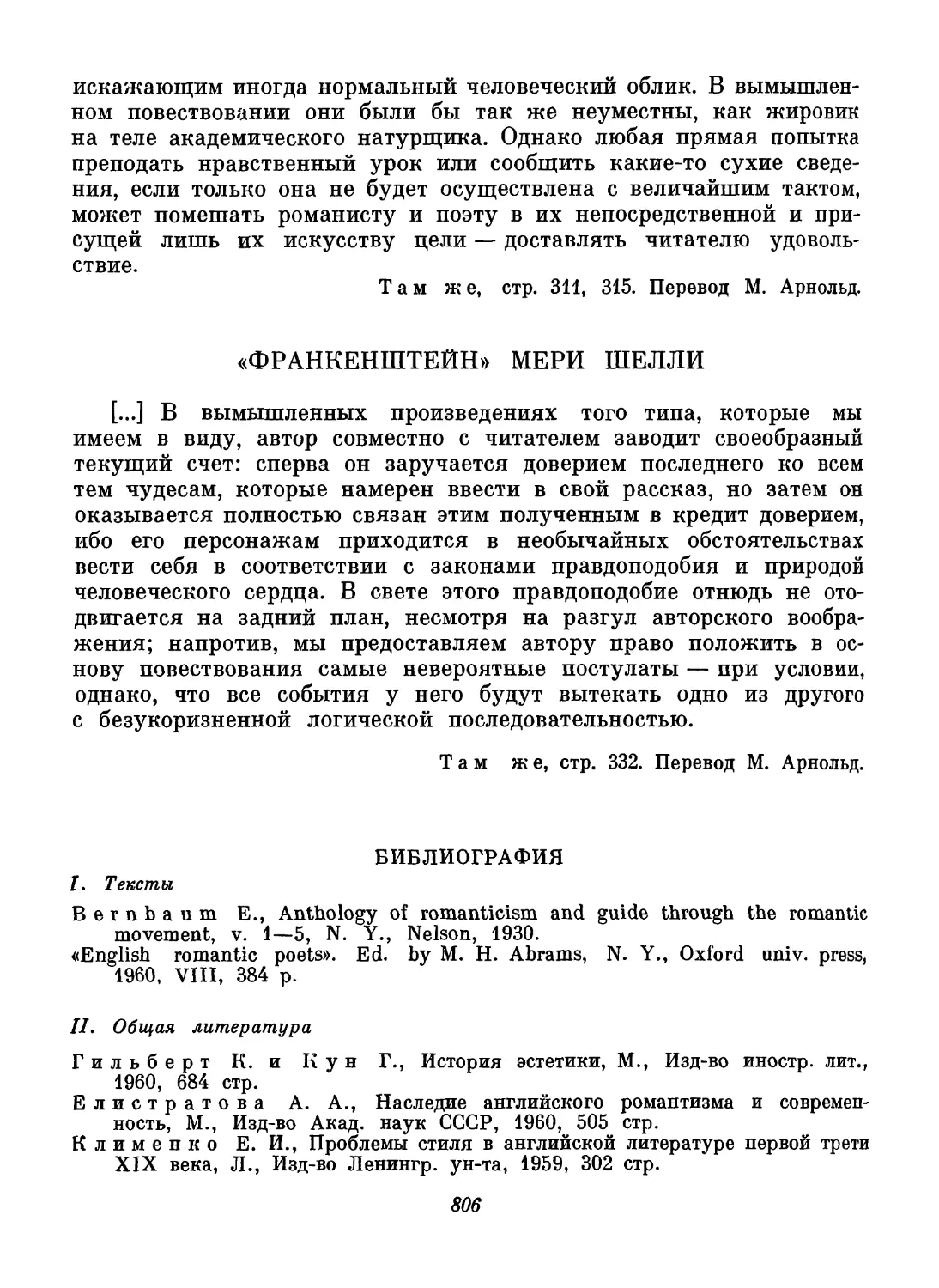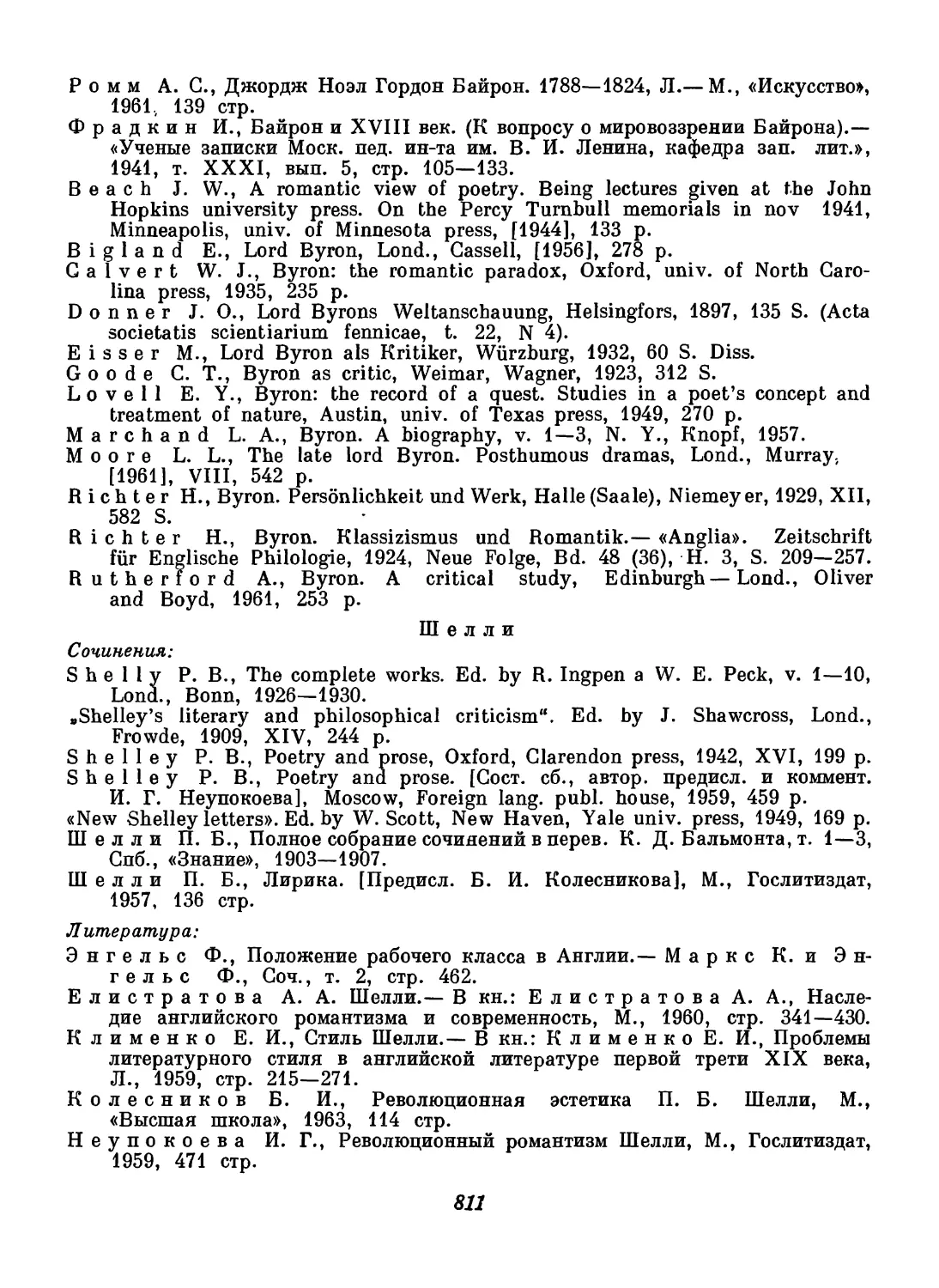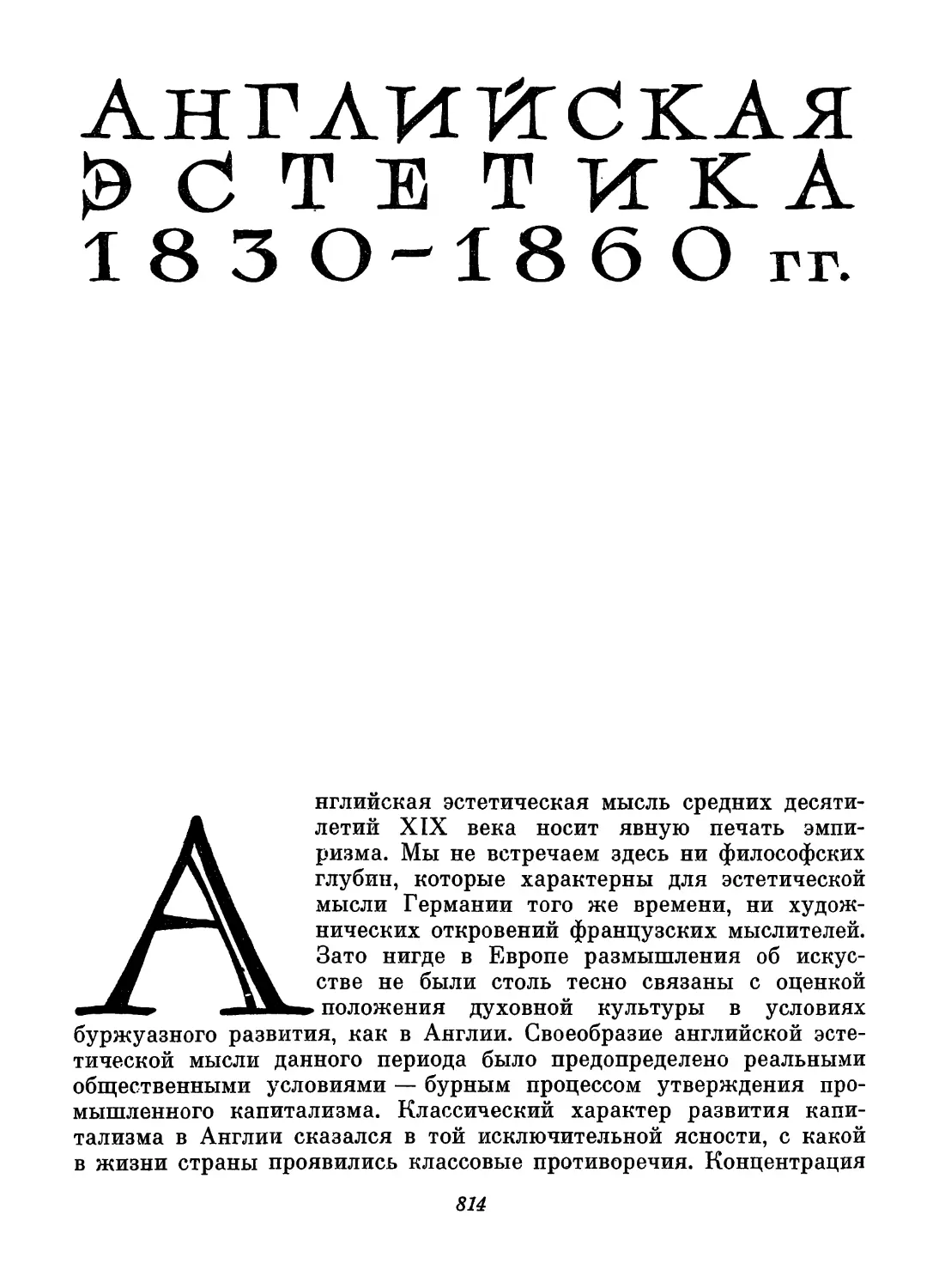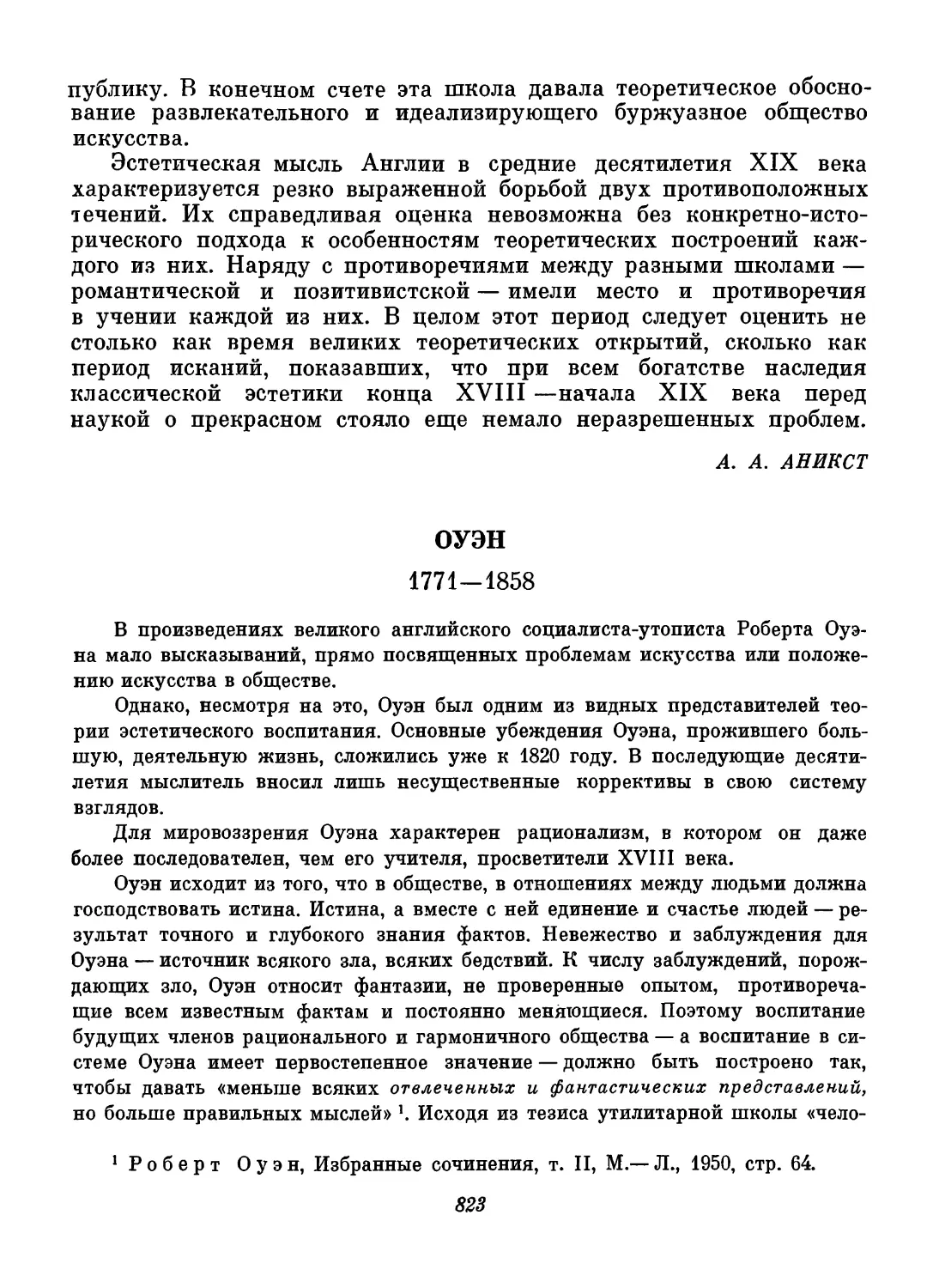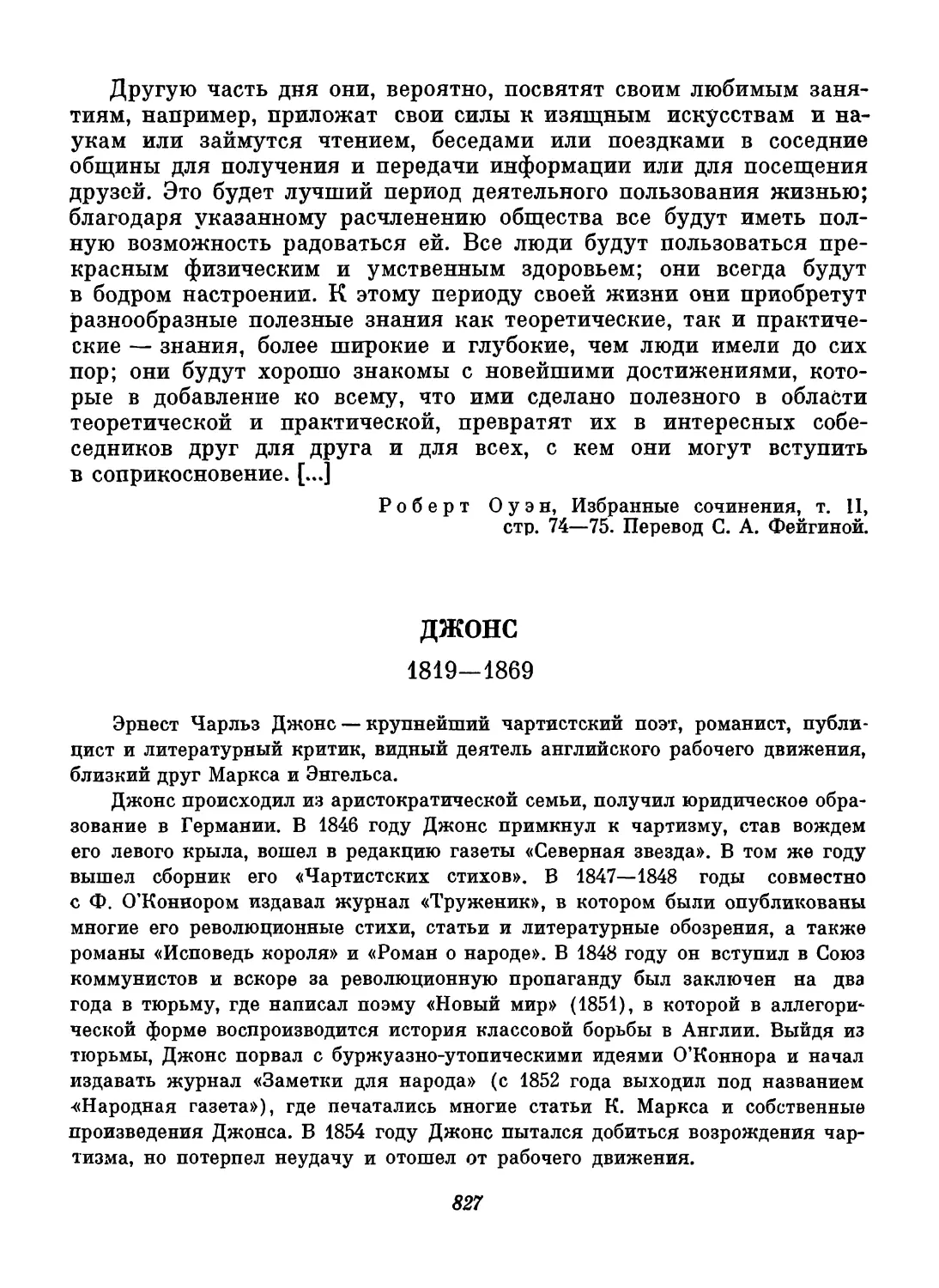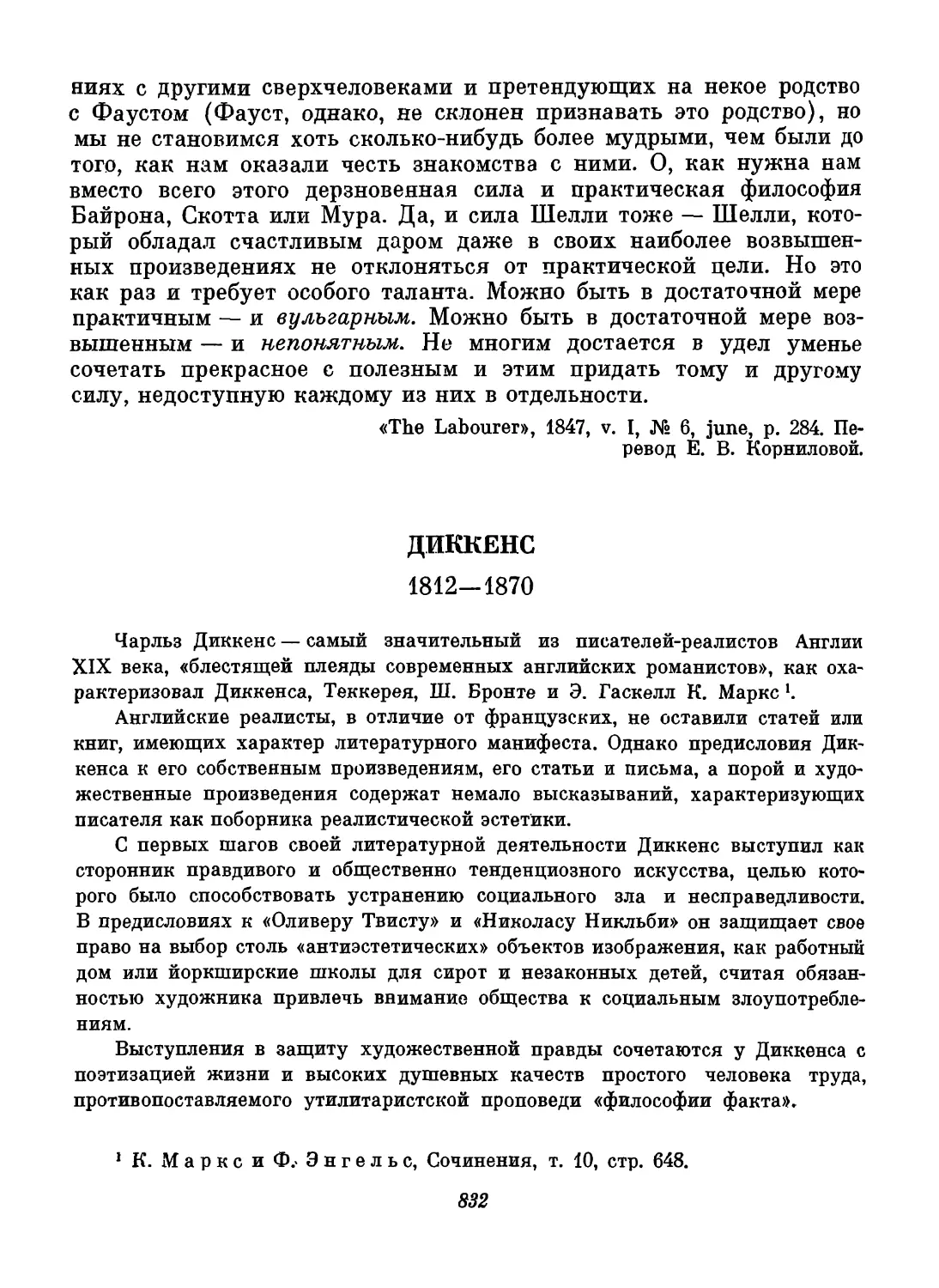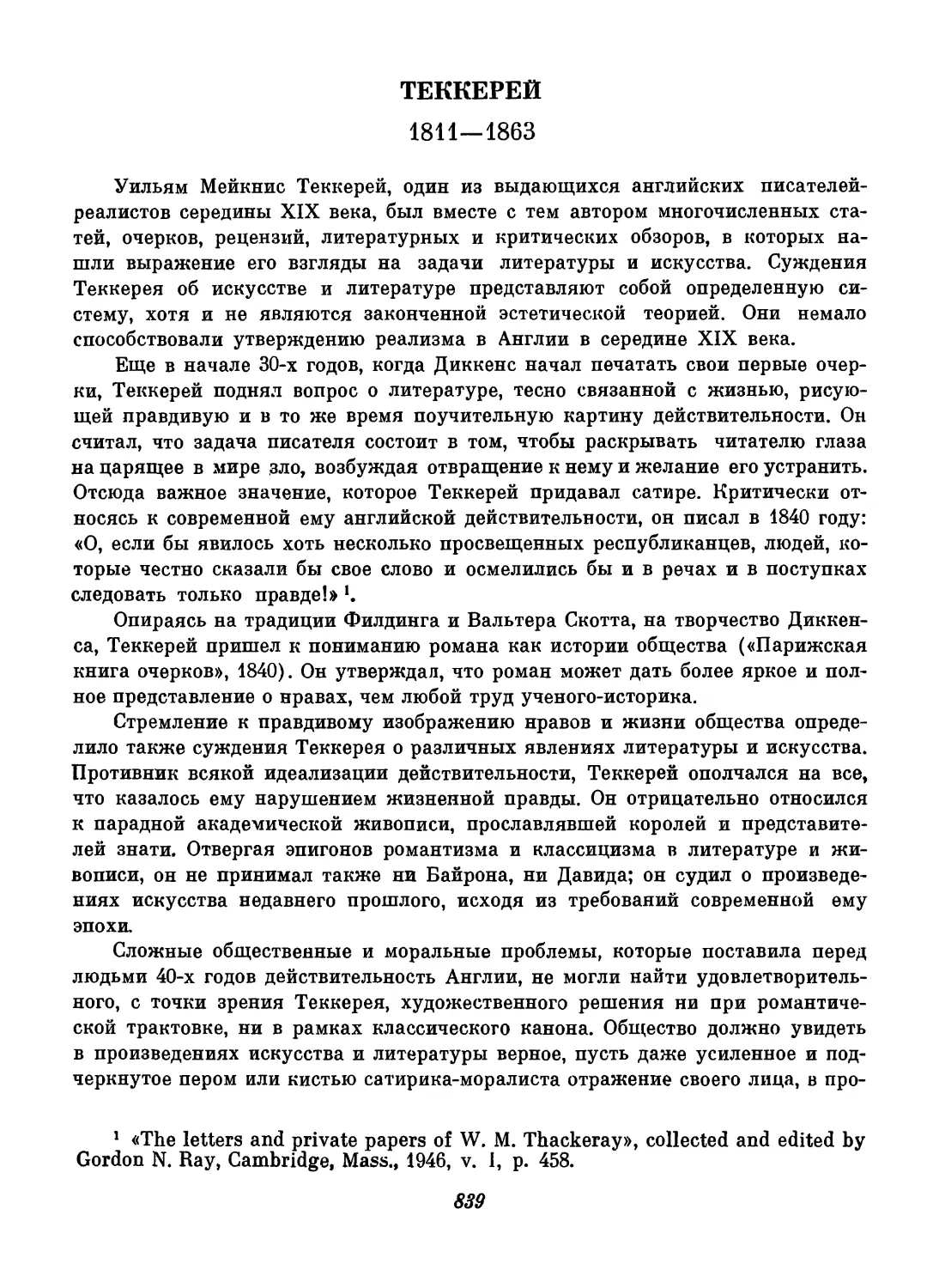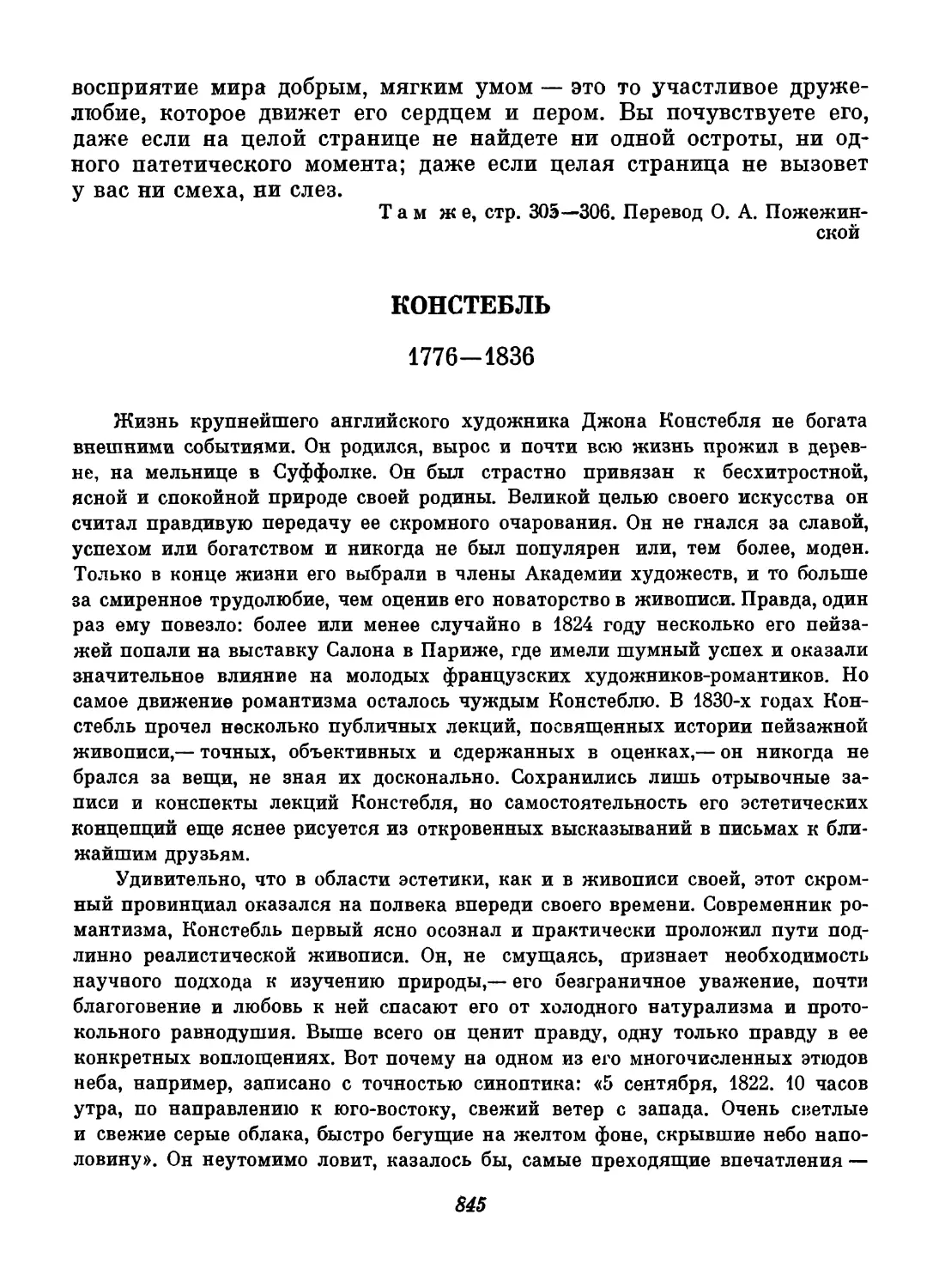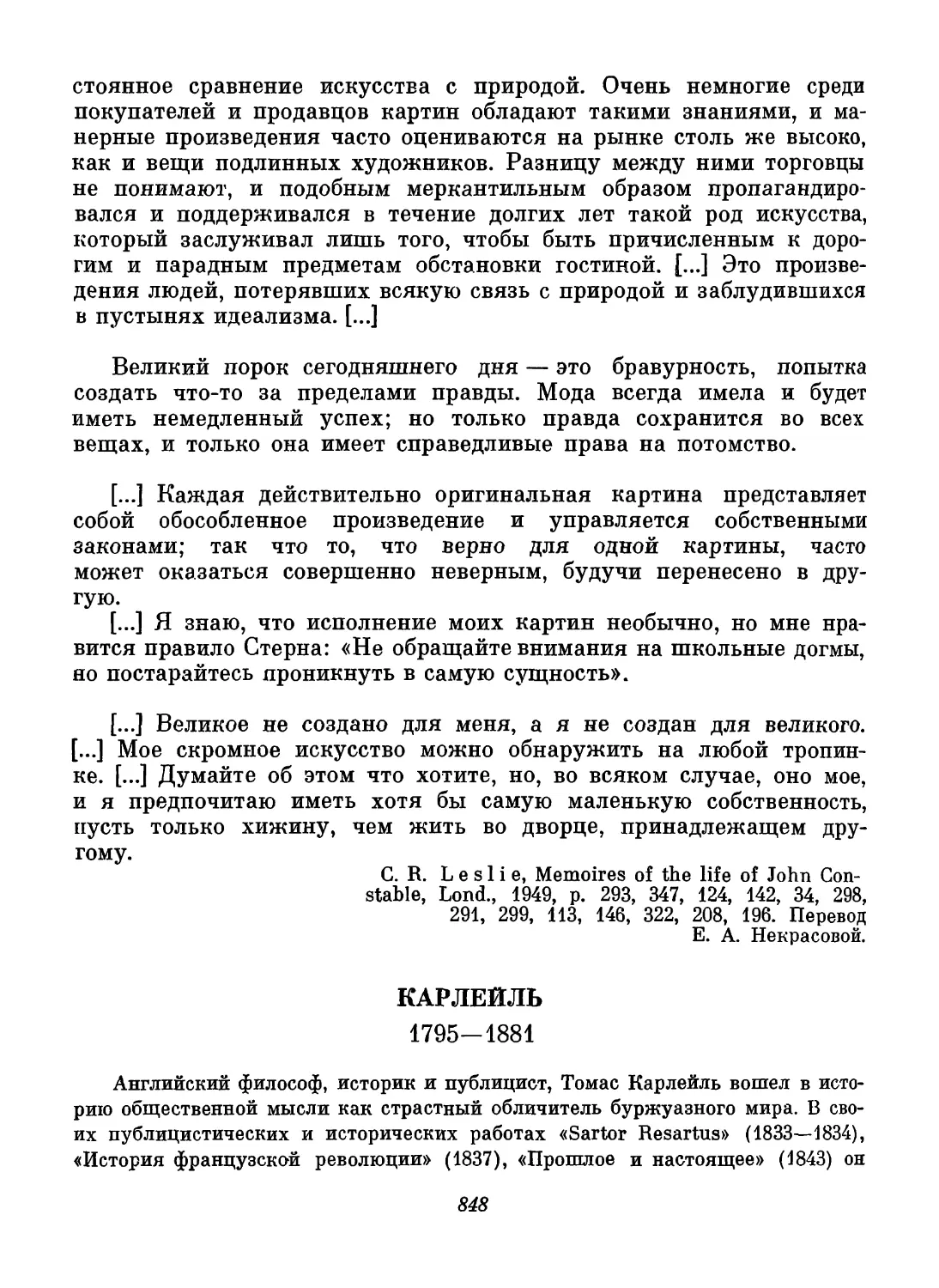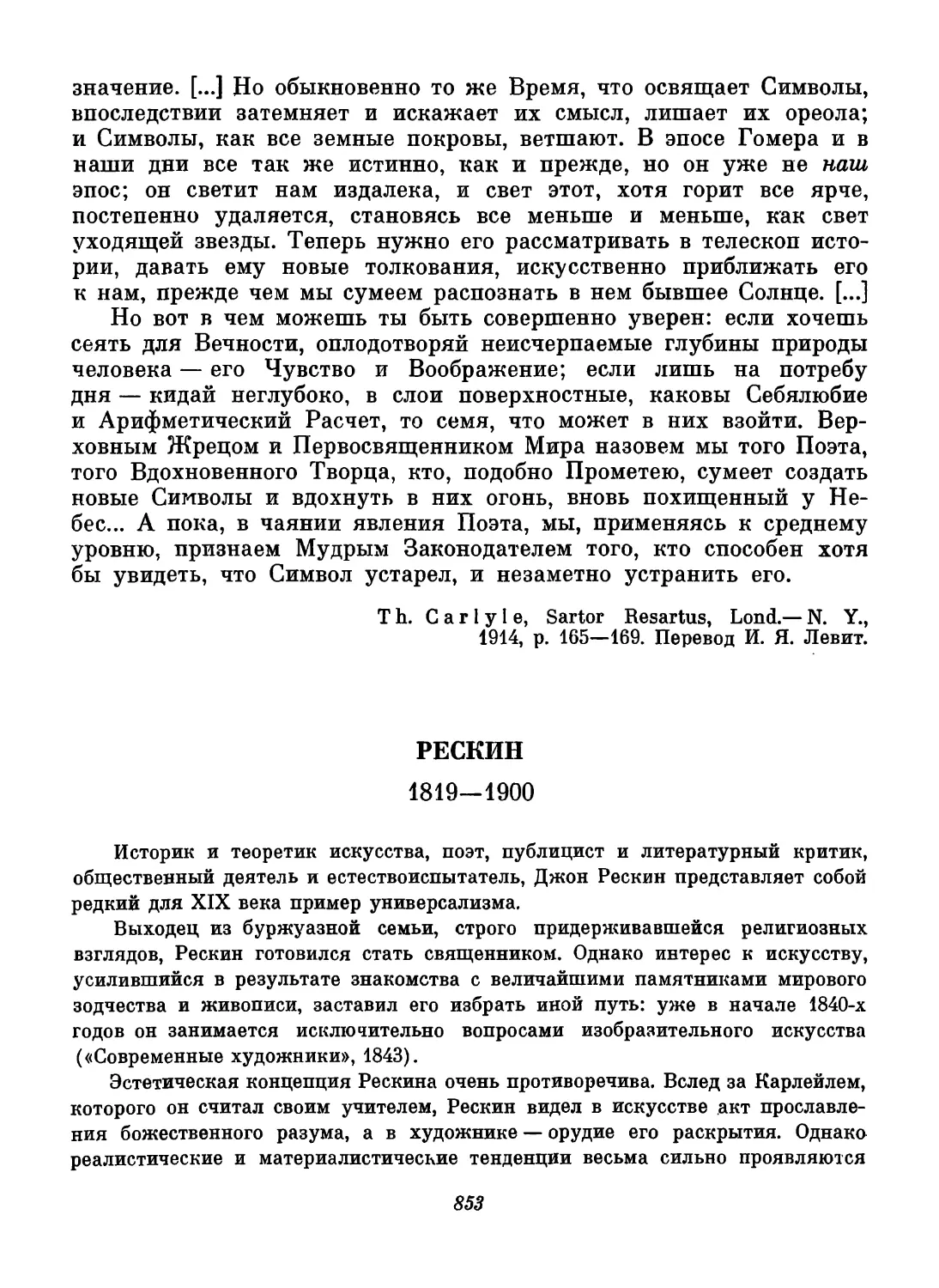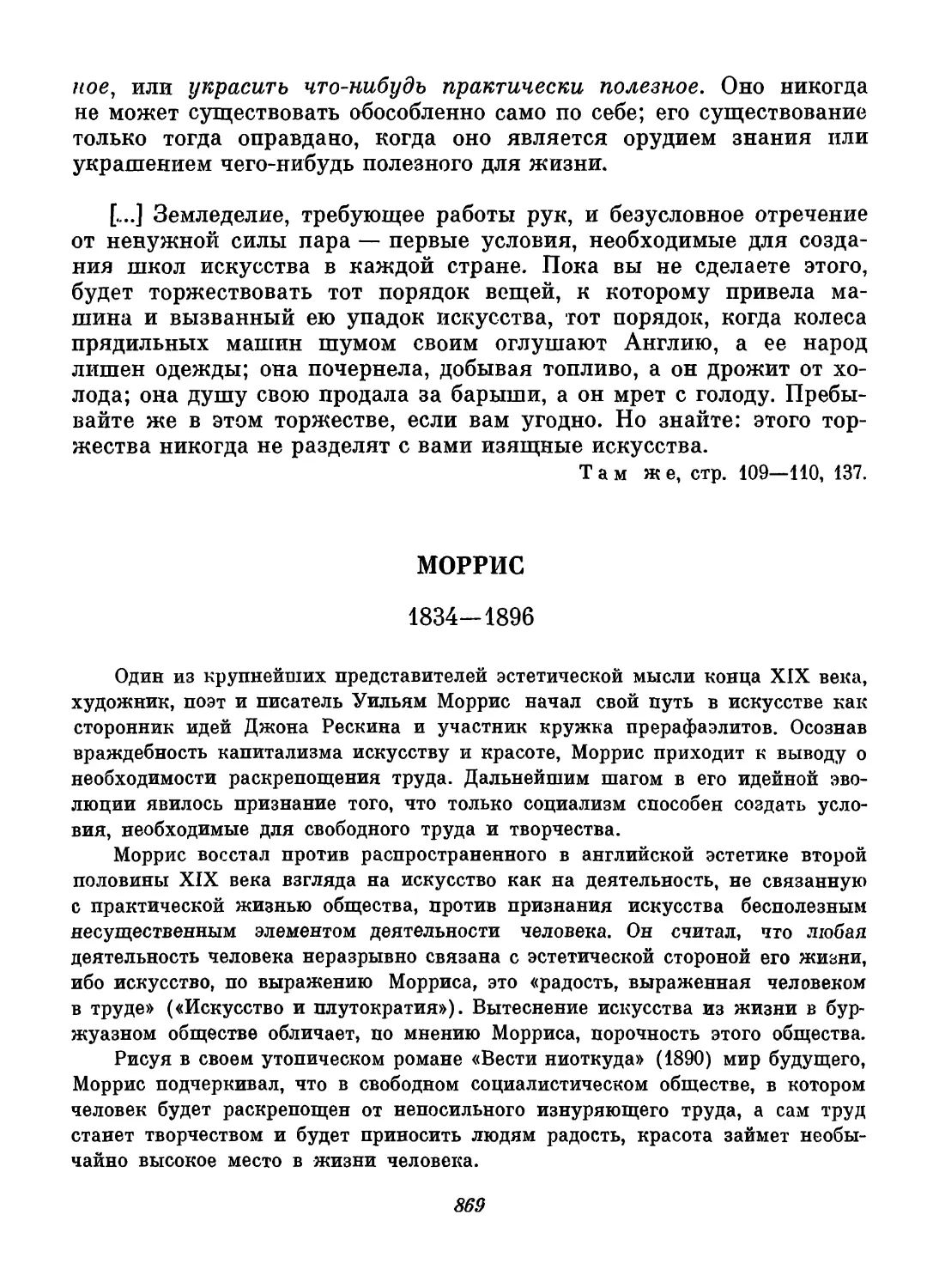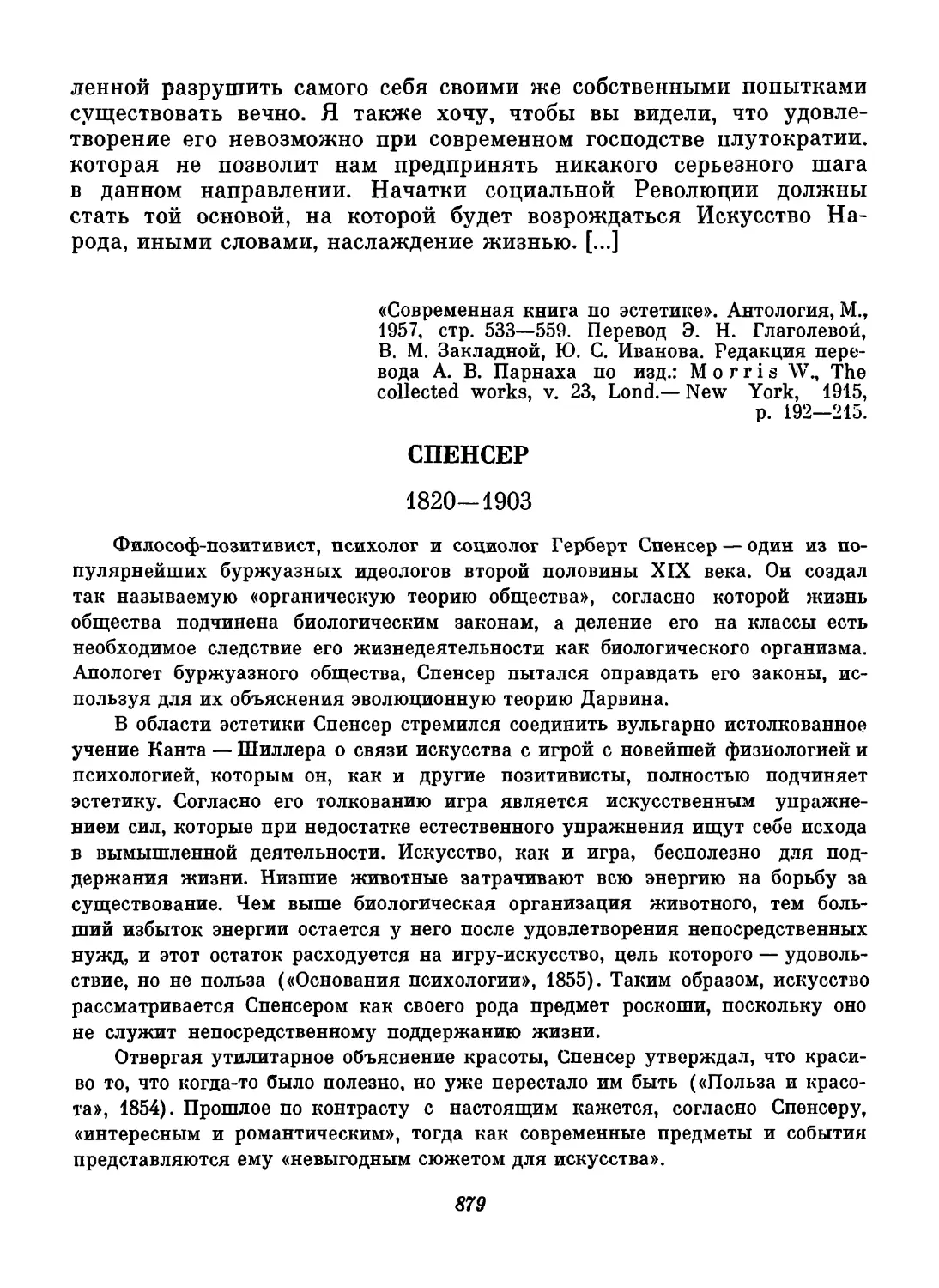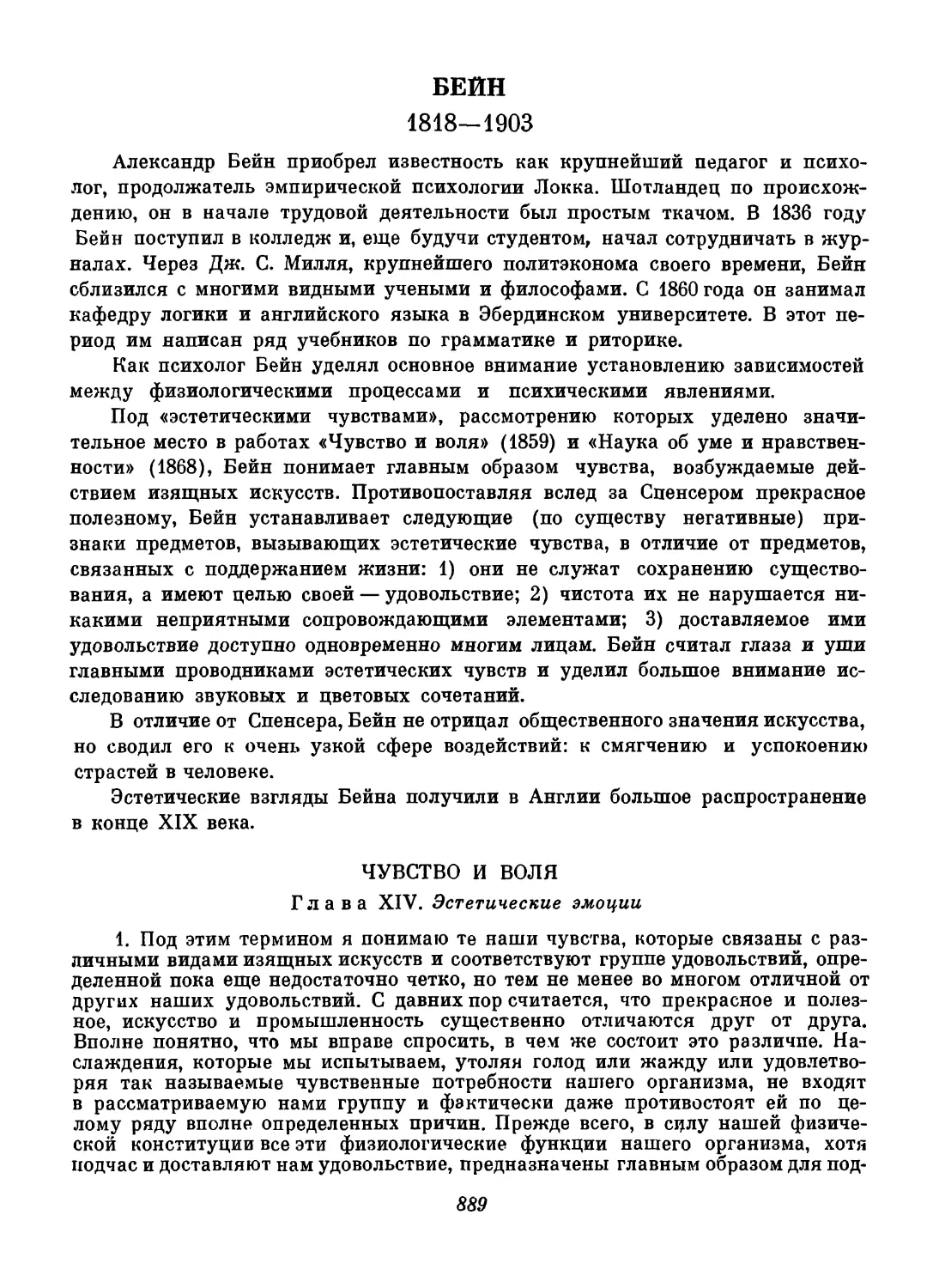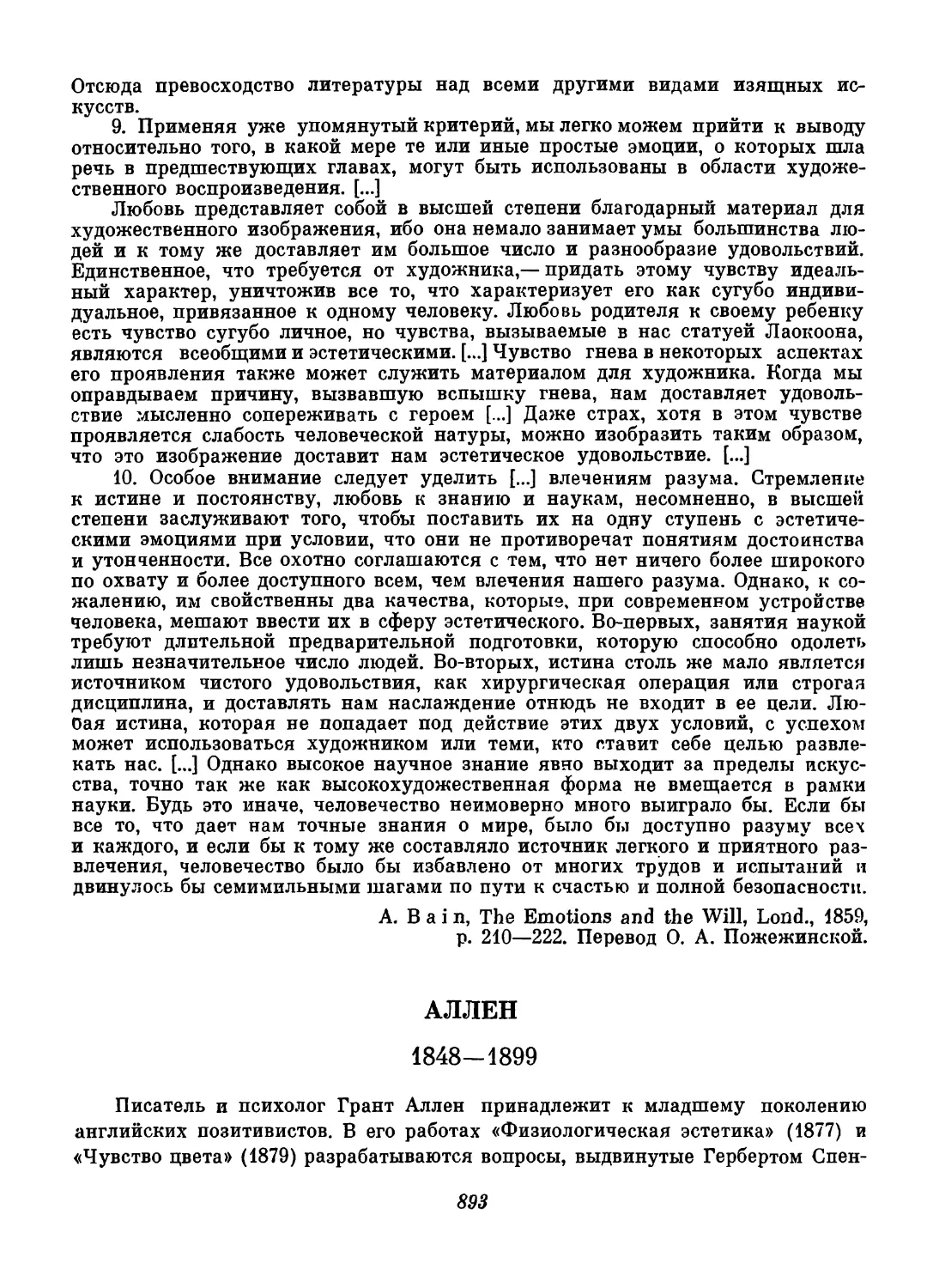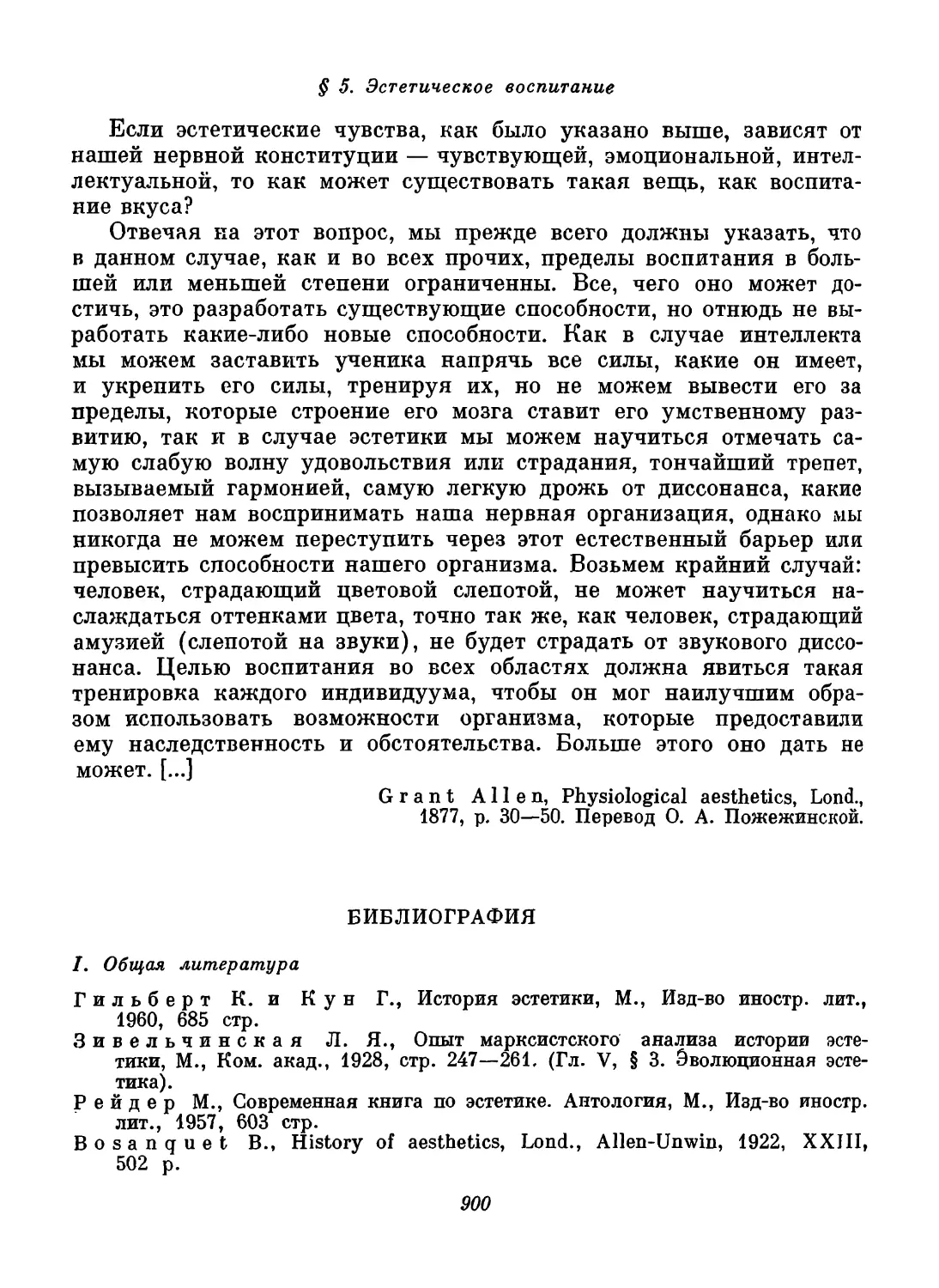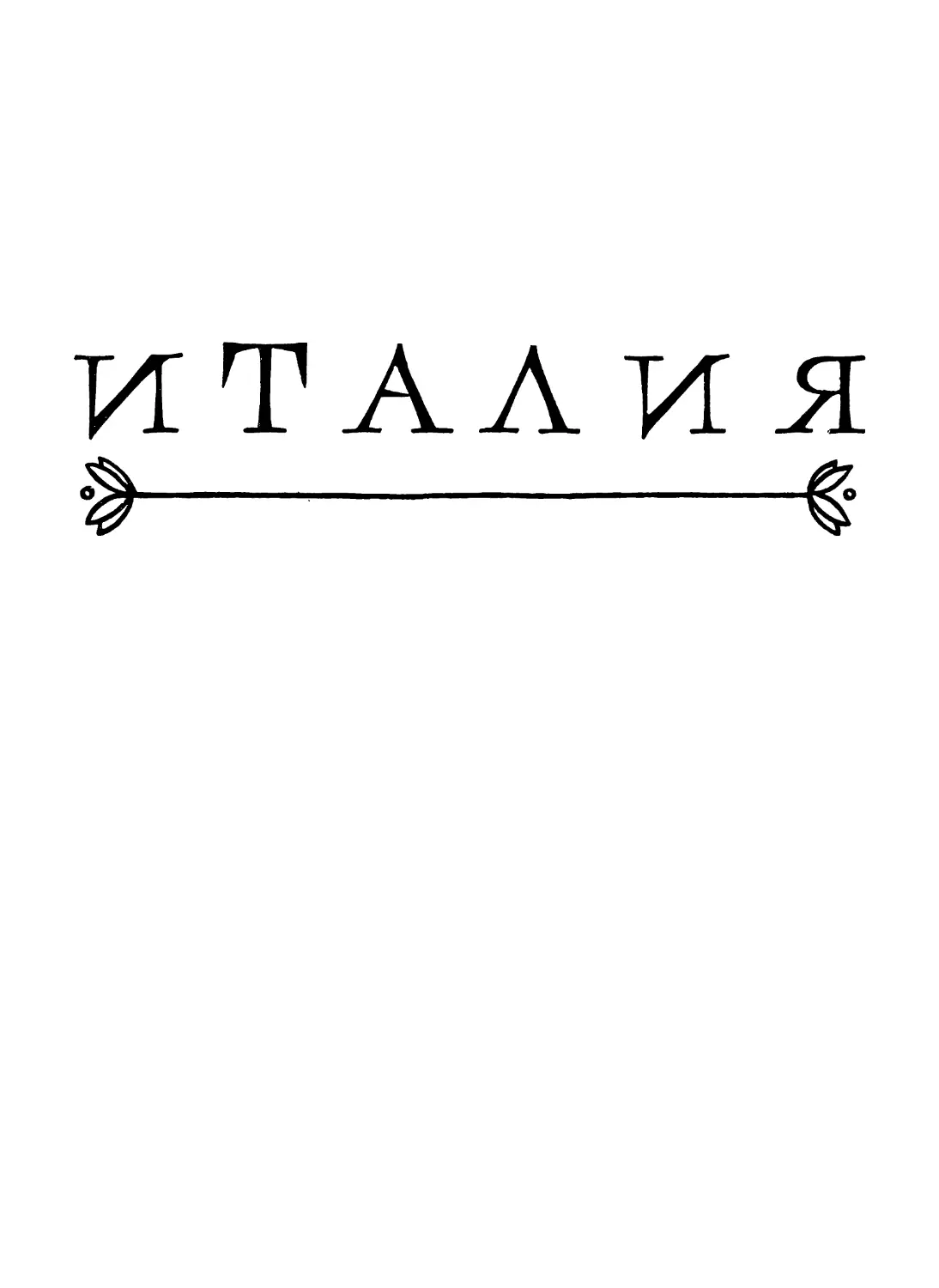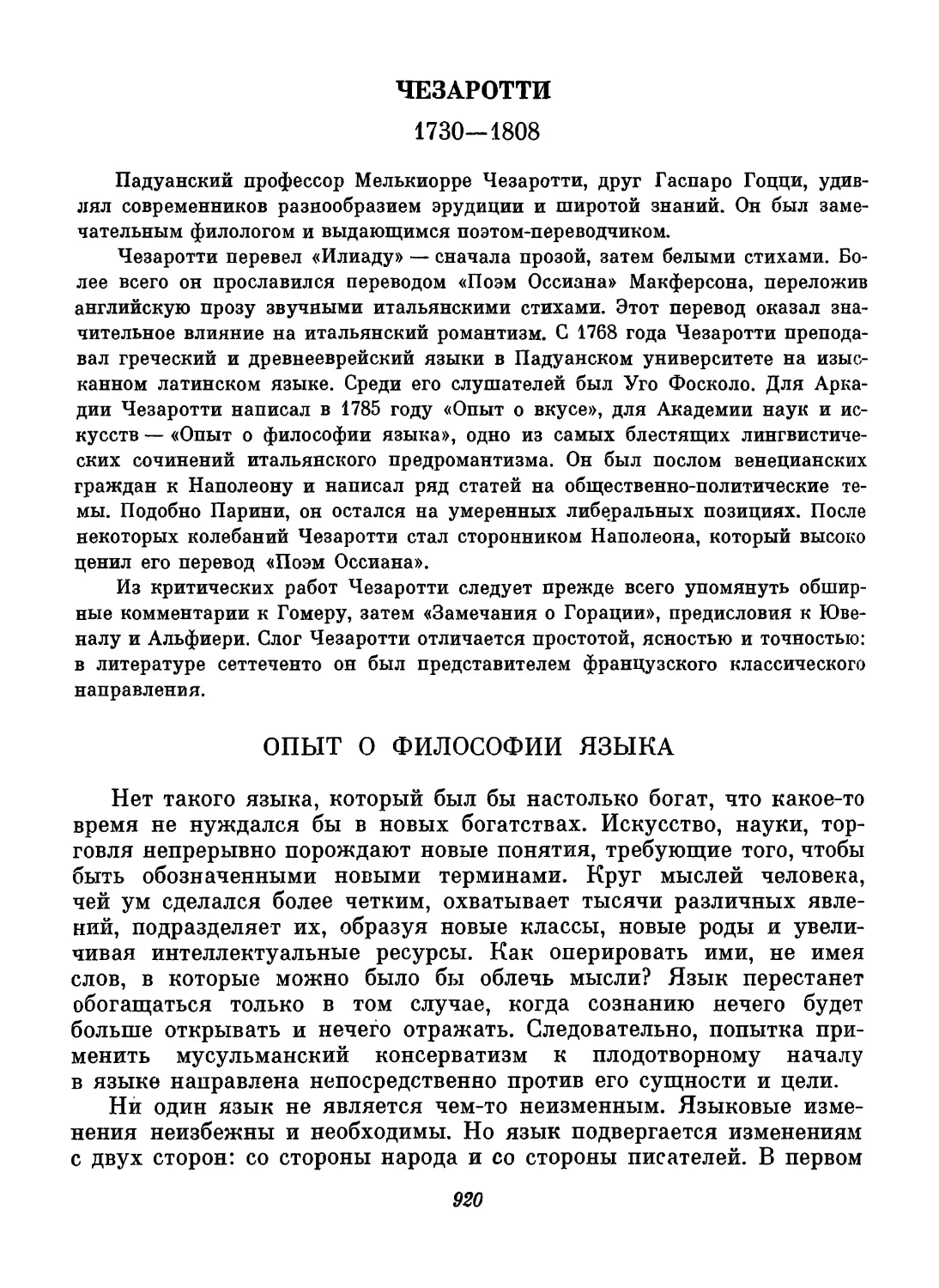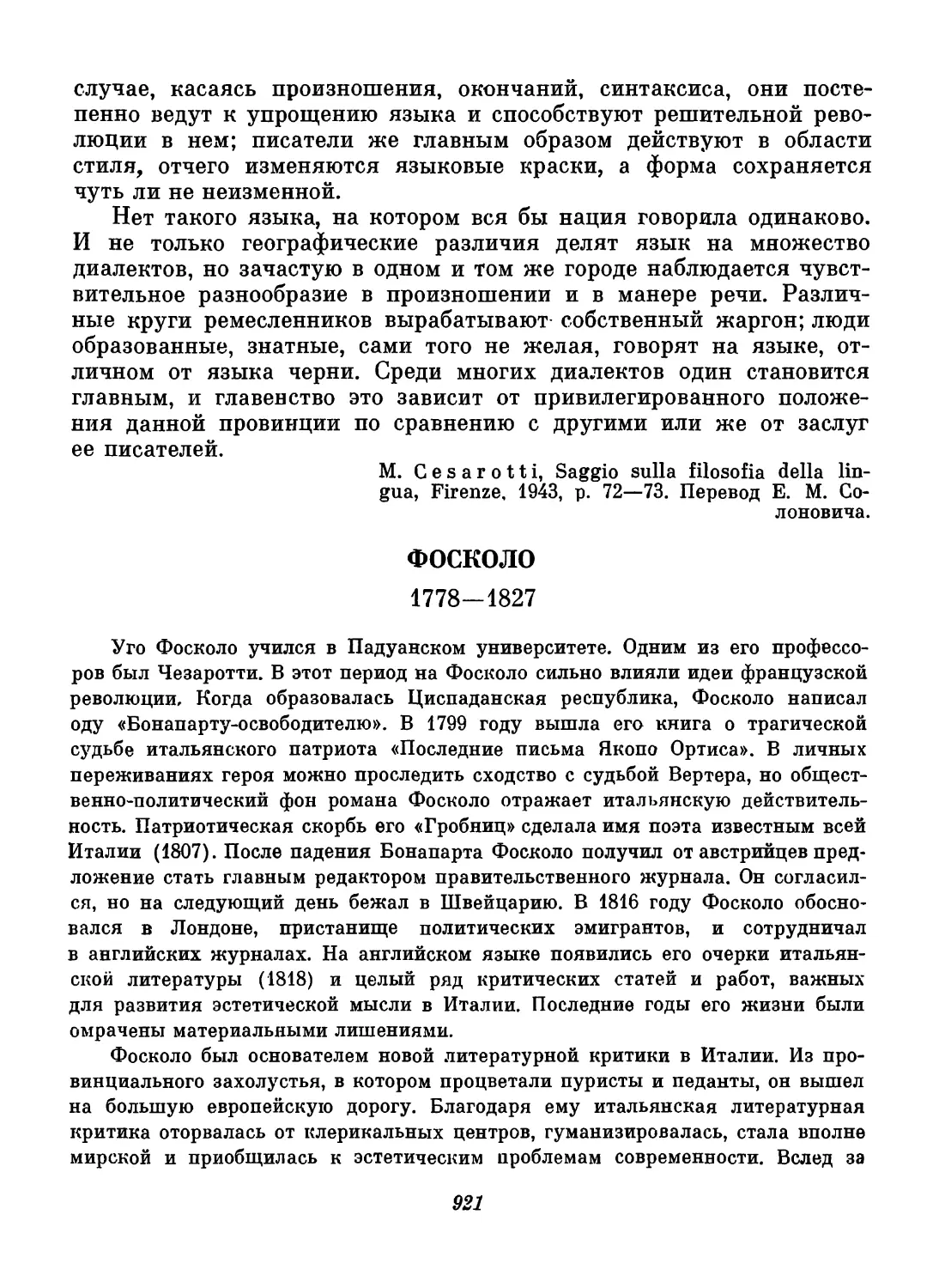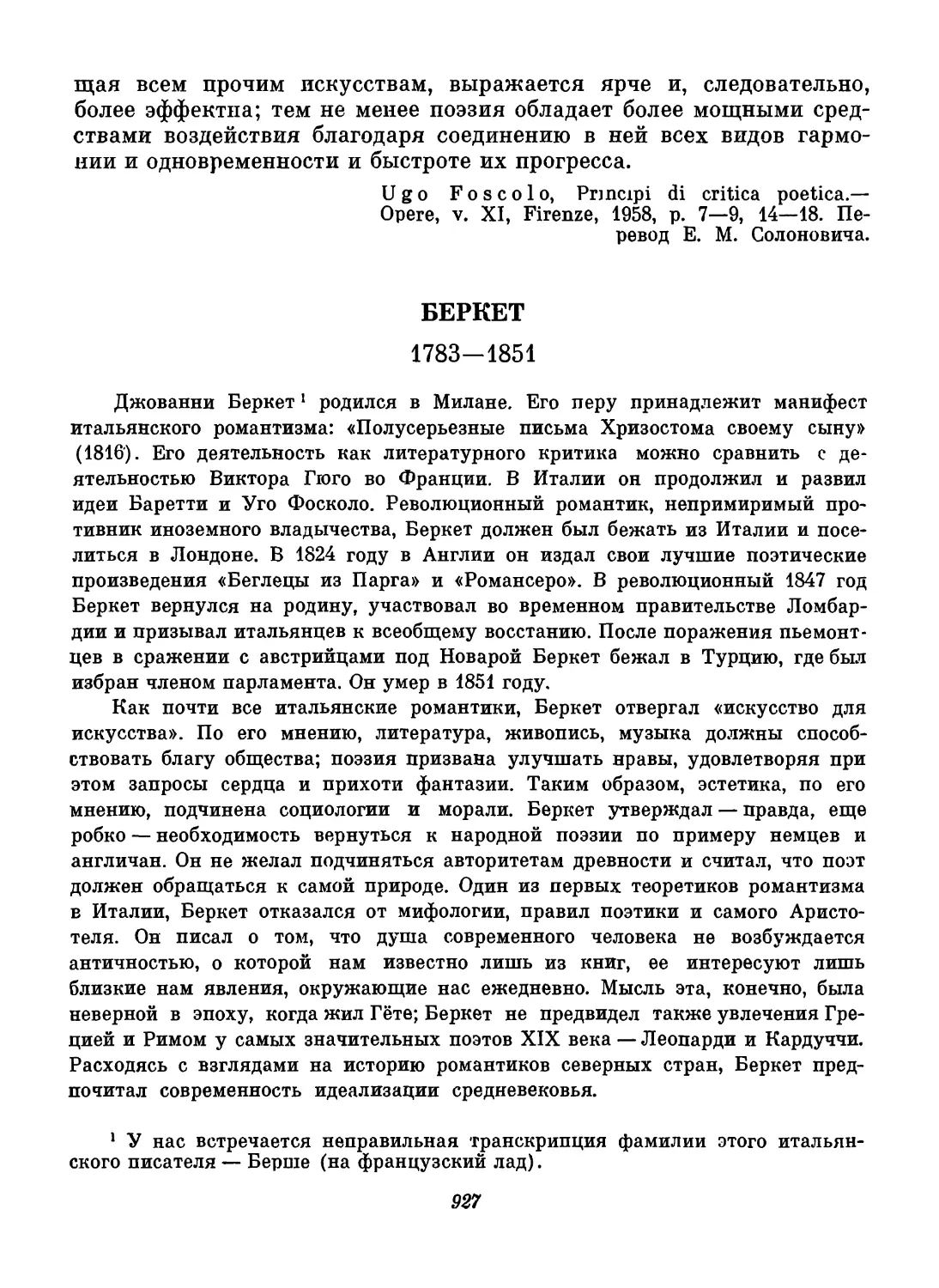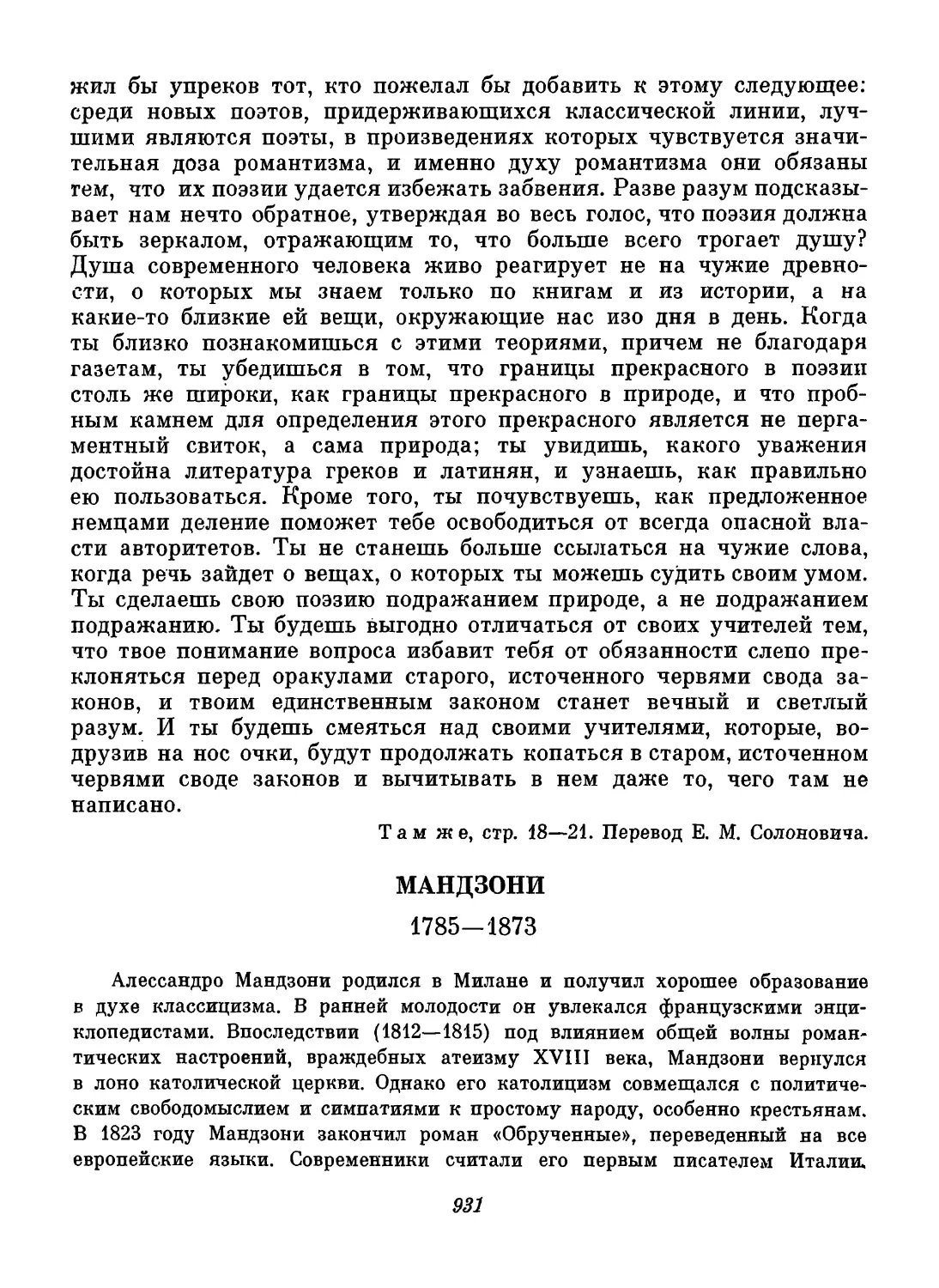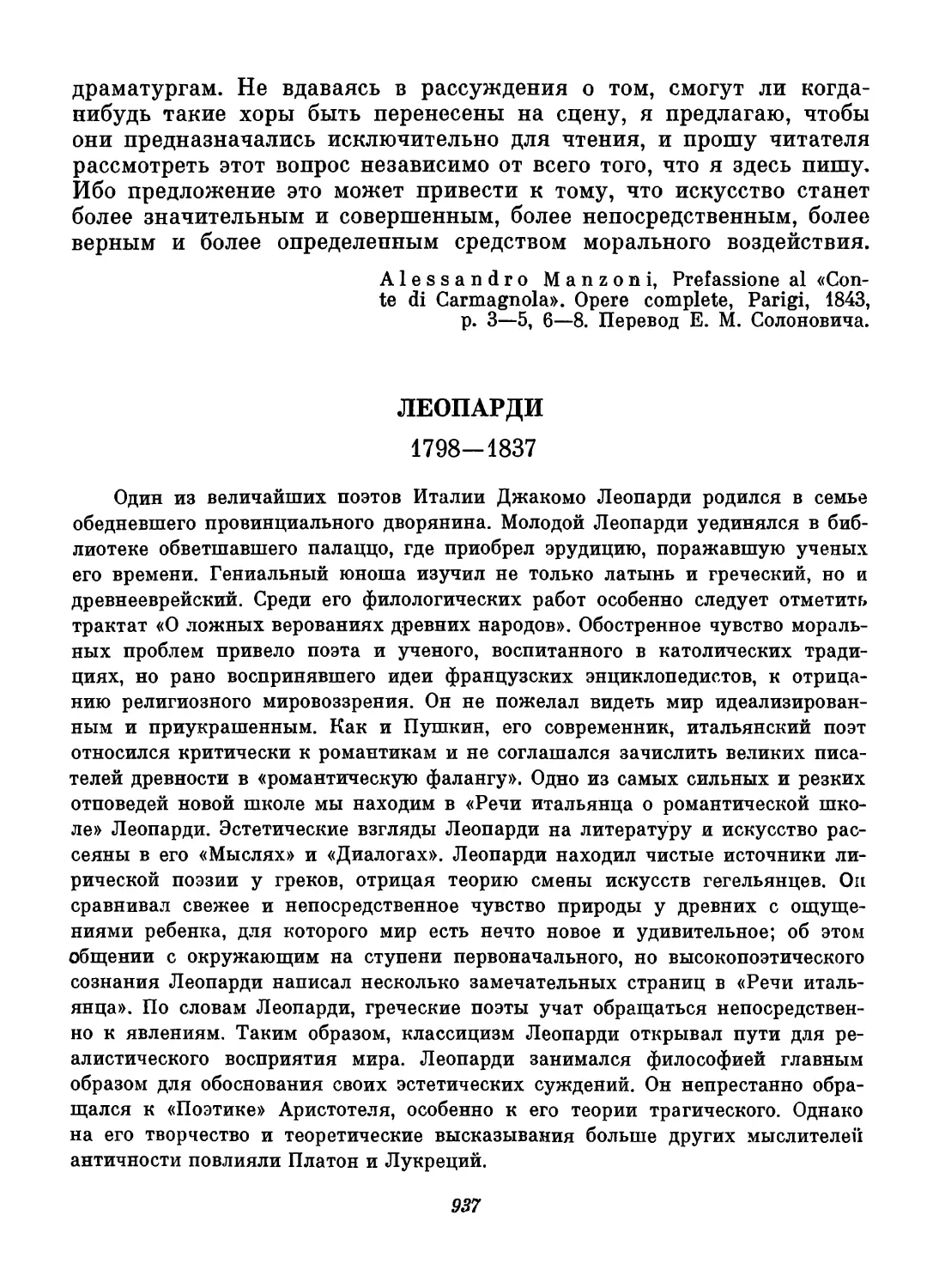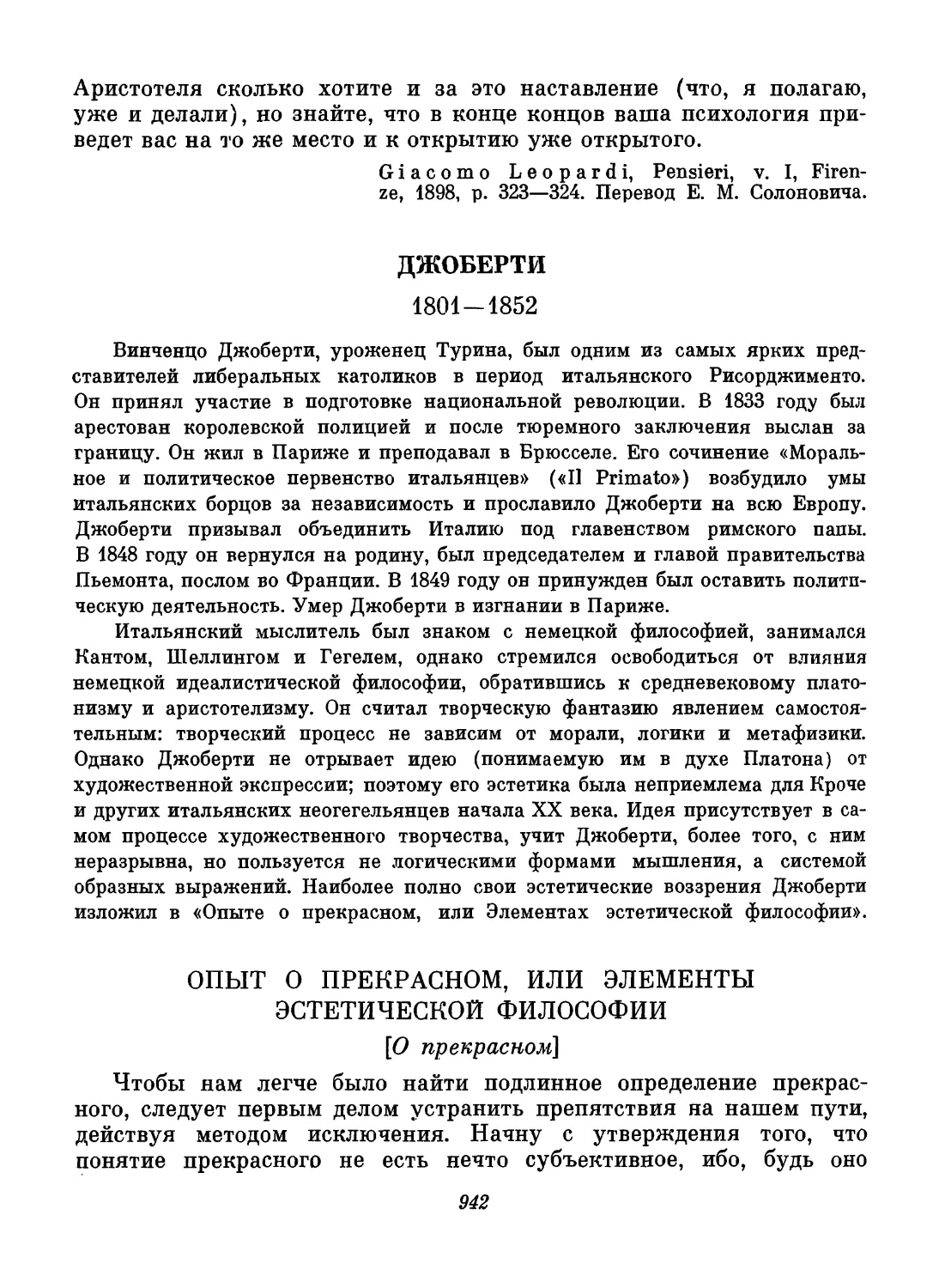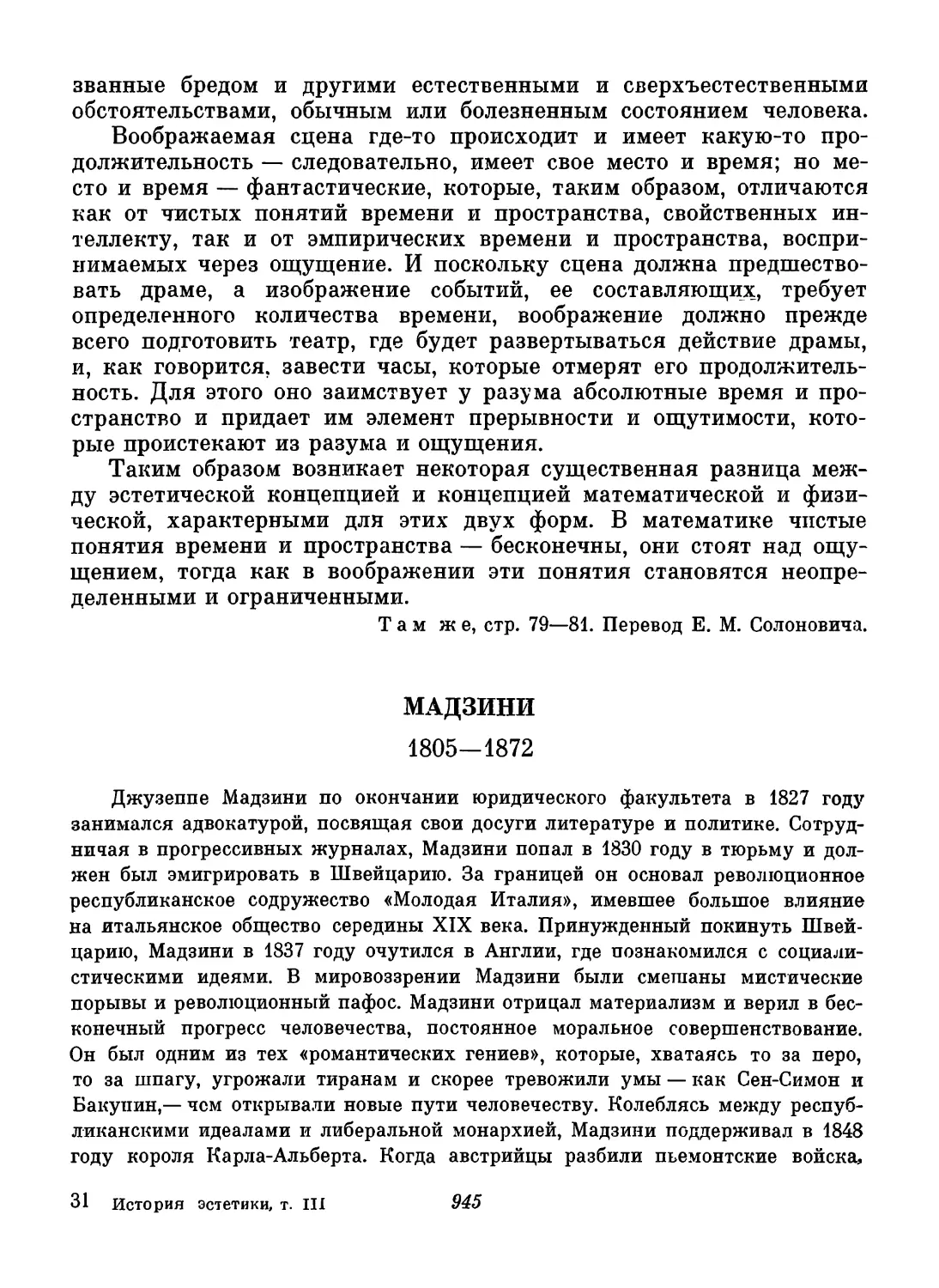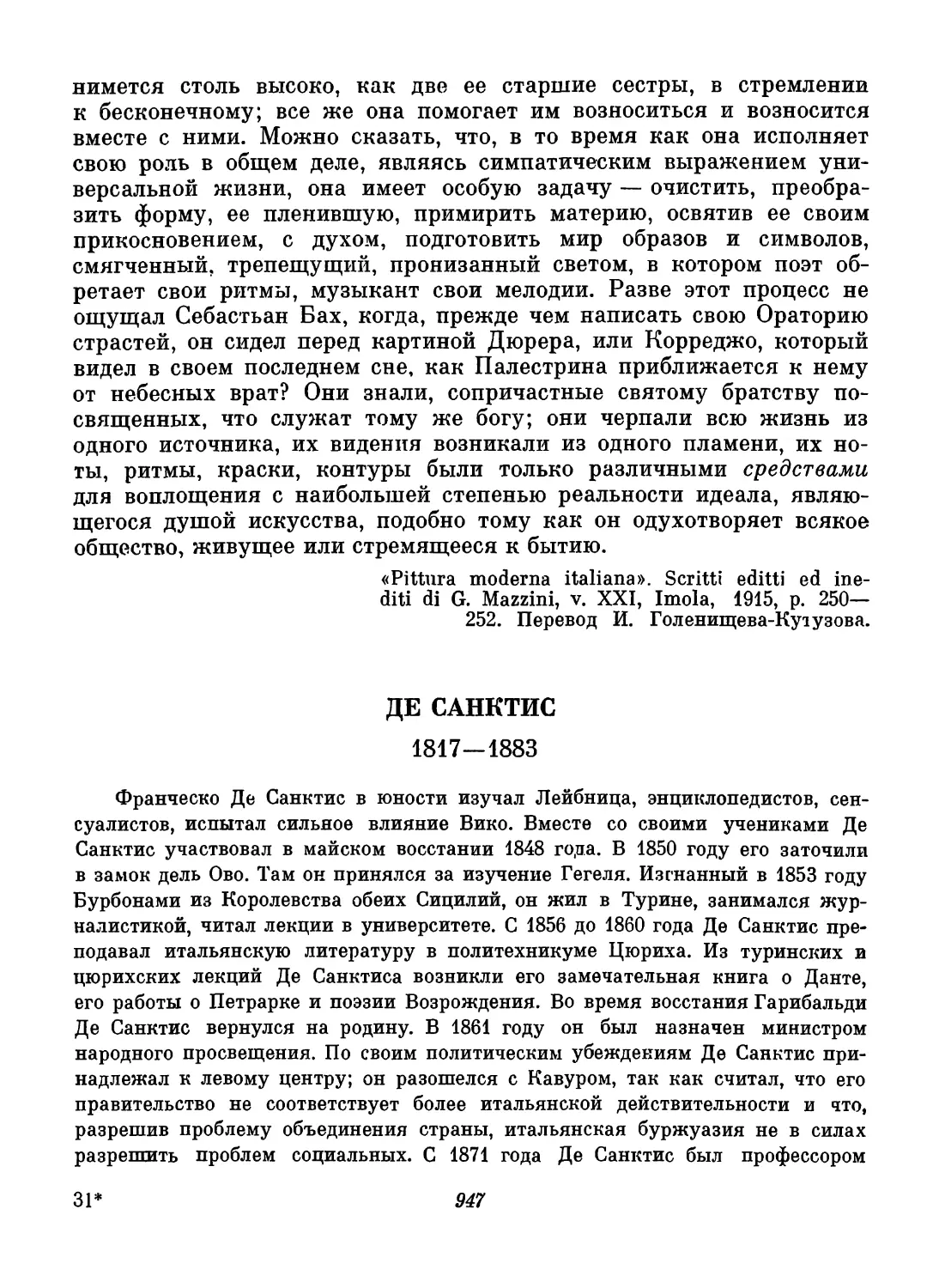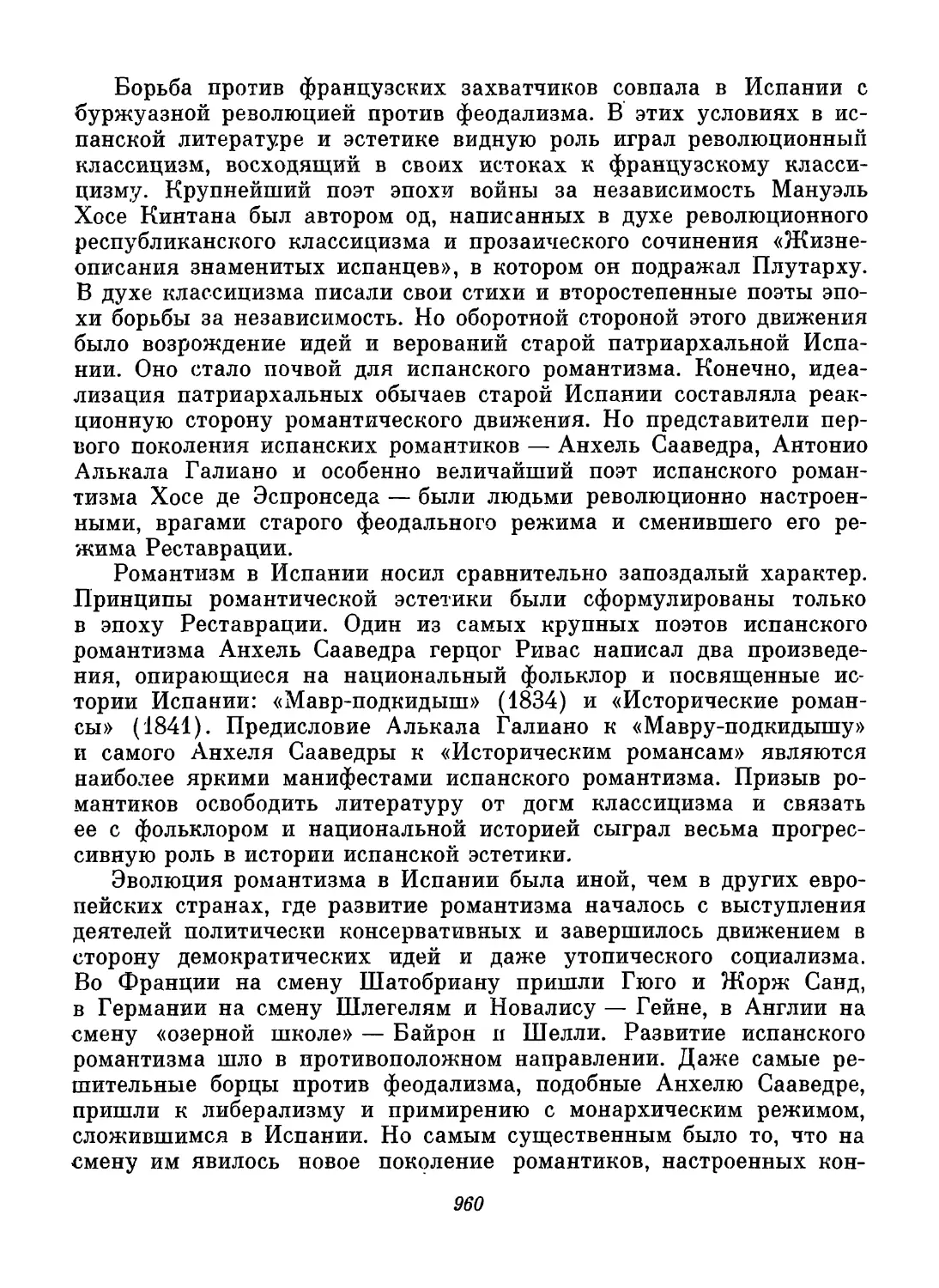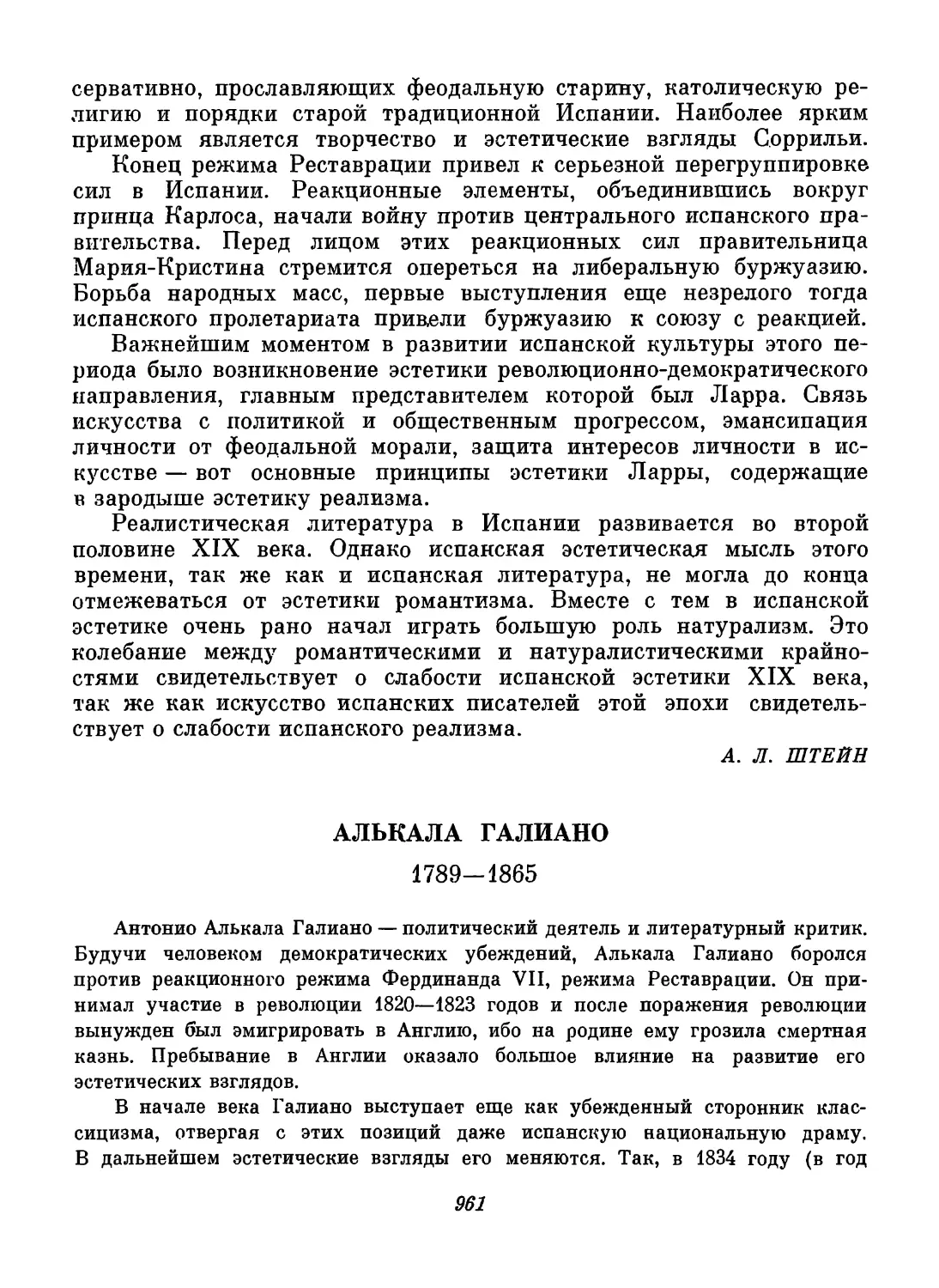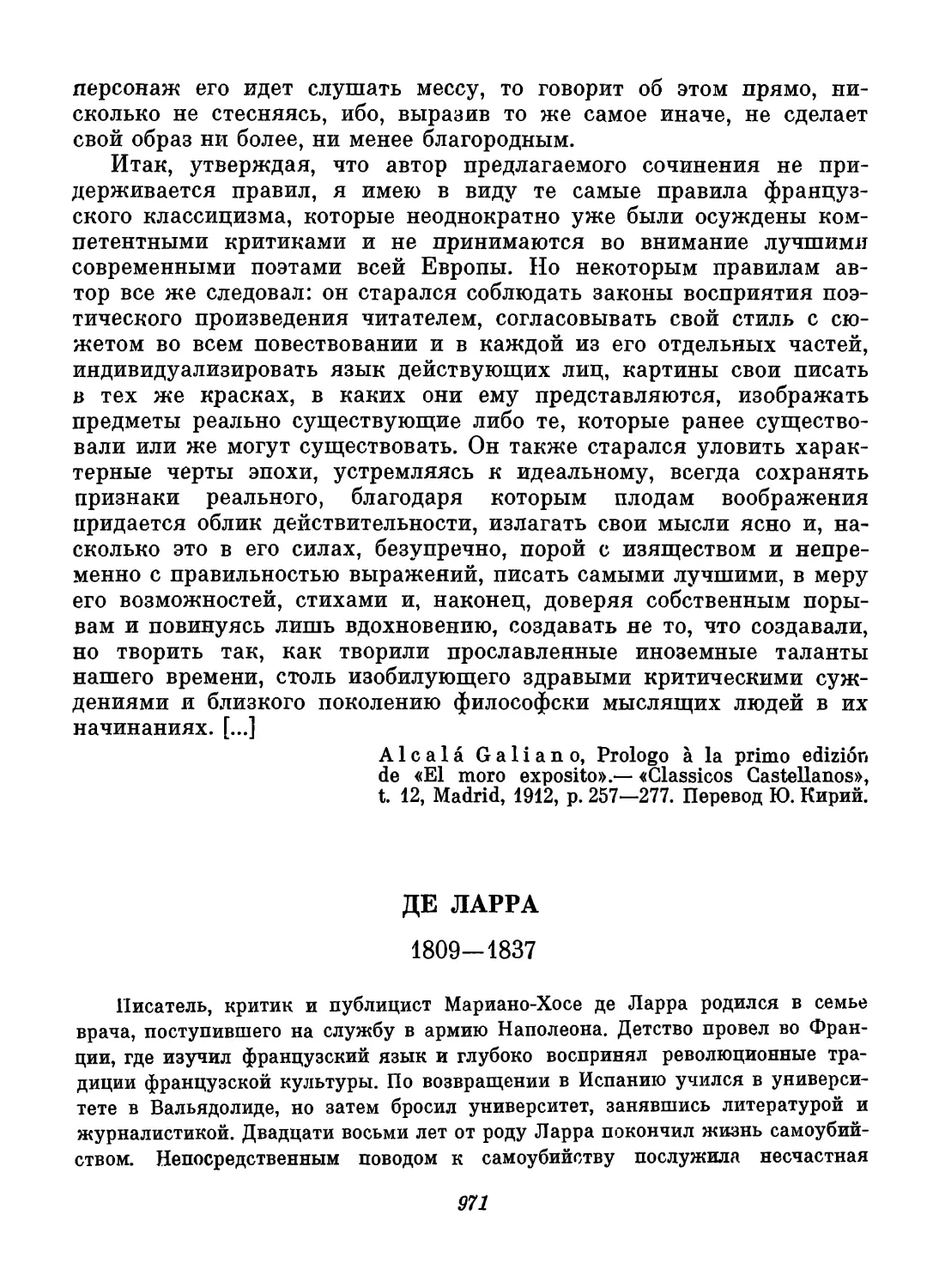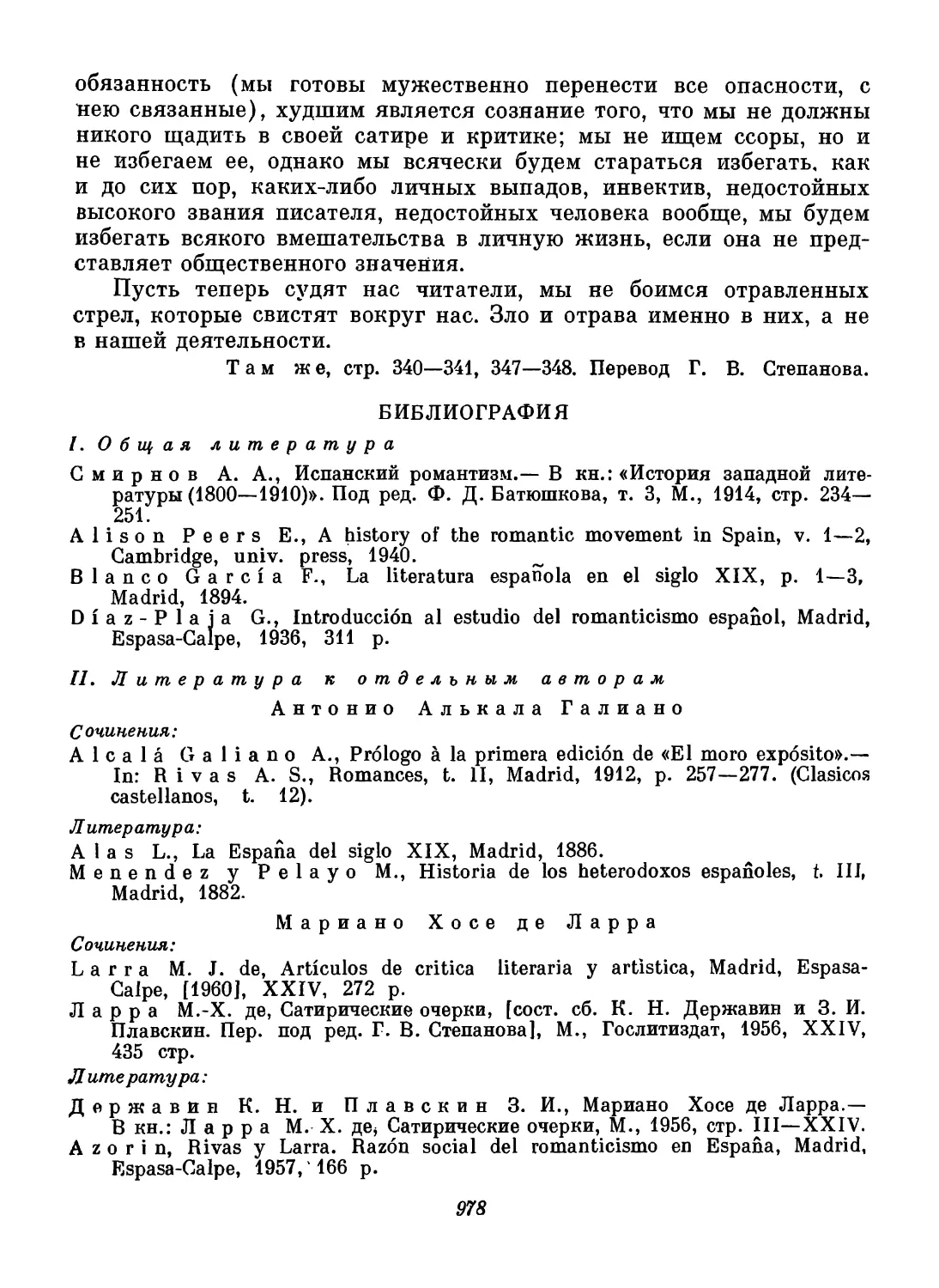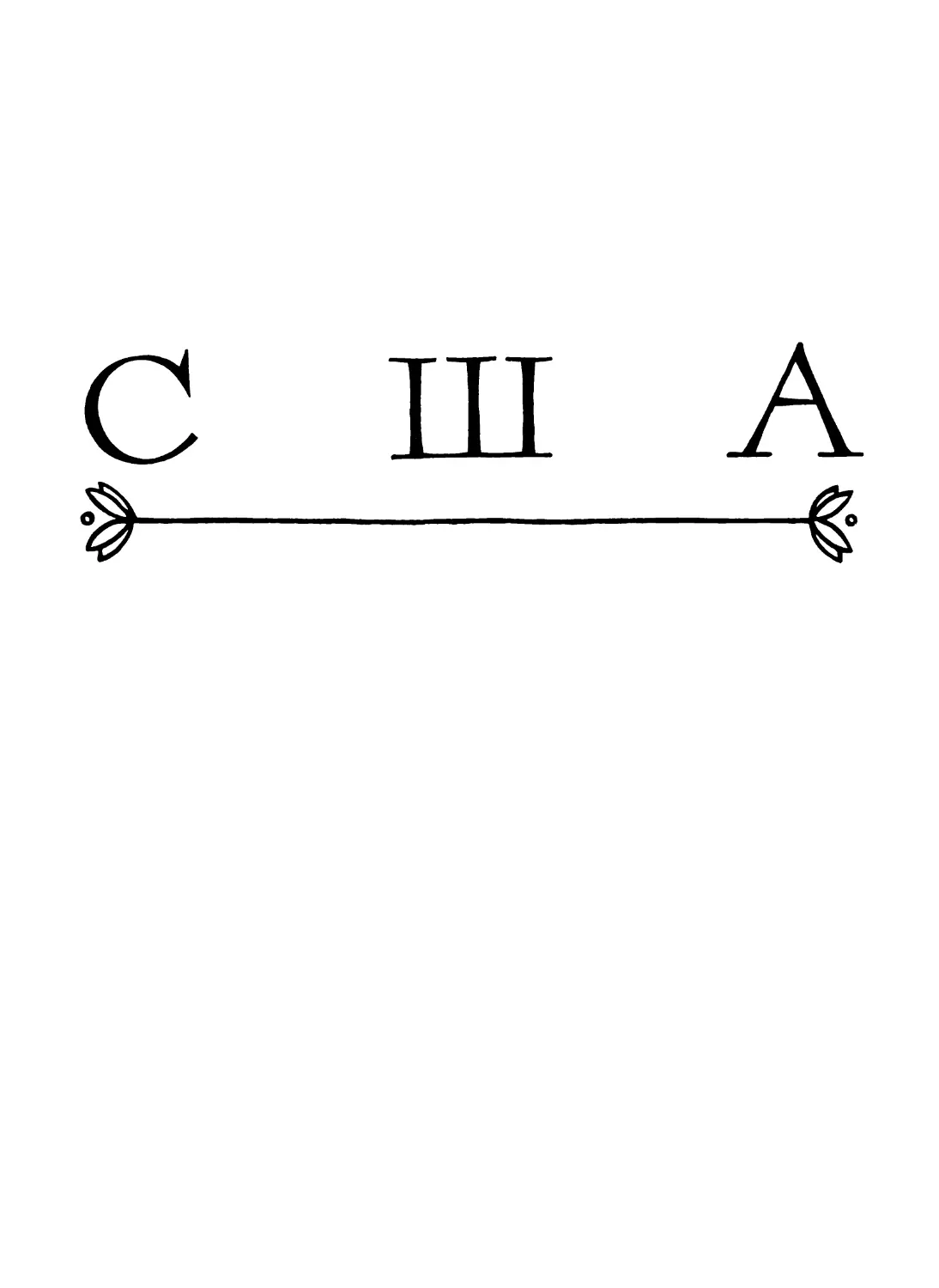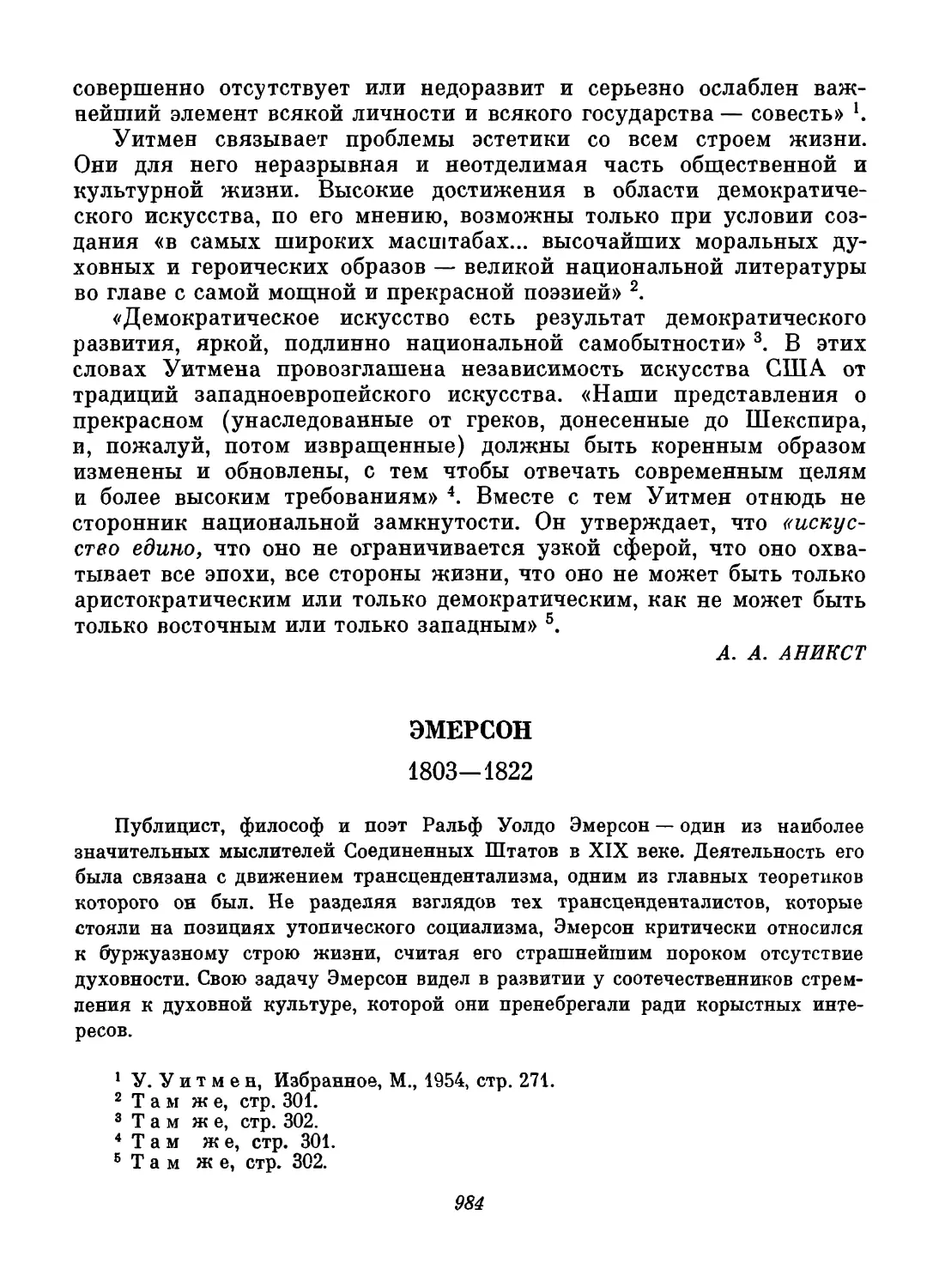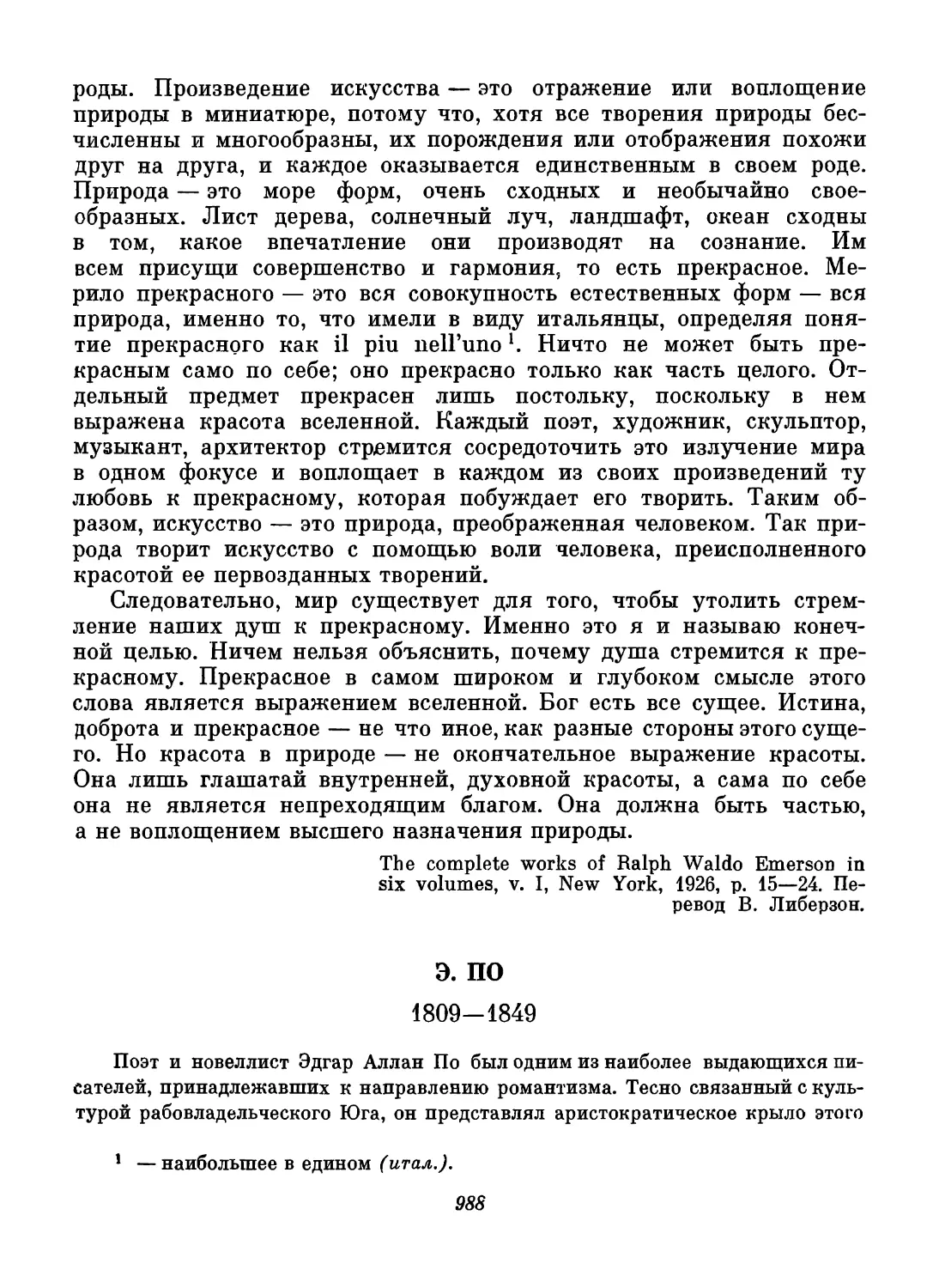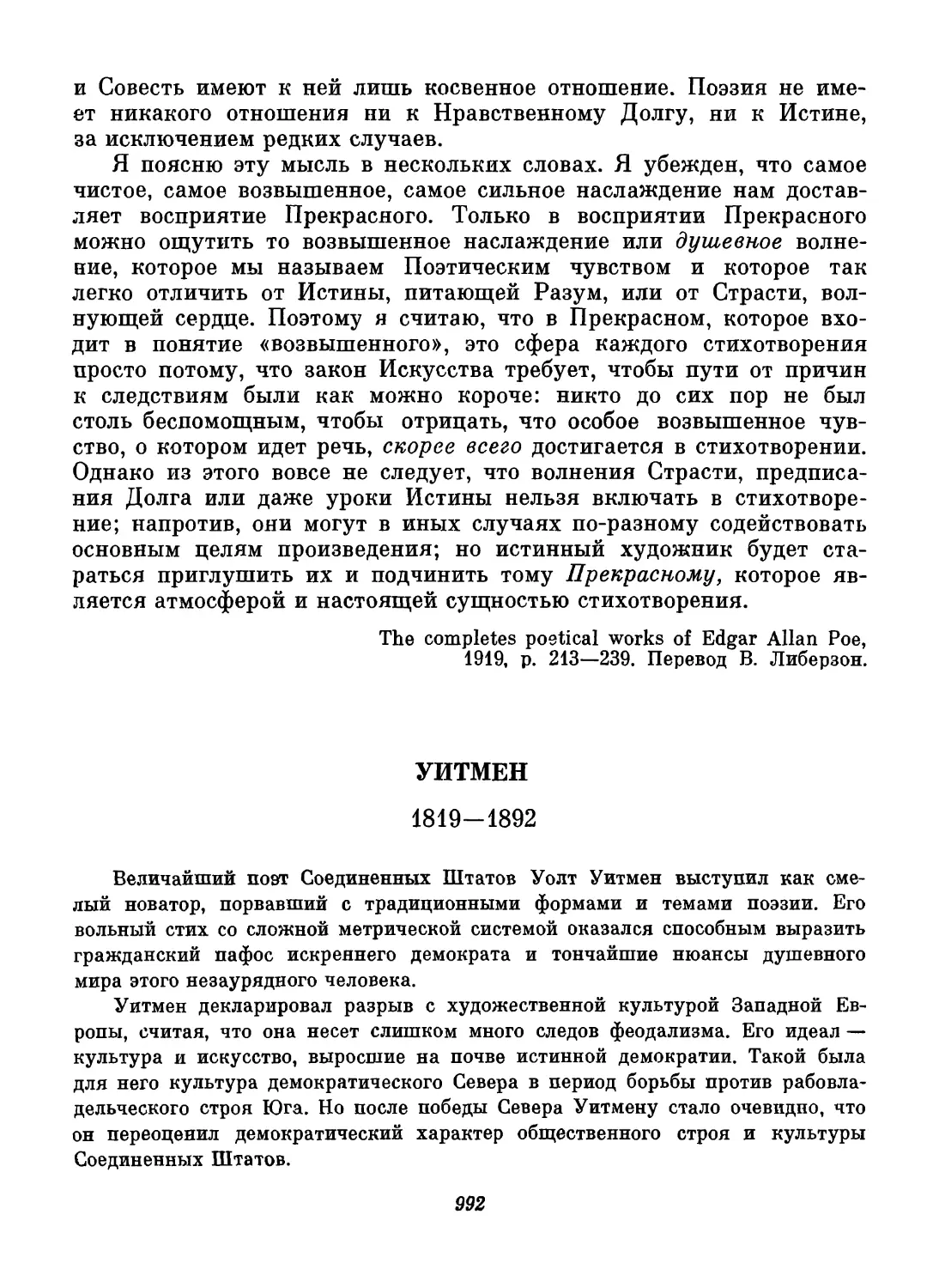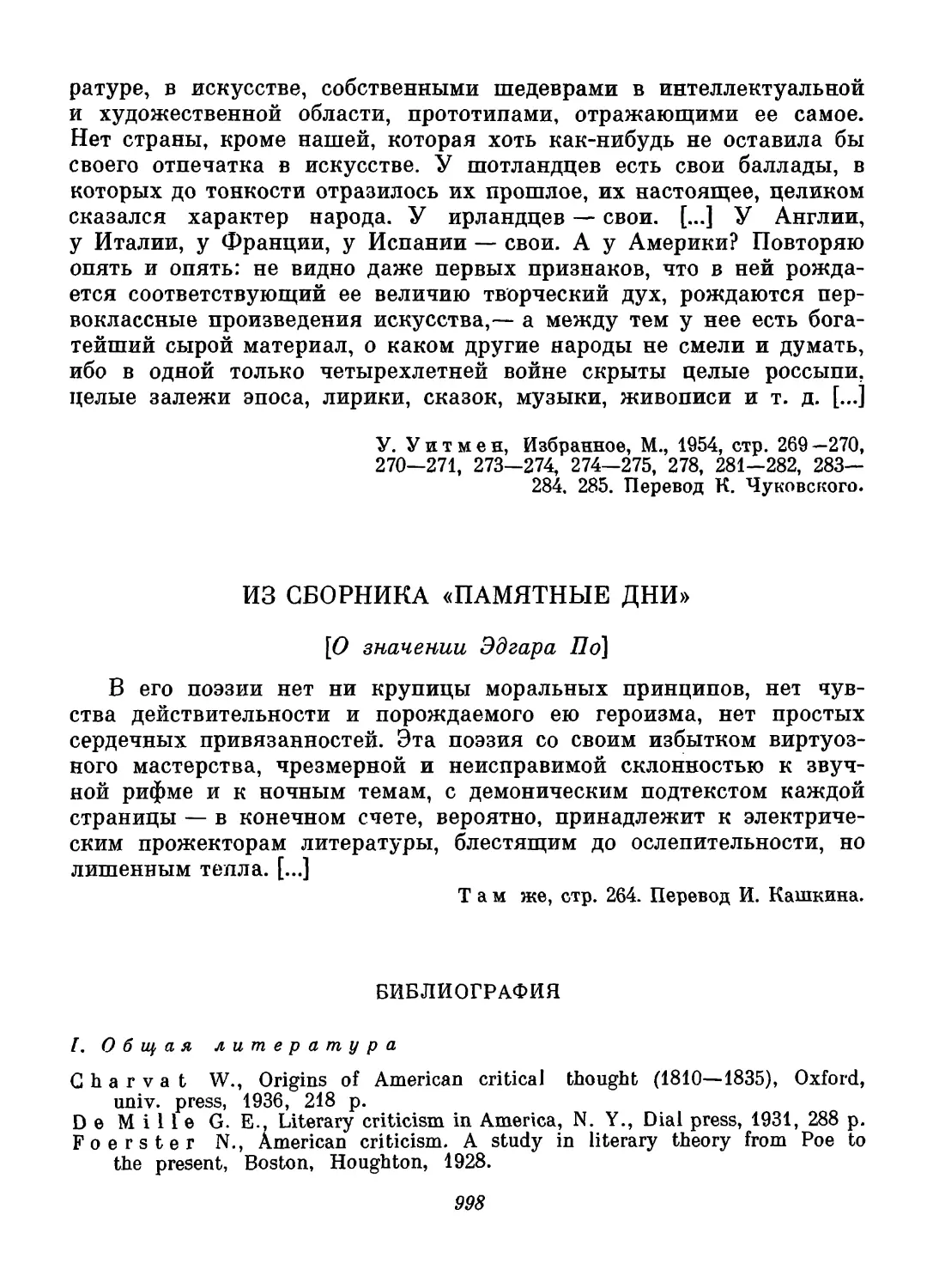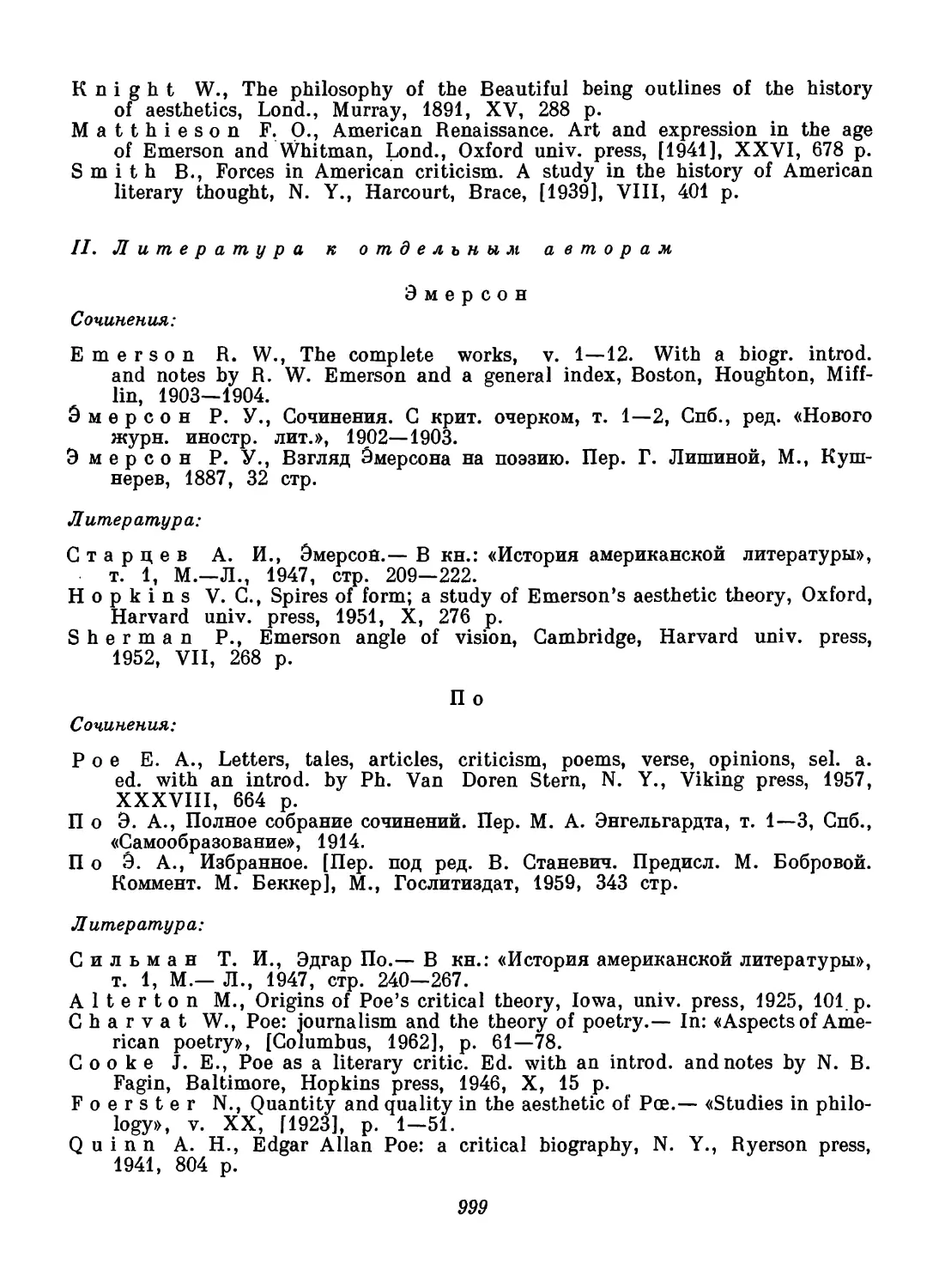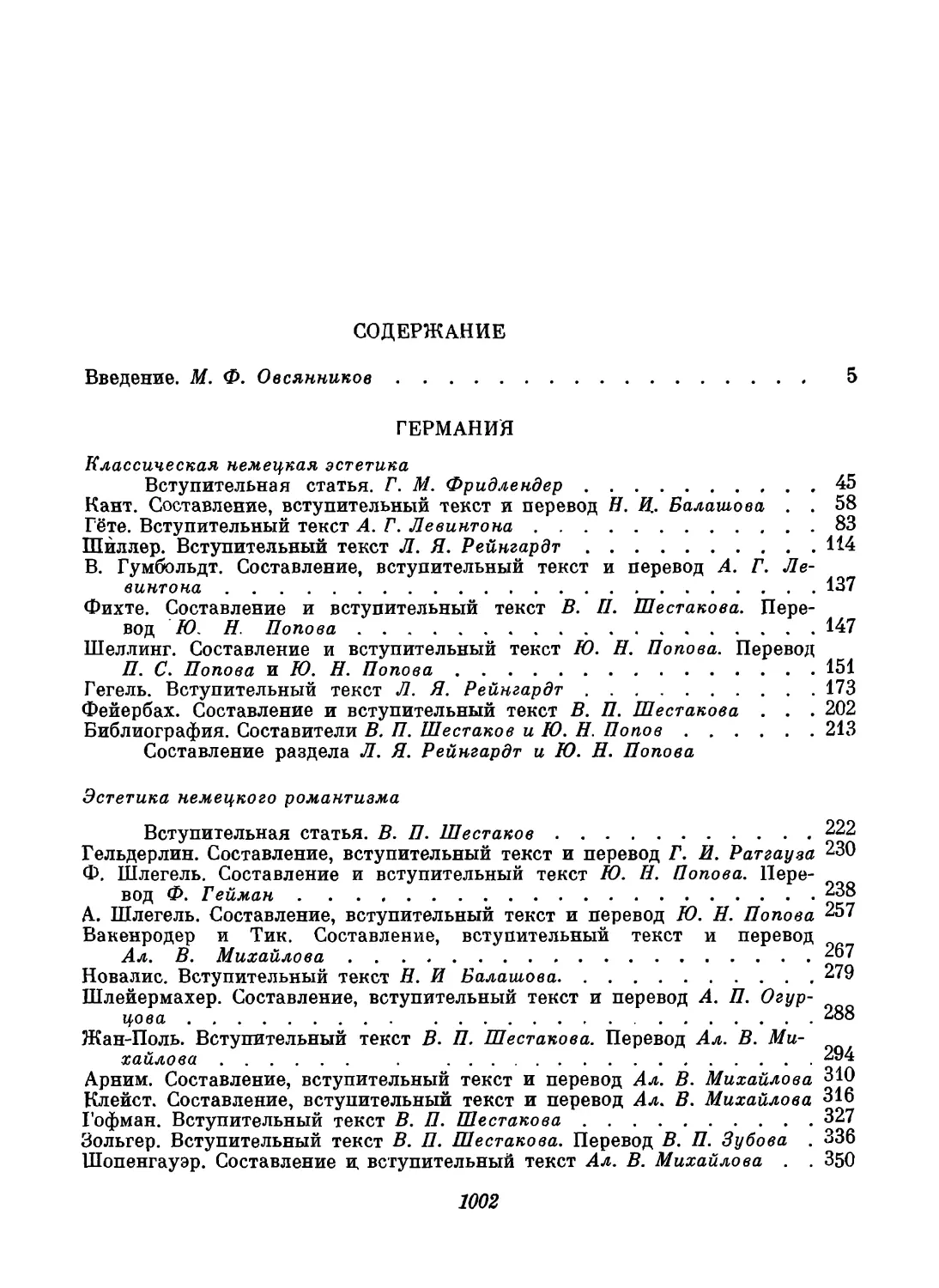Автор: Рейнгард Л.Я.
Теги: эстетика история эстетики эстетическая мысль эстетическое учение западная европа и сша
Год: 1967
Текст
Редактор-составитель III тома
Л. Я. РЕЙНГАРДТ
ВВЕДЕНИЕ
Окончательное утверждение капиталистического
способа производства в Европе и Северной
Америке, сопровождавшееся острой классовой
борьбой, многочисленными буржуазными
революциями и первыми массовыми выступлениями
пролетариата, является главной особенностью
исторического периода 1789—1871 годов.
В. И. Ленин в статье «Под чужим флагом»
писал, что это была «эпоха подъема буржуазии,
ее полной победы», «эпоха буржуазно-демократических движений
вообще, буржуазно-национальных в частности, эпоха быстрой ломки
переживших себя феодально-абсолютистских учреждений» Ч В 1830—
1840-х годах происходят первые массовые выступления
пролетариата: лионские восстания во Франции, чартизм в Англии, восстание
силезских ткачей в Германии. В революциях 1848—1849 годов
в ряде европейских государств, в частности во Франции, пролетариат
1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 126.
5
выступает как самостоятельная историческая сила. Вместе с
освободительным движением пролетариата возникает марксизм.
Напуганная размахом пролетарского движения, буржуазия идет
на компромисс с феодально-абсолютистскими силами. Этот поворот
буржуазии к реакции впервые четко обозначился после краха
буржуазно-демократических движений 1848—1849 годов. Буржуазная
идеология теперь все больше становится апологетической.
Окончательный поворот буржуазии к реакции совершается после
Парижской коммуны.
Развитие капиталистического способа производства в
европейских странах сопровождалось бурным развитием науки. С начала
века до 1860—1870-х годов европейская наука обогатилась
крупнейшими открытиями. К ним относятся атомистическая теория
Дальтона, «философия зоологии» Ламарка, теории биологического
развития Жофруа Сент-Илера, Кювье, Дарвина, закон сохранения
энергии Мейера, открытие спектрального анализа, открытие Леверье
планеты Нептун, опыты Пастера с самозарождением, исследования
по геологии Лайеля и т. д. Велики заслуги историков эпохи
Реставрации — Тьери, Минье, Гизо в развитии исторической науки. Все
это было подлинным триумфом науки, что не могло не сказаться по-
своему и на характере художественного мышления этого периода.
Первая половина XIX века ознаменовалась также развитием
утопического социализма. Р. Оуэн, Сен-Симон, Фурье дали
замечательный критический анализ капиталистического строя и выдвинули
планы общественного переустройства на принципиально новых
основах.
Огромные успехи наблюдаются и в развитии философской мысли.
Гегель сформулировал, хотя и на идеалистической основе, главные
принципы диалектического мышления, в трудах Гёте, Гейне,
Фейербаха формулируются принципы нового материализма, отличного от
материализма XVII—XVIII веков.
Высшим достижением культуры XIX века является марксизм,
возникновение которого было величайшим революционным
переворотом в науке. Марксизм критически переосмыслил и развил
дальше все лучшее, что было создано человеческой культурой на
протяжении ее многовековой истории.
Развитие эстетический мысли первой половины XIX века идет
сложным и противоречивым путем. Прежде всего необходимо
отметить необычайное многообразие форм, в которых развивается
эстетическая мысль этого периода.
В одних случаях эстетика оказывается частью философских
систем (Кант, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр) ; в других — она
получает самостоятельную разработку в виде законченных и разветвлен-
6
ных учений, относительно обособившихся от философии, хотя и
опирающихся на ту или иную философскую систему (Зольгер, Фишер);
в третьих — эстетика сливается с искусством и критикой, получая
разработку в трудах по теории и истории искусства, в критических
статьях и предисловиях к литературным произведениям, в
эпистолярном наследии и публицистике. Наконец, к XIX веку относится
и возникновение эстетики как позитивной экспериментальной
науки, опирающейся на естествознание, физиологию, психологию (Фех-
нер, Гельмгольц и другие).
Наряду со странами Центральной Европы значительный вклад
в разработку проблем эстетической мысли вносят также и страны
Восточной Европы. Появляются более или менее самостоятельные
эстетические теории и в Америке. На передовое место в середине
XIX века выходит Россия 1.
Интерес к эстетическим проблемам весьма расширяется и в
пределах каждой страны. Эстетические знания перестают быть делом
только ученых-профессионалов. В обсуждение эстетических проблем
активно включаются деятели искусства, критики, широкая
художественная общественность. Однако наряду с этой демократизацией
эстетических интересов широкое развитие получают элитарные
теории «чистого искусства». Это противоречие объясняется
противоположными тенденциями буржуазного общественного строя,
создающего, с одной стороны, всесторонние предпосылки для развития
художественного творчества, а с другой — обнажающего
враждебность капиталистического способа производства искусству и поэзии.
Наряду с распространением эстетики вширь происходит и
углубление ее проблематики. Так, наследие материалистической эстетики
XVIII века, с одной стороны, и диалектическая трактовка
эстетических категорий в немецкой философии начала XIX века — с другой,
подготовляют постановку и решение ряда основных проблем
марксистской эстетики. На новый уровень поднимается разработка
проблемы народности, которая многогранно раскрывается теперь в
связи с общественными движениями XIX века. Обнаруживается
внутренняя взаимосвязь народности и реализма. Решение эстетических
вопросов все более непосредственно связывается с практическими
потребностями развития искусства, и в движении абстрактных
категорий, в отвлеченно-теоретических построениях обнажается
реальная художественная борьба, порожденная развитием общества.
Конец XVIII века и почти вся первая половина XIX века
ознаменованы романтическим движением в странах Европы и Америки.
1 Развитию эстетической мысли России и стран Восточной Европы в
XIX веке будет посвящен IV том антологии.
Романтизм получает развитие в Германии, Франции, Англии,
Италии, Северной Америке, несколько позже в странах Восточной и
Юго-Восточной Европы.
Социальной основой романтизма является разочарование в
результатах французской революции и буржуазном прогрессе в целом.
Романтики обнаружили несоответствие между идеалами, которые
были сформулированы просветителями, и действительностью,
сложившейся в результате победы капиталистического способа
производства. По своей социальной направленности романтизм — явление
неоднородное. С одной стороны, в нем отразились реакционные,
консервативные тенденции (Новалис, бр. Шлегели в Германии,
Кольридж, Вордсворт в Англии, Шатобриан, А. де Виньи во
Франции), с другой — более передовые и даже революционные (например,
В. Гюго, Байрон, Шелли, Гейне и другие). Разумеется, такое
деление схематично, но все же оно отражает разные тенденции в
романтическом движении. При этом следует заметить, что во Франции и
Англии прогрессивная линия романтизма получила более четкое
и плодотворное развитие, чем в Германии. Романтизм нашел свое
выражение не только в искусстве и эстетике, но и в политических
теориях, философских и моральных концепциях, в исторической
науке и даже в образе жизни. Он захватил все виды искусства:
литературу, музыку, театр, живопись, скульптуру и архитектуру..
Мировоззрение романтиков характеризуется рядом общих черт.
Всем романтикам свойственна любовь к природе и стремление к
непосредственному постижению ее явлений. Очень характерны для
них идеи эволюции и историзма. Романтики стремятся к
схватыванию целого, их мало интересует детализация. Они придают
огромное значение интуиции и вдохновению, выступают против всяких
рационалистических правил и канонов как в мышлении, так и в
художественном творчестве. Их мало интересует причинная связь
явлений: они хотят прежде всего схватить то общее начало, которое
движет вещами, одухотворяет их. Романтики бесконечно ценят
искренность художника, его импульсивность, стихийное выражение
страсти. Разуму они противопоставляют эмоцию, чувство, системе
аргументов — свободную игру фантазии. Искусство, по их мнению,
должно уделять главное внимание индивидуально-конкретному, что
не мешает им, однако, часто впадать в дурную идеализацию, то есть
схематизм. Принципу подражания природе они противопоставляют
экспрессию. Внешний мир для романтиков часто выступает как
некоторая отправная точка для работы воображения, как толчок для
проявления ничем не ограниченной субъективной активности
художника. Таким образом, романтики сознательно выступают против
метода художественного творчества просветителей и ценят только
8
тех просветителей, у которых они видят нечто родственное (напри
мер, Руссо).
Критика метафизичности мышления просветителей и известной
абстрактности их общественных идеалов, констатация
противоречий буржуазной цивилизации — все это можно считать заслугой
романтиков. Однако собственная положительная программа
романтиков часто была смутной, неопределенной, их диалектика часто
переходила в релятивизм, а требования свободы в жизни и
искусстве оборачивались порой крайним индивидуализмом и
анархизмом. Романтики обогатили искусство новыми
изобразительно-выразительными средствами, однако эстетика романтизма не
смогла обосновать такого искусства, которое оказалось бы
способным дать целостную картину мира. Вместе с тем в ряде своих
положений романтики подготовили эстетику реализма, а некоторые
из романтиков вплотную подошли к реализму.
Высшим достижением буржуазной эстетической мысли XIX века
является эстетика классического реализма. Термин «классический
реализм» был введен в советской науке в 30-х годах М. А. Лифши-
цем, который справедливо отметил, что классическим мы называем
этот реализм в том же смысле, в каком мы говорим о классической
политической экономии или о немецкой классической философии.
Бальзак и Стендаль во Франции, Диккенс и Теккерей в Англии
являются представителями того буржуазного реализма, в котором
противоречия капиталистического общества нашли наиболее
глубокое раскрытие.
Зарождение классического реализма относится к 20-м годам
XIX века, а расцвет падает на 30—40-е годы. Переходной фигурой
в развитии от реализма Просвещения к классическому реализму
бесспорно является Гёте, позиция которого в отношении
современного ему буржуазного общества родственна позиции Гегеля. Оба они
отрицательно относились к романтикам, положительно оценивали
прогрессивную роль цивилизации и считали революционный процесс
в общем законченным. Революция 1830 года для них — всего лишь
эпизод. Однако и Гегелю и Гёте совершенно чуждо либеральное
преклонение перед буржуазным прогрессом. Они видят его
противоречия, мужественно вскрывают их и считают, что из критики
буржуазной прозы еще можно извлечь поэзию.
С этого начинают великие реалисты XIX века — Стендаль, Ме-
риме, Бальзак, Диккенс, Теккерей, Гейне, Пушкин, Гоголь,
которые сформировались как художники в послереволюционную
эпоху; в отличие от Гёте и Гегеля, сохраняющих более
оптимистический тон в оценке буржуазного прогресса, последующие
представители реализма XIX века подчеркивают его трагический характер.
в
Однако это не приводит их к романтическому неприятию
окружающего мира. Напротив, обращение к современной
действительности, стремление правдиво и глубоко отразить ее в своих
произведениях — их наиболее характерная черта. Самым подходящим для
них оказывается жанр социального романа, как, например, у
Бальзака или Диккенса. Стремление к монументальному
воспроизведению действительности, к широким философским обобщениям
присуще всем великим реалистам XIX века. Они используют
достижения естественных и общественных наук (обращение Бальзака
к трудам Кювье и Жофруа Сент-Илера, внимательное изучение
Стендалем философии и психологии того времени), чтобы глубже
проникнуть в сущность жизненных процессов. В отличие от
натуралистов они не отождествляют общественные закономерности с
природными. Когда Ф. Энгельс говорил о сущности реализма как о
правдивом изображении типичных характеров в типичных
обстоятельствах, то он прежде всего имел в виду реализм Бальзака и
Стендаля, Диккенса и Теккерея.
Отражение экономических, политических, нравственных
противоречий эпохи в типичных и вместе с тем индивидуализированных
образах — главное достижение классического реализма XIX века.
Реалисты этого типа показывают, как в определенных
обстоятельствах складываются характеры, как они развиваются, как в
конфликтах, столкновениях героев, в их психологии, чувствах,
неповторимо индивидуальных судьбах проявляются главнейшие тенденции
эпохи, основные ее противоречия. Классический реализм
одновременно был и гуманизмом. Своей беспощадной критикой
буржуазных порядков он расшатывал их и тем самым подготовлял почву
для победы новых исторических сил. Правда, положительные
идеалы великих реалистов были утопичны. Их наследие ценно главным
образом той мужественной правдой, которую они высказали об
окружающем обществе.
После революций 1848—1849 годов буржуазная идеология
постепенно клонится к упадку и все более приобретает апологетический
характер. Развитие буржуазного искусства и эстетики идет по
нисходящей линии. Даже Флобер, писатель бесспорно гениальный, не
был уже способен к таким синтезам, какие были по плечу Стендалю
и Бальзаку. В этот период складываются декадентские эстетические
теории: натурализм, символизм и т. п., свидетельствующие о том,
что буржуазия исчерпала свои творческие возможности.
Дальнейшее поступательное развитие эстетической мысли
связано с пролетарским движением. Уже в 1840-х годах складывается
марксистская эстетика. В «Экономическо-философских рукописях
1844 года», «Немецкой идеологии», «Святом семействе», «Комму-
Ю
нистическом манифесте», «К критике политической экономии», в
«Капитале» формулируются общие принципы диалектико-материа-
листической эстетики марксизма.
После этих предварительных замечаний необходимо кратко
остановиться на развитии эстетической мысли в Германии, Франции и
Англии. Более подробную характеристику отдельных эстетических
направлений и их представителей, а также характеристику
эстетической мысли других стран — Италии, Испании, Соединенных
Штатов Америки — читатель найдет во вступительных статьях к
соответствующим периодам и странам.
* * *
Развитие немецкой эстетики в конце XVIII — начале XIX века
носит сложный и противоречивый характер и отмечено
напряженной борьбой между просветителями и романтиками, между
романтиками и представителями классического реализма. Высшие
достижения немецкой эстетики этого периода составляют работы Канта,
Шеллинга, Шиллера, Гёте, Гегеля.
В философии Иммануила Канта — основоположника
немецкого классического идеализма — с предельной четкостью
отразилась противоречивость духовного развития Германии конца
XVIII — начала XIX века. С одной стороны — стремление связать
философию с современной наукой и преобразовать логику и
гносеологию в соответствии с новейшими научными данными, попытка
преодолеть метафизический взгляд на природу, опыт исследования
диалектических противоречий разума, подчеркивание высокого
достоинства человеческой личности. С другой — неверие в силу
познавательных возможностей человека, ограничение знания
религиозной верой, априоризм и субъективизм в теории познания,
формализм в этике и эстетике. Эта двойственность отразилась и на
исторической судьбе философии Канта: она оказала плодотворное
влияние на дальнейшее развитие науки, вместе с тем она же послужила
одним из теоретических источников идеализма и метафизики
современной буржуазной философии. Это полностью относится и к
эстетической системе Канта.
Впервые к вопросам эстетики Кант обратился в очерке
«Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» (1763),
написанном еще в традициях концепции просветителей. Кант
исследует здесь эстетическое чувство, исходя из свойств и задатков
человеческой природы. Он еще не разграничивает эстетические и
этические принципы, и это сближает немецкого философа с
эстетиками английского Просвещения.
11
Снова к проблемам эстетики Кант возвращается в «Критике
способности суждения» (1790) — сочинении, завершающем так
называемый «критический» период его философской деятельности, когда
Кант исследовал границы человеческого разума и возможности
познания и установил противоречие между миром «вещей в себе»
и миром явлений, областью природы и свободы. Кант надеется
преодолеть этот дуализм при рассмотрении суждений о
целесообразности, где открывается возможность мыслить закономерности природы
как согласующиеся со свободным полаганием целей.
Целесообразность может быть реальной, объективной, когда предмет
согласуется со своей сущностью или со своим назначением, и
формальной или субъективной, когда предмет согласуется с природой нашей
познавательной способности. В последнем случае он воспринимается
нами как прекрасный. Причиной эстетического удовольствия,
испытываемого нами от предмета, является гармония наших
познавательных способностей, возникающая в процессе игры рассудка и
воображения. В соответствии с этим в центре внимания Канта
оказывается анализ субъективных условий восприятия прекрасного. Для
него главный вопрос не «что такое прекрасное?», а «что такое
суждение о прекрасном?».
Кант стремится преодолеть как эстетический интеллектуализм
(Лейбниц, Баумгартен), так и эстетический сенсуализм (Локк,
Бёрк, Юм) и отграничивает эстетическое от всего того, что ему
родственно: от приятного, совершенного, доброго, полезного, истинного.
Согласно Канту, эстетическое удовольствие лишено интереса, то
есть не интересуется реальным существованием своего объекта, и
возникает в процессе бескорыстного наслаждения его формой. Оно
носит всеобщий характер, хотя и не основывается на понятии: это
не логическая всеобщность. Далее, в основе эстетического суждения
лежит чувство целесообразности объекта без какого-либо
определенного представления о его цели. И, наконец, оно является
необходимым, но это чисто субъективная необходимость.
Исходя из этих принципов, Кант должен был бы прийти к
выводу, что подлинная красота — это красота орнамента, узоров,
беспредметной игры форм и т. д. Однако Кант, наряду с такой
«свободной красотой», признает наличие еще «сопутствующей красоты»,
предполагающей понятие о совершенстве предмета, и говорит в
связи с этим об идеале. В истолковании идеала он вновь приходит
к просветительному сближению категорий эстетики и этики:
красоте он сообщает этический характер (глава «О красоте как символе
нравственности» ).
Кант отграничивает искусство от ремесла, ибо «первое
называется свободным, а второе наемным искусством, На первое смотрят
12
так, как будто бы оно вполне удается только как игра, то есть
занятие, которое приятно само по себе, а на второе так, что оно, как
работа, то есть занятие, которое само по себе неприятно (соединено
с трудом), заманчиво только по своему результату (например, по
вознаграждению) и может быть обязательно для кого-нибудь только
принудительно» 1. Это противопоставление труда игре,
встречающееся и в других местах «Критики способности суждения»,
содержит в зародыше основы той критики капиталистической формы
труда, которая будет в дальнейшем развита Шиллером и Гегелем.
Эстетическая концепция Канта получает дальнейшее развитие
в учении о гении как «прирожденной продуктивной способности
художника» 2, дающей правила искусству. Искусство, по мнению
Канта, действует закономерно без закона, намеренно без намерения.
Гений творит, повинуясь не правилам рассудка, а чувству
естественной внутренней необходимости, которая и выступает как закон
художественного произведения. Гений безусловно оригинален и
встречается только в искусстве: можно научиться тому, что изложил
Ньютон в своих принципах философии, но нельзя научиться
вдохновению. Деятельность гения сказывается не столько в выполнении
преднамеченной цели пластического изображения определенного
понятия, сколько в раскрытии «эстетических идей». «Под
эстетической идеей,— говорит Кант,— я понимаю то представление
воображения, которое дает повод много думать, хотя никакая
определенная мысль, то есть никакое понятие, не может быть адекватным ему
и, следовательно, никакой язык не в состоянии вполне до него
достигнуть и сделать его понятным» 3. Здесь Кант выступает против
рационализма Баумгартена, для которого искусство — это низший,
смутный способ познания совершенства и гармонии мира, а
художественный образ так же однозначен, как и понятие. По Канту,
эстетическая идея шире понятия, она многозначна. В преодолении
рационалистической узости в трактовке художественного образа
состоит громадная историческая заслуга Канта.
В силу крайней противоречивости эстетическая концепция Канта
с трудом поддается оценке. Обычно говорят, что формализм
восходит к Канту. Однако каждому ясно, что нельзя ставить знак
равенства между ним и действительными формалистами вроде Гербарта
или Циммермана, которые восприняли именно формалистические
стороны кантовской эстетики. Современники Канта (Гёте, Шиллер
и другие, за исключением Гердера) положительно оценивали
«Критику способности суждения», и для них она отнюдь не была
1 И. Кант, Критика способности суждения, Спб., 1898, стр. 173.
2 Τ а м же, стр. 178.
3 Там же, стр. 186.
13
апологией «чистого искусства». Вместе с тем идеалистические и
субъективистские стороны эстетики Канта послужили одним из истоков
последующих антиреалистических, субъективистско-формалистиче-
ских учений о художественном творчестве.
Громадный вклад в развитие не только немецкой, но и мировой
эстетической мысли внес корифей немецкой литературы,
выдающийся мыслитель-энциклопедист Иоганн Вольфганг Гёте.
Эстетическая концепция Гёте классического периода, сложившаяся
в 1790-х годах, связывает основные проблемы искусства с
важнейшими вопросами эпохи. Мысль о том, что жизнь определяет
искусство, его содержание и форму, расцвет и упадок, красной нитью
проходит через теоретические работы Гёте и через его
художественные произведения, где так или иначе затрагиваются эстетические
проблемы. «Значительное произведение, как и значительная речь,—
говорит он в статье «Литературное санкюлотство»,— лишь
результат житейских обстоятельств; писатель точно так же, как и человек
действия, не создает тех условий, среди которых он родился и в
которых протекает его деятельность. Каждый, даже величайший гений,
в некоторых своих произведениях терпит ущерб от своего века и,
напротив, при известных обстоятельствах от него выигрывает.
Превосходного национального писателя можно ожидать только от
стоящей на определенном уровне нации» 1.
Требуя от художника придерживаться природы, Гёте вместе
с тем был против того, чтобы «рабски копировать все буквы из
великого букваря природы»2. Искусство по своей природе требует
обобщения, которое, однако, не должно становиться аллегорией, где
«частное имеет значение только примера, только образца
всеобщего». «Поэзия называет частное, не думая о всеобщем и на него не
указуя. Но кто живо воспримет изображенное ею частное,
приобретет вместе с ним и всеобщее, вовсе того не сознавая или осознав это
только позднее» 3. В гносеологической трактовке художественного
образа Гёте всецело опирается на материалистическую традицию
французского Просвещения, в частности на эстетические положения
Дидро.
Гёте неоднократно говорил о том, что художник должен быть
учителем народа, ибо подлинное искусство выполняет свое
назначение лишь тогда, когда побуждает человека к активному действию
во имя утверждения в жизни истины, добра и красоты. Правда, Гёте
не понимал, что эти великие принципы могут быть утверждены в
1 Гёте, Собрание сочинений в 13-ти томах, т. X, М., 1937, стр. 405.
2 Τ а м же, стр. 400.
3 Τ ам же, стр. 715.
14
жизни только через социальную революцию. Он не мог до конца
возвыситься над «немецким убожеством» и иногда склонен был к
примирению с действительностью. Но нам близки и дороги
страстная тоска Гёте но цельной, гармонично развитой личности, его
поиски путей к красоте и правде жизни, его вера в безграничные
творческие возможности человека.
Выдающуюся роль в развитии немецкой классической эстетики
сыграл великий национальный поэт, драматург и мыслитель
Германии Фридрих Шиллер. Своеобразие Шиллера как
мыслителя заключается в том, что в своем философском развитии он
отходил от материализма просветителей, в отличие, например, от Лес-
синга и Гердера, которые, напротив, приближались к
материалистическому пониманию действительности. Но одновременно с ростом
идеалистических тенденций у Шиллера постепенно складываются
элементы идеалистической диалектики и историзма. Так, в
«Философских письмах» (1786) он высказывает мысль о том, что разум
«имеет свои эпохи», что нет раз и навсегда фиксированной
противоположности между истиной и заблуждением, что прежде чем дойти
до истины, человечество должно «исчерпать заблуждение — а часто
бессмыслицу» 1.
Основные эстетические труды Шиллера написаны им в период,
когда он отказывается от мысли о возможности революционного
переустройства общества. Чтобы установить государство свободы, надо
сначала путем «эстетического воспитания» восстановить «цельность»
человеческого характера: только путем красоты можно достичь
свободы. Эти утопические идеи изложены Шиллером в «Письмах об
эстетическом воспитании человека» (1793—1794), где проблемы
эстетики связываются с важнейшими вопросами эпохи.
Характеризуя современную эпоху, Шиллер говорит, что «польза» стала
«великим идолом времени», что теперь «духовные заслуги искусства не
имеют веса»2, что современное общество привело человека к
«одичанию» и «расслабленности». Особенно пагубно отразилось на
человеке разделение труда: «Вечно прикованный к отдельному малому
обрывку целого, человек сам становится обрывком»3, перестает
быть целостной индивидуальностью. Современное общество, говорит
Шиллер, у одного «чтит» рассудок, у другого лишь память, у
третьего только «механическую ловкость».
Каким же образом можно восстановить раздробленность
человеческого характера и вернуть ему утраченную гармонию? Это
1 Ф. Шиллер, Статьи по эстетике, М.—Л., 1935, стр. 26.
2 Там же, стр. 202.
3 Τ а м же, стр. 213.
15
достигается, согласно Шиллеру, в процессе эстетической «игры»,
уничтожающей противоположность чувственного и разумного в
человеке и примиряющей физическую необходимость и нравственную
свободу. Красота как объект побуждения к игре есть та область,
где проявляется свобода человека: все остальные виды деятельности
развивают лишь специальные силы человека, только в игре он
реализует себя как целостное существо. «Человек,— говорит Шиллер,—
играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он
бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет» 1.
Эстетическое творческое побуждение постепенно строит среди
страшного царства природных сил и священного царства
нравственных законов третье царство «игры и видимости», где человек
освобождается от всякого принуждения как в физическом, так и в
моральном смысле. «Здесь, в царстве эстетической видимости,
осуществляется идеал равенства, которое мечтатель столь охотно
желал бы видеть осуществленным и в действительности» 2. Таким
образом, эстетический идеал Шиллера представляет собой бегство
от действительности в иллюзорное царство «эстетической
видимости»; по характеристике Ф. Энгельса— «замену плоского убожества
высокопарным» 3.
В трактате «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795)
Шиллер стремится выявить отличительные особенности искусства нового
времени в противоположность античному искусству, исходя из
общего характера культуры на соответствующей ступени развития
общества. В античном мире человек составлял единое целое с
окружающей его действительностью, действовал в гармоническом
единстве всех своих сил. Поэтому для древних свойствен объективный
способ изображения, личность не выступает у них на первом плане,
PIX поэзия «наивна». В новое время гармония личности
осуществляется только в идее, для современной эпохи характерен разлад
между идеалом и действительностью. Поэтому новые поэты
вкладывают в произведение весь свой внутренний мир, они субъективны
и чувствительны («сентиментальны»). В зависимости от того, как
поступит сентиментальный художник: «сосредоточится ли он больше
на действительности или на идеале,— представит ли он
действительность как предмет своего нерасположения или идеал как предмет
своего влечения» 4, поэзия будет сатирической или элегической.
Шиллер оказал большое влияние на последующее развитие
эстетической мысли, в особенности на формирование эстетики романти-
1 Ф. Ш и л л е р, Статьи по эстетике, стр. 245.
2 Τ ам же, стр. 293.
3К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 4, стр. 233.
* Ф. Шиллер, Статьи по эстетике, стр. 343.
16
ческой школы, Шеллинга и Гегеля. Для нас Шиллер ценен прежде
всего как блестящий критик буржуазной культуры, как великий
мыслитель-гуманист.
Большое влияние на развитие немецкой эстетики конца XVIII —
начала XIX века оказала философская концепция Иоганна Г о т-
либа Фихте. Субъективно-идеалистическое предположение
Канта о том, что «может быть мыслящее «я» и «вещь в себе» — одно
и то же», высказанное им в первом издании «Критики чистого
разума», Фихте сделал исходным пунктом своей философии. Он
говорит: мы полагаем или представляем вещи вне нас. Поэтому когда
мы мыслим, то вместе с этим и творим для себя собственный мир.
Подобно тому как зеленые, желтые и розовые пятна, которые долго
сохраняются перед глазами, после того как они ослеплены ярким
солнечным светом, обнаруживают только известное внутреннее
устройство нашего зрительного органа, так и весь мир, все качества,
все предметы выражают лишь внутреннее устройство нашего
умственного зрения, нашей «интеллигенции». Эти
субъективно-идеалистические положения легли в основу эстетической теории самого
Фихте и послужили исходным пунктом формирования эстетики иен-
ских романтиков.
Согласно Фихте, искусство отличается и от науки и от морали.
Первая развивает в человеке рассудок, вторая — сердце.
Искусство же развивает человека как нечто целое, то есть развивает и его
рассудок и его нравственность. Фихте в еще более резкой форме
продолжает линию этики Канта с ее аскетизмом и ригористическим
истолкованием долга. Именно здесь обозначились расхождения
между Кантом и Фихте, с одной стороны, Шиллером и
романтиками — с другой. Шиллер в трактате «О грации и достоинстве»
полемизировал с суровым ригоризмом кантианской морали, защищая
права «грации». Романтики пойдут еще дальше в своем требовании
реабилитации «плоти» (например, в «Люцинде» Ф. Шлегеля).
Немецкий романтизм как идеологическое явление складывается
в конце 1790-х годов (кружок иенских романтиков — Ф. и А. Шле-
гели, Тик, Вакенродер, Новалис) и является своеобразной реакцией
на французскую революцию. Романтики выступили против
идеологии Просвещения, критикуя беспочвенный оптимизм поздних
немецких просветителей, их плоский рационализм в теории познания,
в этике и эстетике. Они считали, что просветители уже не способны
объяснить современную эпоху.
Романтики с самого начала обнаружили отрицательное
отношение к немецкой буржуазии, к ее укладу жизни и мировоззрению.
Они подвергли критике филистерские представления о
нравственности, искусстве, любви, морально-правовые нормы, регулирующие
17
семейные отношения» Наряду с критикой бюргерской морали долга
романтики выступили с отрицанием просветительного принципа
пользы. В нем они увидели тенденции, враждебные человеческой
личности, разрушающие ее цельность. Человек, занятый каким-либо
практическим делом, с точки зрения романтиков, не свободен,
подчинен внешним по отношению к нему целям. Всякое участие в
практической деятельности уродует человека, накладывает на него
печать профессиональной ограниченности. Отсюда апология
пассивности, праздности, растительного существования.
Нетрудно увидеть в такого рода критических выпадах
романтиков их антибуржуазные тенденции. Однако, критикуя капитализм,
романтики идеализировали при этом прошлые эпохи, в особенности
средневековье. Правда, они вовсе не полагали, что надлежит в
буквальном смысле слова возвратиться к средневековью, в конечном
счете они выступали за такой путь буржуазного развития, который
исключал бы революцию и уничтожение феодальных отношений.
В своей философии истории они отстаивают принцип постепенного,
« органического» развития общества.
Опираясь на философию Канта, Фихте и Шеллинга, иенские
романтики создали свою эстетическую концепцию. Они решительно
выступили против представления просветителей об искусстве как
о «подражании» природе. Они отвергли строгое разграничение
жанров и видов искусства, характерное для классицизма. Назначение
романтической поэзии, согласно Ф. Шлегелю, «состоит не только
в том, чтобы заново объединить все обособленные виды поэзии и
привести в соприкосновение поэзию с философией и риторикой. Она
стремится и должна то смешивать, то растворять друг в друге
поэзию и прозу, гениальность и критику, искусственную поэзию и
поэзию природы. Она должна придать поэзии жизненность и дух
общительности, а жизни и обществу придать поэтический характер. Она
должна превратить остроумие в поэзию, насытить искусство
серьезным познавательным содержанием и внести в него юмористическое
оживление» *. По словам Ф. Шлегеля, поэзия «основным своим
законом признает произвол поэта» 2. Романтическая поэзия не
ограничивается смешением всех жанров искусства. Она стремится
уничтожить грань между искусством и жизнью. Эстетические
категории уже больше не выступают как отражение жизни, а мыслятся
в качестве конструктивных сил самой жизни. Магическая сила
творческой субъективности, по мнению романтиков, должна преодолеть
прозу мира. Заимствовав из классической философии (прежде всего
1 «Литературная теория немецкого романтизма», Л., 1934, стр. 172—173.
2 Там же, стр. 173.
18
у Канта и Фихте) идею об активности субъекта в познании и
художественном оформлении материала действительности, романтики
превратили эту активность в самоцель.
Эти представления лежат в основе теории «романтической
иронии» Ф. Шлегеля: если все существует только благодаря
деятельности субъекта и может быть вновь уничтожено ею, то все
существующее выступает как простая видимость, к чему и не стоит
серьезно относиться. Однако романтическая ирония, призванная
преодолеть прозаическую повседневность, на самом деле лишь
фиксирует реальные противоречия и возвышается над ними только
в сознании художника. Это бегство от действительности приводило
романтиков к сознательному противопоставлению искусства жизни.
Новалис призывает всех, не удовлетворенных действительностью,
уйти в «мир искусства»: «Кто несчастлив в сегодняшнем мире, кто
не находит того, что имеет, пусть уйдет в мир книг и искусства,
в мир природы — это вечное единство древности и современности,
пусть живет в этой гонимой церкви лучшего мира. Возлюбленную
и друга, отечество и бога обретает он в них» 1.
Просветители выступали под знаменем разума. Романтики,
напротив, проповедуют культ безотчетного, бессознательного,
иррационального. «Поэт,— говорит Новалис,— воистину творит в
беспамятстве... Художник превратился в бессознательное орудие, в
бессознательную принадлежность высшей силы» 2. С иррационалисти-
ческой трактовкой творческого процесса связан и романтический
культ «божественной гениальности».
В тесной связи с субъективизмом романтиков находится и их
эстетический релятивизм: в противоположность просветителям все
периоды и формы искусства приобретают для них одинаковое
значение. Так, Вакенродер, имея в виду романтического ценителя
«прекрасного», пишет: «Готический собор столь же ему приятен, как
и храм греков; грубая воинственная музыка дикарей для него
столь же благозвучна, как и искусное хоровое пение» 3.
Реакционная эстетика более позднего периода ухватится за это положение
романтиков и доведет его до абсурда.
В целом мировоззрение романтиков носит противоречивый
характер. Наряду с отмеченными отрицательными чертами в нем
содержатся и положительные стороны. Романтики в ряде пунктов
своей критики идеологии Просвещения были правы, показав
абстрактный, формальный характер буржуазной демократии, обнажив
1 «Литературная теория немецкого романтизма», стр. 127.
2 Τ а м ж е, стр. 122—123.
3 Τ а м же, стр. 154.
19
противоречия буржуазной цивилизации. В области эстетики они
поставили проблему историзма, национального своеобразия искусства.
Заслуживает внимания их попытка преодолеть догматизм
просветителей в интерпретации эстетических категорий.
Идеи романтиков были систематизированы в философии и
эстетике Шеллинга. В молодости Шеллинг вместе с Гельдерлином
и Гегелем участвовал в символической посадке дерева Свободы
в честь штурма Бастилии. Под конец жизни его имя стало символом
политической и философской реакции.
Эстетика Шеллинга, как и его философия, носит объективно-
идеалистический характер. В «Системе трансцендентального
идеализма» (1800) Шеллинг рассматривает искусство как свидетельство
первоначального тождества природы и духа: творческая
деятельность художника является одновременно сознательной и
бессознательной, свободной и подчиненной необходимости. Художник, по
Шеллингу, творит «безотчетно», удовлетворяя лишь «неотступную
потребность своей природы» \ поэтому художественное
произведение содержит всегда больше, чем то, что он намеревался высказать.
В этом и состоит «бесконечность бессознательности» всякого
подлинного произведения искусства. «Любое из них, словно автору
было присуще бесконечное количество замыслов, допускает
бесконечное количество толкований, причем никогда нельзя сказать,
вложена ли эта бесконечность самим художником или раскрывается
в произведении, как таковом» 2. Как и Кант в его понятии
«эстетической идеи», Шеллинг подчеркивает здесь многозначность
художественного образа, но в его толковании многозначность часто
превращается в непознаваемость.
В согласии с Кантом и Шиллером Шеллинг отличает создание
художника от «произведения ремесел» и гораздо резче, чем Кант,
отделяет искусство от практики, политики и морали. В общем духе
своей иррационалргстической философии Шеллинг противопоставляет
художественный способ познания научному. По его мнению, «наука
лишь поспешает за тем, что уже оказалось доступным искусству» 3.
При этом он указывает на мифологию как посредствующее звено
между поэзией и науками и полагает, что науки снова вольются
обратно в «тот всеобъемлющий океан поэзии, откуда первоначально
изошли» 4.
В речи «Об отношении изобразительных искусств к природе»,
произнесенной в Мюнхенской Академии художеств в 1807 году,
1 Шеллинг, Система трансцендентального идеализма, Л., 1936, стр. 378.
2 Там же, стр. 383.
3 Τ ам же, стр. 387.
4 Там же, стр. 394.
20
Шеллинг отклоняет как принцип подражания искусства природе,
так и принцип ее «идеализации», ведущий лишь к копированию
античных образцов. Природа, говорит Шеллинг, характеризуется
тем, что каждое ее создание лишь одно мгновение бывает
подлинным совершенством. Напротив, «искусство, запечатлевая сущность
в этой ее мгновенности, изымает ее из тока времени, представляет
ее в чистой бытийности, жизненной извечности» *. Искусство
сочетает «постижение идеи сверхчувственной красоты с тем, что делает
эту идею осязательной» 2. Таким образом, вся проблема отношения
искусства к действительности мистифицируется Шеллингом в духе
платонической философии. Вместе с тем, упрекая старых
материалистов в том, что они игнорируют принцип действенности природы,
сводят все ее многообразие к протяженности, к пространственным
отношениям, к простой рядоположности форм, взятых изолированно
друг от друга, Шеллинг высказывает диалектические догадки о
единстве и развитии природы. В речи Шеллинг ставит также вопрос
об общем развитии искусства, которое характеризуется им как
движение от «пластичности» к «живописности». Искусство постепенно
освобождается от телесного: в отличие от греческой пластики
христианская живопись пользуется уже не телесными вещами, а
краской и светом, являющимися до известной степени «чем-то
духовным». Весь процесс развития искусства представляется Шеллингу
как движение от чувственного к духовному, как постепенное
возвышение духа над материей. Эта идея была воспринята далее
Гегелем в его учении о «классической» и «романтической» формах
искусства.
Историческое значение эстетики Шеллинга состоит в том, что
в ней систематизированы представления немецкого романтизма об
искусстве. Она является важным звеном в развитии немецкой
эстетики от Канта к Гегелю. Иррационалистические стороны философии
Шеллинга сыграли впоследствии отрицательную роль в том
«разрушении разума», которое было осуществлено буржуазной философией
в эпоху империализма.
Трактовка проблем эстетики у Гегеля тесным образом
связана с его общими философскими и социально-политическими
взглядами, которые претерпевали существенные изменения на
протяжении его сорокалетней творческой деятельности. Начал он с
восторженного поклонения французской революции, закончил
примирением с прусской монархией. Правда, для философа революция
всегда оставалась «великолепным восходом солнца» 3. «Примирение»
1 «Литературная теория немецкого романтизма», стр. 300.
2 Τ а м же, стр. 298.
3 Гегель, Сочинения, т. VIII, М.—Л·., 1935, стр. 414.
21
Гегеля не означало, что он превратился в плоского апологета
капитализма. Он положительно оценивает капиталистическую
цивилизацию и в то же время мужественно вскрывает ее противоречия.
В этом превосходство Гегеля как над плоскими апологетами
капитализма, так и над его романтическими критиками. С этой точки
зрения нужно оценивать и гегелевскую критику романтического
индивидуализма и иррационализма, борьбу Гегеля против
индивидуалистической этики Шлейермахера, интеллектуальной интуиции
Шеллинга и теории непосредственного знания Якоби.
В понимании проблем современного ему искусства Гегель
делает шаг вперед по сравнению с просветителями Кантом, Шиллером
и Гёте. Во-первых, будучи гениальным учеником английских
экономистов, он сумел глубже, чем кто-либо из философов и
писателей до него, понять существенные проблемы капиталистического
общества. Это дало возможность философу сопоставить эстетическую
деятельность с характером производства в условиях капитализма,
выявить значение труда для понимания сущности эстетического;
во-вторых, Гегелю свойствен историзм. При рассмотрении
общественных явлений, в том числе и эстетического сознания, он всегда
пытается проследить их развитие;
в-третьих, Гегель глубже, чем другие мыслители его времени,
понял противоречивость исторического развития. Принцип
противоречия философ кладет и в основу объяснения эстетической деятельности.
Исходным пунктом для Гегеля является объективный идеализм.
Он считает, что основой всего существующего является некое
безличное духовное начало — абсолютная идея. Высшим этапом развития
идеи является абсолютный дух, который не имеет иной цели, кроме
как уяснить для себя свою сущность. Первой и самой
несовершенной формой самораскрытия абсолютного духа является искусство,
которое ставится Гегелем в один ряд с религией и философией как
один из способов познания «глубочайших человеческих интересов,
всеобъемлющих истин духа» '. Человек как дух, говорит Гегель,
удваивает себя: он, во-первых, существует таким же образом, как
предметы природы, но затем он существует также и для себя, он
созерцает себя, представляет себе себя, мыслит, и лишь через это
деятельное для-себя-бытие он есть дух. Рассматривая искусство как
одну из форм «самопроизводства» человека во внешнем мире,
Гегель связывает эстетическую деятельность с многообразными
формами человеческой практики. Он не уделяет большого внимания
прекрасному в природе и основные эстетические проблемы решает
1 Гегель, Сочинения, т. XII, М., 1938, стр. 8.
22
на материале искусства; прекрасное для Гегеля — это прежде всего
то, что создано человеком, общественной деятельностью людей.
Содержанием искусства, по Гегелю, является абсолютная идея,
а его формой — чувственно-образное воплощение. Но идея
прекрасного — это не логическая идея, а идея, воплощенная в
действительность, вступившая с последней в непосредственное
единство,— идеал. Идеал — центральное эстетическое понятие у Гегеля:
все богатство и многообразие мирового искусства рассматривается
им как развитие идеала. В зависимости от отношения между идеей
и ее внешним обликом, то есть в зависимости от развития идеала,
дифференцируются и формы искусства: символическая, где идея
и ее облик еще абстрактны и не соответствуют друг другу
(восточное искусство), классическая, где форма и содержание полностью
соответствуют друг другу и идея находит адекватное внешнее
воплощение в скульптуре (античное искусство), и романтическая
(средневековое и современное искусство), где соответствие идеи и
облика снова нарушается: дух освобождается здесь от материи и
чувственная форма становится недостаточной для воплощения идеи.
Искусство приобретает духовный характер, и на первый план
выступают живопись, музыка и поэзия.
Формы развития искусства поставлены у Гегеля в зависимость
от развития содержания (идеи). Поэтому смена стилей, видов,
жанров искусства у Гегеля является не случайным, а закономерным
процессом. В различные исторические периоды преобладает то один
жанр, то другой. Указывая на то, что виды и жанры искусства
определяются «состоянием мира», Гегель, однако, не впадает в
релятивизм, а, пользуясь объективным критерием (соответствием образа
развивающейся и становящейся все более конкретной идее),
оценивает те или другие произведения искусства.
Значительную ценность представляют мысли Гегеля о характере
человека как предмете художественного изображения. Философ
указывает, что характеры должны обладать, с одной стороны,
твердостью, цельностью, определенностью, но с другой стороны —
богатством и многообразием проявления различных человеческих качеств.
Таков Ахилл у Гомера, таковым же является Ромео у Шекспира.
Гегель выступает против сведения характеров к одному какому-нибудь
качеству, например скупости и «ханжеству», как это делал Мольер.
Рассматривая эстетическое в тесной связи с развитием общества
как некоего органического целого, Гегель в зрелый период своего
творчества главное внимание уделяет анализу современного ему,
то есть буржуазного, мира, которому он противопоставляет мир
древнегреческой демократии. Современный мир — мир практической
деятельности, труда, «прозы мышления» — враждебен эстетическому,
23
красоте, художественному творчеству; общество достигло такой
ступени образования, когда «общая необходимость» искусства
отошла в прошлое. Никакой Гомер, Софокл и т. д., никакой Данте, Арио-
сто или Шекспир, согласно Гегелю, не могут снова появиться в
наше время. Современное искусство клонится к упадку, и его
саморазложение идет двумя путями: путем академического истолкования
классики и путем романтически-субъективистского разрушения
субстанциального содержания искусства.
В академизме Гегель видел лишь проявление
«мертвенно-холодной учености». Понимая невозможность возрождения классики в
современном мире, он отрицательно относился к эллинизирующим
стремлениям Гёте и Шиллера, которые одно время верили, что
современный художник может преодолеть враждебный искусству
характер жизненного материала посредством совершенствования
художественной формы и освоения греческого искусства. Что же
касается заключительных стадий романтической формы искусства,
то здесь исчезает субстанциальное содержание, то есть утрачивается
интерес к великим проблемам эпохи. Это сопровождается, правда,
возрастанием субъективного мастерства и искусства исполнения,
но непомерное развитие субъективного начала лишь ускоряет
процесс распада искусства.
Причину этого господства субъективности в искусстве Гегель
видит в несвободе реальных отношений современного ему
гражданского общества. Всесторонняя зависимость человека проявляется
прежде всего в характере производства. Оно протекает в пределах
широкого разделения труда и механизированной промышленности.
То, что здесь делает индивид, отмечает Гегель, является чем-то в
высшей степени ограниченным и незначительным по сравнению
с масштабом всего гражданского общества. Деятельность человека
приобретает отчужденный характер. Аналогичный характер
приобретают также правовые, моральные и политические отношения
людей. Как политическое существо, человек в новом мире утрачивает
непосредственную связь с обществом и уходит в свои личные дела.
Власти также теряют персонифицированный характер. Из
«индивида» человек превращается в «личность», в правовую единицу.
Поскольку все человеческие отношения приобретают надиндивидуаль-
ный и абстрактный характер, постольку для искусства утрачивается
подходящий жизненный материал. Ведь искусство нуждается в
самостоятельной индивидуальности, а между тем современный
человек, живущий в государстве «нужды и рассудка», полностью лишен
живого почина и независимой инициативы.
Критическое отношение Гегеля к буржуазной цивилизации
резко оттеняется тем, что ей он противопоставляет «героическое состоя-
24
ние», то есть мир древнегреческой демократии. Благоприятность
античности, красоте, эстетическому Гегель видит в том, что
общественные силы в древнем мире еще не приобрели самостоятельности
и отчужденности от индивида и предоставляли широкое поле для
развертывания индивидуального своеобразия и личных качеств
человека. Все это и вызвало к жизни искусство непреходящего
значения. Для современного же человека, говорит Гегель,
единственный путь к свободе — это «уйти в себя», в мир своих душевных
переживаний. Современное, то есть романтическое искусство и
делает своим предметом самостоятельную внутреннюю жизнь,
«свободную конкретную духовность», но тем самым искусство порывает
тесную связь с чувственно-телесным миром и выходит за пределы
своих возможностей. Место искусства занимает другая форма
самораскрытия абсолютной идеи — философия.
Гегелевская концепция о судьбе эстетического в условиях
капитализма отличается исключительной противоречивостью. О том, что
буржуазное общество враждебно красоте и искусству, знали уже
Гёте и Шиллер. Заслуга Гегеля состоит в том, что он пытался
выяснить исторические закономерности расцвета искусства в
античности и его нисхождения в новое время, хотя он и не смог объяснить
действительные причины этого явления в силу идеалистического
характера своей философии. Процесс нисхождения искусства
представляется ему вовсе не как «случайное несчастье, постигшее
искусство лишь благодаря трудному времени, прозаичности,
недостатку интереса и т. д.», а как «...действие и поступательное движение
самого искусства» *. Сумерки искусства возводятся философом в
роковую предопределенность, противоречия капиталистического
общества превращаются в вечную трагедию духа. Установившаяся
«проза и обыденщина» в буржуазном обществе воспринимается Гегелем
как проявление «конечности» и антиэстетичности всего реального.
Все эти заблуждения Гегеля суть отражение общего непонимания
им перспективы общественного развития, исторически преходящего
характера капиталистического общества.
В целом эстетическая теория Гегеля составляет вершину
домарксистской мысли. Основная заслуга Гегеля состояла в том, что он
к вопросам эстетики и искусства подошел диалектически, хотя эта
диалектика идеалистическая.
Общественное развитие Франции конца XVIII и почти всего
XIX века отмечено драматическими событиями: подъем революци-
1 Гегель, Сочинения, т. XIII, М., 1940, стр. 164.
25
онного движения, диктатура якобинцев, Консульство, империя
Бонапарта, Реставрация, революционные бури 1830 и 1848 годов,
наконец, Парижская коммуна. Драматизм социально-политического
развития Франции сказался и на развитии ее духовной жизни,
в частности на развитии французской художественной культуры
и эстетической мысли. Так, на протяжении 60—70 лет во Франции
возникают различные художественные и философско-эстетические
течения: классицизм периода Революции и Империи, романтизм,
классический реализм, натурализм, символизм.
В период первой буржуазной революции во Франции ведущим
художественным и эстетическим течением был классицизм. По
своему социальному содержанию и по своей идейной направленности
он отличался от классицизма XVII века, связанного с именами Буа-
ло, Расина, Корнеля и Пуссена. На первых порах он был тесно
связан с революционным движением конца XVIII века. «В
классически строгих традициях Римской республики,— писал К. Маркс,—
гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные
формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих
себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы
удержать свое воодушевление на высоте великой исторической траге^
дии» 1. Грандиозные революционные празднества, ораторское
искусство, декреты Конвента, стиль актерской игры, стихи поэтов,
драматические произведения, изобразительное искусство — все было
пронизано духом подражания античности. Подчеркивая общественное
значение искусства как «рычага образования» широких кругов народа,
эстетические теории революционного классицизма выдвигают идеал
искусства, характеризующегося высоким моральным пафосом,
изображающего величие и героизм человека.
Однако в период Директории и особенно Консульства и
наполеоновской империи классицизм все больше теряет свой прежний
революционный дух, постепенно превращаясь в консервативное
академическое течение, фальшивая помпезность которого должна была
подчеркивать величие императорской власти, ее незыблемость и
блеск. «Бесчисленные «картоны» и копии, портреты, от которых за
целую версту веет духом «холопской иерархии», бесцветная,
бесхарактерная, абстрактная красота гипсовых слепков — вся эта
музейная ветошь официального искусства XIX века также берет
начало в направлении, созданном Винкельманом и Менгсом» 2. Уже
в первой трети XIX века классицизм подвергся суровой критике,
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 8, стр. 120.
2 Мих. Лифшиц, Вопросы искусства и философии, М., Гослитиздат,
1935, стр. 14.
26
причем критика эта велась с различных позиций. Начало в этом
отношении положили романтики.
Прежде чем говорить о романтизме, мы остановимся вкратце
на деятельности Кузена и Жуфруа — представителей собственно
философской мысли Франции послереволюционного периода,
находившихся под влиянием немецкой идеалистической эстетики и
сыгравших известную роль в распространении ее идей во Франции.
Виктор Кузен изучал сначала шотландскую философию,
потом немецкую, встречался с Шеллингом и Гегелем. Его считают
основателем философии эклектизма, ставшей в эпоху Июльской
монархии официальной университетской доктриной. Эстетические
взгляды Кузена изложены в книге «Об истинном, добром и
прекрасном» (1845). Оппозиция к идеологии и политике Просвещения,
философский идеализм, отрицательное отношение ко всем формам
свободомыслия, открытый союз с религией — эти черты
мировоззрения роднят Кузена с реакционным романтизмом. Вместе с тем он
близок и к теории позднего классицизма — прежде всего в
понимании прекрасного. Кузен различает три рода красоты: физическую,
интеллектуальную и моральную. Все они — проявление красоты
идеальной, идеал же есть не что иное, как сам бог. «Бог есть
принцип прекрасного, равно как творец физического мира и отец мира
интеллектуального и морального» 1. В споре между
Эмериком-Давидом и Катрмером де Кенси (первый видел путь скульптуры к
совершенству через подражание природе, второй — через
воспроизведение идеала) Кузен поддерживает Катрмера де Кенси и
ссылками на «Пир» Платона опровергает принцип подражания. В целом
спиритуалистическая философско-эстетическая теория Кузена
ближе к романтизму консервативного толка, чем к классицизму.
Учеником Кузена был Теодор Жуфруа, философские
взгляды которого также носят эклектический характер и отмечены
сильным влиянием идеализма. Жуфруа оставил два сочинения по
эстетике: «О прекрасном и возвышенном, о причинности» (1816) и
«Курс эстетики» (1843), опубликованный после смерти автора.
Центральной проблемой у Жуфруа является проблема прекрасного.
В восприятии прекрасного он допускает существование двух эле-
ментов: «Вне нас объект, внутри феномен, порождаемый этим
объектом» 2. Этот феномен в свою очередь содержит: чувственный
феномен — удовольствие и интеллектуальный феномен — суждение.
Характерной особенностью эстетического объек а является то, что
1 Victor Cousin, Du vrai, du beau, du bien, P., 1864, p. 169.
2 Th. Jouffroy, Cours d'ésthetique, Hachette, éd. 2, 1833, p. 4.
27
он лишен полезности, не удовлетворяет какую-либо потребность, не
вызывает интереса. В споре между сторонниками идеализации и
защитниками принципа подражания Жуфруа занимает
компромиссную позицию, полагая, что у фламандских художников слишком
много подражания, а в Аполлоне Бельведерском — идеализации.
Однако оба принципа имеют право на существование, ибо все
зависит от того, как в ту или иную историческую эпоху трактуется
понятие порядка, которое у Жуфруа лежит в основе определения
прекрасного и творчества.
Кузен и Жуфруа отстаивают идеалистический принцип
автономии эстетического. Христианский социалист Фелисите-Робер
Л а м е н н е решительно выступает с критикой теории «искусства
для искусства». В статьях, опубликованных в издаваемом им
журнале «Будущность» (1830—1831), он призывает художников
принять участие в общественном движении, посвятить свое творчество
служению социальным идеалам, отказаться от индивидуализма и
эгоизма. Эти же идеи он развивает также в третьем томе своих
«Очерков философии» — «Об искусстве и красоте» (1840). По
мнению Ламенне, «никакое искусство не возникает из самого себя, не
существует само для себя», «чистое искусство—это абсурд»1.
Художник должен быть пророком. К социализму, согласно Ламенне,
нужно идти не через революцию и насилие, а через распространение
христианских идей любви и братства. В этом деле большую роль
должно сыграть искусство, которое само по себе носит
божественный характер и воспроизводит акт божественного творения.
Идеалистическая эстетика Ламенне составляет, таким образом,
неразрывную часть его утопической социальной теории.
Одним из наиболее важных художественных и философско-эсте-
тических направлений во Франции первой половины XIX века был
романтизм, который носил противоречивый характер и в течение
полустолетия претерпел существенную эволюцию. Французский
романтизм был отражением непоследовательности и незавершенности
буржуазно-демократического движения XIX века. Романтики не
могли в достаточной мере уяснить себе историческую ситуацию
своего времени. Поэтому их положительные идеалы абстрактны и
расплывчаты, а критическое отношение к действительности в целом
не выводит их за пределы буржуазных форм жизни. Французские
романтики не оставили систематических трудов по эстетике,
наподобие тех, которые были написаны братьями Шлегель, Шеллингом
или Зольгером. Их творческие взгляды изложены в манифестах,
предисловиях, критических статьях, рецензиях и т. п.
1 Lamennais, Esquisse d'une philosophie, t III, P., 1841, p. 133—134.
28
Представителем раннего романтизма, складывающегося
непосредственно после событий 1789—1794 годов, является Шатобриан,
ярый противник французской революции, против которой он
боролся не только пером, но и мечом. Эстетические взгляды Шатобриана
изложены в его книге «Гений христианства» (1802). Здесь
сопоставляется античное искусство и христианское. В античном мире
люди жили под знаком непосредственной связи человека с
природой; художники тогда воспроизводили все то, что их окружало, не
имея представления об идеальной красоте. Понятие об идеале
прекрасного появилось вместе с христианством, когда поэты и
художники поняли, что нет необходимости воспроизводить все, что они
наблюдают. Отбирая, скрывая, добавляя, художники приходят к
созданию таких форм, которые более совершенны и прекрасны, чем
естественные. Это и называется идеальной красотой. Чем глубже
художник постигает идеальный мир, тем большую ценность
приобретают его творения. Шатобриан отвергает развитый просветителями
принцип подражания природе и противопоставляет ему принцип
«исправления», «очищения» природы, ее «идеализации».
Критикуя идеологию Просвещения и выступая как апологет
христианской религии, Шатобриан приходит к антигуманистическим
выводам. Общество для него только пассивная среда, через которую
осуществляют свои действия высшие силы. Поскольку искусство
призвано раскрыть именно этот призрачный мир, оно лишается
реальной основы. Физическая красота выступает у Шатобриана лишь
как отблеск божественного мира. Говоря о правде как об одном из
источников поэзии, Шатобриан понимает ее в
религиозно-метафизическом, платоническом смысле. Идеи платонизма смешиваются у
него с католической догматикой.
Некоторые принципы раннего романтизма были развиты Ж е р-
меной де Сталь. Апология бунтующей, обуреваемой страстями
личности, неприятие действительности, порождающее меланхолию,
скорбь, чувство одиночества,— мотивы, развиваемые ею в
теоретических статьях и художественном творчестве,— сделали де Сталь
очень популярной в 20-х годах XIX века. Однако самое интересное
в работах де Сталь — это идея о связи искусства и
общества, заимствованная ею из эстетики Просвещения. Де Сталь
сопоставляет античное искусство и современное и приходит к выводу,
что новые общественные условия требуют и. нового искусства. Вслед
за немецкими романтиками она говорит о «классическом» и
«романтическом» искусстве; отдавая предпочтение последнему, де Сталь
обращает внимание на необходимость развития национальных традиций
в поэзии. В мировоззрении де Сталь смешиваются консервативные
и прогрессивные идеи, однако в целом прогрессивные берут верх.
29
Политическая платформа ранних французских романтиков
противоречива. Они отнюдь не стояли за полную реставрацию
феодально-абсолютистских порядков, а лишь за сохранение контроля
церкви и дворян над современным, то есть буржуазным
экономическим развитием. Речь шла, таким образом, о том, чтобы
противостоять демократическому развитию Франции, начатому в эпоху
якобинской диктатуры» Вместе с тем французские романтики этого
поколения сознают, что складывающиеся буржуазные отношения,
где все и вся приносится в жертву чистогану, враждебны искусству
и творческому проявлению личности.
В центре эстетической программы романтиков этого периода —
требование свободы. Нужно, говорят романтики, освободить
искусство от «правил». Гений свободен, он творит по законам
собственной фантазии. Своеобразие личности проявляется прежде всего
в мире чувств, поэтому необходимо противопоставить холодному
разуму пламень сердца, логике — энтузиазм, кропотливому труду —
вдохновение. Фантазия ценится романтиками выше всего: она —
главный источник поэтического творчества. Критически относясь
к буржуазной действительности, романтики объявляют окружающую
жизнь сугубо прозаической. Поэзию они стремятся найти в
историческом прошлом, в экзотике далеких стран, в природе. Большое
место в их мировоззрении занимает религия, которая понимается
прежде всего как чувство, хотя и связывается с представлением о
существовании бога как подлинного творца всего сущего. В целом
художественная практика романтического движения этого периода
была гораздо шире, чем его теория.
Новая эстетическая программа французского романтизма была
выдвинута в конце 1820-х годов кружком прогрессивных
романтиков во главе с В. Гюго (А. Мюссе, Жерар де Нерваль, А. Дюма,
П. Мериме, Э. Делакруа). Порвав с абсолютизмом и дворянской
партией, новое поколение романтиков подвергло острой критике
классицизм XVII века и выдвинуло требование «14 июля в
литературе». Задачей художника является изображать правду,
воспроизводить местный колорит, специфические особенности национальной
истории.
С наибольшей силой новые идеалы романтического движения
проявились в области театра. В предисловии к драме «Кромвель»
(1827) Гюго требует отказа от знаменитых «единств», признавая
лишь единство действия и считая единства времени и места
совершенно неприемлемыми. Необходимо изображать яркие
индивидуальности и, как это имеет место в самой природе, сочетать прекрасное
и уродливое, возвышенное и гротескное.
30
Требование изображения уродливого было попыткой расширить
возможности искусства в раскрытии теневых сторон
действительности, дисгармонии и диссонансов жизни. Правда, при отсутствии
ясных положительных идеалов и исторической перспективы это
могло привести к увековечению безобразного, а следовательно, и
эстетизации его,— эта тенденция обнаружилась впоследствии у Бодлера.
Но у Гюго это требование составляет часть более широкого
эстетического принципа, который он обосновывает,— принципа
правдивости. «Поэт,— писал Гюго,— должен советоваться только с
природой, истиной и своим вдохновением, которое также есть истина и
природа» 1.
Чем теснее связывал Гюго свое творчество с демократическим
движением, тем решительнее подчеркивал он общественное
значение искусства. В ранний период Гюго отдавал дань принципу
безусловной автономии эстетического, но в дальнейшем он порвал α
теорией «искусства для искусства». Идею воспитательного значения
искусства Гюго подробно развивает в трактате «Вильям
Шекспир» (1864).
Немаловажную роль в обосновании программы французского
романтизма сыграл видный критик Сент-Бев. В книге
«Исторический и критический образ французской поэзии и театра XVI века»
(1826) Сент-Бев первый показал значение ранней национальной
поэзии и пробудил к ней интерес. В своих критических статьях он
пытался раскрыть органическую связь искусства с общественной
жизнью. Сент-Бев сочувствовал социалистическим учениям своего
времени. В этом плане интересны его статьи о Сен-Симоне.
Большая роль в развитии эстетики XIX века принадлежит
выдающемуся французскому художнику Э. Делакруа, в статьях,
письмах и дневниках которого нашли отражение демократические
идеи первой половины XIX века. Как Гюго в литературе и театре,
так Делакруа в живописи выступает с резкой критикой
классицизма, отвергая старые представления об абсолютной красоте и
незыблемости эстетических критериев. Красота, по мнению Делакруа,
имеет бесконечные формы проявления, и соответственно этому
бесконечно разнообразны вкусы и идеалы людей. Искусство тесно
связано с общественными условиями жизни и изменяется вместе с
ними. Нет вечного канона красоты, равно как нет и незыблемых
представлений о прекрасном и безобразном. Этот исторический взгляд на
эстетические понятия в той или другой степени свойствен всей
романтической эстетике. Делакруа требует проникновения в суть
1 Виктор Гюго, Собрание сочинений в 15-ти томах, т. 14, М., 1956*
стр. 106.
31
вещей, во внутренние законы природы; он считает излишней
мелочную детализацию. Идеи Делакруа во многом подготовили
реалистическую эстетику XIX века.
Несколько особняком стоит Жорж С а н д, писательница,
связанная с движением прогрессивных романтиков, испытавшая на
себе влияние утопического социализма, но сохранившая
самобытность и в своем творчестве и в теоретических размышлениях. Она
отстаивает оптимистический пафос искусства, верит в реальность
общественного прогресса и считает, что искусство может и должно
сыграть большую роль в поступательном развитии общества. По ее
мнению, «искусство для искусства» — пустой звук, совершенно
ложное понятие» 1. Творчество Жорж Санд получило высокую оценку
русских революционных демократов — Белинского, Герцена,
Чернышевского, Щедрина.
1824—1830 годы — кульминационный пункт развития
романтизма; в дальнейшем все больше обнаруживается его неспособность
овладеть жизненным материалом и стать «новым» искусством, в
котором нашли бы отражение проблемы современной эпохи. Даже там,
где романтики обращались к современному жизненному материалу
(социальные романы Ж. Санд, Эжена Сю и других), картина,
рисуемая ими, была далека от реальной действительности. В 30-х годах
складывается новая эстетика — эстетика классического реализма.
Ее создателями были Бальзак, Стендаль, Домье.
Мировоззрение Бальзака формировалось в атмосфере
широкого народного движения против Июльской монархии. Несмотря на
свои легитимистские взгляды, Бальзак критикует не только
буржуазию, но и аристократию. До некоторой степени он сочувствует
низам и видит настоящих представителей народа в подлинных
республиканцах.
Бальзак выступает как продолжатель материалистических
традиций французского Просвещения. Он был хорошо Знаком с
философией и естествознанием своей эпохи и стоял на позициях
стихийного материализма. К действительности писатель подходил как
аналитик, как «исследователь». Себя он называл «доктором социальных
наук».
Громадной заслугой Бальзака является разработка им фило-
софско-эстетических принципов реализма. Широта охвата
действительности и глубина проникновения в ее сущность — главный
критерий полноценности искусства для Бальзака. В «Человеческой
комедии» он обещает дать изображение всей социальной
действительности, не обходя ни одной жизненной ситуации, ни одного характе-
1 Ж о ρ ж Санд, Избранные сочинения, т. 2, М., 1950, стр. 590.
32
pa, ни одного уклада жизни: не «вымышленные факты», а «то, что
происходит повсюду» 1. Однако, требуя от художника верности в
отображении действительного мира, Бальзак в то же время был против
его рабского копирования, беспомощного «нагромождения фактов».
«Главное для писателя,— подчеркивает он,— прийти к синтезу
путем анализа, описать и собрать воедино основные элементы жизни,
ставить важные проблемы и намечать их решение, словом,
воспроизводить черты грандиозного облика своего века, изображая
характерных его представителей» 2.
Для эстетических воззрений Бальзака характерно стремление
к широкому синтезу. В современной литературе он различает «три
лица»: «литературу идей», восходящую к традициям Просвещения
(Стендаль, Мериме и другие), «литературу образов» (Гюго, Шато-
бриан, Готье и другие), связанную с романтическим направлением,
и школу «литературного эклектизма», к которой относит Вальтера
Скотта и себя. Этим не совсем удачным названием Бальзак
обозначает реализм, требующий «изображения мира таким, каков он есть:
образы и идеи, идея в образе или образ в идее, движение и
мечтательность» 3. Образу и идее в литературе соответствуют в
живописи рисунок и цвет, а в музыке мелодия и гармония. Успехи
современного искусства Бальзак видит на путях синтеза этих
элементов.
Большое место в произведениях Бальзака занимает проблема
трагической судьбы искусства в буржуазном обществе.
Капиталистическое разделение труда, господство «принципа денег»,
нивелировка личности, фетишизированный характер буржуазных
отношений — все это, согласно Бальзаку, враждебно не только искусству,
но и всякому творчеству. В гениальных философско-эстетических
этюдах «Неведомый шедевр» и «Гамбара» Бальзак предвосхитил
тенденции буржуазного искусства к распаду, выявившиеся в
модернизме XX века. Значение искусства в жизни общества Бальзак
оценивал с позиций гуманизма, видя цель искусства в том, чтобы
«улучшать нравы своего времени». Эстетическое наследие Бальзака
принадлежит лучшему, что создало человечество, и сохраняет свое
непреходящее значение в борьбе за высокохудожественное
реалистическое искусство.
Большой вклад в развитие эстетических принципов
классического реализма внес Стендаль, которого Бальзак назвал «одним
,Оноре Бальзак, Собрание сочинений в 15-ти томах, т. 15, М., 1955,
стр. 568.
2 Τ а м же, стр. 505—506.
3 Τ а м же, стр. 363.
33
из замечательных умов нашего времени». В творческой манере этих
великих французских писателей имеются определенные различия.
Так, в одном из своих писем Стендалю (6 апреля 1839 г.) Бальзак
говорит: «Я пишу фреску,— вы же изваяли итальянские статуи» !.
В мировоззрении Бальзака и Стендаля также имеются некоторые
расхождения. Бальзак не лишен легитимистских предрассудков.
Противоречиво его отношение к католической религии. Стендаль
выступает как продолжатель демократических принципов великой
революции, он материалист и атеист, ученик Гельвеция и Гольбаха.
Он более последовательно, чем Бальзак, пытается в условиях
послереволюционной эпохи сохранить и развить философско-эстетические
принципы Просвещения, хотя и осознает их абстрактность. Но
между гениальными французскими писателями также очень много
общего. Они превосходно видят противоречия капиталистического
общества и с беспощадной правдивостью отражают их в своем
творчестве. Сознание неразрешимости противоречий буржуазного
общества не ведет их к историческому нигилизму и скептицизму
(как это подчас имеет место у романтиков и у художников второй
половины XIX века). В раскрытии противоречий буржуазного
общества они находят поэзию, а в изображении борьбы человека против
буржуазной прозы — проявление человеческого величия. Оба
писателя стремятся к широкому синтезу, к монументальному
воспроизведению своей эпохи. Они бесспорно являются великими
гуманистами XIX века.
В своих философско-эстетических трудах Стендаль, как и
Бальзак, теоретически обосновывает и защищает принципы реализма.
Его концепция человека близка идеям просветителей. Человек —
это часть природы. Ему присуще стремление к счастью. Необходимо
устранить все, что препятствует осуществлению этого естественного
стремления, и с этой точки зрения Стендаль резко критикует
монархический строй и все его институты. Но, отстаивая права
человека на счастье, Стендаль, однако, выступает не против морали
долга вообще, а против фальшивого, антигуманистического
истолкования долга, которое он усматривает, в частности, в религиозной
морали. Этим же объясняется его отрицательное отношение к
классицизму XVII века, тогда как он положительно оценивает
творчество Андре Шенье, Давида и других представителей
революционного классицизма. Ставя в новых условиях проблему «человека» и
«гражданина», Стендаль пытается найти между ними известное
равновесие. Отвергая индивидуализм романтиков, он в то же время
приемлет у них то, что, по его мнению, является защитой «чело-
1Оноре Бальзак, Собрание сочинений в 15-ти томах, т. 15, стр. 584.
34
века». К внутреннему миру человека, к его страстям Стендаль
подходит как ученый-психолог. Отстаивая точный анализ характеров и
ситуаций, он говорит о том, что никогда не отделял художника от
мыслителя. Человек выступает у Стендаля как концентрированное
выражение эпохи и вместе с тем как активный участник
развивающихся событий.
Расцвет эстетики классического реализма относится к 1830—
1840-м годам. После революции 1848 года, когда отчетливо
выявилась непримиримость противоречий между буржуазией и
пролетариатом, буржуазные идеологи не отваживаются уже с беспощадной
правдивостью вскрывать противоречия капиталистической
действительности. Это тяготение буржуазной идеологии к апологетике
нашло своеобразное отражение как в искусстве, так и в эстетике 50—
70-х годов XIX века. Правда, основной тон все еще задают великие
художники-реалисты: Флобер, Мопассан, Золя и такие сложные и
противоречивые поэты, как Бодлер. Однако новое поколение
художников-реалистов не достигает такой глубины в раскрытии
противоречий капиталистического общества, как Бальзак и Стендаль. В
теорию и практику искусства начинают переноситься философско-эсте-
тические принципы позитивизма, вульгарного материализма, законы
общественного развития часто отождествляются с законами
природы.
Великие французские реалисты 1850—1870-х годов не стали на
путь апологетического восхваления буржуазной действительности:
Напротив, они видели духовное вырождение буржуазии, упадок ее
вкусов и идеалов и с большой силой критиковали современное им
общество. Но так как они не видели никакого реального выхода, то
неизбежно впадали в пессимизм и скептицизм. Так, Флобер,
сознавая кризис буржуазной культуры, рассматривает его как кризис
культуры вообще. Поскольку мир изменить невозможно, художник
может только добросовестно описать его. Здесь проявляется
совершенно новое понимание роли художника. Для Бальзака и Стендаля
художник — активный участник развивающихся событий, для
Флобера — он лишь летописец.
Развитие французской эстетики этого периода тесно связано с
натурализмом. Последний отчасти отражает успехи естественных
наук, но в большей степени зависит от влияния философии и
эстетики позитивизма. Позитивизм во Франции был реакцией на
идеалистическую философию начала XIX века. Основоположником
французского позитивизма является Огюст Конт, опубликовавший
в 1830—1842 годах свой главный труд— «Курс позитивной
философии». Однако и позитивизм остается разновидностью
идеалистической философии: Конт отрицает существование объективных при-
35
чинно-следственных связей, главную задачу науки видит в простой
констатации фактов. В 1830—1840-х годах Конт не пользовался
большим влиянием, он был «открыт» только в 1850—1860-х годах.
Влияние Конта испытал И. Тэн, написавший в 1864 году
знаменитую книгу «Английская литература», во введении к которой была
высказана мысль о трех факторах, определяющих развитие
литературы, каковыми являются раса, среда, исторический момент.
Позитивистские идеи получили широкое распространение среди
писателей. Само по себе обращение художников к естествознанию было
положительным фактом, но в эпоху широкого распространения
позитивизма категории естественных наук механически переносились
на общество, так что социальные закономерности истолковывались
совершенно превратно. В целом влияние позитивизма на
французскую эстетику и искусство было отрицательным.
После революции 1848 года отчетливо выявился и кризис
романтизма. Поздние романтики — Теофиль Готье, Леконт де Лиль,
Шарль Бодлер — все больше отходят от участия в общественной
жизни и замыкаются в узком кругу художественных проблем,
защищают «чистое искусство». Теофиль Готье уже в 1830-х годах в
ответ на призыв поставить искусство на службу обществу ответил, что
он не красный и не белый и даже не трехцветный, что искусство
не может служить какой-нибудь другой цели, кроме создания
красоты, а красота и польза — несовместимы. Что касается Бодлера,
то в ранний период он не противопоставлял красоту и пользу.
Признавал общественное значение искусства и Леконт де Лиль,
бывший фурьерист и участник революционных боев 1848 года. После
поражения революции все три поэта пришли к мысли о
трагической безысходности бытия. Слабее это выражено у Т. Готье, с
потрясающей силой у Бодлера. Они с отвращением относятся ко всему
строю буржуазной жизни, однако их протест против буржуазной
пошлости часто не выходит за границы чисто эстетического бунта.
Прозаическому миру они противопоставляют мир эстетических
ценностей (Готье) или же начинают эстетизировать уродливое
(Бодлер). У поздних романтиков, в особенности у Бодлера, бесспорно
одного из выдающихся поэтов Франции XIX века, еще сохраняются
гуманистические идеалы. Однако у них появляются и декадентские
тенденции, которые получат развитие после поражения Парижской
коммуны.
Зарубежные историки эстетики обычно уделяют мало внимания
изучению эстетического наследия социалистов-утопистов. К
сожалению, и в марксистской литературе этот вопрос стал изучаться совсем
недавно. Между тем Сен-Симон и Фурье, наряду с разработкой
планов преобразования общества, затрагивают и проблемы искусства.
36
Социально-политические взгляды Сен-Симона и Фурье, их
беспощадная критика капитализма, проекты переустройства общества
оказали большое влияние на художественную интеллигенцию
Франции. Социалистическими идеями увлекались писатели, поэты,
критики. Социалисты-утописты поставили вопрос о гармоническом и
всестороннем развитии личности. В процессе формирования нового
человека большую роль они отводили искусству. Они считали
абсурдной мысль о «чистом искусстве», критиковали
романтический индивидуализм, субъективизм и исторический нигилизм,
верили в бесконечный прогресс, в то, что освобожденный-труд
поднимется до уровня творчества, то есть приобретет эстетический
характер.
Подводя итог развитию французской эстетики XIX века, мы
можем оказать, что она достигает своей вершины в эстетике
классического реализма 1830—1840-х годов — работах Бальзака и
Стендаля.
Развитие эстетической мысли Англии конца XVIII — начала
XIX века связано прежде всего с романтизмом. Подготовка этого
движения началась еще в «готическом» романе конца XVIII века.
Большую роль в политическом самоопределении романтизма
сыграла книга Эдмунда Берка «Размышление о французской революции»,
ставшая программой консервативных романтиков, а также книга
Вильяма Годвина «Политическая справедливость», которая
оказала сильное влияние на формирование мировоззрения
прогрессивных английских романтиков.
Английские, равно как немецкие и французские романтики не
принимают буржуазного прогресса, но одни из них видят выход
в возвращении к докапиталистическим порядкам, другие — в
создании новых условий общественной жизни, идеал которой еще не
ясен для них. К первой группе романтиков обычно относят поэтов
«озерной школы» (Вордсворт, Кольридж), ко второй — Шелли и
Байрона.
Вордсворт и Кольридж в молодости увлекались
французской революцией, а когда она приняла радикальные формы,
отшатнулись от нее. Разочарование в революции привело их к отказу
от основных идей Просвещения. Они проповедуют мысль о
тщетности усилий разума, идеализируют человека, не испорченного
цивилизацией и образованием и вследствие этого цельного и
находящегося в гармонии с миром. Разуму они противопоставляют чувство,
науке — поэзию, осознанному действию — инстинктивный порыв.
Если просветители, говоря о нравственном значении искусства,
имели в виду воспитание человека для общественной деятельности, то
37
романтики считают, что само общество может быть изменено
только деятельностью художника и нравственным
самосовершенствованием. Атеизм в английском Просвещении никогда не был так
ярко выражен, как во Франции, но английские консервативные
романтики порывают со всякими проявлениями свободомыслия. Они
находят органическую связь между религиозным чувством и
поэзией.
Представители «озерной школы», в частности Кольридж,
испытали сильное влияние Канта и немецких романтиков — бр. Шлеге-
лей, Шеллинга. Их заслуга заключается не в том, что они
сформулировали принципиально новые идеи в сравнении с немецкими и
французскими романтиками, а в том, что они на английской почве
способствовали освобождению искусства от «правил» классицизма,
расширили тематику искусства и усовершенствовали
выразительные средства поэзии.
Гораздо более значительный вклад в английскую эстетику
внесли прогрессивные романтики. Байрон резко выступал против
Вордсворта и Кольриджа, критикуя их за спиритуализм и
мистицизм. Ставя вопрос об ответственности поэта перед обществом,
Байрон считал, что писатели Просвещения более правильно понимали
природу и назначение поэзии. О близости Байрона идеям
Просвещения говорит его страстная защита А. Попа, его обращение к
авторитету Горация («На тему из Горация»). Однако при всей
близости к идеям Просвещения Байрон и как поэт и как теоретик
искусства все же принадлежит новому поколению, ибо он живет и
творит в тот период, когда ясно выявились противоречия
буржуазного общества. У него нет того оптимизма, какой свойствен был,
например, А. Попу. Напротив, он все время ощущает разлад
между мечтой и действительностью, между тем, что должно быть и
что есть. Реалистические принципы, которые выдвигает Байрон в
своих статьях, относятся к реализму нового типа. Требования
правды в искусстве у него сочетаются с романтическими
принципами: фантастикой, пантеизмом, тягой к символике и
контрастам. Ранняя смерть прервала творчество великого английского
поэта именно тогда, когда явно обозначилась его эволюция к
реализму.
Это перерастание романтической эстетики в реалистическую
более отчетливо выявилось в теоретических высказываниях и
художественном творчестве Вальтера Скотта, писателя,
оказавшего огромное влияние на формирование реализма XIX века.
Известна высокая оценка, которую дал английскому романисту
Бальзак. Вальтер Скотт требует правдивого изображения исторических
событий, раскрытия характера и психологии героев на фоне широ-
38
ких социальных движений; он выступает за историческую
конкретность, против антиисторизма просветителей.
Великий английский поэт Шелли — один из самых пламенных
певцов свободы и революции XIX века. Герои его поэзии — это
титаны или мечтатели, посвятившие жизнь освобождению людей от
тирании и гнета. В его незаконченной книге «Защита поэзии»
изложены и обоснованы эстетические принципы революционного
романтизма. Некоторые из идей, высказываемых Шелли, встречаются
и у консервативных романтиков. Так, он противопоставляет поэзию
науке, отдавая предпочтение первой; не отвергая разума, он ставит
выше воображение. Но на этом сходство кончается. Шелли — атеист
и материалист (материализм, правда, осложнен у него
пантеистической терминологией). В противовес созерцательности поэтов
«озерной школы» Шелли выдвигает принцип активного воздействия
поэзии, утверждает общественное значение искусства — здесь его
взгляды совпадают со взглядами Байрона. Шелли считает, что
задача заключается в том, чтобы способствовать преобразованию
жизни на основах справедливости и красоты. Поэты, согласно Шелли,
это законодатели и творцы гражданского общества, учителя и
наставники людей, провидцы будущего. Эстетические и этические
принципы составляют для Шелли органическое единство, ибо, как
он неоднократно подчеркивал, идеал прекрасного — это прежде
всего нравственное величие человека.
Таким образом, в английском романтизме были поставлены
чрезвычайно важные проблемы: о месте искусства в жизни общества,
о моральной ответственности художника, о значении
эмоционального начала в творчестве и т. д. Эти проблемы решались крайне
противоречиво, порой неверно. Но само их обсуждение не лишено
интереса до настоящего времени. Для нас ценны прежде всего
революционная устремленность романтиков в будущее, их борьба за
высокие общественные идеалы, их сокрушительная критика
капиталистического общества, враждебного по своей природе искусству
и красоте, приподнятость и взволнованность их поэзии — черты,
возникающие обычно в эпохи общественного подъема. Английские
романтики в лице Байрона, Шелли, Вальтера Скотта безусловно
сказали свое слово в мировой эстетической мысли.
Представители чартистского движения Эрнст Чарльз Джонс,
Джордж Джулиан Гарни, Вильям Джемс Линтон впервые
попытались разработать эстетику нового класса — пролетариата,
создавшего в 1840—1850-х годах свою литературу. Определяя общественное
значение этой литературы, они выясняют ее отношение к
наследию прошлого, выявляют критерии ее оценки, обсуждают
проблему народности искусства. В связи с постановкой социаль-
39
ных проблем чартисты прямо или косвенно защищают реализм
в искусстве.
Романтизм безраздельно господствовал в Англии до 1820-х годов,
затем он сменяется реализмом «блестящей школы романистов» 1 —
Диккенса, Теккерея, Шарлотты Бронте, Элизабет Гаскел, в
произведениях которых жизнь Англии нашла наиболее глубокое
отражение. Правда, в сравнении с французскими реалистами английские
реалисты стоят ниже в смысле глубины проникновения в законы
капиталистического общества. Им препятствуют в этом иллюзии
относительно возможности преодоления реальных противоречий
путем нравственного совершенствования личности. Но чаще всего эти
иллюзии как бы механически присоединяются к разоблачительным
монументальным полотнам этих писателей, остаются как бы
привеском к ним. Раскрывая вопиющие противоречия буржуазной
действительности, творчество реалистов опровергало апологетические
писания вульгарных английских экономистов, социологов,
моралистов — Мальтуса, Ричарда Кобдена, Бентама, Джона Стюарта Мил-
ля и других.
Английские реалисты не оставили нам систематических трудов
по эстетике. Эстетические взгляды они высказали в предисловиях к
своим произведениям, в критических обзорах и статьях.
Лейтмотивом этих высказываний является требование жизненной
правдивости, борьба с ложной идеализацией, раскрытие закономерностей
жизни через типичные характеры, которые складываются в
определенных условиях. Открытая оценка изображаемого считается
непременным качеством подлинного искусства. Особое место в
эстетических высказываниях Диккенса и Теккерея занимает проблема
юмора и сатиры.
К 1840—1850-м годам относится также деятельность позднего
романтика Карлейля, который выступил с резкой критикой
буржуазной действительности. Иногда эта критика приобретала даже
революционное звучание, однако в целом это была романтическая,
а следовательно, ограниченная критика капитализма. Дальнейшая
эволюция Карлейля в сторону апологетики по отношению к
буржуазному обществу только более четко выявила то, что уже содержалось
в его ранних трудах. Карлейль развил концепцию героев,
аристократов духа, от которых будто бы зависят судьбы истории и
культуры. В области эстетики он защищал теорию элиты и представление
о поэте как об избранном пророке, провидце.
Под влиянием Карлейля сложились эстетические взгляды
Джона Рескина, которые были изложены им в книгах «Современ-
1 См. «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., 1957, стр. 529.
40
ные живописцы», «Семь светильников архитектуры», «Братство
прерафаэлитов», «Камни Венеции», опубликованных в 1850—1860-х
годах. Рассматривая красоту как символ божественного начала, Рес-
кин отрицательно относится к искусству Возрождения и
противопоставляет ему средневековое искусство. Задачу искусства он видит
в том, чтобы с наибольшей полнотой отразить «душу». Решающее
значение в творческом процессе принадлежит вдохновению, этому
«священному огню», который вполне может возместить недостаток
техники и формы.
Эстетика для Рескина — составная часть его религиозной и
социальной системы, а также практического действия. Признав, что
капитализм несовместим с красотой и поэзией, что промышленность
с ее машинным производством нарушила не только социальную
гармонию, но и беспощадно истребила красоту, Рескин выдвинул
утопический план создания «государства красоты», где не будет
машин и будет применяться только ручной труд, а ремесленники и
крестьяне составят производительную основу государства.
Вильям Моррис под влиянием эстетической концепции
Рескина попытался создать мастерские, где должно было
осуществиться объединение ремесла и искусства, но эта затея не
увенчалась успехом. В дальнейшем Моррис отказался от своих
утопических планов и перешел на позиции социализма. Именно здесь
ему открылись пути для верного решения основных эстетических
проблем.
В Англии всегда были очень сильны традиции эмпиризма и
сенсуализма. В конце XVIII века они получили идеалистическое
истолкование у Беркли и Юма. В XIX веке эти традиции были
продолжены прежде всего Дарвином, а также английскими
позитивистами — Спенсером, Алленом и другими. В связи с проблемой
происхождения видов Дарвин сделал смелое заключение о
наличии эстетического чувства у животных, попытавшись объяснить это
с чисто физиологической точки зрения; к сожалению, его
интересные мысли не получили в дальнейшем развития в этом
направлении.
Таким образом, краткий анализ развития буржуазной
эстетической мысли XIX века показывает, что она достигла своей вершины
в эстетике классического реализма конца XVIII — первой половины
XIX века и в эстетических теориях немецкой классической
философии. Начиная со второй половины XIX века буржуазная мысль
все более клонится к упадку. Несколько особым путем шло развитие
41
эстетической мысли в России. Борьба русских революционных
демократов — Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова — за
идейность, реализм и народность искусства, разработка ими
эстетической теории на основе материалистического мировоззрения имеют
мировое значение. Мы по праву можем гордиться тем, что русская
революционно-демократическая эстетика является высшим этапом
в развитии демократической мысли. Дальнейший прогресс в области
эстетики и искусства связан с пролетарским движением, с марк-
сизмом-
М. ОВСЯННИКОВ
ΓΕ РМ АН И Я
КЛАССИЧЕСКАЯ
Η Ε ME IT Κ Au
[Э С Τ Ε Τ ΚΚΑ
XVIII веке ведущая роль в области философии
и эстетики в Западной Европе принадлежала
сначала английским, а затем — французским
просветителям. Сочинения последних во второй половине
XVIII века получили повсеместное
распространение и оказали огромное влияние. В начале XIX
столетия роль «первой скрипки», по выражению
Ф. Энгельса *, переходит к немецким мыслителям.
Период философского движения в Германии с
1790-х по 1840-е годы, от Канта до Фейербаха, Энгельс
охарактеризовал как период «классической немецкой философии» 2. Это
определение, которым не раз пользовался также В. И. Ленин, можно
с полным правом отнести и к немецкой эстетике конца XVIII — на-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 37, стр. 419.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 21, стр. 269.
45
чала XIX века, тесно связанной с развитием философской мысли
в Германии этого периода.
Главным приобретением классической немецкой философии, в
особенности философии Гегеля — ее крупнейшего представителя,
Энгельс и Ленин считали разработку диалектики как
учения о развитии «в его наиболее полном, глубоком и свободном от
односторонности виде» 1. В философии XVII—XVIII веков, в том
числе у тогдашних материалистов, отдельные — порой яркие —
диалектические догадки еще не могли поколебать общего
метафизического строя мышления, типичного для этих столетий. Классическая
немецкая философия, начиная с Канта, поставила перед собой в
качестве главной и осознанной задачи — преодоление метафизики как
единственной возможной формы мышления, разработку — в
противовес метафизике — иной, диалектической системы знаний, которая
могла бы охватить процесс человеческого мышления в его
внутреннем движении и сложном, противоречивом единстве.
Разработанный представителями классической немецкой философии
диалектический метод мышления, их попытка применить этот метод к решению
вопросов искусства имели важнейшее значение для истории эстетики.
Немецкие философы-идеалисты стремились подчеркнуть — в
противовес материалистам XVIII века — активный, созидательный
характер человеческого сознания. Но при этом они ошибочно
рассматривали природу, материальную действительность как результат
творческой деятельности духа. Мысль о закономерности развития
объективного мира отразилась в их учениях в форме
фантастического представления о некоем мистическом мировом разуме,
управляющем развитием действительности. А осуществление идеала
свободы немецкие мыслители сначала в лице Канта и Фихте
перенесли из области реальной жизни в область мечты, чтобы затем
в лице Шеллинга и Гегеля объявить главной задачей философии
«примирение с действительностью». Этот идеалистический
характер учений немецкой философии конца XVIII — начала XIX века
наложил отпечаток и на немецкую классическую эстетику,
обусловив главный ее недостаток — идеалистическое возвышение
искусства над жизнью, противопоставление искусства материальной,
практически-трудовой и революционной деятельности, изменяющей мир.
При наличии непосредственной и тесной связи между развитием
эстетики в Германии конца XVIII — начала XIX века и движением
философской мысли было бы неверным видеть в классической
немецкой эстетике простое отражение смены характерных для этой
эпохи философских систем и направлений. Наряду с философией
1 В. И. Л е н и н, Сочинения, т. 19, стр. 4.
46
развитие эстетической мысли в Германии конца XVIII — начала
XIX века было оплодотворено влиянием гуманизма классической
немецкой литературы. Оба великих деятеля последней, Гёте и
Шиллер, непосредственно участвовали в движении
художественно-эстетической мысли своей эпохи и оказали сильнейшее воздействие на
общий ход ее развития в Германии. Большое значение для
развития немецкой эстетической мысли в начале XIX века имели также
переводческая и собирательская деятельность немецких романтиков;
возникший под влиянием Гердера и Гёте и усилившийся в эпоху
романтизма широкий интерес к мировой литературе (и вообще
расширение всей области исторических знаний); развитие Гайдном,
Моцартом, Бетховеном новых выразительных возможностей
симфонической и инструментальной музыки, которое продолжалось и
далее, в эпоху романтизма. То же самое относится к другим областям
художественной жизни Германии, между развитием которых и
развитием философско-эстетической мысли существовала определенная
взаимосвязь.
Наконец, были налицо и причины общественного характера,
которые обусловили пристальное внимание и интерес немецких
мыслителей конца XVIII — начала XIX века к вопросам эстетики.
Не случайно в то время эти вопросы привлекали к себе внимание
даже людей, сравнительно мало непосредственно интересовавшихся
искусством (как это было, например, с Кантом). В Германии
объективные исторические предпосылки буржуазно-демократической
революции еще не созрели ни в XVIII, ни в начале XIX века,
однако в области отвлеченной мысли Германия уже оказалась
вовлеченной в теоретический анализ и осмысление тех исторических
проблем, которые были поставлены перед всей европейской мыслью
в Англии — эпохой промышленного переворота, а во Франции —
периодом Революции и Империи. Эти специфические условия, в
которых развивалась немецкая классическая философия конца XVIII
и начала XIX века, обусловили особое значение эстетики для систем
немецких мыслителей этого периода. В отличие от просветителей
XVIII века Кант, Гёте, Шиллер, Вильгельм Гумбольдт, а вслед за
ними — Шеллинг и Гегель уже видят, что для действительного
освобождения человечества мало достижения одной политической
свободы. Но, сознавая более или менее отчетливо формальный
характер идеалов французской буржуазной революции — идеалов
отвлеченной свободы, равенства и братства,— немецкие мыслители ищут
выхода из противоречий общественной жизни не в сфере
практической деятельности, а в сфере философии и искусства. Искусство
и эстетика представляются им той областью реальной жизни, где
осуществляется искомое человечеством, но не доступное ему в
47
других ее областях равновесие свободы и необходимости, идеального
и реального начал. Интерес к вопросам искусства, стремление
включить эстетику в качестве необходимой (и притом одной из
центральных) составной части в общую систему философского
мировоззрения явились отражением этой общей утопической и в то же время
гуманистической по духу тенденции немецкой классической
философии и литературы конца XVIII — начала XIX века.
Эстетические представления молодого Гёте формировались в
кругу деятелей «Бури и натиска» под знаком характерного для них
противопоставления живой, «органической» жизни природы
(полнота которой доступна свободному творческому вдохновению
художника— «гения») мертвым, механическим «правилам»
рационалистической эстетики классицизма и раннего Просвещения. Во второй
период своей деятельности, начиная с середины 1770-х годов, Гёте
отходит от субъективизма и интуитивизма штюрмерской эстетики.
Указывая, что искусство как творение человека есть тем самым и
произведение природы, а потому не может быть ей
противопоставлено, Гёте вместе с тем подчеркивает теперь в своих эстетических
фрагментах, что произведение искусства не тождественно явлениям
природы, отличается от них качественно, имеет свои особые законы.
Природа бесконечно разнообразна, ее явления идут и «вширь» и
«вглубь», и уже одно это обусловливает возможность существования
художников разного типа и разного уровня творчества, одни из
которых ставят перед собой более скромные, а другие — более
сложные и глубокие задачи («Простое подражание природе, манера,
стиль», 1788). Наивысшей задачей художника является не простое
подражание природе (и не выявление своей субъективной
трактовки предмета), но выработка такого объективного, общезначимого
художественного стиля, который дает искусству возможность
творчески воспроизвести природу в ее наивысшей красоте, силе и
жизненности («Об истине и правдоподобии в произведениях
искусства», 1798; «Опыт Дидро о живописи...» и др.). Умение
творчески создавать такие образы, которые верны природе и вместе с тем
не повторяют ее, но развивают дальше, раскрывают содержащиеся
в ней идеальные возможности и формы, было свойственно грекам
и поэтому они навсегда останутся вечным образцом в искусстве. Но
это не значит, что задача современного художника — подражать
грекам; он должен, оставаясь самим собой, быть в то же время верным
главному —высокому гуманистическому пафосу их искусства
(«Античное и современное», 1818).
Наряду с общими теоретическими проблемами эстетики,
анализом специфических закономерностей различных искусств, их родов
и жанров Гёте — особенно в XIX веке — уделял большое внимание
48
другому, историческому кругу вопросов. Отмечая, что нет такого
времени, которому было бы отказано в возможности произвести на
свет «прекраснейший талант» («Античное и современное»), Гёте
вместе с тем настойчиво подчеркивал, что художественное
творчество нуждается для своего полноценного развития в определенных
объективных общественных предпосылках, которые не зависят от
воли самого художника. В буржуазном мире художник и поэт живут
в значительно более сложных и противоречивых условиях, чем в
древности; поэтому подлинно классическое искусство здесь не
может развиваться без постоянной упорной борьбы против болезненных,
антиэстетических тенденций современной культуры и искусства.
Эстетические фрагменты Гёте родились непосредственно из
размышления над теми многообразными вопросами, которые вставали
перед ним в процессе художественной практики. Иной, более
отвлеченно-философский характер имеют эстетические сочинения
Шиллера.
С начала 1790-х годов Шиллер испытал в своем развитии
влияние Канта. Но, в то время как Кант — в соответствии с основной,
идеалистической тенденцией своей философии — оторвал друг от
друга сферу реальных жизненных явлений и область идеала
(истолковав идеал как отвлеченное нравственное требование, никогда
не получающее осуществления в действительности), Шиллер
настойчиво стремился связать общественный и эстетический идеал с
действительностью. Эта гуманистическая тенденция эстетики Шиллера
нашла свое отражение в сформулированном им определении
красоты как «свободы в явлении» — определении, которое позволяло
связать красоту и искусство, с одной стороны, с общественным и
моральным идеалом, а с другой — с кантовским миром «явлений»,
то есть с действительностью, и, таким образом, представить
искусство как среднее, посредствующее звено, как своего рода мост между
идеалом и действительностью. Искусство, по Шиллеру, сочетает
в себе в живом единстве то, что разъединено в других областях
жизни,— идеал и реальность, свободу и необходимость.
Определение красоты как «свободы в явлении» позволило
Шиллеру гуманистически истолковать понятие прекрасного, связать его
с идеей воспитания человека, совершающего, по Шиллеру, в ходе
своего исторического развития путь из царства слепой
необходимости в царство свободы. Искусство является для Шиллера
важнейшим орудием этого воспитания, оно смягчает первоначальную,
природную грубость чувственных вожделений человека, развивает и
гармонически упорядочивает его страсти и благодаря этому делает
возможным свободное и радостное выполнение им того, что
соответствует предписаниям самой строгой, идеальной нравственности. Эти
3 История эстетики, т. Ill
49
идеи Шиллер защищал сначала в борьбе с суровым ригоризмом
этики Канта («О грации и достоинстве», 1793), а затем широко
обосновал и развил в «Письмах об эстетическом воспитании человека»
(1795). Под влиянием кризиса освободительных идеалов XVIII века
в годы первой французской революции поэт противопоставляет ей
здесь утопию «эстетического» воспитания натуры человека «изнутри»,
средствами искусства, рассматривая его в качестве более могучего
и действенного средства преобразования мира, чем политический
переворот. Таким образом, свободолюбивые, гуманистические идеи
в эстетике Шиллера противоречиво уживаются, как и в
мировоззрении других немецких мыслителей классического периода, с
ограниченными и реакционными представлениями.
В своей последней большой работе «О наивной и
сентиментальной поэзии» (1796) Шиллер, отправляясь теоретически от
сравнительного анализа своего идеалистического по духу поэтического
творчества и более «наивного», реалистического искусства Гёте,
пришел к широкому обобщающему выводу о существовании двух
различных типов художественного творчества. Первый из них —
«наивный» (по определению Шиллера) — характерен для древнего мира,
где поэт черпал свой идеал непосредственно из окружающей
действительности, второй — «сентиментальный» — для буржуазного
общества, где между идеалом поэта и действительностью существует
неразрешимое противоречие. Развитое Шиллером историческое
учение о различии характера искусства древнего мира и нового
времени и о связи каждого из них с общими особенностями
соответствующей ему культурой эпохи Ихмело такое же большое значение
для дальнейшего развития исторических идей немецкой эстетики,
как гуманистическое учение Шиллера о связи понятия красоты с
идеалом свободы — для формирования общего учения немецкой
классической эстетики о прекрасном.
К эстетическим сочинениям Гёте и Шиллера непосредственно
примыкают работы В. Гумбольдта. Наиболее значительная из них —
«Эстетические опыты о поэме Гёте «Герман и Доротея» (1798). В
качестве отличительной черты поэзии Гумбольдт выдвигает здесь
сочетание наивысшей индивидуальности и жизненности образов с их
поэтической всеобщностью. Задача поэзии — изображая простейшее
и индивидуальное действие, легко обозримый круг явлений,
отразить в них в то же время, как в капле воды, общую картину «мира
и человечества», поднять читателя на такую точку зрения, с
которой он мог бы обозреть жизнь в ее всеобщности и целостности,
ощутить ее внутренний ритм, охватить все ее наиболее важные и
значительные стороны. Это общее определение сущности искусства
50
и поэзии Гумбольдт положил в основу созданной им теории
древнего (античного) и современного эпоса, основной чертой которых
он считал полноту и целостность (Totalität) в охвате всего круга
явлений жизни, возможных в данную эпоху, обусловленных данным,
исторически определенным уровнем человеческой культуры.
В размышлениях Гёте, Шиллера (а отчасти и В. Гумбольдта)
об искусстве исходным пунктом являлся живой художественный
опыт немецкой классической литературы, от которого они
отправлялись и в своей общей, теоретической разработке вопросов эстетики.
Путь Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля к вопросам эстетики был
иным — исходным пунктом для всех них явились общефилософские,
а не эстетические (или художественные) проблемы. Однако на
определенном этапе развития внутренняя необходимость, вытекавшая из
задач самой философии, побудила каждого из них органически
включить проблемы эстетики в круг своих философских занятий и
интересов.
Своей основной задачей Кант считал очищение философского
мышления от чуждых ему по его природе метафизическо-теологиче-
ских примесей. Если докантовская философия, по мнению самого
Канта, некритически объединяла в себе элементы философии,
теологии и опытного знания, то цель своей, «критической» философии
Кант видел, с одной стороны, в разграничении философии и
теологии, а с другой — в построении каждой из специальных
философских дисциплин на своем, ей одной принадлежащем основании.
Свою систему новой, «критической» философии Кант построил
из трех последовательно осуществленных им частей. Первая из
них была посвящена сфере теоретического познания («Критика
чистого разума», 1781), вторая—области нравственности («Критика
практического разума», 1788) и третья — вопросам эстетики и
возможности применения к природе понятия целесообразности
(«Критика способности суждения», 1790).
В природе и познающем ее теоретическом мышлении — по
Канту — господствует строжайшая необходимость. Законом
нравственного мира, противоположного миру природы, является свобода.
Промежуточное, соединительное звено между этими двумя мирами
(к которым равно принадлежит человек) образует искусство, где
реальное и идеальное начала, свобода и необходимость не
противостоят враждебно друг другу, а сливаются в единое целое.
Анализ особого предмета каждой из указанных частей своей
философии Кант связал воедино с анализом душевных способностей
человека. Таких способностей, по Канту, три: «чистый», или
теоретический, разум (познание), практический разум, или воля
(нравственность) и способность суждения (область суждений о красоте и
3*
51
целесообразности). Последняя область, в понимании Канта,
включает в себя также сферу искусства.
Отличительная черта способности суждения, по Канту, состоит
в том, что эстетическое суждение, будучи общезначимым, в отличие
от познавательного, не предполагает и не дает ясного, отчетливого
понятия о предмете. И вместе с тем, в отличие от нравственного
суждения, оно сопровождается чувством удовольствия, хотя и
лишено узкопрактического — корыстного или утилитарного —
оттенка.
Стремление Канта примирить своей системой противоположные
философские направления — материализм и идеализм, веру и
знание — не могло увенчаться успехом. Поставив своей целью
переработать в единое целое противоположные философские воззрения
и элементы, Кант добился обратного результата, превратив
собственную систему в клубок неразрешимых противоречий. Это всецело
относится и к его эстетике.
Кант признал общезначимый характер эстетических суждений.
И вместе с тем он оторвал красоту и искусство от законов
объективного мира, от познания и практики, приписал эстетическим
суждениям не объективный, но субъективный характер. Искусство
превратилось в изображении Канта и причудливую игру
субъективного творческого воображения, которое создает прекрасные формы,
обладающие некоей призрачной внутренней закономерностью, не
служащие в действительности никакой реальной объективной цели
и никак не могущие быть соотнесенными с каким-либо
определенным реальным жизненным содержанием. Эти основные положения
кантовской эстетики неизбежно вели к разрыву содержания и
формы эстетического суждения, а это толкало Канта к формализму
в эстетике — опасность, от которой он пытался спастись, объявив
искусство «символом» нравственности.
Главные слабости и противоречия кантовской эстетики были
поняты уже Шиллером, который, как мы видели, в отличие от Канта,
с самого начала пытался более прочно связать эстетику с
реальным жизненным содержанием, объявив красоту осуществлением
общественного и нравственного идеала «свободы» в «явлении».
Ближайший преемник Канта, Фихте, не занимался специально
проблемами эстетики (хотя философское учение Фихте оказало
влияние на немецких романтиков, в частности на молодого Ф. Шлегеля
с его теорией «романтической иронии»). Высказывания Фихте по
вопросам эстетики отрывочны, имеют довольно общий характер.
В своей «Системе нравственности» (1798) Фихте влед за Шиллером
и Кантом определяет эстетическую способность как способность,
52
лежащую посредине между разумом и чувственностью. Задача
художника — представить чувственно воспринимаемый мир с точки
зрения свободы, показать, что все предметы в нем полны
внутренней жизни и при этом живут по своим собственным внутренним
органическим законам, а не повинуются ограничивающей их
внешней необходимости. Таким образом, трансцендентальную точку
зрения философа художник превращает во всеобщую, наглядно
изображая единство свободы и необходимости, идеального и реального
в природе и человеке, в то время как философ может выразить это
единство лишь сложным путем, отображая его в движении
философских понятий.
В своем философском учении Фихте преодолел дуализм Канта
ценой отказа от признания объективной реальности внешнего мира.
Это привело Фихте к субъективному идеализму: материя, природа
стали в «Наукоучении» (1794) Фихте проекцией человеческого «я»,
продуктом развития мыслящего самосознания. То, что субъективно-
идеалистический характер учения Фихте был решающим недостатком
философской системы, почувствовал уже младший современник
Фихте — Шеллинг.
Начав свой путь в качестве ученика Фихте, Шеллинг вскоре
осознал бедность содержания учений Канта и Фихте, которые свели
философию к гносеологии и морали, исключив из нее область
философии природы. Это побудило молодого Шеллинга дополнить «На-
укоучение» Фихте идеалистической «натурфилософией», в которой
он стремился представить природу в качестве лестницы
органически развивающихся живых явлений, представляющих собой
«потенции» (то есть степени) развертывания некоего разумного,
духовного начала. Разработка натурфилософии привела Шеллинга от
субъективного идеализма Фихте к более глубокому, объективному
идеализму. Это явилось поворотным моментом в истории немецкой
классической философии и эстетики.
Свою новую точку зрения Шеллинг выразил в «Системе
трансцендентального идеализма» (1800), где природа и мыслящее
самосознание рассматриваются как две стороны развития одного и того
же духовного начала. Интеллект, бессознательно творящий природу,
в силу имманентно заложенного в нем внутреннего творческого
беспокойства в своем дальнейшем развитии, по Шеллингу, выделяется
из мира природы, превращается в сознательный разум человека.
Свое завершение процесс развития интеллекта, проходящий через
мир природы и мир истории, получает в искусстве, которое на
высшей ступени развития «повторяет» лежащий в основе природы
творческий акт (но уже не в бессознательной форме, а в форме
разумно-целесообразной деятельности художника).
53
Таким образом, искусство в системе молодого Шеллинга
(сложившейся под сильным влиянием эстетических идей раннего
немецкого романтизма и в свою очередь оказавшей на романтиков
огромное влияние) рассматривается как высшая, завершающая
точка, как венец развития «мирового духа». В искусстве,
неразрывно связующем идеальное и реальное, дух и чувственность
(«сознательное» и «бессознательное», по терминологии самого
Шеллинга), объединяется в гармоническом единстве все то, что раздробили
и разъединили природа и история. Высшим выражением этого
единства Шеллинг под влиянием романтиков считал мифологию.
Поэтому и будущее искусство он связывал с созданием «новой»
мифологии, которая должна помочь современному художнику подняться
над абстрактным, прозаическим характером буржуазной жизни и
воссоздать в своем творчестве иную, «идеальную» реальность
(«Философия искусства», 1802—1805). В дальнейшем борьба с
философским рационализмом и атеизмом привела Шеллинга в лагерь
воинствующей клерикальной реакции. Реакционные идеи позднего
Шеллинга нашли выражение в «Философии мифологии» (1828) и
в особенности в «Философии откровения» (1841—1842), где идеи
его ранних работ подверглись пересмотру и получили новое,
религиозно-мистическое толкование.
В своей «Философии искусства» Шеллинг впервые в истории
немецкой эстетики после Гердера пытался дать философскую
интерпретацию истории искусства, изобразив ее как единый,
внутренне закономерный и необходимый процесс развития. Однако
понимание диалектики у Шеллинга было проникнуто сильными
элементами иррационализма и при этом страдало той искусственностью
и схематизмом, которые составляли наиболее слабую черту всех его
философских работ. Наперед заданная, готовая логическая схема
чисто произвольным путем «накладывалась» Шеллингом на
конкретный материал. Эту общую слабость философии и эстетики
Шеллинга мог в значительной мере преодолеть (насколько это вообще
было возможно на идеалистической основе) лишь Гегель благодаря
осуществленной им глубокой разработке диалектической логики,
которая позволила очистить ее от свойственных Шеллингу элементов
интуитивизма и мистицизма.
Так же как Шеллинг, Гегель был объективным идеалистом. Он
рассматривал природу и историю как две ступени развития одного
и того же духовного начала — идеи или мирового разума. Но если
Шеллинг в своем понимании общих законов развития природы и
духа исходил из некоей отвлеченной, наперед заданной
конструкции, то Гегель поставил своей задачей тщательно проанализировать
процесс развития мышления, определить реальные законы его дви-
54
жения, законы перехода от одних, низших форм мышления к
другим, более высоким и сложным. Результатом этого явилась
осуществленная Гегелем логическая разработка законов диалектики, чего
недоставало всем его предшественникам.
Старый, метафизический метод утверждал, что в реальной
действительности нет противоречивых явлений, что всякое
противоречие в суждениях человека является следствием субъективного
заблуждения, а не отражением внутренних противоречий,
свойственных самому объекту мышления. В отличие от этого уже Кант
раскрыл сложный, диалектически противоречивый характер
основных категорий философии. Каждая из этих категорий выступает
в его изображении как единство противоположных определений.
Дальнейший шаг вперед, сделанный Шеллингом и Гегелем, состоял
в признании противоречия универсальным, коренным движущим
началом всякого развития в природе и истории, а также в области
познания. Это позволило Гегелю органически включить процесс
развития искусства в нарисованную им общую картину развития
«духа».
Определив на основе исследования процесса развития и
движения мыслящего сознания общие черты и законы диалектики,
которую он рассматривал как универсальную форму всякого движения
и развития, Гегель поставил перед собой цель показать, что одни и
те же установленные им общие законы разума лежат в основе всех
разнообразных явлений и процессов, к какой бы области они ни
принадлежали. Этой общей задаче Гегель подчинил разработку
отдельных конкретных частей своей философской системы, в
частности — разработку вопросов эстетики.
Таким образом, главной задачей эстетики в понимании Гегеля
стала диалектическая разработка реального материала истории
искусства, имеющая целью обнаружить единство и связь ее явлений,
выявить проходящую через нее общую, связующую нить
диалектического развития. Эту задачу Гегель стремился разрешить в своих
«Лекциях об эстетике» (1817—1829; опубликованы в 1835—1838).
В отличие от своих предшественников Гегель попытался здесь
показать, что общий объем понятия эстетического и основные
категории эстетики не представляют собой чего-то неподвижного, раз
навсегда данного от века. Историческое развитие эстетического
идеала человека получает свое выражение в закономерно сменяющих
друг друга исторически обусловленных формах искусства. Тремя
такими основными историческими этапами в развитии искусства,
каждый из которых имеет свои неповторимые черты и особенности,
Гегель считал символическую (Восток), классическую (античность)
и романтическую (новое время) формы искусства.
55
Гегель не ограничился в «Лекциях об эстетике» постановкой
вопроса об историческом развитии и изменении самого содержания
эстетического идеала. Он поставил здесь и другой, еще более
важный вопрос — о большем или меньшем соответствии каждой из форм
эстетического идеала объективной природе и назначению искусства.
Не только различные формы устройства человеческого общества
накладывают, с точки зрения Гегеля, свою неизгладимую печать на
искусство. Искусство также предъявляет к обществу свои
требования. Душой искусства, его стержнем является человек. Поэтому
не всякое, но лишь вполне определенное «состояние мира» отвечает
идеальной норме искусства, наиболее благоприятно для его
развития. Это такое «состояние мира», при котором человек и общество
свободно и вместе с тем неразрывно связаны друг с другом, так
что общественные законы и установления не выступают в качестве
силы, враждебной отдельному человеку, не стесняют его личной
инициативы (как это имеет место при буржуазной цивилизации),
а наоборот, находят свое осуществление в активной и свободной
творческой деятельности личности. С этой точки зрения античный
мир и отчасти эпоха перехода от средних веков к новому времени
были, по Гегелю, более благоприятны для развития искусства, чем
современная ему «прозаическая» буржуазная эпоха, освободившая
развитие художественного творчества от прежних
узконациональных и религиозных ограничений, но вместе с тем лишившая
искусство прежнего общезначимого содержания, поставившая в центр
внимания художника обособленного, частного человека с его
мелкими, эгоистическими страстями и интересами.
В. И. Ленин определил философию Гегеля как «перевернутый
материализм» ^ То же самое можно сказать о гегелевской эстетике.
По сравнению со своими предшественниками Гегель значительно
расширил область эстетики, пронизав ее идеей развития и наполнив
огромным реальным содержанием. Он включил в нее не только
богатейший исторический материал, но и теснейшим образом связал
вопросы развития искусства — прошлого и современного — с
общими проблемами истории культуры, с проблемами общественной
жизни в целом. Однако все эти гениальные идеи в «Эстетике»
Гегеля уложены в прокрустово ложе его идеалистической философской
системы и подчинены ее общему развитию. Искусство — в
понимании Гегеля — представляет собой не реальное жизненное явление,
а одну из ступеней в развитии «мирового духа», то есть сознания,
оторванного от человека и превращенного в фантастическое
самостоятельное существо, в демиурга истории. Подобную же мистиче-
1 В. И. Л е н и н, Сочинения, т. 38, стр.227.
56
скую интерпретацию получили в системе Гегеля и другие его
эстетические идеи. Критикуя современную ему действительность как
«мир обыденщины и прозы», Гегель делал отсюда вывод не о том,
что ее следует заменить другой, более достойной человека
действительностью, но о том, что всякая действительность в силу своего
материального характера несовершенна и что красота может
существовать вообще только в искусстве. А сознание неблагоприятности
буржуазных общественных отношений для художественного
творчества в «Эстетике» Гегеля получило отражение в фантастической
форме учения о «сумерках» искусства, которое, по Гегелю, как
мышление в образах завершило круг своего развития и должно уступить
место иной, свободной от чувственных примесей форме отвлеченного
мышления — философии.
Благодаря своей широте и своему энциклопедическому характеру
эстетика Гегеля оказала огромное воздействие на умы
современников. В то же время ее внутренние противоречия вызвали уже у ряда
ближайших учеников и последователей Гегеля желание внести в нее
многочисленные поправки. Эта тенденция получила свое отражение
в ряде работ, появившихся в период со второй половины 30-х и до
50-х годов и вышедших из недр гегельянской школы (К. Розен-
кранц, «Эстетика безобразного», 1835; А. Руге, «Новая
предварительная школа эстетики», 1837; Ф.-Т. Фишер, «Эстетика, или Наука
прекрасного», 1847—1857). Однако, стремясь «модернизировать»
эстетику Гегеля (и, в частности, пересмотреть его отрицательное отношение
к современному искусству), последующие немецкие
эстетики-гегельянцы, как правило, сглаживали ее критическое острие и
истолковывали идеи Гегеля в либерально-буржуазном духе (эстетическое
оправдание категории безобразного у Розенкранца, теория
«косвенной» идеализации Фишера и т. д.). Кроме того,— и это главное —
все они были не в силах отказаться от философского идеализма,
лежащего в основе эстетики Гегеля.
Основной порок всей гегелевской философии и эстетики первым
из гегельянцев правильно понял лишь Л. Фейербах, порвавший с
философским идеализмом Гегеля и пришедший в начале 40-х
годов от идеализма к материализму.
Критикуя с материалистической точки зрения идеалистический
характер гегелевской философии, Фейербах в своих сочинениях
40—50-х годов («Предварительные тезисы к реформе философии»,
1842; «Основные положения философии будущего», 1843; «Лекции
о сущности религии», 1848—1849, опубликованы в 1851) дал
одновременно материалистическую критику гегелевской эстетики.
Фейербах подчеркнул связь искусства с чувственностью и показал,
что искусство не имеет никакой связи с «абсолютным духом», но
57
представляет одну из форм реальной человеческой деятельности, с
помощью которой человек утверждает себя в окружающем его земном
«посюстороннем» мире.
Таким образом, Фейербах, в отличие от идеалистов-гегельянцев,
свел искусство с неба на землю, неразрывно связал его с
жизненной реальностью и потребностями человека. Но при этом, в силу
антропологического характера материализма Фейербаха, сам фейер-
баховский «человек» оставался абстракцией, не был действительным
общественным человеком. Подобно материалистам XVIII века,
Фейербах рассматривал человека как нечто застывшее, раз навсегда
данное. Он не понимал, что человек не выходит готовым из рук
природы, а является «результатом истории» *, продуктом своей
общественной деятельности. Это помешало Фейербаху понять
революционное значение гегелевской диалектики, оценить по достоинству
основную тенденцию эстетики Гегеля, в которой искусство
впервые —- хотя и в идеалистической форме — рассматривается не как
готовый объект, «в форме созерцания» 2, а связывается с историей
и практикой, с развитием мышления, с процессом «самопорождения
человека» 3. Эти наиболее глубокие диалектические моменты
гегелевской эстетики могли быть оценены только основоположниками
нового, революционного, диалектико-материалистического
мировоззрения — К. Марксом и Ф. Энгельсом.
Г. М. ФРИДЛЕН ДЕР
КАНТ
1724-1804
Иммануил Кант — основоположник немецкого классического идеализма.
Его деятельность обычно разделяют на «докритический» период,— когда Кант
продолжал рационализм Лейбница ж Вольфа, но при этом упорно
разрабатывал идею развития природы, и на «критический» период,— когда в середине
70-х годов, примерно одновременно с выступлением в литературе Гете и
писателей «Бури и натиска», сложилась его собственная философская система.
Учение Канта отдавало дань материализму (признание существования «вещей
в себе»), оно в известной мере посягало на основы религии (утверждение о
невозможности доказательства бытия божьего) и заключало в себе
значительные элементы диалектики (единство и синтез противоположностей); и все же
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 12, стр. 710.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 3, стр. 1.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, М., 1956,
стр. 627.
58
в системе Канта верх брал идеализм (через агностицизм, ограничение
опытного происхождения знаний, а также через субъективизм этики и выведение
из нее необходимости веры для обоснования нравственности и т. п.).
В области эстетики, во всяком случае, следовало бы говорить еще об
особом, третьем — «послекритическом» — периоде, начинающемся в 1790-е годы,
то есть со времени французской революции. В работах Канта, изданных в это
время, даже если они подготовлялись в предыдущие десятилетия, значительно
более свободное и полное развитие получает сенсуалистическая сторона
эстетики и укрепляется тенденция рассматривать искусство как специфическую
форму познания действительности, имеющую общественное значение и
способную воздействовать на общество.
Вопросы эстетики полнее всего трактуются в трех работах, приходящихся
соответственно на три периода деятельности Канта — в «Наблюдениях над
чувством высокого и прекрасного» (1764), в «Критике способности суждения»
(1790) и в «Антропологии в прагматическом отношении» (1798, изд. 2-е — 1800).
Большое место вопросы эстетики занимают также в обширном и недостаточно
изученном рукописном наследии, опубликованном в полном немецком Собрании
сочинений Канта 1.
В «Наблюдениях» Кант выступает с демократическими и антицерковными
воззрениями, сложившимися под влиянием просветительного классицизма,
опыта английской литературы XVIII века и особенно Руссо. Кант уделяет
большое внимание героическому — «высокому» («возвышенному») в искусстве.
Работа во многих отношениях сбивчива (эстетическое сближено с этическим,
дано механистическое определение удовольствию от прекрасного). Но в книге
уже намечается понимание вкуса как «суждения общественного» (judicium
sociale) и тот интерес к специфике эстетического, к выяснению природы
наслаждения искусством, на котором зиждется всемирно-историческое значение
эстетики Канта.
Эстетика Канта второго периода сыграла особо выдающуюся роль в общем
развитии эстетической мысли, проложив путь гегелевской эстетике и даже
реализму XIX века. Однако вследствие ее связи со всей системой «критической»
философии, она отмечена априоризмом, тенденцией к абстрагированному «вне-
содержательному» рассмотрению эстетических категорий. Эти черты, резче
всего выраженные в «Критике способности суждения» в разделе «Аналитика
прекрасного», во многом заслонили рациональное содержание кантовской
эстетики, а с середины XIX века дали повод неокантианцам для ее сугубо
формалистического истолкования. Чтобы раскрыть рациональное содержание
«критической» эстетики, необходимо в соответствии с тем, как поступали уже
младшие современники Канта — Гёте и Гегель, не формально, а диалектически
рассмотреть «Аналитику прекрасного». При этом частично спадают оковы даже
1 Kant, Gesammelte Schriften, hrsg. ν. der Preus, Akademie der
Wissenschaften, Bd. XIV—XXI, Berl., 1911—1937 (главным образом: Bd. XIV—XVI,
hrsg. v. E. Adickes, Berl., 1923—1924).
59
со схоластических формулировок четырех «моментов вкуса» и обнаруживается
связь этих «моментов» с наиболее диалектическим разделом «Критики
способности суждения», с «Дедукцией чистых эстетических суждений» и с
утверждением познавательного характера искусства в «послекритический» период.
Взятый в таком плане первый момент — о незаинтересованности суждения
вкуса — раскрывается как определение специфики эстетического наслаждения,
а именно, как бескорыстного наслаждения, что, по Канту, отнюдь не
предполагает, что с суждением вкуса нельзя соединять никакого интереса К Кант сам
говорит, что такой интерес появляется «в обществе» 2. В «Антропологии» вкус
уже прямо выступает как «способность общественной оценки внешних
предметов в воображении» (§ 67).
Таким же образом второй и четвертый моменты суждения вкуса,
утверждающие, что прекрасно то, что нравится без понятия, что познается без
понятия как предмет необходимого удовольствия,— в конечном счете самим
Кантом раскрываются с точки зрения понимания искусства как специфической
формы познания (познания в образах). Прекрасное представление предмета
Кант рассматривает в «Дедукции», как «ту форму изображения понятия,
в которой только это понятие и приобретает возможность быть сообщаемым
всем» 3. Художественный образ (сам Кант в близком значении употреблял
термин «эстетическая идея», см. § 53, 49 «Критики способности суждения»)
оказывается богаче понятия. В искусстве «...понятию придают такое
представление воображения [...], которое уже само по себе дает повод так много думать,
что этого никогда нельзя обнять в определенном понятии, значит, эстетически
расширяют само понятие даже до безграничности...»4. Определяя суждения
вкуса как «синтетические», Кант раскрывает их специфику: «они выходят за
пределы понятия «объекта» и присоединяют к нему «чувство удовольствия» 5.
Поэтому Кант рассматривал искусство как «игру познавательных
способностей», то есть с восприятием искусства не связывается представление о работе
познания, познание происходит незаметно, доставляет наслаждение,
познавательные способности как бы не работают, а играют, они будто тренируются,
приходят в состояние, располагающее к познанию вообще6.
1 См.: И. Кант, Критика способности суждения, Спб., 1898, стр. 163.
2 Существенные замечания по этому поводу высказаны Г. В. Плехановым
в работе «Французская драматическая литература и французская живопись
XVIII века с точки зрения социологии» (см.: Г. В. Плеханов, Литература
и эстетика, т. I, М., 1958, стр. 99—101).
3 И. Кант, Критика способности суждения, стр. 184, 185.
4 Τ ам же, стр. 187.
5 Τ ам же, стр. 153.
6 Плеханов в работе «Н. Г. Чернышевский» писал: «Взгляд на искусство,
как на игру, дополняемый взглядом на игру, как на «дитя труда», проливает
чрезвычайно яркий свет на сущность и историю искусства. Он впервые
позволяет взглянуть на них с материалистической точки зрения» (Г. В.
Плеханов, Литература и эстетика, т. I, стр. 482).
60
В «критический» период Кант был чрезвычайно непоследователен в
выражении мысли об искусстве как о специфической форме познания. Выдвигая ее,
он временами от нее сам отказывался. В этом проявилось то «примирение
материализма с идеализмом, компромисс между тем и другим», которые В. И.
Ленин считал присущими философии Канта 1. В «послекритический» период
полнее, нежели в «критический», сказались сильные стороны философии Канта 2
и данная мысль получила более свободное развитие. В предисловии к
«Антропологии» философ рекомендует обратиться к роману и к драме как к
источникам изучения жизни общества, потому что характеры, например, у
Ричардсона или Мольера «взяты в своих основных чертах из наблюдения
действительной жизни и деятельности людей» 3.
Даже третий момент суждения вкуса, который особенно привлекал разных
формалистов-вульгаризаторов, при конкретном рассмотрении оказывается
связанным со становлением теории реализма и заостренным против схематизма
в искусстве. Кант действительно говорил о «целесообразности без цели» в
искусстве и писал, что «красота — это форма целесообразности предмета,
поскольку она воспринимается в нем без представления цели» 4. Разъясняя это
положение в «Дедукции», Кант делал важнейшее уточнение: «Следовательно,
целесообразность в продукте изящных искусств, хотя она дается и
предумышленно, должна казаться не предумышленною»5. То есть, по. существу, Кант был
за внутреннюю и против внешней целесообразности в искусстве. Настоящий
художник мыслит образами: то есть он не ставит себе сперва цель и только
затем думает, как ее воплотить, но в воображении представляет себе сразу
цель и средство в неразрывном единстве. Тогда и произведение не будет
казаться «вымученным» и, хотя «мы сознаем, что это искусство», будет
«восприниматься как природа» 6. Гегель в своих «Лекциях по эстетике» замечательно
раскрыл эту мысль: «Прекрасное, согласно Канту, не носит в себе
целесообразность как некую внешнюю форму, а целесообразное соответствие между
внутренним и внешним представляет собой имманентную природу самого
прекрасного предмета» 7.
В подходе к эстетике Канта ясно проявилась идеологическая борьба
вокруг наследия великого философа. Если классики мировой литературы и
эстетики конца XVIII — начала XIX века Гёте (отчасти Шиллер), Гельдерлин,
Гегель, Пушкин исходили из ее диалектического понимания и развивали ее в
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 14, стр. 184.
2 То есть те, о которых Ленин писал, что, «признавая единственным
источником наших знаний опыт, ощущения, Кант направляет свою философию по
линии сенсуализма, а через сенсуализм, при известных условиях, и
материализма» (там же, стр. 185).
3 I. Кант, Gesammelte Schriften, Bd. VII, S. 122.
4 И. Кант, Критика способности суждения, стр. 84—85.
5 Τ ам же, стр. 176.
6 Там же.
7 Гегель, Сочинения, т. XII, М., 1938, стр. 64.
61
направлении теории реализма ], то неокантианцы систематизировали, возвели
в канон все ее метафизические, субъективные и формалистические элементы,
создав Канту репутацию чуть ли не создателя теории «искусства для искусства».
Применительно к критическому исследованию кантовской эстетики весьма
плодотворно общее указание Ленина о необходимости критиковать Канта и
агностиков «по-гегелевски», то есть не отвергая с порога их рассуждения, а
исправляя « (как Гегель исправлял Канта) эти рассуждения, углубляя, обобщая,
расширяя их, показывая связь и переходы всех и всяких понятий» 2.
ИЗ «КРИТИКИ СПОСОБНОСТИ СУЖДЕНИЯ»
[Вкус и гений. Красота в природе и в искусстве]
(§ 36). Эстетические суждения вкуса [...] синтетические
суждения, так как они выходят за пределы понятия и даже созерцания
объекта и присоединяют к нему как предикат нечто такое, что уже
отнюдь не познание,— именно чувство удовольствия (или
неудовольствия) .
(§ 48). Для суждения о прекрасных предметах, как таковых,
нужен вкус, а для художественного искусства, то есть для создания
таких предметов, нужен гений.
[...] Прежде всего необходимо точно определить различие
между красотой природы, суждение о которой требует только вкуса,
и художественной красотой, возможность которой (на что надо
обращать внимание и в оценке подобного предмета) требует гения.
Красота в природе это прекрасная вещь, а красота в искусстве —
это прекрасное представление о вещи.
1 Высказывания Гёте о Канте см. в кн.: В. И. Л и χ τ е н ш τ а д т, Гёте, ПГ.,
1920 (особенно стр. 480—486); у Гельдерлина о Канте см., например, письмо
к брату от 1 января 1799 года; у Гегеля прежде всего во «Введении» к
«Эстетике» (Сочинения, т. XII, стр. 60—65); у Пушкина фрагмент «Между тем как
эстетика со времен Канта и Лессинга...».—«О народной драме и драме «Марфа
Посадница», 1830 (А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 11, М.,
Изд-во АН СССР, 1949, стр. 177—179). Пушкин вообще придавал Канту
большое значение в формировании мировоззрения своего поколения. Если
рассматривать текст «Евгения Онегина» вместе с рукописями, то Кант оказывается
в своем роде единственным мыслителем, равно близким как Ленскому, так
и Онегину! В первом варианте знаменитой XXII строфы седьмой главы среди
«нескольких творений», которые признавал Онегин, в ряду с
энциклопедистами стоял и Кант (А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 6, Изд-во
АН СССР, 1937, стр. 438). На той же примерно стадии работы над романом,
когда Ленскому грозила судьба «иль быть повешен, как Рылеев», он в главе
второй впервые представлялся автором то как «крикун, мятежник и поэт», то
как «питомец Канта и поэт...» (там ж е, стр. 557).
2 В. И. Л е н и н, Сочинения, т. 38, стр. 170.
62
Чтобы судить о красоте природы, как таковой, мне нет нужды
заранее иметь понятие о том, какой вещью должен быть этот
предмет *; то есть мне не нужно знать материальную целесообразность
(цель); только форма, без познания цели, нравится при
художественной оценке и сама собой. Но если данный предмет выдается
за продукт искусства и, как таковой, должен быть признан
прекрасным, то, ввиду того что искусство всегда предполагает цель в
причине (и ее причинности), в основу того, чем должна быть эта вещь,
надо положить понятие. И так как соответствие разнообразного
в вещи до внутреннего определения ее как цели есть совершенство
вещи, то в оценке художественной красоты надо считаться вместе
с тем и с совершенством вещи, о чем в суждении о красоте природы
(как таковой) нет и вопроса. Хотя в суждении главным образом
о живых предметах природы, как, например, о человеке или о
лошади, когда хотят судить об их красоте, обыкновенно принимается
в соображение и объективная целесообразность, то тогда суждение
не чисто эстетическое суждение, то есть не только суждение вкуса.
[...] Изящное искусство открывает свое преимущество именно
в том, что оно прекрасно описывает вещи, которые в природе
отвратительны или безобразны. Фурии, болезни, опустошения, войны
и т. п. могут быть прекрасно описаны как нечто вредное и даже
представлены на картине.
(§ 45). Продукт искусства имеет вид природы только потому,
что — хотя он с полной точностью соответствует правилам, по
которым только этот продукт и может быть тем, чем он должен
быть,— он является не вымученным, в нем не сквозит школьная и
педантичная форма; то есть в его выполнении незаметно следов
того, чтобы здесь правило неотступно стояло перед глазами
художника и налагало оковы на его духовные силы.
(§ 48). [...] Прекрасное представление предмета [...], собственно,
представляет из себя ту форму изображения понятия, в которой
только это понятие и приобретает возможность быть сообщаемым
всем.
(§ 49). О некоторых произведениях, от которых ожидают, что
они, по крайней мере отчасти, должны относиться к
художественному творчеству, говорят, что в них нет духа, хотя и не находят
в них ничего достойного порицания, поскольку дело касается вкуса.
Стихотворение может быть очень милым и элегантным, но
лишенным духа. [...]
1 Кант здесь не имеет в виду живых существ.— Здесь и далее
примечания, принадлежащие составителям текстов, не оговариваются.
63
Дух в эстетическом значении [...] есть не что иное, как
способность изображения эстетических идей 1; под эстетической идеей я
понимаю то представление воображения, которое дает повод много
думать, хотя никакая определенная мысль, то есть никакое понятие,
не может быть вполне адекватным ему. [...]
Собственно, только в поэзии эта способность эстетических идей
может сказаться в полном объеме. И эта способность,
рассматриваемая только сама по себе, и есть, собственно, талант (воображения).
Если понятию придают такое представление воображения,
которое относится к его пластическому изображению, но которое уже
само по себе дает повод так много думать, что этого никогда нельзя
обнять в определенном понятии, а значит, эстетически расширяют
само понятие даже до безграничности,— то воображение при этом
бывает творческим и приводит в движение способность
интеллектуальных идей (разум) именно для того, чтобы по поводу этого
представления мыслить больше (хотя это относится уже к понятию
о предмете), чем воспринимается в представлении и может быть
сделано в нем ясным.
[Поэзия среди других искусств]
(§ 53). Среди всех других искусств первое место удерживает за
собой поэзия (которая своим происхождением почти целиком
обязана гению и менее всего дает возможности следовать предписаниям
и примерам). Она расширяет душу тем, что дает воображению
свободу и в пределах данного понятия среди безграничного
разнообразия возможных соответствующих ему форм указывает ту, которая
соединяет его пластическое изображение с такой полнотой мыслей,
которой не может быть вполне адекватным ни одно выражение
в языке; следовательно, эстетически поднимется до идей.
[...] После поэзии, если дело идет о чувственно приятном и
движении души, я хотел бы поставить то искусство, которое ближе
всего подходит к словесным искусствам и естественно с ними
соединяется, то есть музыку. Хотя она говорит только через ощущения
без понятий и, значит, ничего не оставляет для размышления, как
это делает поэзия, но она приводит душу в более разнообразное и
и при всей своей мимолетности более глубокое движение; конечно,
в ней дается больше чувственного наслаждения, чем культуры
(игра мысли, которая косвенно при этом возбуждается, только
результат как бы механической ассоциации), и по суду разума она
имеет меньше значения, чем другие изящные искусства.
1 Это понятие у Канта примерно соответствует современному понятию
«художественный образ».
64
[...] Когда значение изящных искусств ценят по той культуре,
какую они дают душе, когда масштабом берут то расширение наших
способностей, которое в способности суждения должно
объединиться для познания, то [...] изобразительные искусства имеют перед
музыкой большое преимущество; так как они приводят
воображение в свободную и вместе с тем соразмерную с рассудком игру,
то вместе с тем они делают и дело, ибо они создают продукт,
который служит для рассудочных понятий надежным и подходящим
средством, дабы содействовать соединению их с чувственностью, и
содействуют таким образом как бы утонченности высших
познавательных способностей.
Среди изобразительных искусств я отдал бы предпочтение
живописи, отчасти потому, что она как искусство рисунка лежит в
основе всех других изобразительных искусств, отчасти потому, что
она гораздо дальше проникает в область идей и соответственно
этому может больше расширить поле созерцания, чем это возможно
для всех других искусств.
[Прекрасное и идеал красоты]
(§ 29. Общее замечание). По чувству удовольствия предмет
можно отнести к приятному, к прекрасному, к высокому или к
(безусловно) доброму (jucundum, pulchrum, sublime, honestum).
[...] При оценке влияния приятного на душу дело сводится
только к количеству внешних возбуждений (одновременно или
последовательно) и как бы к объему приятного ощущения, чего нельзя
сделать понятным как-либо иначе помимо количества. И оно не
культивирует человека, но относится только к чувственности.
Прекрасное, напротив, требует представления об известном качестве
объекта, которое можно сделать понятным для нас и обратить в
понятие (хотя в эстетическом суждении дело до этого не доходит);
и оно культивирует нас, так как учит вместе с тем обращать
внимание на целесообразность в чувстве удовольствия. Высокое состоит
только в отношении, где чувственное в представлении о природе
признается пригодным для возможного сверхчувственного
применения его. Безусловно доброе, определяемое субъективно по чувству,
которое оно внушает (объект морального чувства) [...], отличается
[...] модальностью необходимости, [...] которая заключает в себе
не только притязание, но и положительное требование согласия со
стороны каждого.
(§ 17). Искать принцип вкуса, который давал бы общий
критерий прекрасного через определенные понятия, это бесплодное
усилие, так как то, чего ищут, невозможно и в себе самом
противоречиво. Всеобщая сообщаемость ощущения (нравится или не нравит-г
65
ся), и притом такая, которая имеет место без понятия, согласие,
насколько это возможно, всех времен и народов по отношению к
этому чувству в представлении известных предметов,— это
эмпирический, хотя слабый и едва ли достаточный для задачи критерий
происхождения вкуса [...].
Только то, что имеет цель своего существования в себе, а
именно человек, который через разум может определять себе свои цели
сам или, где он заимствует их из внешнего восприятия, соединять
их со своими существенными и общими целями и в соответствии
с ними может тогда судить и эстетически,— только этот человек,
следовательно, есть идеал красоты, так же как человечество в его
лице как мыслящее целое, одно среди всего существующего в мире,
способно к идеалу совершенства.
[...] Идеал, которого в силу вышеуказанных оснований можно
ожидать только от человеческого, [...] надо отличать от нормальной
идеи 1. В человеческом образе идеал состоит в выражении начала
нравственного [...].
[О первом моменте суждения вкуса. Бескорыстность эстетического
наслаждения]
(§5). Вкус есть способность суждения о предмете или о способе
его представления применительно к удовольствию или
неудовольствию без всякого интереса к этому предмету. Предмет такого
удовольствия называется прекрасным.
(§ 41). Выше уже было достаточно выяснено, что суждение
вкуса, в котором нечто признается прекрасным, не должно иметь
основой определения какого-либо интереса. Но отсюда еще не
следует, что, раз оно дано как чистое эстетическое суждение, с ним
нельзя соединять никакого интереса. Но это соединение с
интересом всегда может происходить только косвенно, то есть вкус
предварительно надо представить себе в соединении с чем-либо
другим, чтобы художественное наслаждение при простой рефлексии
о предмете можно было связать с удовольствием от существования
его (в чем и состоит всякий интерес). Ибо и в эстетическом
суждении имеет значение то, что говорится в познавательном суждении
[...]. Это другое может быть или чем-либо эмпирическим, а именно
склонностью, которая свойственна человеческой природе, или чем-
либо интеллектуальным, как свойство воли иметь возможность
определяться разумом a priori; в обоих случаях дается удовольствие от
1 Нормальной идеей Кант называет единичное созерцание воображения,
которое дает мерило для оценки индивидуумов данного вида.
66
существования объекта и таким образом полагается основа для
интереса в том, что нравится уже само по себе и без отношения к
какому-либо интересу.
Эмпирически прекрасное представляет интерес только в обще-
стве; и если допускают, что стремление к общественности
свойственно человеку, а влечение и годность для этого, то есть
общительность, такое свойство, которое относится к потребностям человека
как существа, предназначенного для общества, то есть относится к
гуманности,— то нельзя не смотреть на вкус как на способность
оценки того, через что даже чувство можно сообщать каждому
другому,— значит, как на средство, содействующее тому, чего требует
от каждого естественная склонность.
[О втором и четвертом моментах суждения вкуса.
Эстетическое удовольствие как игра познавательных способностей.
Искусство и познание]
(§9). Объяснение прекрасного, выведенное из второго момента.
Прекрасно то, что всем нравится без понятия.
[...] Возможность всеобщей сообщаемое™ душевного состояния
при данном представлении — это именно и есть то, что как
субъективное условие суждения вкуса должно лежать в его основе и иметь
своим следствием удовольствие от данного предмета. Но ничто не
может быть передаваемо всем, кроме познания и представления,
поскольку оно относится к познанию [...]. Если же основа определения
суждения об этой всеобщей сообщаемости представления должна
быть мыслима только субъективно, а именно без понятия о
предмете, то она не может быть ничем другим, как только душевным
состоянием, которое дается во взаимном отношении способностей
представления друг к другу, поскольку данное представление оно относит
к познанию вообще.
Познавательные силы, которые возбуждаются через это
представление, находятся здесь в состоянии свободной игры, так как
никакое определенное представление не ограничивает их
определенным правилом познания. Следовательно, душевное состояние
должно заключаться в этом представлении чувства свободной игры
способностей представления при данном представлении в его
отношении к познанию вообще. А для представления, через которое
дается предмет, чтобы сделать из него познание, нужны
воображение для соединения разнородного в созерцании и рассудок для
единства понятия, которое объединяет представления. Это состояние
свободной игры познавательных способностей при представлении, через
которое дается предмет, должно быть таким, чтобы его можно было
передавать всем вообще, ибо познание как определение объекта,
67
которому должны соответствовать данные представления (в каком
угодно субъекте), есть единственный вид представлений, которые
имеют значение для каждого.
Субъективная всеобщая сообщаемость способа представления
в суждении вкуса, ввиду того что она должна иметь место без
предположения определенного понятия, не может быть ничем другим,
как только душевным состоянием в свободной игре воображения
и рассудка (поскольку они могут соответствовать друг другу так,
как это нужно для познания вообще); при этом мы сознаем, что это
субъективное соотношение, пригодное для познания вообще, точно
так же должно иметь значение и для каждого и, следовательно,
может быть сообщаемо всем, как и каждое определенное познание,
которое всегда основывается на этом отношении как субъективном
условии.
Эта чисто субъективная (эстетическая) оценка предмета или
представления, через которое этот предмет дается, предшествует
чувству удовольствия от этого предмета и служит основой этого
удовольствия в гармонии познавательных способностей; только на
этой всеобщности субъективных условий в оценке предметов
основывается та всеобщая субъективная значимость наслаждения,
которую мы соединяем с представлением о предмете, если мы называем
его прекрасным.
(§ 22). Объяснение прекрасного, выведенное из четвертого
момента.
Прекрасно то, что познается без понятия как предмет
необходимого удовольствия.
(§ 56). [...] По отношению к принципу вкуса открывается
следующая антиномия:
1. Тезис. Суждения вкуса основываются не на понятиях, ибо
иначе о них можно было бы диспутировать (решать вопрос
посредством доказательств).
2. Антитезис. Суждение вкуса основывается на понятиях, ибо
иначе, несмотря на их различие, о них нельзя было бы спорить
(иметь притязание на необходимое согласие других с этим
суждением) .
(§ 32). Надо думать, что суждение a priori должно заключать
в себе и понятие об объекте, для познания которого оно и дает
принцип [...].
(§ 23). [...] Красота природы, (самостоятельная) в своей форме,
уже вводит с собой целесообразность, ввиду чего предмет,
по-видимому, как бы заранее предназначается для нашей способности
суждения; таким образом, эта целесообразность сама по себе создает
предмет наслаждения. [...]
68
Следовательно, хотя на самом деле она (самостоятельная красота
природы) не расширяет нашего познания об объектах природы, но
она поднимает наше понятие о природе как о простом механизме до
понятия о ней же как об искусстве, что побуждает нас к более
глубоким исследованиям самой возможности такой формы. [...]
Понятие о высоком в природе далеко не так важно и не так
содержательно, как понятие о прекрасном в ней, [...] оно вообще указывает
на целесообразное не в самой природе, а только в возможном
применении ее созерцаний, чтобы создать в нас самих нечто
целесообразное, совершенно независимое от природы. Основу для
прекрасного в природе мы должны искать вне нас, а основу для высокого —
в нас. [...]
(§ 51). [...] Поэзия есть искусство вести свободную игру
воображения, как дело разума.
[...] Поэт обещает интересную игру с идеями, но при этом так
много делает для рассудка, как будто бы он имел в виду только его
дело. Соединение и гармония двух познавательных способностей —
чувственности и рассудка, которые хотя и не могут обойтись друг
без друга, но не могут и соединиться вместе без принуждения и без
того, чтобы взаимно не перебивать друг друга,— должны быть
непреднамеренными, такими, чтобы казалось, будто это происходит
само собой; иначе это не будет и изящным искусством. Поэтому
здесь надо избегать всего изысканного и вымученного, ибо изящное
искусство должно быть свободным искусством в двояком смысле,
именно в том, что его работа не есть оплачиваемый труд, о
размерах вознаграждения за который можно судить по определенному
масштабу, где можно требовать и вычислить плату, а еще и в том,
что здесь душа хотя и чувствует себя занятой работой, в то же
время, не имея в виду никаких других целей (независимая от
вознаграждения), чувствует себя деятельной и удовлетворенной.
[...] Поэт обещает мало и предполагает только игру с идеями,
но производит нечто такое, что достойно не игры, а работы; именно
играя, он дает рассудку пищу и посредством воображения дает
жизнь его понятиям.
[О третьем моменте суждения вкуса. Внутренняя и внешняя
целесообразность в искусстве]
(§ 17). Объяснение прекрасного, выведенное из третьего
момента.
Красота — это форма целесообразности предмета, поскольку она
воспринимается в нем без представления цели.
(§ 12). [...] Душевное состояние чем-либо определяемой воли
уже в себе самом есть чувство удовольствия и тождественно с ним,
69
следовательно, не возникает из него как действие. [...] Сознание
чисто формальной целесообразности в игре познавательных сил
субъекта при представлении, через которое дается предмет, есть уже
удовольствие, так как оно уже заключает в себе основу определения
деятельности субъекта по отношению к оживлению его
познавательных сил, следовательно, внутреннюю причинность (которая
целесообразна) по отношению к познанию вообще, но без ограничения ее
каким-либо определенным познанием, а, значит, только форму
субъективной целесообразности представления в эстетическом суждении.
(§ 44). Но изящное искусство — это такой вид представлений,
который сам по себе целесообразен; хотя сам по себе он и не имеет
цели, но все-таки содействует культуре душевных проявлений в
общественности и в обмене впечатлений с другими.
Всеобщая сообщаемость удовольствия вводит уже в самом своем
понятии ту мысль, что это не чувственное удовольствие только из
ощущения, но удовольствие из рефлексии; таким образом,
искусство, как изящное искусство, есть такое, которое имеет своим
мерилом рефлектирующую способность суждения, а не чувственное
ощущение.
(§ 45). В произведении изящных искусств надо сознавать, что
это искусство, а не природа; но целесообразность в его форме
должна казаться настолько свободной от принудительности
произвольных правил, как будто бы это было продуктом самой природы.
[...] Следовательно, целесообразность в произведении изящных
искусств, хотя она и дается предумышленно, должна казаться
непредумышленной; то есть на изящные искусства надо смотреть как
на природу, но при этом надо сознавать, что это все-таки искусство.
[Высокое (возвышенное)]
(§ 25). Высоко то, одна мысль о чем уже доказывает ту
способность духа, которая превышает всякий масштаб внешних чувств.
(§ 29. Общее замечание). Высоко то, что непосредственно
нравится в силу своего противодействия интересам чувственности.
[...] Прекрасное подготовляет нас любить нечто, даже природу,
без всякого интереса; высокое ценит нечто даже вопреки нашему
собственному (чувственному) интересу.
(§ 29). Есть в природе бесконечное количество прекрасных
вещей, в суждении о которых мы прямо можем требовать согласия
каждого с нами и можем ожидать этого согласия, не рискуя
особенно ошибиться; но далеко не так легко мы можем ожидать
единодушия со стороны других в нашем суждении о высоком в природе.
По-видимому, нужна гораздо большая степень культуры не только
70
эстетической способности суждения, но и познавательной
способности, которая лежит в основе эстетической, чтобы иметь возможность
судить об этом преимуществе предметов природы.
Склонность души к чувству высокого уже предполагает в ней
восприимчивость к идеям.
(§ 28). Смело повисшие, как бы грозящие скалы, громоздящиеся
по небу грозные облака, надвигающиеся с громом и молнией,
вулканы во всей их разрушительной силе, ураганы, оставляющие за
собой пустыню, безграничный возмущенный океан, могучий водопад
на многоводной реке... мы называем высокими, потому что они
поднимают наши душевные силы над обычным уровнем и дают нам
возможность заметить в себе совершенно особую силу
противодействия, которая дает нам смелость померяться силами с кажущимся
всемогуществом природы.
[Телесная основа эстетического удовольствия]
(§ 29. Общее замечание). [...] Все представления в нас, будут ли
они объективно только чувственными или вполне
интеллектуальными, субъективно могут соединяться с удовольствием или
неудовольствием, как бы незаметно ни было то и другое [...], и это потому,
как уже утверждал Эпикур, что удовольствие и неудовольствие,
в конце концов, всегда телесны, будут ли они исходить из
воображения или из рассудочных представлений, ввиду того что жизнь без
чувства телесного органа есть только сознание своего
существования, а не чувство своего хорошего или дурного состояния, то есть
подъема или задержки жизненных сил; ибо душа сама по себе
есть только жизнь в целом (самый принцип жизни) и препятствия
или содействия ей надо искать вне ее, но все-таки в человеке, а
значит, в соединении души с телом.
И. Кант, Критика способности суждения, Спб.,
1898. Перевод H. М. Соколова. Новая редакции
перевода Н. И. Балашова.
ИЗ «АНТРОПОЛОГИИ В ПРАГМАТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ»
(§ 63). [...] Есть один вид наслаждения, который в то же время
содействует и культуре человека. [...] Такое удовольствие мы
получаем от наук и изящных искусств.
(§ 67). Вкус — это возможность эстетической способности
суждения осуществлять выбор, имеющий всеобщее значение.
71
Следовательно, это способность общественной оценки внешних
предметов в воображении. Душевные силы человека (das Gemüt)
здесь ощущают свою свободу в игре образов (то есть
чувственности) ; ибо общение с другими людьми в обществе (die Sozialität) уже
предполагает свободу — и это чувство есть удовольствие [...], но
способность представления всеобщего есть рассудок. Следовательно,
суждение вкуса — это и эстетическое и рассудочное суждение, но
мыслимое только в их соединении. [...]
(§ 71 В). Я буду рассматривать здесь только словесное
искусство — именно красноречие и поэзию,— ибо оно приводит душевные
силы в такое настроение, в котором они непосредственно
пробуждаются к деятельности,— таким образом, словесное искусство
имеет отношение к прагматической антропологии, исследующей
возможность воздействия на человока.
[...] Вкус — это только регулятивная эстетическая способность
суждения о форме при соединении в воображении разнообразных
предметов; дух же — это творческая способность разума,
способность давать a priori образец для данной формы воображения.
Задачи духа и вкуса: первого — создавать идеи; второго — приводить
их в соответствие с формой, соразмерной законам творческой
способности воображения; таким образом, дух и вкус способны
создавать (fingendi) заново (не путем подражания) нечто оригинальное.
Произведение, созданное при участии как духа, так и вкуса, можно
назвать поэзией вообще.
[...] Художник для полного успеха своей работы нуждается еще
в счастливом душевном настроении, как бы в моментах некоего
вдохновения (потому-то его и называют vates1), ибо то, что делается
по предписанию и правилу, бывает неодухотворенным (рабским);
произведение же изящных искусств требует не только вкуса,
который может возникнуть на почве подражания, но и оригинальности
мыслей, которая живительна сама по себе и именуется духом.
Художник природы — все равно, пишет ли он кистью или пером, а в
последнем случае в прозе или в стихах,— это еще не творческий
гений, ибо он лишь подражает; один только художник идей
настоящий мастер изящных искусств.
Почему под поэтами обыкновенно понимают только
стихотворцев, то есть пользующихся такой речью, которая скандируется
(подобно музыке произносится по тактам) ? Потому, что поэт, предлагая
произведение изящного искусства, выступает с такой
торжественностью, что оно должно по форме удовлетворить самый тонкий вкус,
ибо иначе оно бы не было прекрасным. Но, так как эта торже-
1 — пророком (латин.).
72
ственность более всего подходит при изящном представлении
возвышенного, то без стихов подобная аффектированная торжественность
(у Гуго Блера) называется «обезумевшей прозой». С другой
стороны, стихотворство еще не поэзия, если оно лишено духа. [...]
Почему посредственное стихотворение невыносимо, а посред
ственную речь все еще можно терпеть? Причина этого,
по-видимому, заключается в том, что торжественность тона в каждом
поэтическом произведении возбуждает большие ожидания,— и именно
потому, что они не исполняются, стихотворение представляется еще
худшим, чем оно заслуживало бы по своему прозаическому
содержанию. [...]
То обстоятельство, что поэты не делают такой карьеры, как
адвокаты и люди других ученых профессий, объясняется уже задатками
темперамента, который вообще нужен для прирожденного поэта;
он как раз склонен, отдаваясь игре воображения, направленной на
общие темы, отстраняться от забот. Свойства поэта, которые касаются
его характера, а именно то, что он не имеет никакого характера, но
бывает непостоянен, прихотлив и (без злости) ненадежен, создает
себе — при полном добродушии — врагов, даже не питая ни к кому
ненависти, едко насмехается над друзьями, отнюдь не желая
причинить им зла,— объясняются особенностями его причудливо острого
ума, отчасти прирожденного, который у поэта подчиняет себе
практическую способность суждения.
(§ 31 С)» Рассудок и чувственное созерцание при всей их
неоднородности объединяются сами собой, содействуя нашему
познанию, будто одна из этих способностей происходит от другой, или
обе восходят к общему корню, чего не может быть, или — что по
крайней мере для нас непостижимо — каким образом неоднородное
может происходить от одного и того же корня.
(§8). Каждый оказывает рассудку полное уважение. [...] Но
чувственное созерцание имеет плохую репутацию. О нем говорят много
дурного; например: 1) что оно запутывает воображение; 2) что оно
говорит слишком властно и как госпожа, тогда как оно должно быть
только служанкой разума и должно быть укрощаемо упорно и
настойчиво; 3) что оно даже обманывает и что по отношению к нему
нельзя быть достаточно осторожным. С другой стороны, у
чувственного созерцания нет недостатка и в поклонниках, особенно среди
поэтов и людей со вкусом, которые не только считают чувственное
воплощение рассудочных понятий достоинством и прославляют его,
но именно в чувственном воплощении, а также и в отказе от
стремления разлагать понятия с педантической тщательностью на их
составные части, видят содержательность (полноту) мысли, воодушев-
73
ленив (выразительность) речи и доступность (ясность в осознании),
сухость же рассудка даже провозглашают скудостью.
(§ 9). Богатство, которое сразу и в нерасчлененном виде
преподносят ему духовные продукты красноречия и поэзии, часто
приводит рассудок в замешательство, так как он должен прояснить и
расчленить все акты рефлексии, которые он, хотя и не вполне
сознательно, совершает при этом.
Но чувственное созерцание в этом никак не повинно; наоборот,
скорее его заслуга в том, что оно снабжает рассудок богатейшим
материалом, в сравнении с которым абстрактные понятия рассудка
часто убоги, хотя блестящи.
(§ 11), Упрек, который логика бросает чувственности,
заключается в том, что ее познание будто бы страдает узостью
(индивидуальностью, ограниченностью на единичном), но ведь рассудок,
который имеет в виду общее и именно поэтому склонен к
абстракциям, возбуждает против себя обвинение в сухости. И вот
эстетическая обработка материала, первое требование которой —
общедоступность (Popularität), пролагает новый путь, на котором можно
избежать обоих недостатков.
I. Kant, Anthropologie in pragmatischer
Hinsicht
I. Kant, Gesammelte Schriften, Bd. VII, Berl.,
1917, S. 236, 241, 245-246, 248, 120-121, 174,
143, 144—145, 146.
Перевод H. И. Балашова с использованием
перевода H. М. Соколова (И. К а н т, Антропология,
Спб., 1900).
ИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПОСМЕРТНО МАТЕРИАЛОВ
К КУРСУ ЛОГИКИ
(1770-1780)
(Замечания на книге: F. F г. Meier, «Auszug aus
der Vernunftlehre», 1752)
№ 1749. Историческое познание может сочетаться с
рассудочным, не проигрывая ничего в отношении красоты (как и
философское познание с эстетическим, не теряя основательности). [...] Histo-
rica praestruatur philosophicael. Надо читать, накоплять опыт.
В чувственности — начало всякого познания.
ι — историческое [познание] подготовляло бы философское (латин.).
74
№ 1810. Эстетическое совершенство в отношении к познанию
или в отношении только к ощущению удовольствия. В первом
случае продукт труда (дело) ; во втором — игра.
Это доставляет большое удовольствие, если продукт труда (дело)
похож на игру. Наоборот, доставляет неудовольствие, если игра
похожа на продукт труда. Однако это именно дело: привести ради
познания в согласование чувственное созерцание и рассудок.
№ 1822. У чувственности, чувственного наслаждения могут быть
две цели: либо непосредственное удовольствие, либо достижение
некоего совершенства применительно к интеллектуальному
наслаждению. Сюда, имея в виду логическое совершенство, относятся:
1) стремление придать познанию чувственный характер, то есть in
concreto 1, в виде созерцаний; 2) вызвать практически
растроганность или взволнованность. Таким образом, это игра, делающая
серьезное занятие доступным всем.
№ 1839. Целью всякого логического совершенства является: все
свести к понятиям (к всеобщности), а им придать отчетливость.
Целью всякого эстетического совершенства является: все свести к
созерцаниям, а им придать оживленность. Но в том. и другом случае
необходимы еще известный порядок и согласование по единой идее.
Согласованность применительно к объекту — истина.
Согласованность применительно к субъекту — приятность.
№ 1855. Средство прекрасного — искусство, закон его —
природа. Природа — не образец (но пример) прекрасного, так как
прекрасное заключено в идеях; однако она — substratum 2 прекрасного.
Природа обозначает в прекрасном непринужденность; искусство —
целенаправленность и упорядоченность. Искуственность же —
педантичность. Все то, что естественно, как бы возникает из причин,
действующих в соответствии со всеобщим законом. (Если
искусство походит на случайное, а случайное — на искусство, это вносит
неожиданность. )
Красота — это такое свойство предмета или познания,
посредством которого способность познания может быть приведена в
состояние гармонической согласованности.
№ 1867. Практическими3 познания являются либо как
предписания, либо как побуждения к действию; первыми — поскольку
они подчиняют; вторыми — поскольку они волнуют. В том и
другом случае они не относятся к логическому совершенству.
Эстетическое совершенство находится с ними в более тесной связи.
1 — конкретно (латин.).
2 — субстрат (латин.).
3 То есть относящимися к области нравственности.
75
№ 1868. Эстетическое должно иметь известное отношение к
логическому; в его основе лежит определенная идея. [...]
Логическое и эстетическое совершенство наносят друг другу
ущерб ([то есть придают одно другому] сухость или
поверхностность; претенциозная красота как будто стремится убедить в чем-
то), однако также и поддерживают друг друга.
№ 1894. Подлинное эстетическое совершенство это то, которое
вносит свой вклад в познание, то есть не ограничивается областью
чувства, но заключает в себе нечто, делающее рассудочные
понятия конкретными в виде созерцаний.
№ 1904. Логическое совершенство: в формальном отношении —
отчетливость; в материальном — истина (посредством понятий)«
Эстетическое совершенство: отчетливость и истинность
созерцания.
№ 1930. Вкус требует культивированного (cultiviertes)
чувственного суждения. Неспособность сделать выбор, имеющий
общезначимое (populair) значение, свидетельствует об отсутствии вкуса.
Всеобщая приемлемость чувственного выбора есть вкус. Склонность к
выбору, противоречащему чувственному суждению,— это ложный,
превратный вкус.
№ 1932. Согласование чувственного созерцания и рассудка в
едином познании — это красота. Прекрасное основывается не на
ощущении, не на чувственно-приятном, ибо они ничего не дают для
познания.
Чувство этой гармонии обеих познавательных способностей
составляет основу наслаждения прекрасным.
№ 1935. Красота составляет лишь часть познания, а именно
чувственное представление понятия, не логически, in abstracto *, но
конкретно (in concreto) эстетически.
№ 2377. Отчетливость — это ясность, усиленная в логическом
отношении; оживленность — ясность, усиленная в эстетическом
отношении.
№ 2378. Очевидно, связно, основательно.
Эстетическая отчетливость познания достигается посредством
примеров, логическая отчетливость — посредством понятий.
I. К a η t, Gesammelte Schriften, Bd. XVI (Kant's
handschriftlicher Nachlaß. Bd. III. Logik, hrsg. v.
E. Adickes), Berl.—Lpz., 1924, S. 100, 101, 124,
129,133, 138,143,147, 151,153,155,158,160, 161, 337.
Перевод Η. И. Балашова.
— абстрактно (латин.).
76
ИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПОСМЕРТНО МАТЕРИАЛОВ
1770-1780-х годов К КНИГЕ «АНТРОПОЛОГИЯ
В ПРАГМАТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ»,
№ 618. Поэзия — художественная игра мыслей.
Мы играем мыслями тогда, когда определенная цель не
вынуждает нас осуществлять умственный труд, направленный на
достижение определенной цели. [То есть в случае, если] ищем только
развлечения в ходе мыслей.
Тогда оказывается, что все духовные силы приходят в состояние
гармонической игры. Следовательно, они не затрудняют ни самих
себя, ни разум, хотя и не приходят ему на помощь. Игра образов,
идей, аффектов и склонностей, наконец, даже только впечатлений
определенного отрезка времени; нечто соразмеренное с тактом (тип
стиха) и созвучие (рифма). Игра чувственных созерцаний —
превращается в стихотворение... 1
Это не работа, следовательно, не повинность, но тем не менее —
знание, хотя и поэзия. Надо примириться с тем, что поэт ничему не
учит; он и сам не должен превращать игру в труд. Разум тоже
портит игру, она часто становится тогда банальной. Поэзия —
прекраснейшая изо всех игр, поскольку при ней приходят в состояние игры
все духовные силы человека. Она у музыки взяла ритм. Без меры
слогов и рифм нет подлинной игры, нет танца [...].
Образы поэзии не предназначены специально для уяснения
предмета, но должны приводить в движение и оживлять воображение.
Они должны иметь содержание, ибо без рассудка нет
упорядоченности и именно игра рассудка вызывает наибольшее удовлетворение.
№ 622. Хороший вкус обнаруживается только в век здорового,
а не одного утонченного разума.
№ 624. Чувственное познание — самое совершенное из всех
видов познаний, в основе которых лежат созерцания. Запутанность
может возникнуть здесь лишь случайно.
№ 635. Самостоятельная красота 2 должна иметь основой
постоянный принцип; однако никакое познание не неизменно, кроме того,
которое открывает сущность вещи; следовательно, эта красота
связана с разумом.
1 Фраза обрывается.
2 Selbständige Schönheit — это выражение Канта должно соответствовать
по терминологии книги «Критика способности суждения» понятию pulchri-
tudo vaga, оно переводилось как «чистая красота», точнее,— неопределенная,
ни с каким понятием не связанная, логически «не определимая» красота
вообще, как таковая.
77
№ 638. Вопрос заключается в том, непосредственно ли приятна
игра ощущений или форма и образы созерцаний, или они нравятся
только потому, что она [игра ощущений] помогает рассудку понять
и с легкостью охватить некое великое многообразие и одновременно
отчетливо представить себе происходящее.
К образу относится не только одна форма предмета в ее явлении
в пространстве, но и материальная субстанция (die Materie), то есть
ощущение ([напр.] цвет).
№ 647. Вкус, собственно говоря,— способность выбрать в
согласии с общим мнением то, что по своим чувственным ощущениям
доставляет удовольствие. Поскольку в ощущениях согласие менее
необходимо, чем в явлении, вкус имеет дело больше с явлениями,
чем с ощущениями.
№ 743. Суждение вкуса — общественное суждение и
способствует общению и также приданию общественного характера
приятному. Хороший вкус выделяет то, что нравится в течение долгого
времени. Существенно прекрасно то, что соответствует понятию
вещи по законам чувственного созерцания, так как нужно
предполагать, что понятие передает сущность вещи.
№ 767. Вкус приводит к тому, что наслаждение становится
передаваемым. Таким образом, вкус является средством и действенным
началом в объединении людей.
№ 768. Пробуждение чувств, созерцаний и понятий — вот те
различные цели, к которым стремится поэт. Чем грубее читатель, тем
большее значение имеет первое. Затем — второе и, наконец,—
третье. Теперь созерцания и чувства (чувственные представления? —
Перев.) лишь должны приходить на помощь понятиям, но уж
нимало не затемнять и не заглушать их.
№ 779. К теории вкуса:
1. Душевные силы приводятся в движение и им дается занятие
при помощи ощущений (чувственное созерцание1). 2.
Упорядочиваются посредством понятий (способность суждения).
3. Душевные силы приводятся в движение и им дается занятие
при помощи понятий (дух). 4. Упорядочиваются посредством
ощущений (вкус).
№ 787. Если нет хорошего вкуса, то не будет также и
продуктов духа [в искусстве], так как именно вкус приводит рассудок в
состояние подлинной гармонии с чувственностью, поощряет и
оживляет суровый процесс рассудочной обработки, непосредственно
предоставляя ей возможность самого приемлемого для всех применения.
1 В данном случае в скобки заключены слова, написанные Кантом над
предыдущими.
78
№ 806. Подлинно прекрасное состоит в совпадении чувственного
созерцания с идеей, или субъективного рода познания1 (того, что
нравится субъективно) с объективным.
Summa [итог]: вкус освобождает от чисто чувственного и
рекомендует нам рассудок.
Следовательно, все, что способствует успеху нашего познания,
нравится нашему вкусу. [...]
Явление, поскольку оно совпадает с идеей, создает подлинно
ирекрасное (красоту).
Игра созерцаний (а не фигур), ибо созерцания просвечивают
сквозь фигуры — это творящая природа и искусство.
Игра ощущений. Музыка.
Игра мыслей. Поэзия. [...]
Склонность к общительности (sociabilis) — (непосредственное)
удовольствие от удовлетворенности окружающих. (Вкус)
общественный выбор (sociabilis) — это способность выбрать то, что всем
нравится; а именно посредством чувств уметь сделать такой выбор,
который был бы общественным. [...]
К достоинствам литературного стиля относится колебательное
движение (der Schwung) ; другими словами — произведенное
однажды впечатление само продолжает действовать, и не по прямой,
а по кругу, так, чтобы обнаружить все стороны предмета;
некоторые стихи обладают мертвой силой воздействия и, чтобы его
восстановить, нужно постоянное повторение впечатления. Как бы
оттесняя. Колебательное движение должно быть обязательно
подразделено на периоды, как у Виланда.
№ 808. Занятие, которое доставляет удовольствие само по себе,—
развлечение; занятие же, которое приятно только сознанием цели,—
ТРУД.
№ 812. Прилежание и гениальность. Для первого необходима
способность (учиться); для второй — дух (внутренняя жизнь).
Гениальность — это способность создать то, чему нельзя
научиться. Существуют науки и искусства, требующие гениальности.
Творчество без гениальности — труд. Гениальность требует
вдохновения, труд — диспозиции. Гений берет непосредственно из
истоков. [...]
Подлинная область, сфера действия гения — поэзия, так как
создавать здесь означает творить; поэтому, в какие одежки ни
наряжать, простое описание не создает стихотворения. Оттого-то
поэзия без гениальности невыносима и посредственных поэтов не дол-
1 Слова «субъективного рода познания» были, видимо, заменены позже
Кантом словами: «того, что нравится субъективно».
79
жно быть; гениальность являет себя в открытии и общем плане,
виртоузность — в стиле и манере, искусность — в прилежной
отделке, то есть в соответствии с определенными правилами. Гении
стоит выше правил, он устанавливает законы. В поэзии гений
проявляет в первую очередь дух и чувство, в ораторском искусстве —
способность суждения и вкус. Следует различать выражения: «этот
человек обладает гениальной способностью», или «он гений».
Гениальность связана с настроением. Гениальность с возрастом угасает,
способность суждения увеличивается. В математике гениальность
(больше всего) проявляется в открытии методов. [...]
Гениальность в творчестве определяется оригинальностью идеи.
№ 814. Способность суждения заключается в умении направлять
все действия к единой идее, как к цели. Творение свидетельствует
о способности суждения в тех случаях, когда оно ведет к
определенной идее и полностью с ней согласуется. [...] Без идеи не может
быть понята архитектоника; следовательно, явление тогда не с чем
соотнести. Способность суждения выше рассудка. И у пошляков
есть рассудок. Способность суждения в том, как женщина одета
дома. Способность суждения в сообразовании здания с его
назначением, в сообразовании его украшений с целью, которой они не
должны противоречить. Способность суждения выбирает, гениальность
создает.
№ 817. Дух — то, что оживляет душевные силы, то есть
преображает их действия в свободную игру; к этому относится видение
новых сторон явлений, расширение кругозора и т. д. Способность
суждения определяет идею, то есть, собственно говоря, каков или
каким должен быть предмет. Образ в том виде, в каком он нам
является, не должен противоречить идее. Следовательно,
способность суждения связывает и ограничивает игру чувственности, но
придает этой игре подлинное единство и тем самым усиливает
впечатление, производимое ею. Взволнованность порождает в душе
интерес, дух приводит в движение ее силы и направляет их к
действию; они проникают все многообразие образа, достигают до самой
идеи, возвращаются к первоначальному состоянию и соразмеряют
это многообразие в своем выборе соответственно определенным
условиям применительно к идее и к его отдельным сторонам.
Последнее и есть вкус, который является не чем иным, как суждением
о мере впечатлений, поскольку он должен привести всю
чувствительность души в состояние соразмерной взволнованности, то есть
не повредить ей где-либо посредством противоречий. Польза вкуса,
таким образом, в первую очередь негативна; позитивное начало
исходит от гениальности, которая состоит из чувствительности,
способности суждения и духа.
80
№ 823. Мы живем животной, духовной и человеческой жизнью;
Благодаря первой мы способны ощущать радость и боль (чувство),
благодаря третьей — наслаждение посредством чувственной
способности суждения (вкус), благодаря второй — наслаждение
посредством разума. Эпикур говорит: всякое удовольствие ощущается
только через плоть, хотя бы первопричина его заключена в духе.
(Природа и искусство (искусство и случайность). Нечаянному
противопоставляется изысканное. Gout Ьагос 1. Случайность и пред-
намеренность. Игра природы. Природа соединяет искусность и
случайность...)
№ 829. Чувствительность, способность суждения, дух и вкус —
свойства гения; их нельзя познать с помощью правил. Поэтому их и
причисляют к сфере чувственности; их нельзя приобрести
умничаньем.
№ 856. Поскольку рассудок и в непосредственном созерцании
должен пройти через (все) прочие представления, чтобы охватить
предмет в целом,— так и вкус требует рассудка, выказывает его
и полезен для него. Подлинный вкус облегчает мышление и
субъективно совпадает с понятием.
№ 230. Эстетическим идеализмом мы бы назвали такое
воззрение, которое не рисует мир более прекрасным, чем он есть, а создает
предрасположение для приукрашенного восприятия мира.
№ 231. Идеализм: все заключено в человеке, например вся
красота мира.
№ 892. Идеал — это идея в образе, то есть в созданном поэтом
представлении in concreto. Из-за трудностей конкретного
воплощения идеал никогда полностью не выражает идею, и, таким образом,
идея является, мерилом, с помощью которого судят об идеале.
№ 933. Одушевление чувственности идеей — это дух.
Гениальность не (просто) вдохновение. Гоняться за
гениальностью свойственно мечтателю.
Идея должна прежде всего пробудить рассудок, а только затем
чувственность. Если это протекает в обратном порядке, то это уже
не вдохновение, а лихорадочное возбуждение.
№ 935. Определение целого посредством понятия называется
идеей.
№ 943. Философия — подлинная родина идей, но не способности
вносить оживление в них. Природа же (знание людей) и
соперничающее с ней в созидании искусство, которое ее стремится
превзойти в том, что касается созерцания, являются областью таких идей.
1 Неточно орфографированные французские слова: le goût baroque —
«барочный вкус», «вкус эпохи барокко».
4 История эстетики, т. Ill
81
которые одновременно вносят оживление. Поэтому гений
рассматривает в своем творчестве природу как прообраз, но законы оживления
(как необходимое условие) берет у людей и создает сообразно этим
законам новое творение, которое, в свою очередь, имеет свои законы.
Гениальность не есть особая сила души, как утверждает Дже-
рард 1 (в этом случае она должна была иметь определенный
объект), — a principium2 оживления всех других сил посредством идей
о любых объектах.
Открытие предполагает оживление способности познания, а не
просто обострение ученических навыков. Но это оживление должно
быть направлено на достижение определенной цели посредством
создания определенной идеи. В противном случае это не открытие,
а случайное обнаружение.
№ 961. Идея — это principium правил. Прообраз. Идея — продукт
рассудка, но не его абстракция, отвлеченная им от материалов,
воображения.
№ 962. Все изящные искусства покоятся на соединении
созерцаний с понятиями, то есть чувственного созерцания с рассудком и
разумом. Чем яснее понятие проступает в созерцаниях, чем сильнее
оно в них выражено, тем более великим является искусство. Однако
понятия не должны быть эмпиричны, то есть выведены из
созерцаний; в этом случае мы имеем дело не с искусством, а просто со
сноровкой. Если созерцания выражены строго в соответствии с
законами чувственного созерцания, а понятия — строго в соответствии
с законами рассудка, но и те и другие при этом полностью
совпадают, то в этом совпадении и состоит извечное искусство; так как
целесообразность характеризует, собственно говоря, искусность,
а только сочетание целесообразности с игрой чувственных и
мыслительных способностей — красоту.
№ 963. Все (любое чувственное представление) то, что можно
создать только в соответствии с понятиями, относится к области
искусства; все то, что можно создать по определенной форме
(образцу) , относится к области ремесла.
№ 993. Культура вкуса — подготовка к морали.
I. Kant, Gesammelte Schriften, Bd. XV (Kant's
handschriftlicher Nachlaß. Bd. III. 1. Hälfte:
Anthropologie, hrsg. v. Adickes), Berl. — Lpz., 1923,
S. 266—267, 269—270, 274—276, 284, 302,
334—336, 341, 344, 347—348, 350—351, 354, 356-
357, 361-365, 367; 370, 378, 388, 390, 405—406,
414—415, 419^424, 438. Перевод H. И. Балашова.
1А. Джерард (Gerard) — английский эстетик, автор трактата «Опыт
о гении» (1774).
2 — основа (латин.).
82
ГЕТЕ
1749-1832
Творчество Иоганна Вольфганга Гёте стоит в центре всех немецких
эстетических учений начиная с 70-х годов XVIII века. Однако этот величайший
поэт Германии, ученый, мыслитель был не только предметом эстетических
споров своего времени, но и их активным участником. Уже его ранние статьи «На
юбилей Шекспира» (1771) и «О немецком зодчестве» (1773) теоретически
формулировали те идеи «Бури и натиска», которые нашли столь совершенное
воплощение в «Геце фон Берлихингене» и других произведениях этой поры.
В дальнейшем наряду с глубокими мыслями о природе искусства,
рассыпанными в его произведениях (в особенности в романе «Годы учения
Вильгельма Мейстера»), мы находим и ряд теоретических выступлений по
важнейшим проблемам эстетики в статьях: «Простое подражание природе, манера,
стиль» (1789), «Коллекционер и его близкие» (1799), «О правде и
правдоподобии в искусстве» (1798), «Шекспир и несть ему конца» (1813—1816) и др.
В этих статьях нашли свое выражение не только мысли Гёте по
различным частным моментам теорий искусства, но и общий его взгляд на реализм
как наиболее совершенный творческий метод.
Если Шиллер смотрел на мир прекрасного как на соединительное звено
между миром должного и миром реальности, то есть если для него
художественный образ был «реализацией идеи», то отправным пунктом эстетики Гёте
является не идея, а действительность, опыт. Искусство исходит из наличного
опыта, из «простого подражания природе». Такое искусство «зиждется на
спокойном утверждении сущего, на любовном его созерцании» К Однако
художник не может и не должен удовлетвориться простым подражанием, «ему
досадно рабски копировать все буквы из великого букваря природы» 2. Стремясь
выразить свой неповторимый дух, свое индивидуальное отношение к природе,
он вырабатывает особый язык, «манеру». Именно такой метод станет основным
и господствующим в немецком романтизме. Сам же Гёте рассматривает и
романтическую «манеру» и натуралистическое «подражание природе» как
преддверие истинного искусства, которое он называет «стиль». Это искусство стоит
вровень «с величайшими стремлениями человека», оно покоится «на
глубочайших твердынях познания, на самом существе вещей, поскольку нам дано его
распознавать в зримых и осязаемых образах.» 3. «Стиль» предполагает точное
знание наиболее существенного в предметах, их внутренней закономерности.
Он связан с выявлением идейного начала в сыром материале впечатлений,
данных писателю в опыте. Гёте борется за соединение в художественном образе
всеобщего и единичного, типичного и индивидуального, то есть за реализм
1 Г ё τ е, Собрание сочинений в 13-ти томах, т. X., М., 1937, стр. .401.
2 Там же, стр. 400.
3 Там же, стр. 401.
4*
ts
в искусстве. Однако это еще не критический реализм, это реализм другого
типа. Он уже постиг искусство воспроизведения действительности в ее общих
чертах, но не раскрыл реальных движущих сил общества. Поэтому
желаемое здесь выдается за сущее, развитие действия искусственно
предопределяется в сторону распада существующих варварских условий жизни и
утверждения гуманистических идеалов «общечеловеческой» нравственности.
Человек, по Гёте, стремится к целостному познанию, к гармонии вол π
и разума, к совершенному развитию личности. Но действительность не
содержит в себе целостности и совершенства. Значит, надо преобразовать
несовершенную действительность в искусстве, надо те разорванные элементы возвьь
шенного и прекрасного, которые предлагает нам жизнь наряду с ое прозой
и несовершенством, гармонизировать с помощью искусства. Искусство не просто
копирует действительность, оно очищает то, что кажется поэту существенным,
от того, что он считает случайным; не имея опоры в реальных социальных про^
цессах, художник произвольно гармонизирует данные опыта и наблюдения
в духе собственных представлений и гуманных идеалов, в конечном счете
«идеализирует» действительность. Таким образом, гётевское понимание
реализма, исходным пунктом которого является реальность, приходит к
идеализации этих реальных отношений. В этом пункте Гёте совпадает с Шиллером,
который приходит к аналогичным выводам, исходя из других посылок — из
«реализации идеи». В области художественного творчества «идеализированная
реальность» сближается с «реализованной идеей». В этом и заключается единая
эстетическая основа двух, казалось бы, столь разных творческих методов,
единство классического реализма Гёте и Шиллера.
ПРОСТОЕ ПОДРАЖАНИЕ ПРИРОДЕ, МАНЕРА, СТИЛЬ
Нам представляется не лишним точно определить, что именно
мы понимаем под этими словами, которые мы часто будем
употреблять. Хотя ими уже давно пользуются в литературе, хотя они как
будто определены теоретическими сочинениями, все же всякий
употребляет их в особом смысле и подразумевает при этом то или иное,
смотря по тому, насколько он овладел понятием, которое ими
выражено.
Простое подражание природе
Если бы художник, у которого имеется природный талант, в
ранние годы после некоторого упражнения глаза и руки на оригиналах
обратился к природе, правдиво и трудолюбиво передавая в точности
ее формы и ее цвета, добросовестно никогда от них не удаляясь,
начиная и кончая в ее присутствии всякую картину, которую бы он
писал,— такой человек был бы ценнейшим художником, так как
84
он был бы, без сомнения, чрезвычайно правдив и его работы были
бы сделаны уверенно, сильно и законченно.
Если строго взвесить эти условия, то легко убедиться, что даже
ограниченный, но способный человек может таким образом
передавать приятные, хотя и ограниченные сюжеты.
Такие сюжеты должны быть всегда легко доступны; надо иметь
возможность их удобно видеть и спокойно передавать; характер
человека, который занимается такой работой, должен быть
спокойным, замкнутым и довольствующимся ограниченным наслаждением.
Этот род воспроизведения применялся бы, следовательно, к
мертвым, спокойным предметам спокойными, добросовестными,
ограниченными людьми.
Манера
Но обыкновенно такой способ действия кажется человеку
слишком боязливым или недостаточным. Он видит сочетание многих
предметов, которые он может поместить в одну картину, только
жертвуя частностями; его раздражает подражание азбуке природы,
чтение ее по слогам; он изобретает свой собственный способ, создает
себе язык, чтобы передавать по-своему то, что он воспринял душой,
чтобы дать предмету, который он повторно изображает, собственную
форму, не имея перед собой натуры и не помня ее в точности.
Так образуется язык, в котором непосредственно выражен разум
говорящего. Подобно тому как понятия о бытовых вещах в душе
каждого, кто самостоятельно мыслит, распределяются и
складываются по-иному, так каждый художник видит, схватывает и передает
мир по-своему, он воспринимает его явления вдумчивее или
легкомысленнее, воспроизводит их основательно или небрежно.
Мы видим, что этот способ воспроизведения удобнее всего
применяется к сюжетам, которые объединяют много маленьких
подчиненных сюжетов. Этими последними приходится жертвовать ради
общего выражения большого сюжета, как, например, в пейзажах,
где не была бы достигнута цель, если бы автор не удержал понятие
целого, боязливо задерживаясь на частностях.
Стиль
Когда через подражание природе, через создание общего языка,
через тонкое и глубокое изучение предметов искусство достигает
наконец все более и более точного познания свойства вещей и их
состояния, умения обозревать последовательность форм, умения
сопоставлять и передавать наиболее характерные из них,— тогда
8S
появляется стиль как высшая ступень, которой искусство может
достичь,— ступень, равная высшим человеческим усилиям.
Простое изображение покоится на спокойном бытии и
благоприятной обстановке, манера схватывает явление своей легкой,
одаренной природой, стиль же покоится на глубочайших твердынях
познания, на сущности вещей, насколько ее возможно познать в видимых
и осязаемых образах.
В. Гёте, Статьи и мысли об искусстве, Л.—М.т
1936, стр. 11—14. Перевод К. А. Большевой.
ИЗ ВВЕДЕНИЯ В «ПРОПИЛЕИ»
Главное требование, предъявляемое художнику, всегда
следующее: чтобы он придерживался природы, изучал ее, подражал ей,
чтобы он производил нечто похожее на ее явления.
Не всегда отдают себе отчет, как велико, даже чудовищно это
требование, и даже настоящий художник узнает это только по мере
своего развития. Природа отделена от искусства огромной
пропастью, которую даже гений не в состоянии перешагнуть без
внешних вспомогательных средств.
Все, что мы видим вокруг себя,— только сырой материал, и хотя
случается довольно редко, что художник при помощи инстинкта
и вкуса, путем упражнения и опыта достигает умения брать у
вещей их красивую внешность, выбирать из хорошего лучшее и
производить по крайней мере приятную видимость, но еще гораздо
реже бывает, особенно в настоящее время, что художник
оказывается в состоянии проникнуть как в глубину вещей, так и в глубину
самого себя, чтобы дать в своих произведениях не только
поверхностный и легкий эффект, но, состязаясь с природой, создать нечто
духовно органическое и дать своему произведению такое
содержание, такую форму, благодаря которым оно кажется одновременно
естественным и сверхъестественным.
Человек — высшее и настоящее содержание изобразительного
искусства; чтобы его понять, чтобы найти дорогу в лабиринте его
строения, необходимо общее познание органической природы. [...}
Человеческая фигура не может быть понята только при помощи
осмотра ее поверхности: надо обнажить ее внутреннее строение,
расчленить ее на части, заметить соединения, знать их особенности,
изучить их действие и противодействие, усвоить скрытое,
постоянное, основу явления, чтобы действительно видеть и подражать тому
прекрасному неделимому целому, которое движется перед нашими
глазами, как живой организм. Внешний осмотр живого существа
86
смущает наблюдателя, и здесь позволительно привести правдивую
поговорку: «видишь в первую очередь то, что знаешь». Близорукий
лучше видит тот предмет, от которого он удаляется, чем тот, к
которому он впервые приближается, потому что ему помогает его
духовное зрение, так как, в сущности, познание завершает зрение.
Как хорошо передает предметы знаток естественной истории,
который является одновременно рисовальщиком, потому что он знает
и подчеркивает важность и значение частей, от которых зависит
характер целого!
Насколько художнику помогает точное знание отдельных частей
человеческой фигуры, которую он затем снова рассматривает как
целое, настолько же полезно обозрение родственных предметов,
сравнение с ними, при условии, что художник способен подняться
до общих понятий и до нахождения родства между вещами, которые
кажутся чуждыми друг другу.
Сравнительная анатомия дала общее понятие об органической
природе; она нас ведет от одной формы к другой, и в то время, как
мы рассматриваем сходные или отдельные предметы, мы
поднимаемся над всеми, чтобы увидеть их особенности в идеальном образе.
Если мы сумеем его удержать, мы замечаем сперва, что наше
внимание при разглядывании предметов принимает определенное
направление, что отдельные познания при помощи сравнения легче
воспринимаются и запечатлеваются и что затем в художественной
практике мы только тогда можем состязаться с природой, если
перенимаем у нее хотя бы отчасти те способы, которые она применяет
при создании своих произведений. [...]
[...] Мы только что рассматривали природу как сокровищницу
материалов вообще, теперь же мы приближаемся к важному пункту,
где говорится о том, как искусство приспособляет для себя
материалы.
Когда художник передает какой-нибудь предмет природы,
последний ей уже больше не принадлежит, можно даже сказать, что
художник его в этот момент создает, заимствуя у него все
значительное, характерное, интересное или, вернее, вкладывая в него
высшее достоинство.
Этим способом как бы присваиваются человеческой фигуре
более красивые пропорции, более благородные формы, более
возвышенный характер, определяются ее правильность, совершенство,
значимость и законченность, которым природа охотно представляет
лучшее, что у нее есть, в то время как обычно она при своем
размахе легко вырождается в безобразное или теряется в безразличном.
То же относится к сложным произведениям искусств, к их
сюжету и содержанию, будь то сказка или история.
87
Счастлив художник, который, предпринимая работу, не
ошибается, который умеет выбрать или, вернее, определить
соответствующее искусству!
Тот, кто в поисках для себя задачи боязливо бродит среди
разрозненных мифов или по обширной истории, кто хочет быть
значительным своей ученостью или интересным аллегорически, тот
остановится посреди работы перед неожиданными препятствиями или
по окончании работы не достигнет своей прекрасной цели. Кто
говорит неясно разуму, так же неотчетливо говорит чувству; мы
считаем этот пункт настолько важным, что с самого начала помещаем
об этом более подробное изложение.
Если же сюжет благополучно найден или изобретен, наступает
момент обработки, которую нам хотелось бы разделить на
рассудочную, духовную и механическую. Рассудочная обработка
вырабатывает сюжет в его внутреннем соотношении, она находит
подчиненные мотивы, и если при выборе сюжета вообще определяется
глубина художественного гения, то при нахождении подробностей —
его широта, его богатство, его полнота и приятность.
Духовной мы бы назвали ту обработку, при помощи которой
произведение становится доступным чувствам, приятным и
необходимым своей тихой прелестью.
Наконец, механическая обработка — это та, которая воздействует
через те или иные телесные органы на определенную материю и
таким образом сообщает работе бытие, действительность. [...]
Один из основных признаков упадка искусства — это смешение
разных его видов.
Сами искусства, так же как их разновидности, родственны друг
другу, они имеют известную склонность к соединению, даже к
слиянию; но именно в этом заключается долг, заслуга, достоинство
настоящего художника, что он умеет отделить ту отрасль, в которой
он работает, от других, обосновать каждое искусство и каждый род
искусства на нем самом и по возможности их изолировать.
Замечено, что все изобразительное искусство стремится к
живописи, вся поэзия — к драме, и это наблюдение может нам в
дальнейшем дать повод к важным заключениям.
Настоящий законополагающий художник стремится к
художественной правде; беспринципный, который следует слепо
побуждению,— к правдоподобности; первый приводит искусство на высшую
ступень, второй — на низшую.
Как с искусством вообще, точно так же обстоит и с его
разновидностями. Ваятель должен иначе думать и ощущать, чем
живописец, он должен даже иначе приниматься за дело, когда он хочет
сделать полувыпуклую вещь, чем когда он делает объемную. Повы-
88
шая все более и более барельеф, отделяя от него постепенно части
и фигуры, наконец, добавляя строения и пейзаж и получая таким
образом наполовину живопись и наполовину кукольный театр,
художники уходили все дальше и дальше от настоящего искусства;
к сожалению, такой путь избрали хорошие художники новейшего
времени.
Там же, стр. 35—38, 41, 43, 46, 47. Перевод
К. А. Болыпевой.
О ПРАВДЕ И ПРАВДОПОДОБИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ИСКУССТВА
Разговор
На одной немецкой сцене было представлено овальное здание,
в известной мере похожее на амфитеатр, в ложах которого
нарисовано было много зрителей, словно принимающих участие в том, что
происходит внизу. Многие действительные зрители в партере и
ложах были этим недовольны и обижались на то, что им пытались
навязать нечто столь противоречащее правде и правдоподобию. По
этому поводу произошел разговор, приблизительное содержание
которого приводится здесь.
Адвокат художника. Посмотрим, не удастся ли нам
каким-нибудь образом прийти к соглашению.
Зритель. Я не понимаю, как вы можете оправдывать
подобного рода представление.
Адвокат. Не правда ли, когда вы идете в театр, то вы ведь
не ожидаете, чтобы все, что вы там увидите, было действительное
и истинное.
Зритель. Нет, но я требую, чтобы мне по крайней мере все
казалось истинным и действительным.
Адвокат. Простите, если я это от вашего лица буду отрицать
и заявлю: вы этого отнюдь не требуете.
Зритель. Это действительно было бы странно. Если бы я
этого не требовал, то зачем тогда декоратор старался бы точно
проводить все линии согласно правилам перспективы? Все предметы
изображать в полном соответствии с действительностью? Зачем
изучали бы костюмы? Зачем тратилось бы столько денег, чтобы их
верно скопировать и таким образом переносить меня в те времена?
Почему восхищаются больше всего тем актером, который выражает
чувства наиболее правдиво, который в речи, положении и жестах
89
больше всего приближается к правде, которой обманывает меня
настолько, что мне кажется, будто я вижу перед собой не
подражание, а самую вещь?
Адвокат. Вы очень хорошо выражаете ваши чувства, однако
гораздо труднее, чем вы, может быть, думаете, совершенно ясно
понять то, что чувствуешь. Что вы скажете, если я возражу вам, что
все театральные представления отнюдь не кажутся вам
правдивыми, а скорее только видимостью правды.
Зритель. Я скажу, что вы оперируете такими тонкостями,
которые, пожалуй, не что иное, как игра слов.
Адвокат. Аяна это вправе вам ответить, что, когда мы
говорим о действиях нашего духа, никакие слова не бывают
достаточно тонкими и деликатными, и сама игра слов такого рода
указывает на потребность в ней нашего духа, который, так как мы не
в состоянии непосредственно выразить то, что происходит внутри
нас, пытается оперировать противоположностями, обсудить вопрос
с обеих сторон и таким образом как бы на середине между ними
уловить суть дела.
Зритель. Пожалуй, так. Только объясните вашу мысль яснее
и, если можно, примерами.
Адвокат. Примеров в мою пользу я могу привести сколько
угодно. Итак, например, когда вы находитесь в опере, не
испытываете ли вы живого, полного удовольствия?
Зритель. Если все между собой согласовано, то я испытываю
одно из самых полных удовольствий, какие я только могу осознать.
Адвокат. Но когда все эти милые люди там, на сцене,
встречаются и пением приветствуют друг друга, нараспев прочитывают
получаемые ими записки, пением выражают свою любовь,
ненависть, все свои страсти, с пением дерутся и отправляются на тот
свет,— можете ли вы утверждать, что все представление или хотя
бы часть его кажется правдивым, скажу даже — имеет хотя бы
видимость правды.
Зритель. Действительно, если вдуматься хорошенько, то я не
решусь этого сказать. Во всем этом мне ничего не кажется правдой.
Адвокат. И все же вы при этом испытываете полное
удовольствие и удовлетворение.
Зритель. Бесспорно. Правда, я еще хорошо помню то время,
когда над оперой смеялись именно вследствие ее грубой
неправдоподобности и как я, несмотря на это, всегда испытывал от оперы
величайшее удовольствие и продолжаю все больше и больше его
испытывать в связи с тем, что она становится богаче и совершеннее.
Адвокат. А не чувствуете ли вы себя в опере совершенно
обманутым?
m
Зритель. Обманутым... Это слово не хотелось бы мне
употреблять... И все же — да. И все же — нет.
Адвокат. Но тут вы впадаете ведь также в полное
противоречие, которое, по-видимому, еще хуже игры слов.
Зритель. Успокойтесь, мы это выясним.
Адвокат. Как только мы это выясним, мы и договоримся.
Позвольте мне по тому пункту, на котором мы остановились,
задать вам несколько вопросов.
Зритель. Ваши обязанности выпутать меня вопросами из
той путаницы, в которую вы вопросами же меня впутали.
Адвокат. Итак, вы не желали бы назвать обманом то
чувство, которое в вас вызывает опера?
Зритель. Нет, не хотел бы,— и все же это вид обмана, нечто
весьма родственное ему.
Адвокат. Не правда ли, вы при этом почти себя забываете?
Зритель. Не почти, а вполне, если вся опера или даже часть
ее хороши.
Адвокат. Вы в восторге?
Зритель. Это случалось со мной не один раз.
Адвокат. Можете сказать, при каких обстоятельствах?
Зритель. Случаев таких так много, что мне трудно было бы
все их перечесть.
Адвокат. А между тем вы уже ответили; безусловно, чаще
всего тогда, когда все друг с другом согласовано?
Зритель. Без сомнения.
Адвокат. Подобное совершенное исполнение было
согласовано с самим собой или с другим продуктом природы?
Зритель. Конечно, с самим собой.
Адвокат. И эта согласованность являлась ведь продуктом
искусства?
Зритель. Конечно.
Адвокат. Мы только что отрицали, что в опере есть своего
рода правда; мы утверждали, что она вовсе правдоподобно не
представляет того, чему она подражает; но можем ли мы отрицать
существование в ней внутренней правды, вытекающей из
последовательности художественного произведения?
Зритель. Правда, когда опера хороша, то она является
законченным в себе маленьким миром, в котором все совершается по
известным законам. Она требует тогда, чтобы о ней судили по ее
собственным законам и чтоб ее воспринимали сообразно с ее
собственными свойствами.
Адвокат. Из этого разве не следует, что правда в
искусстве и правда в природе совершенно различны между собой и что
91
художник ни в коем случае не может и не должен
стремиться к тому, чтобы его произведение казалось произведением
природы.
Зритель. Но ведь художественное произведение нам часто
кажется произведением природы.
Адвокат. Этого я не могу отрицать. Но позвольте мне быть
откровенным.
Зритель. Как же иначе. Ведь мы с вами беседуем тут не
для того, чтобы обмениваться комплиментами.
Адвокат. Так я позволю себе сказать следующее: только
совершенно необразованному зрителю может художественное
произведение казаться произведением природы, и такой именно зритель,
хотя он и стоит на самой низшей ступени, мил и дорог художнику.
Но, к сожалению, такой зритель только до тех пор будет доволен,
пока художник нисходит к нему; но никогда он не подымется с
истинным художником, когда последний должен начать полет, на
который окрыляет его гений, и когда он должен закончить свое
произведение в полном его объеме.
Зритель. Это странно, но все же приковывает внимание.
Адвокат. Вы бы неохотно слушали, если бы уже сами не
поднялись на более высокую ступень.
Зритель. Позвольте мне теперь самому сделать попытку
привести все сказанное в порядок и пойти дальше; разрешите занять
место спрашивающего.
Адвокат. Тем лучше.
Зритель. Только необразованному, говорите вы, может
произведение искусства казаться произведением природы?
Адвокат. Конечно. Припомните птиц, которые полетели на
вишни великого живописца.
Зритель. А разве это не доказывает, что эти вишни были
превосходно написаны?
Адвокат. Нисколько, это скорее доказывает мне, что эти
любители были истинные воробьи.
Зритель. Но мне все же это не мешает считать такую
картину превосходной.
Адвокат. Могу ли я рассказать вам одну недавнюю историю?
Зритель. Я слушаю истории с большей охотой, чем
рассуждения.
Адвокат. У одного великого естествоиспытателя была в числе
других домашних животных обезьяна, отсутствие которой он
однажды заметил и после долгих поисков нашел ее в своей
библиотеке. Животное сидело там на полу, разбросав вокруг себя гравюры
из одного непереплетенного естественнонаучного сочинения. Удив-
92
ленный этим ревностным занятием своего домашнего друга, хозяин
приблизился и, к своему огорчению, увидел, что лакомка-обезьяна
съела всех жуков, какие она нашла там нарисованными.
Зритель. Довольно забавная история.
Адвокат. И подходящая, надеюсь. Вы ведь не поставите эти
раскрашенные гравюры рядом с картиной великого художника?
Зритель. С трудом.
Адвокат. Но обезьяну вы причислите к необразованным
любителям?
Зритель. Безусловно, и вдобавок еще к жадным. Вы
вызываете во мне странную мысль. Не потому ли необразованный
любитель требует, чтобы художественное произведение имело сходство
с природой, чтобы иметь возможность наслаждаться им собственно
своей натуре, часто грубой и низкой?
Адвокат. Да, это мое мнение.
Зритель. И вы поэтому утверждаете, что художник унижает
себя, когда стремится произвести такое впечатление?
Адвокат. Это мое глубокое убеждение.
Зритель. Но я все еще чувствую здесь противоречие. Вы
сейчас, а также прежде оказали мне честь считать меня в числе по
крайней мере полуобразованных любителей?
Адвокат. В числе любителей, которые находятся на пути
к тому, чтобы сделаться знатоками.
Зритель. В таком случае объясните мне, почему и мне
совершенное произведение искусства кажется произведением природы.
Адвокат. Потому что оно гармонирует с лучшей частью
вашей натуры, потому что художественное произведение выше
природы, но не вне ее. Совершенное художественное произведение есть
произведение человеческого духа, и в этом смысле оно также
произведение природы. Но так как рассеянные в природе предметы
соединены в нем вместе и даже низменнейшие из них приобретают
высшее значение и достоинство, то оно выше природы. Только
гармонически созданный и развитый дух в состоянии воспринять
художественное произведение, находя прекрасное и в себе законченное
соответствующим его собственной природе. Обыкновенный любитель
не имеет об этом никакого понятия, он относится к
художественному произведению как к предмету рынка. Но истинный любитель
видит не только правду в подражании природе, но и все
преимущества отбора, все глубокомыслие сопоставлений, все надземное
этого маленького художественного мира; он чувствует, что сам
должен возвыситься до художника, чтобы наслаждаться его
произведением; он чувствует, что должен отрешиться от суетности жизни
и сосредоточиться в себе, общаться с этим художественным произ-
93
ведением, неоднократно смотреть на него и этим возвысить свое
собственное существование.
Зритель. Правильно, друг мой. Подобные чувства я
испытывал в картинных галереях, в театре или при восприятии других
видов искусства и смутно ощущал приблизительно то, чего вы
требуете. В будущем я буду обращать еще больше внимания на себя
и на художественные произведения. Но я замечаю, что мы очень
отдалились от того, что подало повод к нашей беседе. Вы хотели
меня убедить, что я должен признать допустимым нарисованных
зрителей в нашей опере. Однако, соглашаясь до сих пор со всеми
вашими доводами, я не вижу, как вам удастся защитить и эту
вольность и под какой рубрикой вы заставите меня принять этих
нарисованных участников представления.
Адвокат. К счастью, опера будет сегодня повторена, и вы,
конечно, ее не пропустите.
Зритель, Ни в коем случае.
Адвокат. А нарисованные люди?
Зритель. Они меня не отпугнут, потому что я считаю себя
за нечто лучшее, чем воробей.
Адвокат. Я желал бы, чтобы обоюдный интерес вскоре свел
нас опять вместе.
Там же, стр. 179—189.
КОЛЛЕКЦИОНЕР И ЕГО БЛИЗКИЕ
Шестое письмо1
Я. И все же существует связующая точка, в которой
объединяются воздействия всех искусств, как словесных, так и
пластических.
Гость. И эта точка?
Я. Человеческая душа.
Гость. Да-да-да, это в обычаях новейших господ философов —
пересаживать все на свою почву. Что ж, это, пожалуй, и проще:
пригонять мир к известной идее куда удобнее, чем подчинять свои
представления смыслу вещей.
Я. Здесь речь идет не о метафизическом споре.
Гость. От которого я бы попросил меня уволить.
Я. Природу, как я согласен допустить, можно мыслить
независимо от человека, искусство же вынуждено с ним считаться, ибо
искусство существует благодаря человеку и для человека.
Гость. К чему это клонится?
1 Эта статья написана Гёте в эпистолярной форме.
94
Я. Ведь и вы, признав характерное целью искусства,
приглашаете в судьи рассудок, способный опознать характерное.
Гость. Безусловно, я это делаю. То, что я не могу постичь
разумом, для меня не существует.
Я. Но человек ведь не только мыслящее, но одновременно и
чувствующее существо. Он нечто целостное, единство различных сил,
тесно связанных между собой. К этому-то целому и должно взывать
произведение искусства, оно должно соответствовать этому
разнообразному единству, этому слитному разнообразию.
Гость. Не заводите меня в этот лабиринт, ибо кто поможет
нам оттуда выбраться?
Я. Тогда самое лучшее прекратить разговор и каждому остаться
на своей позиции.
Гость. Я, во всяком случае, своей не покину.
Я. Может быть, мне удастся быстро найти средство — чтобы один
смог если не посещать другого на его позиции, то по крайней мере
за ним наблюдать.
Гость. Назовите это средство.
Я. Представим себе на минуту искусство в его возникновении.
Гость. Хорошо!
Я. Проследим путь произведения искусства к совершенству.
Гость. Я могу за вами следовать только по пути опыта.
Торные дорожки спекуляции — не для меня.
Я. Вы разрешите мне начать с самого начала?
Гость. Весьма охотно!
Я. Человек чувствует влечение к какому-нибудь предмету, будь
это даже только живое существо.
Гость. Например, к этой смирной комнатной собачке.
Юлия. Поди сюда, Белло, это немалая честь служить
примером в подобном споре.
Я. Право же, собачка достаточно мила! И почувствуй человек,
которого мы здесь имеем в виду, страсть к подражанию, он бы
несомненно попытался каким-нибудь способом изобразить это создание.
Допустим даже, что это подражание ему вполне удалось, но и тогда
мы мало от этого выиграем, ибо в результате получим всего-навсего
двух Белло вместо одного.
Гость. Я не хочу перебивать вас и жду, что из этого
получится.
Я. Представьте себе, что этот человек, которого мы за его талант
будем в дальнейшем называть художником, на этом не успокоится,
что его склонность ему покажется слишком узкой, слишком
ограниченной, что он пустится на поиски других индивидуумов, других
вариаций, видов, пород, так что в конце концов перед ним очутится
95
уже не существо, а понятие о существе и его-то он и изобразит
средствами своего искусства.
Гость.. Браво! Это будет человек в моем вкусе! И
произведение искусства у него несомненно получится характерным.
Я. Безусловно.
Гость. На этом бы я успокоился и больше ничего не стал бы
требовать.
Я. А мы подымемся выше.
Гость. Я отстану.
Дядюшка. Я же для пробы пойду с вами.
Я. Благодаря этой операции, несомненно, возникает канон —
образцовый, ценный для науки, но не удовлетворяющий душу.
Гость. А как вы хотите удовлетворить чудаческие требования
этой милой души?
Я. Здесь нет никакого чудачества, душа только не позволяет
посягать на свои справедливые запросы. Старое сказание повествует
нам о том, как однажды между собой сговаривались демоны:
давайте сделаем человека по нашему образу и подобию. А следовательно,
и человек может с полным правом сказать: давайте сделаем по
нашему образу и подобию богов.
Гость. Ну, здесь мы попадаем в весьма темную сферу!
Я. Существует только один свет, чтобы осветить ее.
Гость. И это?
Я. Разум!
Гость. Трудно решить, свет ли то или блуждающий огонек.
Я. Не будем его называть по имени, а только спросим себя о
требованиях, которые дух предъявляет к произведению искусства.
Здесь не только должна быть удовлетворена известная
ограниченная склонность и любознательность, не только упорядочены и
успокоены знания, которыми мы обладаем, здесь жаждет пробуждения
то высшее, что в нас заложено, мы хотим почитать и сами
чувствовать себя достойными почитания.
Гость. Я перестаю понимать вас.
Дядюшка. А я, кажется, могу в известной степени следовать
за его мыслью, и мне хочется на примере показать вам, как далеко
я пойду за ней. Предположим, что тот художник отлил из бронзы
орла, который прекрасно выражает все признаки этой породы, но
вот он пожелал посадить его на Юпитеров скипетр. Думаете ли вы,
что он вполне подойдет туда?
Гость. Это зависит от многого!
Дядюшка. А я скажу — нет! Художнику пришлось бы
сообщить ему еще кое-что.
Гость. А что же именно?
96
Дядюшка. Это, конечно, трудно определить.
Гость. Не сомневаюсь.
Я. Но, вероятно, это можно истолковать приблизительно!
Гость. Дальше!
Я. Он должен был бы сообщить орлу то, что он сообщил
Юпитеру, чтобы сделать его богом.
Гость. Что же это такое?
Я. То божественное начало, которое, конечно, осталось бы нам
неизвестным, если бы человек сам не почувствовал и не воссоздал
бы его.
Гость. Я остаюсь на земле, а вам предоставляю забираться в
облака. Я отлично вижу, что вы хотите указать на высокий стиль
греческого искусства, который я, однако, ценю лишь постольку,
поскольку он выражает характер.
Я. Для нас он означает нечто большее: он удовлетворяет
высокое требование духа, которое, однако, все же не является
наивысшим.
Гость. Вас, видно, нелегко удовлетворить.
Я. Кто хочет многого достигнуть, должен ставить высокие
требования. Разрешите мне быть кратким. Человеческий дух
преуспевает, когда он поклоняется, когда он почитает, когда он возвышает
объект и сам возвышается им, но он не может долго пребывать
в этом состоянии: родовое понятие оставило его холодным,
идеальное же возвысило над самим собой; но вот он пожелал возвратиться
к себе: он хочет снова насладиться прежней склонностью, которую
питал к индивидууму, не возвращаясь, однако, к былой
ограниченности и не желая в то же время упустить все то значительное, что
возвышает наш дух. Что бы произошло с ним в таком состоянии,
если бы ему на помощь не пришла красота и не разрешила сего
задания? Она-то только и сообщает тепло и жизнь познанию,
смягчает значительное и высокое, излив на него небесное очарование
и тем самым снова приблизив его к нам. Прекрасное произведение
искусства прошло весь круг: оно опять превратилось в какое-то
подобие индивидуума, которое мы можем любовно обнять и приблизить
к себе.
Гёте, Собрание сочинений в 13-ти томах, т. X,
М., 1937, стр. 481—486. Перевод Наталии Ман.
Восьмое письмо1
[...] Мои шесть классов отмечают качества, которые в
совокупности могли бы создать подлинного художника, равно как и
подлинного любителя, но которые, к сожалению, насколько мне известно
1 Отрывок из письма Юлии.
97
из моего собственного небольшого опыта и из сообщенных мне
документов, слишком часто проявляются обособленно.
Итак, к делу.
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ. Подражатели. Можно считать, что
пластическое искусство базируется на подобных талантах. Но порождено
ли оно ими — пусть останется открытым вопросом. Если художник
начинает с подражания, он при случае сможет подняться до
наивысшего; если же он на этом застрянет, его можно будет назвать
копировщиком, связывая с этим словом довольно нелестное понятие.
Но когда подобная натура стремится в своей ограниченной
области постоянно идти вперед, то в конце концов возникают известные
требования к действительности, которые художник стремится
выполнить, а любитель познать. Не найдя перехода к подлинному
искусству, легко очутиться на глухом перепутье и в конце концов
дойти до раскрашивания статуй или до того, чтобы, как это и сделал
наш добрый дедушка, увековечить себя для потомства в камчатном
шлафроке. [...]
Подражатель лишь удваивает объект подражания, без того,
чтобы что-либо к нему прибавить или же повести нас дальше. Он
втягивает нас в круг единичного и в высшей степени замкнутого
существования, мы дивимся возможности подобной операции, мы даже
испытываем известное удовольствие, но удовлетворить нас
по-настоящему такое произведение не может, ибо ему недостает правды
искусства, этого признака красоты. Как только она проступает
наружу, картина приобретает то великое очарование, которое мы
испытываем, рассматривая некоторые немецкие, нидерландские и
французские портреты и натюрморты. [...]
ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. Фантазеры. В отношении этой компании
наши друзья очень уж резво повели себя. Казалось, что эта тема
заставила их несколько съехать с колеи, и, хотя я сама при этом
присутствовала и, признавая себя причастной к этому классу, не
переставала взывать к справедливости и вежливости, мне все же не
удалось воспрепятствовать изобретению огромного количества
прозвищ, которыми они клеймили этот класс и которые далеко не
всегда заключали в себе похвалу. Подобных любителей называли
поэтизаторами, ибо, вместо того чтобы познать поэтическую часть
изобразительного искусства и к ней стремиться, они соревнуются с
поэтом, по пятам следуя за преимуществами его искусства, не
замечая и пропуская мимо глаз преимущества своего. Их прозвали
«рыцарями видимости», ибо они гонятся за видимостью, пытаются
всячески занять ею воображение, не заботясь о том, удовлетворяет
ли она требования искусства. Называли их и фантомистами, потому
что их влечет к себе пустая призрачность; фантастами, ибо им свой-
98
ственна бессвязность и разорванность образов, искаженных как в
сновидении; «облачниками», так как они не могут обойтись без
облаков, которые должны служить достойной почвой для их видений. Под
конец с ними расправились еще и при помощи рифмы, окрестив
парителями и затемнителями. И тут же стали утверждать, что у них
нет реальности, что их образы нигде и никогда не существуют, что
им не хватает правды искусства — прекрасной действительности.
Невзирая на то, что фальшивую натуральность приписывали
уже подражателям, от этого упрека не спаслись и фантазеры, и
какие только еще обвинения не были выдвинуты против них! Хоть я
и заметила, что господам хотелось заодно и подразнить меня, я все
же доставила им это удовольствие и взаправду рассердилась.
Я спросила их: разве же гений не проявляется главным образом
в изобретательности и разве можно оспаривать это качество у
фантазеров? И не заслуживает ли благодарности уже то, что
испытываешь радость при виде этих приятных сновидений? Разве же в
этом свойстве, которое вы попытались очернить всевозможными
причудливыми прозвищами, не заложена основа и условия высшего
проявления искусства? Что можно с большим правом
противопоставить жалкой прозе, чем эту способность созидать новые миры?
Разве же это не редкостный талант, не редкостное заблуждение,
если о нем всегда, даже встретившись с ним на перепутье, говорят
с уважением?
Господа недолго сопротивлялись. Они напомнили мне, что здесь
речь идет только об односторонности и что именно это качество,
могущее столь благоприятно влиять на искусство в целом, так много
вредит ему, проявляясь обособленно, самостоятельно и независимо.
Подражатель никогда не может повредить искусству, ибо он
старательно возводит его на ту ступень, где им может и должен
завладеть подлинный художник, и, напротив, фантазер безмерно вредит
искусству тем, что изгоняет его за пределы всех его областей, и
здесь требуется величайший гений, чтобы из этой неопределенности
и неосязаемости самого фокуса искусства поставить искусство в
надлежащий и предназначенный ему круг.
Мы еще немного поспорили, и под конец они спросили меня, не
вынуждена ли я согласиться, что именно на этом пути возникло и
возникает столь пагубное для искусства, вкуса и нравов
заблуждение —- сатирическая карикатура.
Разумеется, ее-то я уж не смогла взять под свою защиту, хотя,
впрочем, не буду отрицать, что это безобразное порождение порой
забавляет меня и в качестве пикантной приправы часто приходится
по вкусу моему злорадству — этому наследственному и
первородному греху всех детей Адама.
99
Но обратимся к дальнейшему!
ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ. Характеристы. С ними Вы уже достаточно
знакомы по подробным отчетам о споре с одним замечательным
представителем этой породы.
Если бы этот класс нуждался в моем одобрении, я смогла бы
ему его гарантировать, ибо, если мои милые фантазеры хотят
играть на характерных чертах, то эти черты прежде всего должны
находиться в наличии. Если значительное должно доставить мне
удовольствие, то я охотно стерплю, чтобы кто-нибудь всерьез им
занялся. Итак, если поклонник характерного хочет совершить
черновую работу, чтобы не дать поэтизаторам превратиться в
фантастов или, что еще хуже, потеряться в парении и затемнении, то он
будет для меня всегда достоин всяческих похвал и превозношений.
Дядюшка после последнего разговора, видимо, начал
склоняться в пользу своего недавнего гостя и потому стал на сторону этого
класса. Он заметил, что в известном смысле их можно было бы
назвать ригористами. Их тяга к абстрактному, их восхождение к
отвлеченным понятиям всегда что-то обосновывает, к чему-то ведет,
и в этом смысле характерист, особенно по сравнению с
бессодержательностью других художников и любителей, становится еще
более ценным.
Но маленький упрямый философ снова выказал здесь свой нрав
и начал утверждать, что их односторонность, как раз в силу их
кажущейся правоты, ограничивая возможности искусства, вредит
ему куда больше, чем парение фантазеров; при этом он заверял,
что никогда не перестанет враждовать с ними. [.. J
Сейчас, заглянув в бумаги, я вижу, что наш философ преследует
их безобразными кличками. Он называет их скелетистами,
геометрами, схематиками и в примечании добавляет, что одного только
логического существования, одной выкладки рассудка недостаточно
для искусства. Над тем, что он хочет этим сказать, я не стану
ломать себе голову.
Далее, он утверждает, что у характерных художников недостает
прекрасной легкости, без которой немыслимо искусство. С этим,
пожалуй, придется согласиться и мне.
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ. Ундулисты 1. Под этим наименованием
мы разумеем тех, кто находится в противоречии с
вышеупомянутыми, тех, кто любит мягкость и приятность, лишенную характера и
значительности, благодаря чему в результате возникает разве что
безразличная прелесть. Их окрестили еще и извивалъщиками, вспом-
нив о времени, когда змеевидную, извилистую линию считали об-
1 От латин. undula — волна.
100
разцом и символом красоты, думая с ее помощью достигнуть весьма
многого. Эта извилистость и мягкость у художника, как и у
любителя, переходит в некоторую слабость, сонливость и, если хотите,
даже в известную болезненную чувствительность. Подобные
произведения искусства стяжают славу у тех, которые в картине хотят
видеть только немного больше, чем ничего, в которых и мыльный
пузырь, переливающийся в воздухе, возбуждает приятное чувство.
Так как такого рода произведения едва ли имеют плоть или какое-
нибудь конкретное содержание, достоинства их обычно
исчерпываются техникой выполнения и известной миловидностью. В них нет
значительности и силы, а потому их обычно терпят так же охотно,
как бесцветную фигуру в обществе. Ибо, по существу, ведь светский
разговор и должен быть почти лишенным содержания.
Стоит только художнику или любителю односторонне предаться
этой страсти, как искусство умолкает подобно оборвавшейся струне,
теряется, как ручеек в песках.
Техника выполнения становится все более плоской и слабой,
на картинах исчезают краски, штрихи гравюр превращаются в
точки, и так мало-помалу в угоду изнеженному любителю все
рассеивается как дым.
Из-за моей сестры, которая, как Вы знаете, в этом пункте не
терпит никаких шуток и начинает сердиться, как только пытаются
разрушить милые ей миражи, мы постарались быстро обойти эту
тему. Иначе я попыталась бы навязать этому классу облачность,
избавив от нее моих милых фантазеров. Я надеюсь, милостивые
государи, что, ревизуя этот процесс, Вы примете сие во внимание.
ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ. Художники малых форм. Этот класс прошел
у нас довольно благополучно. По-видимому, ни у кого не нашлось
причины их преследовать, многое говорило за них и лишь очень
мало — против.
Если подходить к ним только с точки зрения эффекта, то они
кажутся довольно приемлемыми. Они с величайшей тщательностью
испещряют точками маленькую дощечку, и плоды долголетних
работ любитель может хранить в небольшой шкатулке.
Поскольку подобные работы заслуживают похвалы, этих
художников можно назвать миниатюристами; в иных случаях, когда они
лишены вдохновения, чувства единства целого, когда они не умеют
сообщить произведению необходимую целостность, можно обругать
их кропателями и пунктирщиками.
Они не удаляются от подлинного искусства, с ними только
происходит то же, что и с подражателями, они всегда напоминают
подлинному художнику, что это качество, у них проявляющееся
обособленно, ему следует присоединить к другим, дабы стать законченным
101
мастером и привнести в свои произведения совершеннейшую
технику. [...]
ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ. Эскизники. Дядюшка некогда причислил
себя к этой категории, и мы уже склонялись к тому, чтоб не
слишком жестоко о ней отзываться, когда он сам обратил наше
внимание, что набрасыватели могут способствовать такой же опасной
односторонности в искусстве, как и герои всех остальных рубрик.
Пластическое искусство должно не только через посредство зрения
взывать к духу, оно должно удовлетворять и самое зрение: тогда
сюда присоединится и дух и не откажет художнику в одобрении.
Эскизник же обращается непосредственно к духу, он подкупает
неискушенного зрителя, вызывает его восхищение. Удачная мысль,
лишь наполовину ясная, но мнимо символически изображенная,
проникает сквозь органы зрения, возбуждает дух, остроумие,
воображение, и пораженный любитель начинает видеть то, чего там на
самом деле и нет. Здесь уже не может быть и речи о рисунке,
пропорциях, формах, характере, выразительности, композиции,
гармонии, выполнении, все это подменено одной только видимостью этих
качеств. Здесь дух непосредственно взывает к духу, а средство,
которое должно осуществить этот контакт, превращается в ничто.
Превосходные эскизы великих мастеров, эти чарующие
иероглифы, являясь возбудителями подобного пристрастия, постепенно под*
водят настоящего любителя к порогу всего искусства в целом,
откуда, если только он успеет дослать туда свой взор, ему уж нет
возврата. Начинающему художнику следует, однако, больше, чем
любителю, опасаться длительного вращения в кругу изобретений
и набросков; ибо, если он через эти ворота наиболее быстро войдет
в круг искусства, он там же легче всего столкнется с опасностью
застрять на пороге.
Таковы приблизительно слова дядюшки. [...]
У дядюшки в его коллекции имеется специальный портфель
с рисунками художников, которые никогда не сумели пойти
дальше набросков, и он утверждает, что особенно интересные
наблюдения можно сделать, сравнивая их с эскизами тех великих мастеров,
которые одновременно умели и завершать.
Там же, стр. 498—505.
ИЗ КОММЕНТАРИЯ К «ОПЫТУ О ЖИВОПИСИ» ДИДРО
Все его [Дидро] теоретические рассуждения клонятся к тому,
чтобы смешать природу и искусство, чтобы совершенно
амальгамировать природу и искусство; наша же задача должна состоять в том,
102
чтобы представить раздельно каждое из них в его проявлениях.
Природа создает произведение живое и безразличное, художник —
безжизненное, но имеющее особое значение; природа —
действительное, художник — кажущееся. При созерцании творений
природы зритель сам должен привносить в нее осмысление, чувство,
мысли, эффект, воздействие на настроение; в произведении же
искусства он хочет и должен находить все это уже как данное. Полное
воспроизведение природы невозможно ни в каком смысле: художник
призван изображать лишь внешнюю сторону явления. Внешность
сосуда, живое целое, на которое отзываются все силы нашего ума
и наших чувств, которое возбуждает в нас желания и возвышает
наш ум, обладание которым делает нас счастливыми, то, что
исполнено жизни, мощно, совершенно, прекрасно,— вот к чему призван
обращаться художник.
Совсем иным путем должен идти наблюдатель природы. Он
должен расчленять целое, проникать под поверхность, разрушать
красоту, познавать необходимое и, если это в его силах, постоянно
держать перед своим мысленным взором лабиринт органического
строения, как некий план садового лабиринта, в извилинах которого
изнемогает от усталости столько гуляющих.
Непосредственно наслаждающийся человек, точно так же как и
художник, естественно, испытывает ужас, заглядывая в глубины,
над которыми естествоиспытатель разгуливает как у себя дома;
напротив, настоящий естествоиспытатель чувствует мало уважения к
художнику, он видит в нем только аппарат для фиксирования
наблюдений и для передачи их миру; наслаждающегося же человека
он рассматривает просто как ребенка, который с упоением поедает
вкусную мякоть персика, а на сокровище плода, цель природы —
семеносную косточку — не обращает внимания и выбрасывает ее.
Так противостоят друг другу природа и искусство, познание и
наслаждение,— не уничтожая друг друга, но и не имея особых
связей между собой.
В. Гёте, Статьи и мысли об искусстве, Л.—Мм
1936, стр. 84, 85. Перевод В. М. Кремковой.
ИЗ СТАТЬИ «ВИНКЕЛЬМАН»
[...] Человек в состоянии создать многое путем целесообразного
использования отдельных сил, он в состоянии создать
исключительное благодаря взаимодействию различных способностей; но
единственное и совсем неожиданное творит он лишь тогда, когда в нем
равномерно соединятся все качества. Последнее было счастливым
уделом древних, в особенности греков, в их лучшую пору; для
103
первого и второго предназначены судьбой мы, люди позднейших
поколений.
Когда здоровая натура человека действует как единое целое,
когда человек ощущает себя в мире как в некоем великом,
замечательном, прекрасном и достойном целом, когда гармоническое
наслаждение вызывает у него чистое и свободное восхищение, тогда
вселенная — если б только она могла увидать себя у достигнутой
цели — вскрикнула бы, ликуя, и преклонилась перед вершиной своего
становления и существования. Ибо к чему все это великолепие
солнц, и планет и лун, звезд и млечных путей, комет и туманностей,
существующих и зарождающихся миров, если в конце концов
счастливый человек не будет бессознательно радоваться своему
существованию.
Если новый человек, как это только что произошло и с нами,
почти при любом созерцании порывается к бесконечному, чтобы
в конце концов — и то если ему посчастливится — снова
возвратиться к исходной точке, то древние без всяких околичностей
испытывали величайшее и единственное наслаждение в чудесных
границах этого прекрасного мира. Сюда они были поставлены, к этому
призваны, здесь их деятельность находила применение, их страсть —
объект и пищу.
Разве их поэты и историки не вызывают изумления
исследователя и отчаяния подражателя именно тем, что выводимые ими лица
принимают столь живое участие в своей собственной судьбе, в
ограниченном кругу интересов своей родины, в ясно обозначенном
пути своей жизни, равно как и жизни своих соотечественников, и
всей душой, всеми склонностями, всей силой воздействуют на
окружающее? Оттого-то и мыслящему по их подобию историографу было
нетрудно увековечить это прекрасное время.
Для них имело значение только то, что происходило, подобно
тому как для нас приобретает некоторое значение лишь то, что мы
думаем или чувствуем.
Одинаковым образом жили поэт в своем воображении, историк —
в политике, исследователь — в мире природы. Все придерживались
ближайшего, подлинного, правдивого, и даже порождения их
фантазии состоят из плоти и крови. Человек и человеческое почитались
превыше всего; и все его внутренние и внешние соотношения с
миром усматривались и изображались с таким умением, что
становились как бы наглядными. Еще не распались тогда на части чувство
и созерцание, еще не появилась эта едва ли исцелимая трещина в
здоровом человеческом духе.
Но не только наслаждаться счастьем были призваны эти
натуры, они умели также переносить и беду; как здоровая клеточка
104
противится болезни и после каждого ее приступа быстро
восстанавливается, так и здравый смысл древних легко и быстро вступал
в свои права после каждого внутреннего или внешнего потрясения.
Такая античная натура, поскольку это понятие можно применить
к нашему современнику, возродилась в Винкельмане. С самого
начала выдержала она неимоверное испытание, ибо тридцать лет
унижения, неудач и горя не обуздали ее, не притупили, не выбили из
колеи. Как только Винкельман достиг отвечающей его духу
свободы, он предстал перед нами цельным и завершенным в. античном
понимании этих слов. Предназначенный роком к деятельности,
наслаждению и отречению, радости и горю, обладанию и потерям,
возвышению и унижению, он оставался в этой удивительной смене
всегда довольным прекрасной землей, на которой изменчивая судьба
готовит нам испытания.
[...] Мы имеем в виду стремление к чувственно-прекрасному,
а также и само чувственно-прекрасное; ибо высший продукт
постоянно совершенствующейся природы — это прекрасный человек.
Правда, природе лишь редко удается создать его; ее идеям
противоборствует слишком много различных условий, и даще для ее
всемогущества невозможно долго пребывать в совершенном и даровать
прочность раз сотворенной красоте, ибо, точно говоря, прекрасный
человек прекрасен только на миг.
Против этого и выступает искусство, и человек, будучи
поставлен на вершину природы, в свою очередь, смотрит на себя как на
целостную природу, которая сызнова, уже в своих пределах,
создает вершину. С этой целью он возвышает себя, проникаясь всеми
совершенствами и добродетелями, взывает к избранному, к порядку,
к гармонии, к значительному и поднимается, наконец, до создания
произведения искусства, которому наряду с другими его деяниями
и творениями принадлежит столь блистательное место. Когда же
произведение искусства уже создано и стоит в своей идеальной
действительности перед миром, оно несет с собой прочное
воздействие, наивысшее из всех существующих, ибо, развиваясь из
соединения всех духовных сил, оно одновременно вбирает в себя все
великое, все достойное любви и почитания и, одухотворяя
человеческий образ, возносит человека над самим собой, раскрывает круг
его жизни и деятельности и обожествляет его для
современности, в которой равно заключены и прошедшее и будущее.
Подобными чувствами, судя по преданиям и рассказам древних,
бывали охвачены те, что видел Юпитера Олимпийского. Бог
превратился в человека, чтобы человека возвысить до божества.
Узрев величайшее совершенство, они воодушевлялись величайшей
красотой. И в этом смысле надлежит согласиться с древними,
105
говорившими с полным убеждением: великое несчастье умереть, не
увидав этого творения.
Для такой красоты Винкельман был создан по самой своей
природе. Он впервые познал ее в писаниях древних; но воплощенной
она предстала перед ним лишь в произведениях пластического
искусства, по которому мы впервые знакомимся с ней, чтобы затем,
в образах живой природы, познать и оценить ее.
Гёте, Собрание сочинений в 13-ти томах, т. Хм
М., 1937, стр. 543, 544, 547, 548. Перевод Наталии
Ман.
ИЗ «РАЗГОВОРОВ С ГЕТЕ» И. П. ЭККЕРМАНА
[Действительность как повод и материал для искусства]
«Мир так велик и богат, и жизнь так разнообразна, что в
поводах для стихов никогда не будет недостатка. Но все это должны
быть стихи «по поводу» — это значит, действительность должна дать
повод и материал для произведения. Единичный случай
приобретает общий смысл и становится поэтичным именно потому, что за
него берется поэт. Все мои стихи — стихи «по поводу», они навеяны
действительностью, в ней имеют почву и основание. Стихи, не
связанные с жизнью, для меня ничто.
Пусть не говорят, что действительность не представляет
поэтического интереса; в том-то имепно и проявляется поэт, что он
достаточно творчески одарен, чтобы в обыденном предмете уметь
подметить интересную сторону. Действительность должна дать
мотивы, моменты, подлежащие оформлению, ядро произведения; но для
того, чтобы сделать из этого прекрасное живое целое, нужно
творчество поэта».
Иоганн Петер Эккерман, Разговоры с
Гёте в последние годы его жизни, М.—Л., «Аса-
demia», 1934, стр. 168. Перевод Е. Г. Рудневой.
[Объективное и субъективное в искусстве]
«Когда хочешь петь,— продолжал Гёте,— то некоторые звуки
сразу выходят естественно и легко, другие же первоначально
кажутся чрезвычайно трудными; но, чтобы стать певцом, надо преодолеть
эти трудности и овладеть всеми звуками. Точно так же дело
обстоит и с поэтом: пока он выражает свои немногие субъективные
ощущения, его еще нельзя назвать поэтом; но когда он сумеет
овладеть всем миром и найти для него выражение, тогда он
становится поэтом. И тогда он неиссякаем и может быть вечно новым,
в то время как субъективная натура быстро высказывает то
немногое, что в ней внутренне заключено, и гибнет, впадая в манерность.
106
Постоянно говорят об изучении древних — но ведь это означает
только одно: обрати внимание на действительную жизнь и стремись
ее выразить,— ибо так именно и делали древние в свое время».
[...] «Я хочу кое-что вам открыть, и вы в вашей жизни найдете
множество подтверждений этому. Все эпохи, которые идут назад и
охвачены разложением, полны субъективизма, зато все эпохи,
которые идут вперед, имеют объективное направление. Наше
теперешнее время реакционно, потому что оно субъективно. Вы видите это
не только в поэзии, но также в живописи и многом другом. Но
каждое здоровое стремление, исходя из внутреннего мира, устремляется
к миру объективному, и это характерно для всех великих эпох,
которые были полны подлинного стремления и движения вперед и
были по природе своей объективны».
Там же, стр. 291, 292.
[Об антиципации]
«SI написал своего «Геца фон Берлихингена»,— сказал он
[Гёте],— молодым человеком, - двадцати двух лет, и десять лет спустя
был изумлен правдивостью своего изображения. Как известно,
ничего подобного я не имел возможности ни пережить, ни видеть, и
поэтому знание разнообразных состояний человека могло быть мне
дано лишь антиципацией.
Вообще мне доставляло радость изображать мой внутренний мир,
пока я не знал внешнего мира. Но потом, когда я увидел, что в
действительности мир именно таков, каким я его себе представлял,
он мне прискучил, и я потерял охоту его изображать. Да, я сказал
бы даже так: если бы я не брался изображать мир до тех пор, пока
я его не узнаю, то мое изображение стало бы вместе с тем
издевательством».
«В характерах,— сказал он в другой раз,— есть известная
необходимость, определенная последовательность, благодаря которой те
или другие черты характера обязательно сопровождаются
некоторыми вторичными чертами. Эмпирически мы это познаем постоянно,
но некоторые индивидуумы имеют как бы прирожденное знание
этого. Может быть, у меня соединяется природное знание и знание,
полученное опытом; я не исследую этого вопроса, но я знаю: стоит
мне с кем-нибудь поговорить четверть часа, и мне ясно, что он
будет говорить в течение двух часов».
Так, Гёте сказал о лорде Байроне, что мир для него прозрачен
и что изображать его он может благодаря антиципации. Я выразил
по этому поводу некоторые сомнения: так, например, я сомневался
в том, чтобы Байрон мог изобразить низменную животную натуру.
Его индивидуальность казалась мне чересчур крупной для того, что-
107
бы он мог останавливаться на таких предметах с интересом. Гёте
согласился с этим и заметил, что антиципация простирается только
на предметы, созвучные таланту, и мы пришли с ним к заключению,
что в зависимости от того, будет ли антиципация более узкой или
более объемлющей, талант художника будет обширнее или
ограниченнее.
— Если вы, ваше превосходительство, утверждаете, что
художник обладает прирожденным знанием мира, то при этом вы,
вероятно, имеете в виду мир внутренний, а не эмпирический мир явлений
и условностей; а для того чтобы автору удалось их правдивое
описание, он все же должен исследовать действительность?
«Да,— отвечал Гёте,— именно так. Область любви, ненависти,
надежды, отчаяния и т. п. состояний и душевных страстей заранее
известна художнику, и изображение их ему удается. Но не может
быть прирожденного знания того, каков порядок судопроизводства,
или того, как присходит заседание в парламенте или процесс
коронования; и для того, чтобы не дать искаженной картины таких
сторон жизни, писатель должен ознакомиться с ними или путем
личного опыта, или используя описания других. Так, например, в
«Фаусте» я с помощью антиципации вполне справлялся с выражением
мрачного состояния разочарованности в жизни моего героя или
любовными настроениями Гретхен, но, например, чтобы сказать:
Как грустно, восходя, краснеет запоздалой
Луны недовершенный круг !,
мне уже понадобилось некоторое наблюдение природы».
— Однако,— сказал я,— в «Фаусте» нет ни одной строки, кото-
торая не носила бы несомненных следов самого заботливого
изучения мира и жизни, и ничто не говорит о том, чтобы все это вы
получили помимо богатейшего опыта в виде дара свыше.
«Пусть так,—отвечал Гёте.— Но если бы я с помощью
антиципации не носил уже в себе весь мир, мои зрячие глаза были бы
слепы и все исследование и весь опыт были бы лишь мертвыми,
тщетными потугами. Кругом свет и краски, но, если бы света и
красок не было в нашем собственном глазу, мы не могли бы их
воспринимать вовне».
Там же, стр. 219, 220.
[Искусство и природа]
«Я хочу,— сказал он [Гёте],— угостить вас после обеда еще
хорошеньким десертом». С этими словами он разложил передо мной
лист с ландшафтом Рубенса. «Вы, правда, уже видели эту карти-
1 «Фауст», часть 1, Вальпургиева ночь. Перевод А. Фета.
Ш
ну,— сказал он,— но она прекрасна, и на нее никогда нельзя
достаточно насмотреться. А на этот раз вы имеете перед собой к тому же
нечто совершенно исключительное. Но не расскажете ли вы мне,
что вы здесь видите?»
— Ну,— сказал я,— начну с того, что в глубине картины: на
самом крайнем, заднем фоне мы видим очень ясное небо, как бы
только что после захода солнца. Затем, опять-таки в самой дали,
деревню и город в ясном вечернем освещении. Потом в середине
картины дорога, по которой к деревне спешит стадо овец. С
правой стороны картины стога сена и только что погруженная повозка.
Лошади в сбруе щиплют траву. Далее, рассеянные среди кустов,
пасутся несколько кобыл со своими жеребятами, которых,
по-видимому, выгнали сюда на ночное. Затем, ближе к переднему плану,
группа больших деревьев; и, наконец, совершенно на переднем
плане слева различные группы идущих домой работников. [...]
[...]—Но как же так,—прервал я себя с изумлением,—ведь фигуры
бросают тень в глубь картины, а группа деревьев отбрасывает тени
по направлению к зрителям? Значит, здесь свет падает с двух
противоположных сторон, что совершенно противоестественно!
«Вот это-то и есть то, на что я хотел здесь обратить ваше
внимание,— заметил Гёте усмехаясь.— Здесь-то Рубенс и обнаружил
свое величие, показав, что его свободный дух стоит над природой
и трактует ее сообразно своим высшим целям. Двойной свет, во
всяком случае, насилие над природой, вы имеете полное право
сказать, что это противоестественно. Но если это и против природы, то
я говорю, что это в то же время и выше природы; я говорю, что это
дерзкий прием мастера, которым он гениально показал, что
искусство не безусловно подчинено естественной необходимости, но имеет
свои собственные законы.
Художник,— продолжал Гёте,— должен, конечно, верно и
смиренно копировать природу в отдельных ее деталях; он не должен
произвольно изменять строение скелета, расположение сухожилий
и мускулов какого-нибудь животного, чтобы не исказить присущего
ему характера. Ибо поступать иначе значило бы убивать природу.
Но в высших областях художественного воплощения, благодаря
которым картина только и становится настоящей картиной, он может
распоряжаться гораздо свободнее. Он может прибегать к фикциям,
как это и сделал Рубенс в этом ландшафте с двойным светом.
Художник находится в двойственном отношении с природой: он
ее господин и вместе с тем раб. Он ее раб, поскольку он должен
действовать земными средствами, чтобы быть понятым; он ее
господин, поскольку он эти земные средства подчиняет и заставляет
служить своим высшим намерениям.
109
Художник хочет показать миру целое; но этого целого он не
находит в природе, оно есть плод его собственного духа или, если
угодно, оцлодотворяющего его божественного дыхания.
Если мы будем рассматривать этот ландшафт Рубенса лишь
поверхностно, то все в нем покажется нам таким естественным, точно
оно просто списано с натуры. Однако на самом деле это не так.
Такой прекрасной картины вы никогда не увидите в природе; и то
же самое надо сказать о ландшафтах Пуссена или Лоррена,
которые нам кажутся точно очень естественными, хотя мы напрасно
стали бы искать их в действительности».
— А не встречаются ли,— сказал я,— смелые приемы
художественной фикции, подобно двойному свету в ландшафте Рубенса,
также и в литературе?
«Нам незачем далеко ходить, чтобы найти их,— ответил Гёте,
немного подумавши.— Да я мог бы вам указать их дюжины у
Шекспира. Возьмите хотя бы «Макбета». Когда леди хочет подвинуть
своего супруга к действиям, она говорит: «Я выкормила детей»
и т. д. Правда это или нет, не важно; но леди это говорит и должна
это сказать, чтобы усилить этим впечатление своей речи. Однако
в дальнейшем течении пьесы, когда Макдуф получает известие о
гибели своей семьи, он восклицает в дикой ярости: «У него нет
детей». Эти слова Макдуфа противоречат, таким образом, словам
леди; но Шекспир об этом нисколько не беспокоится. Он думает
только о силе каждого данного монолога, и как леди Макбет для
большей выразительности должна была сказать: «Я выкормила
детей», точно так же Макдуф для этой же цели должен был
сказать: «У него нет детей».
«Вообще,— продолжал Гёте,— от кисти живописца или от слова
поэта мы не должны требовать слишком мелочной точности;
напротив, созерцая художественное произведение, созданное смелым и
свободным полетом духа, мы должны по возможности проникнуться
тем же самым настроением, чтобы им наслаждаться».
Там же, стр. 703—706.
[Красота как первофеномен]
«Я смеюсь над теми эстетиками,— сказал Гёте,— которые
мучаются, стараясь выразить в абстрактном слове и воплотить в
понятии то невыразимое, что мы обозначаем словом красота. Красота
есть первофеномен и сама по себе никогда не дана в явлении, но
отблеск ее виден в тысячах различных созданий творческого духа,
она так же многообразна, как сама природа».
XW
— Часто говорят,—сказал я,—что природа всегда прекрасна и
что несчастье художника в том, что он редко в состоянии вполне
достигнуть этой красоты.
«Я очень хорошо знаю,— заметил Гёте,— что природа часто
обнаруживает недостижимое очарование; однако я не думаю, что
она прекрасна во всех своих проявлениях. Намерения ее, правда,
всегда хороши, но не всегда имеются налицо условия, для того
чтобы они могли вполне проявиться».
Там же, стр. 698, 699.
[Искусство и религия]
«Религия,— сказал Гёте,— находится в таком же отношении
к искусству, как и всякий другой из высших интересов жизни. Ее
надо рассматривать лишь как материал, совершенно равноправный
с материалом, доставляемым искусству прочими сторонами жизни.
Точно так же вера и неверие — это отнюдь не те критерии, с
помощью которых должны восприниматься произведения искусства.
Наоборот, для их восприятия нужны совершенно другие
человеческие силы и способности. Искусство должно служить тем самым
органам, которыми мы его воспринимаем.
Если этого не происходит, то оно не достигает цели и проходит
мимо нас, не производя надлежащего впечатления. Религиозный
сюжет тоже может быть хорошим материалом для искусства, однако
лишь в том случае, если он дает что-либо общечеловеческое.
Поэтому дева с ребенком — это превосходный сюжет, который сотни раз
изображали и который всегда снова охотно воспринимается».
Там же, стр. 237.
[Искусство и нравственность]
«Я ничего не имею против того,— сказал Гёте,— чтобы
драматический поэт стремился к нравственному воздействию; однако
когда дело идет о том, чтобы ясно и ярко изобразить предмет перед
глазами слушателя, то его конечные нравственные цели мало
могут ему в этом помочь и он должен прежде всего обладать большим
искусством изображения и знанием сцены, чтобы понять, что надо
и чего не надо делать. Если в самом предмете заключено
нравственное воздействие, то оно проявится, хотя бы сам поэт не думал ни
о чем другом, кроме наиболее яркой и художественной обработки
предмета. Если поэт имеет такой возвышенный душевный склад,
как Софокл, то его воздействие всегда будет нравственным, какую
бы позицию он ни занимал».
Там же, стр. 690.
111
[Идея в художественном произведении]
Разговор коснулся Тассо и того, какую идею Гёте хотел
выразить в нем.
«Идею? — спросил Гёте.— Да почем я знаю? Передо мной была
жизнь Тассо, передо мной была моя собственная жизнь, и, когда
я слил вместе жизни этих двух столь удивительных фигур со всеми
их особенностями, во мне возник образ Тассо, которому я в
качестве прозаического контраста противопоставил Антонио, причем и
для этого последнего у меня не было недостатка в образцах.
Дальнейшие придворные, житейские и любовные отношения я мог взять
из моего опыта как в Веймаре, так и в Ферраре, и я могу с полным
правом сказать о моем произведении: это кость от кости моей, плоть
от плоти моей.
Немцы вообще удивительные люди. Они делают себе жизнь
тяжелее, чем это нужно, своими глубокими мыслями и идеями,
которые они всюду разыскивают и всюду вкладывают. Имейте же
наконец мужество отдаться впечатлениям, разрешите вас позабавить,
растрогать, поднять, научить, вдохновить и зажечь стремлением
к великому, но только не думайте, что суетно все то, в чем нет
какой-нибудь абстрактной мысли или идеи.
Вот они подступают ко мне и спрашивают: какую идею хотел
я воплотить в своем «Фаусте»? Как будто я сам это знаю и могу
это выразить! С неба, через мир, в преисподнюю — вот что я мог
бы сказать на худой конец; но это не идея, это процесс и действие.
Далее, если черт проигрывает пари и если среди тяжелых
заблуждений непрерывно стремящийся ввысь, к добру человек достигает
спасения, то в этом, правда, есть очень действенная, много
объясняющая, хорошая мысль — но это не идея, лежащая в основе
целого и пронизывающая каждую его отдельную сцену. В самом деле,
хорошая это была бы штука, если бы я попытался такую богатую,
пеструю и в высшей степени разнообразную жизнь, которую я
вложил в моего «Фауста», нанизать на тощий шнурочек одной, единой
для всего произведения идеи!»
Там же, стр. 718, 719.
[Художник как коллективное существо]
«Ведь, в сущности, и все мы коллективные существа, что бы мы
о себе ни воображали. В самом деле: как незначительно то, что
мы в подлинном смысле слова могли бы назвать своей
собственностью! Мы должны заимствовать и учиться как у тех, которые
112
жили до нас, так и у тех, которые живут с нами. Даже величайший
гений не далеко бы ушел, если бы он захотел производить все из
самого себя. Но этого не понимают очень многие добрые люди и
полжизни бродят ощупью во мраке, грезя об оригинальности. Я
знавал живописцев, которые хвалились тем, что не берут себе за
образец никакого мастера и всеми своими произведениями обязаны
исключительно своему собственному гению. Дурачье! Как будто бы
нечто подобное возможно! И как будто внешний мир на каждом шагу
не внедряется в них и не формирует их по-своему, несмотря на их
собственную глупость! Я утверждаю, что если бы такой живописец
только прошел вдоль стен этой комнаты и бросил самый беглый
взгляд на рисунки великих мастеров, которыми они увешаны, то он
при всем своем гении вышел бы отсюда иным и выросшим».
Там же, стр. 844, 845.
[Классическое и романтическое]
Затем мы перешли к новейшим французским поэтам и к
значению классического и романтического. «Мне пришло в голову новое
выражение,— сказал Гёте,— которое неплохо характеризует
отношение между этими двумя понятиями. Классическое я назвал бы
здоровым, а романтическое — больным. И тогда «Нибелунги» будут
столь же классичны, как и Гомер, ибо то и другое одинаково полно
здоровья и силы. Большинство новейших произведений романтичны
не потому, что они новы, а потому, что они слабы и болезненны;
и старое не потому классично, что оно старо, а потому, что оно
сильно, свежо, радостно и здорово. Если мы будем по этим признакам
отличать классическое от романтического, мы никогда не собьемся
с правильного пути».
Там же, стр. 437.
«Понятие о классической и романтической поэзии, которое
теперь распространено по всему свету и вызывает столько споров и
раздоров,— продолжал Гёте,— исходит от меня и Шиллера. Я
придерживался в поэзии принципа объективного изображения и
находил, что надо следовать исключительно ему. Шиллер же,
творчество которого было чисто субъективным, считал свое направление
правильным и в полемике со мной написал статью о наивной и
сентиментальной поэзии. Он доказал мне, что я сам, вопреки моей
воле, был романтичен и что моя «Ифигения» благодаря
преобладанию в ней чувства отнюдь не является такой классической в
античном смысле слова, как это можно было бы подумать. Шлегели
подхватили эту идею и распространили ее дальше, и теперь она
5 История эстетики, т. III
из
известна всему свету; каждый толкует о классицизме и романтизме,
тогда как пятьдесят лет тому назад об этом не было и речи».
Там ж е, стр. 512, 513.
[О мировой литературе]
«Я все больше убеждаюсь в том,— продолжал Гёте,— что поэзия
есть общее достояние человечества и что повсюду во все времена ее
носителями являются сотни и сотни людей. [...] Я очень охотно
знакомлюсь с произведениями чуждых национальностей и каждому
советую со своей стороны ими заняться. Национальная литература
сейчас не многого стоит. Сейчас мы вступаем в эпоху мировой
литературы, и каждый должен теперь содействовать тому, чтобы
ускорить появление этой эпохи. Но и при таком высоком признании
иностранного мы не должны задерживаться на чем-либо особенном
и считать его образцом. Не надо думать, что таким образцом будет
специально китайская литература или сербская, или Кальдерон, или
«Нибелунгрг»; потребность в высоких образцах все снова и снова
приводит нас к античным грекам — именно в их произведениях
воплощен прекрасный человек. Все остальное следует рассматривать
лишь исторически, по мере возможности усваивая все то хорошее,
что в нем заключается».
Там же, стр. 347, 348.
ШИЛЛЕР
1759-1805
Фридрих Шиллер был не только великим немецким поэтом, другом и
соратником Гёте. Как самостоятельный мыслитель большой глубины и силы он
сыграл выдающуюся роль в развитии немецкой классической философии.
В своих ранних философских произведениях («Философия физиологии»,
1779; «О связи между животной природой человека и его духовной природой»,
1780; «Философские письма», 1785—1789) Шиллер является прямым
наследником просветительной философии XVIII века, ее материалистической тенденции.
Правда, обращение к природе принимает у молодого Шиллера форму деизма,
как и в английском «свободомыслии» (особенно у Шефтсбери, оказавшего
большое влияние на немецкую философию конца XVIII века). Согласно этому
взгляду, природа есть художественное произведение, совершенное в своем
величии и в своей цельности. Созерцая это совершенство вселенной, ее гармонию,
человек восходит к божественному происхождению мира. Понятие бога служит
псевдонимом для обозначения природы, взятой как целое.
С этой точки зрения человек является не случайным продуктом природы,
а важным составным элементом ее великого здания. Ему принадлежит роль
114
посредствующего звена между животным началом и высшей духовностью, он
сочетает в себе формы чувственного бытия и разумной жизни (стихотворение
«Художники», 1789). Среди других занятий человека есть область, в которой это
его положение между двух миров проявляется с особенной яркостью. Такой
областью Шиллер считал искусство. Оно принадлежит человеку, и только
человеку, будучи его преимуществом. Для Шиллера искусство — это великая
цивилизующая сила, смягчающая нравы и направляющая их в сторону гражданской
жизни. Искусство — школа нравственности и созидательного труда.
В начале 90-х годов XVIII века Шиллер испытал на себе большое влияние
философии Канта. Формально говоря, многие идеи Шиллера берут начало
именно в этом источнике. Но было бы неправильно видеть в мировоззрении
великого поэта род кантианства. У Канта Шиллер черпает те элементы
диалектики, которые служили исходным пунктом для всей немецкой философии
конца XVIII и начала XIX века. Что же касается таких сторон философии Канта,
как его учение о непознаваемости мира, непостижимости «вещи в себе», то
все это присутствует в отдельных произведениях Шиллера, но сильно
смягчается двумя особенностями его личности. Во-первых, поэтический гений
удерживает Шиллера от погружения в абстрактный мир кантовской теории
познания, не позволяет мыслителю расстаться с наглядно-чувственной сферой
художника (на этом пути его поддерживала постоянная близость с более
реальной натурой Гёте). Во-вторых, Шиллера отличает от Канта более
исторический взгляд на человека и его отношение к природе. В этом смысле роль
Шиллера особенно велика. Он оказал большое влияние на немецкую
романтическую школу. Стремление выйти за пределы кантовских антиномий,
неразрешимых противоречий в сторону объективной исторической диалектики
делает Шиллера выдающейся фигурой на пути от Канта к Гегелю.
Наиболее близка к кантовскому учению теория возвышенного, развиваемая
Шиллером в сочинениях «О трагическом искусстве» и «О патетическом»
(1791—1793). В центре внимания здесь конфликт между моральным долгом
и чувственным влечением — благородное величие сильной души, способной
бороться против гнета физической природы. Но уже в сочинении «О грации и
достоинстве» (1793) Шиллер порывает с ортодоксальным кантианством.
Первоначальная тенденция его мышления, наследство просветительной эпохи, снова
прокладывает себе дорогу сквозь умозрительный дух и аскетизм кантовской
философии. Мысль Шиллера стремится к идеалу как к реальному состоянию,
не оторванному от чувственной природы человека, не похожему на
отвлеченное царство долга. Хороши лишь те идеальные движения, которые сами по
себе, свободно и непосредственно вытекают из добровольного желания людей.
Это мир «прекрасной души», ее чистая, не замутненная никакой
двойственностью гармония. Прекрасна та душа, которая свободно, а не по принуждению
абстрактного долга желает добра и следует голосу разума. Возвышенна та
душа, которая способна победить не чувственность вообще, а только
чувственные стремления, противоречащие разумному началу. Область первой есть гра·
5*
115
ция, область второй — достоинство. Кант не согласился с такой попыткой
ослабить присущую его учению суровую противоположность отвлеченного
морального идеала и стихийной чувственности людей, их рокового эгоизма.
В годы наибольшей близости с Гёте (период так называемого «веймарского
классицизма») Шиллер не раз выражает свое понимание идеала прекрасного
как гармонии природы и духа, физической жизни и общественных норм,
равновесия всех сторон человеческого существа, его телесных и умственных
потребностей. В этом понимании не было, в сущности, ничего нового. Но безусловную
оригинальность придает ему исторический взгляд Шиллера — попытка
охватить в единой картине развитие противоречий человеческого общества.
Рисуя в своих знаменитых «Письмах об эстетическом воспитании (1795)
противоположность между стремлением человека к гармоническому
развитию и общественной системой разделения труда, Шиллер приписывает
искусству слишком большую силу. Он думает, что калечащие человека последствия
этой системы — развитие односторонних способностей к физическому труду или
умозрительным занятиям — могут быть исправлены при помощи
эстетического воспитания. Он рассматривает искусство как средство переделки
людей, их превращения в подлинно общественных индивидов, не знающих
конфликта между собственной выгодой и законом долга. Он видит в эстетическом
воспитании силу, способную возвысить людей над противоречиями классового
общества. Во всем этом было много либеральных иллюзий, и Шиллер, в
сущности, сам признает невозможность победы искусства над окружающей жизнью.
Но при этом ему не остается ничего другого, кроме возвращения к кантовской
теории недостижимости идеала. И все же набросанная в «Письмах об
эстетическом воспитании» картина совершенной человечности, призыв к искусству
служить великим задачам воспитания общества — все это произвело громадное
впечатление на современников немецкого поэта.
В работе «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795—1796) Шиллер
обобщает наблюдения многих мыслителей XVIII века, отмечавших
противоречивый характер исторического развития культуры. Главная мысль Шиллера
состоит в том, что первоначальные достижения художественного гения,
например в Древней Греции, полные наивной цельности и красоты, становятся
предметом недостижимой мечты для более поздних поколений, более зрелых
эпох, стремящихся к утраченной гармонии, проникнутых внутренним
драматизмом, субъективной рефлексией и пафосом бесконечного движения
вперед.
Историческая философия Шиллера, при всей ее ограниченности
условиями времени, не позволяющими ему выйти за пределы буржуазного
кругозора, содержит в себе много глубоких и верных мыслей. Она содержит
также предчувствие более высокого общественного порядка, способного
разрешить противоречие «наивного» и «сентиментального», гармонии прекрасного
момента и поэзии бесконечного развития.
116
ПИСЬМА ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
Письмо третье
Природа поступает с человеком не лучше, чем с остальными
своими созданиями; она действует за него в тех случаях, когда он
еще не в состоянии действовать как свободный интеллект. Но
именно то делает его человеком, что он не останавливается на том, что
из него сделала природа, а способен разумно проделать в обратном
порядке те шаги, которые предвосхитила, ведя его, природа; он
может пересоздать дело необходимости в дело свободного выбора и
возвысить физическую необходимость в моральную.
Придя в себя из состояния чувственной дремоты, он сознает
себя человеком, озирается и видит себя — в государстве.
Принужденный потребностями, он очутился там, прежде чем свободно мог
избрать такое положение; необходимость создала государство по
простым законам природы ранее, чем он мог сделать то же самое
по законам разума. Но человек как нравственная личность не может
довольствоваться таким созданным по необходимости государством,
которое возникло только из его естества и рассчитано только на
него; и горе ему, если б он мог довольствоваться этим! [...]
Это естественное государство (каким может называться всякое
политическое тело, основывающее свое первоначальное устройство
на силах, а не законах) противоречит морали человека, которому
простая закономерность должна служить вместо закона; но оно
вполне соответствует физическому человеку, который только для
того дает себе законы, чтобы управиться с силами. Однако
физический человек существует в действительности, моральный же только
проблематичен. Итак, уничтожая естественное государство,— а это
ему необходимо сделать,— разум рискует физическим и
действительным человеком ради проблематичного нравственного, рискует
существованием общества ради возможного (хотя в смысле
моральном и необходимого) идеала общества. [...]
Итак, великое затруднение состоит в том, что во времени
общество в физическом значении слова не должно прекращаться ни на
один момент, между тем как в нравственном значении слова, в идее,
оно только образуется, и нельзя же ради того, чтобы поднять
достоинство человека, ставить на карту самое его существование. Когда
часовщик исправляет часы, то он дает остановиться заводу часов,
но живой механизм государства должно исправлять на ходу, нужно
заменить колесо во время его вращения. Итак, нужно искать для
продолжения общества опору, которая освободила бы его от
естественного государства, подлежащего уничтожению.
117
Этой опоры не найти в естественном характере человека,
который, будучи себялюбивым и склонным к насилию, скорее направлен
на разрушение, чем на сохранение общества; ее не найти также и в
его нравственном характере, который, согласно предпосылке, еще
должен образоваться и на который законодатель не может влиять
и рассчитывать с точностью, ибо этот характер свободен и никогда
не проявляется. Следовало бы. значит, отделить от физического
характера произвол, а от морального — свободу, следовало бы
первый привести в согласие с законами, а второй сделать независимым
от впечатлений; следовало бы первый несколько удалить от материи,
а второй несколько к ней приблизить,— дабы создать характер
третьего рода, родственный первым двум, который делал бы
возможным переход от господства голых сил к господству законов и, не
препятствуя развитию морального характера, служил бы
чувственным залогом незримой нравственности.
Письмо шестое
[...] При некотором внимании к характеру времени нас должен
поразить контраст между теперешней формой человечества и
прежней, в особенности греческой. Слава образованности и
утонченности, которой мы по справедливости гордимся, в противоположность
всякой иной простой природе, исчезает в сравнении с природой
греков, в которой сочетались все прелести искусства со всем
достоинством мудрости, не став при этом ее жертвой, как это случилось
с нами. Греки не только посрамляют нас простотой, которая чужда
нашему веку: в то же время являются нашими соперниками, часто
даже нашими образцами, именно в тех качествах, в которых мы
находим утешение, глядя на противоестественность наших нравов.
Обладая одновременно полнотой формы и полнотой содержания,
одновременно мыслители и художники, одновременно нежные и
энергичные, вот они пред нами в чудной человечности, объединяют
юность воображения и зрелость разума.
В те времена, при том прекрасном пробуждении духовных сил,
чувства и ум еще не владели строго разграниченными областями;
ибо раздор не озлобил еще их и не заставил враждебно
размежеваться и определить взаимные границы. Поэзия еще не блудила
с остроумием, и умозрение еще не опозорило себя
хитросплетениями. Они могли в случае нужды обменяться обязанностями, ибо
каждый из них по-своему чтил истину. Как высоко ни подымался
разум, он любовно возвышал к себе материю, и, как тонко и остро
он ни разделял, он никогда не калечил. Он расчленял человеческую
118
природу и, увеличив части, распределял по сонму прекрасных
богов, но разум не разрывал человеческой природы на части, а лишь
только многоразличным образом перемешивал их так, что в каждом
боге присутствовало все человечество. Совсем другое дело у
современных людей! И у нас образ рода преувеличенно расчленен в
индивидах,— однако это сделано отрывочно, не в измененных
смешениях, так что цельности рода можно достигнуть, лишь
ознакомившись с рядом отдельных индивидов. Можно, мне кажется,
утверждать, что в опыте у нас духовные силы проявляются в таком же
разобщении, в каком представляет их психолог, и мы не только
видим отдельных субъектов, но и целые классы людей, в коих развита
только часть их способностей, в то время как в других, как в
захиревших растениях, можно найти лишь слабый на них намек.
Я не упускаю из виду преимуществ, которые нынешнее
поколение, рассматриваемое как единое целое, имеет на весах рассудка
пред лучшим, что дано прошлым; однако состязание должно
начаться сомкнутыми рядами, и целое должно померяться с целым.
Кто же из новых выступит вперед, дабы сразиться один на один
за приз человечества с отдельным афинянином?
Откуда же это невыгодное отношение индивидов при выгодах
целого рода? Почему каждый отдельный грек мог служить
представителем своего времени, а отдельный современный человек не
отважится на это? Потому что тем придавала форму все
объединяющая природа, а этим — все разъединяющий рассудок.
Сама культура нанесла новому человечеству эту рану. Как
только сделалось необходимым благодаря расширившемуся опыту
и более определенному мышлению, с одной стороны, более
отчетливое разделение наук, а с другой,— усложнившийся государственный
механизм потребовал более строгого разделения сословий и занятий,
тотчас порвался и внутренний союз человеческой природы, и
пагубное состязание раздвоило ее гармонические силы. Рассудки
созерцательный и умозрительный, настроенные теперь враждебно,
разграничили поле своей деятельности и стали подозрительно и
ревниво оберегать свои границы, а вместе с ограничением сферы
деятельности нашли в самих себе господина, который нередко подавлял
все остальные способности; подобно тому как в одном случае
избыточное воображение опустошает кропотливые насаждения рассудка,
так в другом — дух абстракции пожирает то пламя, около которого
могло бы согреться сердце и воспламениться фантазия.
Эта расшатанность, которая началась внутри человека
благодаря искусству и учености, сделалась благодаря новому духу
правительства полной и всеобщей. Конечно, нельзя было ожидать, что
простота организации первых республик переживет простоту их
119
нравов и отношений; однако, вместо того чтобы подняться до более
высокой органической жизни, она ниспала до простого и грубого
механизма. Природа полипов, свойственная греческим государствам, в
которых каждый индивид наслаждался независимой жизнью, а когда
наступала необходимость, мог сливаться с целым, теперь уступила
место искусному часовому механизму, в котором из соединения
бесконечного множества безжизненных частей возникает в целом
механическая жизнь. Теперь оказались разобщенными государство и церковь,
законы и нравы; наслаждение отделилось от работы, средство от
цели, усилие от награды. Вечно прикованный к отдельному малому
обрывку целого, человек сам становится обрывком; слыша вечно
однообразный шум колеса, которое он приводит в движение,
человек неспособен развить гармонию своего существа, и, вместо того
чтобы выразить человечность своей природы, он становится лишь
отпечатком своего занятия, своей науки. Однако и это скудное,
отрывочное участие отдельных частей в целом не зависит от форм,
которые они создают сами (ибо как можно доверить их свободе
такой искусный и хрупкий механизм?), а предписывается им с
мелочной строгостью программой, которой связывается их свободное
разумение. Мертвая буква замещает живой рассудок, и развитая
память служит лучшим руководителем, чем гений и чувство. [...]
Сколько бы ни выигрывал мир как целое от этого раздельного
развития человеческих сил, все же нельзя отрицать того, что
индивиды, затронутые им, страдают под гнетом этой мировой цели.
Гимнастические упражнения создают, правда, атлетическое тело, но
красота создается лишь свободной и равномерной игрой членов.
Точно так же напряжение отдельных духовных сил может создавать
чрезвычайных людей, но только равномерное их сочетание создает
людей счастливых и совершенных. И в каком отношении
находились бы мы к прошлым и будущим мировым эпохам, если бы
развитие человеческой природы требовало подобной жертвы? Мы были
бы рабами человечества, мы в течение нескольких тысячелетий
несли бы ради него труд рабов, и на нашей исковерканной природе
запечатлелись бы постыдные следы этого рабства,— дабы
позднейшие поколения могли в блаженной праздности заботиться о своем
нравственном здоровье и могла свободно расти и развиваться
человеческая природа!
Неужели же, однако, назначение человека состоит в том, чтобы
ради известной цели пренебречь самим собой? Неужели же природа
ради своих целей отнимает у нас совершенство, которое
предписывается нам целями разума? Итак, неверно, что развитие отдельных
сил должно влечь за собой пожертвование целостностью; или же,
сколько бы законы природы к этому ни стремились, все же должно
120
находиться в нашей власти восстановление этой уничтоженной
искусством целостности нашей природы при помощи искусства еще
более высокого.
Письмо седьмое
Может быть, от государства должно ждать такого действия?
Это невозможно, ибо государство, как оно ныне устроено, само
вызвало это зло, и государство, как оно представляется в идее разума,
должно само быть основано на этом лучшем существе человека,
вместо того чтобы способствовать его созиданию. И вот мои
исследования вновь привели меня к той точке, от которой они меня на
время отдалили. Нынешнее время, очень далекое от того, чтобы дать
нам ту форму человечества, необходимость коей как условия
морального совершенствования государства показана нами, скорее,
представляет нам прямую противоположность. Итак, если
выставленные мною положения правильны и опыт подтверждает
нарисованную мною картину современности, то всякую попытку такого
изменения государства нужно будет дотоле объявить
несвоевременной и всякую основанную на этом надежду химеричной, доколе не
будет уничтожено разделение внутри человека и развитие его
природы не сделается достаточным для того, чтобы самой природе стать
художником и тем гарантировать реальность политическому
созданию разума. [...]
Письмо девятое
Но, может быть, здесь порочный круг? Теоретическая культура
должна привести к практической, а практическая в то же время
должна быть условием теоретической? Всякое улучшение в
политической сфере должно исходить из облагораживания характера, но
как же характеру облагородиться под влиянием варварского
государственного строя? Ради этой цели нужно найти орудие, которого
у государства нет, и открыть для этого источники, которые
сохранили бы при всей политической испорченности свою чистоту и
прозрачность.
Теперь я достиг той точки, к который были направлены все мои
предшествующие рассуждения. Это орудие — искусство, эти
источники открываются в его бессмертных образцах.
Наука и искусство отрешены от всего положительного и
зависимого от человеческой условности и пользуются безусловной
неприкосновенностью со стороны человеческого произвола.
Политический законодатель может оцепить их область, но господствовать
в ней он не может. Он может изгнать друзей истины, но истина
121
превозможет; он мажет унизить художника, но искусство подделать
он не в состоянии. Правда, явление весьма обычное, что наука и
искусство преклоняются перед духом времени и что критический вкус
предписывает творческому законы. Где характер становится
непреклонным и твердым, там наука строго оберегает свои границы и
искусство направляется тяжкими рамками правил; где, напротив,
характер становится слабым и дряблым, там наука стремится к тому,
чтобы понравиться, и искусство — к тому, чтобы доставить
удовольствие. В течение целых столетий философы и художники работают
над тем, чтобы внедрить в низы человечества истину и красоту;
первые гибнут, но истинная красота обнаруживается победоносно со
свойственной им несокрушимой жизненной силой.
Художник, конечно, дитя века, но горе ему, если он в то же
время и воспитанник или даже баловень его. Пусть благодетельное
божество своевременно отторгнет младенца от груди матери, дабы
вскормить его молоком лучших времен, и даст дозреть до
совершеннолетия под дальним греческим небом. И после того, как он
станет мужем, пусть он в образе пришельца вернется в свое
столетие, но не для того, чтобы прельщать его своим появлением, но ради
того, чтобы беспощадно, подобно сыну Агамемнона, очистить его.
Содержание он, конечно, заимствует из современности, но форму —
из более благородного времени; он возьмет ее и вне всякого времени
из безусловного, неизменного единства своего существа. Здесь, из
чистого эфира его демонической природы, льется источник
красоты, не зараженной испорченностью людей и времен, которые
кружатся глубоко под ним в мутном водовороте. [...]
Письмо пятнадцатое
Я все более и более приближаюсь к цели, к которой веду вас по
мало завлекательной тропинке. Но последуйте за мной еще
несколько шагов, и тогда откроется более широкий горизонт и, может
быть, веселый вид вознаградит за трудность пути.
Предмет чувственного побуждения, выраженный общим
понятием, называется жизнью в самом обширном значении этого слова; это
понятие, которое обозначает все материальное бытие и все
непосредственно находящееся в распоряжении чувств. Предмет
побуждения к форме, выраженный общим понятием, называется образом
как в прямом, так и в переносном значении слова; это понятие,
охватывающее все формальные свойства предметов и все отношения
их к мышлению. Предмет побуждения к игре, представленный в
общей схеме, может быть назван живым образом, понятием, служащим
для обозначения всех эстетических свойств явлений, одним словом,
122
всего того, что в обширнейшем смысле слова называется
красотой. [...]
Мы знаем, что человек не исключительно материален и не
исключительно духовен. Поэтому красота как завершение существа
человека не может быть исключительно только жизнью, как это
утверждали принципиальные наблюдатели, слишком точно
следовавшие указаниям опыта, а вкус настоящего времени именно в этом
и желал бы видеть красоту; но красота не может быть и
исключительно образом, как это утверждали умозрительные мудрецы,
слишком удалившиеся от указаний опыта, и философствующие
художники, которые при объяснении красоты слишком точно следовали за
потребностями искусства. Красота есть общий объект обоих
побуждений, то есть объект и побуждение к игре. Это название вполне
оправдывается словоупотреблением, которое обозначает названием
игры все то, что не есть ни объективно, ни субъективно случайно,
но в то же время не заключает в себе ни внутреннего, ни внешнего
принуждения. Так как дух во время созерцания красоты находится
в счастливой середине между законом и потребностью, то он,
именно потому, что имеет дело с обоими, не подчинен ни принуждению,
ни закону. Как материальное, так и формальное побуждение
настаивают на своих требованиях, так как первое имеет отношение к
познанию действительности, второе же к познанию необходимости
предметов, так как во время деятельности первое направлено на
сохранение жизни, второе же на сохранение достоинства, а оба
вместе, стало быть, на сохранение истины и совершенства. Но жизнь
теряет свою ценность, когда вопрос идет о достоинстве, и долг более
не побуждает, когда заговорила склонность; и дух свободнее и
спокойнее воспринимает действительность предметов, материальную
истинность, как только она встретится с формальной истиной, с
законом необходимости; отвлечение его не утомляет более, когда
может сопровождаться непосредственным созерцанием. Одним словом,
все действительное теряет свою значительность, когда приходит в
соприкосновение с идеями, ибо оно становится малым, и все
необходимое перестает быть серьезным, ибо становится легким, как
только оно встречается с ощущениями.
Однако, давно желали вы возразить мне, не принижается ли
красота тем, что она приравнивается к игре и пустейшим предметам,
которые всегда обозначались именем игры? Не противоречит ли
понятию разума и достоинству красоты, которая ведь рассматривается
как орудие культуры, ограничение красоты простой игрой, и не
противоречит ли опытному понятию игры, которое может
существовать и после исключения всего, что касается вкуса,— ограничение
игры одной лишь красотой?
123
Однако что же мы назовем простой игрой теперь, когда мы
знаем, что из всех состояний человека именно игра, и только игра,
делает его совершенным и сразу раскрывает его двойственную
природу? То, что вы, по вашему представлению об этой вещи, называете
ограничением, то я, по своему пониманию, которое я оправдал
доказательствами, называю расширением. Поэтому я сказал бы
совершенно обратно: в приятном, в добре, в совершенстве человек
проявляет только свою серьезность, с красотой же он играет. Конечно,
нам не следует в данном случае припоминать те игры, которые
в ходу в действительной жизни и которые обыкновенно направлены
на весьма материальные предметы; но мы тщетно стали бы искать
в действительной жизни и ту красоту, о которой здесь идет речь.
Встречающаяся в действительности красота вполне соответствует
встречающемуся в действительной жизни побуждению к игре;
однако идеал красоты, выставленный разумом, вместе с тем
выставляет и идеал побуждения к игре, который человек должен иметь
пред глазами во всех своих играх.
Не ошибается тот, кто станет искать идеал красоты
какого-нибудь человека на том же пути, на каком он удовлетворяет свое
побуждение к игре. Если греческие племена наслаждаются на
Олимпийских играх бескровными состязаниями в силе, быстроте,
ловкости и благородном соревновании талантов и если римский народ
радуется смертельному бою умирающего гладиатора с его
ливийским противником, то эта одна черта поясняет нам, что идеальных
образов Венеры, Юноны, Аполлона мы должны искать не в Риме,
а в Греции. Но разум говорит: прекрасное не должно быть просто
жизнью или одним лишь образом, прекрасное должно быть живым
образом, другими словами — оно должно быть красотой, так как
красота предписывает человеку двойной закон безусловной
формальности и безусловной реальности. Итак, разум в одно и то же
время говорит: человек должен только играть красотой, и только
красотой одной он должен играть.
И, чтобы это наконец высказать раз навсегда,— человек играет
только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он
бывает вполне человеком лить тогда, когда играет. Это положение
в настоящую минуту, может быть, покажется парадоксальным, но
оно получит важное и глубокое значение, когда нам удастся
серьезно применить его к понятиям долга и судьбы. На нем будет
построено, я вам это обещаю, все здание эстетического искусства и
еще более трудного искусства жить. Только науке покажется это
положение неожиданным, но оно давно жило и действовало в
искусстве и в чувствах греков, главнейших представителей искусства; они
лишь помещали на Олимпе то, что следовало выполнить на земле.
124
Руководствуясь истиной этого положения, греки заставили
исчезнуть с чела блаженных богов серьезность и заботу, которые
покрывают морщинами ланиты смертных, равно и пустое наслаждение,
которое делает гладким лицо, лишенное содержания; они
освободили вечно довольных богов от оков каких-либо целей,
обязанностей, забот и в праздности и безразличии усматривали завидную
божественную долю, которая представляется только более
человеческим названием самой свободной и возвышенной жизни. В
высоком понимании греков, сразу охватывавшем оба мира, исчезло как
материальное понуждение законов природы, так и духовное
принуждение нравственного закона в высшем понятии необходимости, и
из единства этих двух необходимостей для них возникла истинная
свобода.
Письмо двадцать пятое
Пока человек в своем первом, физическом, состоянии лишь
пассивно воспринимает чувственный мир, лишь ощущает, до тех пор
он еще в полном с ним единении, и именно потому для него еще не
существует мира, что он сам вполне и только мир. Только когда он
в эстетическом состоянии выходит из своих пределов или созерцает,
тогда его личность выделяется из мира, и тогда для него возникает
мир, ибо он перестал составлять с ним единое целое. [...]
Красота, конечно, есть создание свободного созерцания, и с ней
мы вступаем в мир идей, но — это следует отметить — не покидая
и по этой причине чувственного мира, как это наблюдается при
сознании истины. Истина — чистый продукт отвлечения от всего
материального и случайного; она чистый объект, в котором не
должно оставаться ограниченности субъекта, чистая самодеятельность
без примеси пассивности. Правда, и от высочайшего отвлечения
можно найти обратный путь к чувственности; ибо мысль
соприкасается с внутренним чувством, и представление логического и
морального единства переходит в чувство ощущаемого согласия. Но,
когда мы наслаждаемся познаниями, мы в то же время очень
отчетливо отличаем наше представление от нашего ощущения;
последнее мы рассматриваем как нечто случайное, чего бы могло и
не быть, отчего познание не прекратилось бы и истина не перестала
бы быть истиной. Но совершенно тщетной была бы попытка
отделить представление красоты от этого отношения к способности
ощущения; поэтому-то нам мало рассматривать первую как следствие
второй, но мы должны и ту и другую рассматривать как
находящиеся во взаимодействии, то есть одновременно представляющие
собой и следствие и причину. В нашем наслаждении познанием мы
без труда различаем переход от деятельности к пассивности и
125
совершенно отчетливо замечаем, что первая прекратилась, когда
наступает вторая. В нашем наслаждении красотой, напротив того,
нельзя заметить подобной смены деятельности и пассивности, и
рефлексия здесь настолько сливается с чувством, что нам кажется,
будто мы непосредственно ощущаем форму. Итак, хотя красота
действительно есть предмет для нас, ибо рефлексия есть условие,
благодаря которому мы можем иметь ощущение красоты, однако в то
же время красота есть состояние нашего субъекта, ибо чувство
является условием, благодаря коему мы можем иметь представление
красоты. Она есть форма, ибо мы ее созерцаем, но в то же время
она есть жизнь, ибо мы ее чувствуем. Одним словом, красота
одновременно и наше состояние и наше действие.
И именно потому, что она одновременно и то и другое, красота
и является победоносным доказательством того, что пассивность
нисколько не исключает деятельности, материя — формы и
ограничение — бесконечности, что, таким образом, моральная свобода
человека нисколько не уничтожается необходимой физической
зависимостью. Она это доказывает, и я должен прибавить, что только она
может это нам доказать. [...]
Итак, нас не должен более смущать переход от чувственной
зависимости к моральной свободе, так как красота представляет как
доказательство совершенного сосуществования первой со второй,
так и доказательство того, что человеку незачем отбрасывать
материю для того, чтобы проявить себя в качестве духа. Но если человек
свободен уже в сообществе с чувственностью, как это показывает
факт красоты, и если свобода есть нечто безусловное и
сверхчувственное, как это необходимо вытекает из ее понятия, то не может
быть больше вопроса о том, как человек, исходя из ограничения,
достигает безусловного, как он противодействует чувственности своим
мышлением и волей, так как все это имеется уже в красоте. Одним
словом, не может быть вопроса о том, как он переходит от красоты
к истине, которая в возможности уже заключена в красоте, а только
лишь о том, как он пролагает себе путь от повседневной
действительности к эстетической или от голого жизненного чувства к
чувству красоты.
Письмо двадцать шестое
Так как лишь эстетическое расположение духа, как я показал
в предшествующих письмах, порождает свободу, отсюда ясно, что
оно не может возникнуть из свободы и, стало быть, не может иметь
своего источника в нравственности. Оно должно быть даром
природы; только счастливый случай может разорвать оковы
физического состояния и привести дикаря к красоте. [...]
126
Каким же явлением обнаруживается в дикаре вступление его
в человечество? Как бы далеко ни шли мы в глубь времен, оно
одно и то же у всех племен, вышедших из рабства зверского
состояния: наслаждение видимостью, склонность к украшениям и
играм. [...] Поскольку потребность реальности и привязанность
к действительности являются лишь следствием недостатка,
постольку равнодушие к реальности и внимание к видимости
являются истинным расширением человеческой природы и решительным
шагом к культуре. Во-первых, это есть доказательство внешней
свободы; ибо воображение приковано крепкими узами к
действительности, пока нужда повелевает и потребность понуждает; только
когда потребность удовлетворена, может развиваться свободная сила
воображения. Во-вторых, однако, это доказывает и внутреннюю
свободу, ибо обнаруживает в нас силу, которая приводится в движение
сама собой, независимо от внешней причины, и обладает
достаточной энергией, чтобы отразить натиск материи. Реальность вещей —
это их дело; видимость вещей — это дело человека, и дух,
наслаждающийся видимостью, радуется уже не тому, что он
воспринимает, а тому, что он производит.
Само собой разумеется, что здесь речь идет лишь об
эстетической видимости, отличной от действительности и истины, не о
логической, которую часто смешивают с эстетической, которую,
следовательно, любят потому, что она есть именно видимость, а не за
то, что она представляется чем-то лучшим. Только первая видимость
есть игра, так как вторая есть обман. Почитать за нечто видимость
первого рода — не может служить во вред истине; ибо нет
опасности от подмены, которая единственно и может вредить истине;
презирать ее — значит вообще презирать всякое искусство,
сущность которого состоит в видимости. Однако рассудку иногда
случается и быть в своем стремлении к реальности настолько
нетерпимым, что он презрительно судит о всяком искусстве прекрасной
видимости, потому что оно есть только видимость; но это может
случиться с рассудком лишь в том случае, когда он вспомнит о
вышеупомянутом сродстве. Я буду еще иметь повод поговорить особо
о необходимых границах прекрасной видимости. [...]
Тотчас по проявлении побуждения к игре, находящего
наслаждение в видимости, разовьется и побуждение к воссозданию,
которое рассматривает видимость как нечто самостоятельное. Дойдя до
способности различить видимость от действительности, форму от
тела, человек в состоянии и отделить их друг от друга; он уже
сделал это, различив их. Итак, способность к воспроизводящему
искусству уже вообще дана вместе с формальной способностью.
Стремление же к ней покоится на ином предрасположении, о котором мне
127
здесь незачем говорить. Более позднее или раннее развитие
эстетического побуждения к искусству в человеке зависит только от
степени любви, с которой он способен сосредоточиться на одной
видимости.
Так как всякое бытие происходит от природы как чуждой силы,
всякая же видимость первоначально от человека как
представляющего субъекта, то человек лишь пользуется своим безусловным
правом собственности, когда он отнимает от сущего видимость и
распоряжается ею по собственным законам. С ничем не обузданной
свободой он может соединять то, что природа разъединила, если
только это соединимо в мысли, и разделять соединенное природой,
если только его рассудок допускает подобное разъединение. Для
человека в этом случае нет ничего святого, кроме собственного
закона, лишь бы только он соблюдал границу, отделяющую его
область от бытия предметов или области природы.
Этим человеческим правом господства он пользуется в
искусстве видимости, и чем строже он здесь разграничит «мое» и «твое»,
чем осторожнее он отделит форму от сущности, чем большую
самостоятельность он придаст первой, тем более расширит он не только
царство красоты, но охранит также и границы истины, ибо он не
может очистить видимость от действительности, не освободив в то
же время и действительность от видимости.
Однако это самодержавное право принадлежит ему
исключительно в мире видимости, только в бесплотном царстве воображения
и только до тех пор, пока он в области теории добросовестно
отказывается утверждать его бытие, и до тех пор, пока в области
практики он отказывается творить бытие при посредстве этой
видимости. Вы видите, таким образом, что поэт в одинаковой мере
переступает за свои пределы как в том случае, когда он приписывает
своему идеалу бытие, так и в том, когда он при его помощи
стремится к осуществлению определенного бытия. Ибо и то и другое он
может осуществить не иначе как или злоупотребив своим правом
поэта, вторгшись в область опыта своим идеалом и присвоив себе
право определять простой возможностью действительное бытие, или
же тем, что он отказывается от прав поэта, дозволяет опыту
вторгнуться в область идеала и тем ограничивает возможность условиями
действительности.
Видимость эстетична, только поскольку она откровенна (то есть
открыто отказывается от всяких притязаний на реальность) и
поскольку она самостоятельна, то есть отрешается от всякой помощи
реальности. Когда видимость лжива и подделывает реальность,
когда она нечиста и нуждается для своего действия в реальности,
тогда она есть не, что иное, как низкое орудие для материальных
128
целей и отнюдь не служит доказательством свободы духа. Впрочем,
вовсе не необходимо, чтобы предмет, в котором мы находим
красивую видимость, был лишен реальности, лишь бы только наше
суждение о нем не обращало внимания на эту реальность; ибо
поскольку оно обращает на реальность внимание, постольку суждение
не эстетично. Живая женская красота нравится нам, конечно,
столько же и даже немного более, чем нарисованная, но поскольку
первая нравится нам более, чем последняя, постольку она нравится не
только как самостоятельная видимость и не только чистому
эстетическому чувству; последнему и живое должно нравиться лишь как
явление и действительное только как идея; правда, чтобы
наслаждаться в живом предмете одной лишь чистой видимостью,
требуется гораздо более высокая степень эстетической культуры, чем
для того, чтобы не испытывать лишения, наслаждаясь
безжизненной видимостью.
Письмо двадцать седьмое
Эстетическое творческое побуждение незаметно строит посреди
страшного царства сил и посреди священного царства законов третье
веселое царство игры и видимости, в котором оно снимает с человека
оковы всяких отношений и освобождает его от всего, что зовется
принуждением как в физическом, так и в моральном смысле.
Если в динамическом правовом государстве человек
противостоит человеку как некоторая сила и ограничивает его деятельность,
если в этическом государстве обязанности человека
противополагается величие закона, которое связывает его волю, то в кругу
прекрасного общения, в эстетическом государстве, человек может
явиться лишь как форма, может противостоять только как объект
свободной игры. Свободою давать свободу — вот основной закон
этого государства.
Динамическое государство лишь делает возможным общество,
покоряя природу природой; этическое государство делает его
(морально) необходимым, подчиняя единичную волю общей воле;
только эстетическое государство может сделать общество
действительным, ибо оно приводит в исполнение волю целого через природу
отдельного индивида. Хотя уже потребности человека и
заставляют его жить в обществе, а разум насаждает в нем основы
общественности, однако только одна красота может придать ему
общественные качества. Только вкус вносит гармонию в общество, так
как он создает гармонию в индивиде. Все другие формы
представления разделяют человека, ибо они основываются или исключительно
на чувственной, или на духовной части его существа; только пред-
129
ставление красоты делает человека цельным, ибо оно требует
согласия его двух натур. Все другие формы общения разделяют
общество, так как они относятся или к специальной восприимчивости
каждого отдельного лица, или же к специальным способностям
отдельных членов, то есть к тому, чем люди друг от друга
отличаются; только общение в прекрасном соединяет людей, так как оно
относится к тому, что всем общо. Чувственные наслаждения
принадлежат нам лишь как индивидам, и род, который живет в нас,
не принимает в них участия, поэтому мы ае можем сделать общими
наши чувственные наслаждения, так как мы не можем обобщить
нашу индивидуальность. Наслаждения познания доступны нам лишь
как роду, причем мы тщательно устраняем из нашего суждения
всякий след своей индивидуальности; поэтому мы не можем сделать
общими наши умственные наслаждения, так как мы не можем
изгнать следов индивидуальности из суждения других в такой же
мере, как из своего собственного. Только красотой мы наслаждаемся
одновременно и как индивидуум и как род, то есть как
представители рода. [...]
Никакое преимущество, никакое единовластие не терпимы, раз
правит вкус и распространено царство прекрасной видимости. Это
царство подымается до пределов, где разум господствует с
безусловной необходимостью и исчезла всякая материя; оно опускается
до пределов, где естественное побуждение правит слепым
понуждением, где форма еще не возникла; да, даже на этих крайних
пределах вкус не дозволяет отнять у себя исполнительную власть, когда
законодательная у него уже отнята. Безоглядное вожделение должно
отказаться от себялюбия, и приятное, которое обыкновенно лишь
привлекает чувства, должно набросить сеть миловидности и на
духовную сферу. Строгий голос необходимости, долг, должен изменить
свою укорительную формулу, которую одно лишь противодействие
оправдывает, и почтить податливую природу благородным
доверием. Вкус выводит знания из мистерий науки под открытое небо
здравого смысла и превращает собственность школ в общее
достояние всего человеческого рода. Даже величайший гений должен
сложить с себя в своей области величайшую власть и доверчиво
снизойти к детскому пониманию. Сила должна дозволить грациям
связать себя, и упрямый лев должен покориться узде амура. Зато он
окутывает своей смягчающей дымкой физические потребности,
которые в своем обнаженном виде оскорбляют достоинство свободной
души и в милом призраке свободы скрывают от нас позорное
родство с материей. Им окрыленное, даже раболепное искусство из-за
денег подымает голову из праха, и оковы рабства, к которым
прикоснулся жезл вкуса, одинаково спадают как с живого, так и с не-
130
одушевленного. В эстетическом государстве все, даже служебное
орудие, является свободным гражданином, равноправным с самым
благородным, и рассудок, насильно подчиняющий терпеливую толпу
своим целям, должен спрашивать здесь согласия. Итак, здесь, в
царстве эстетической видимости, осуществляется идеал равенства,
которое мечтатель столь охотно желал бы видеть осуществленным и в
действительности, и если правда, что хороший тон созревает ранее
всего и лучше всего у трона, то и здесь пришлось бы признать
благодетельную судьбу, которая, как кажется, только для того
ограничивает человека в действительности, чтобы направить его в мир
идей.
Но существует ли такое государство прекрасной видимости и где
его найти? Потребность в нем существует в каждой тонко
настроенной душе; в действительности же его, пожалуй, можно найти,
подобно чистой церкви и чистой республике, разве в некоторых
немногочисленных кружках, образ действия которых направляется не
бездушным подражанием чужим нравам, а собственной прекрасной
природой; где человек проходит со смелым простодушием и
спокойной невинностью через самые запутанные отношения; где он не
нуждается ни в оскорблении чужой свободы ради утверждения
собственной, ни в отказе от собственного достоинства ради проявления
любезности.
Фридрих Шиллер, Статьи по эстетике, М.—
Л., «Academia», 1935, стр. 203—206, 211—213, 217—
218, 221—222, 241—246, 276—280, 280—284, 291—
293. Перевод Э. Л. Радлова.
О НАИВНОЙ И СЕНТИМЕНТАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ
В жизни нашей бывают мгновения, когда мы с некоторой
любовью и трогательным почтением обращаемся к природе,
воплощенной в растениях, минералах, животных, красивых местностях, равно
как к человеческой природе в детях, в сельском быту и
первобытных нравах,— не потому, чтобы она услаждала наши физические
чувства, не потому также, чтобы она удовлетворяла наш рассудок
или вкус (в том и другом зачастую наблюдается прямо
противоположное), но просто потому, что перед нами природа. Всякий сколько-
нибудь утонченный, не совершенно бесчувственный человек
испытывает это, бродя за городом, проживая в деревне или
останавливаясь перед памятниками отдаленных времен, словом, всегда,
когда в искусственных условиях и положениях бывает поражен
видом простой природы. Этот часто возвышающийся до потребности
интерес лежит в основе наших любительских пристрастий к цветам
131
и животным, к простым садам, к прогулкам, к сельским местностям
и их обитателям, ко многим созданиям далекой древности и т. д.,—
если, впрочем, здесь не играют роли ни рисовка, ни другой какой-
либо посторонний интерес. Этот вид интереса к природе проявляется
лишь при двух условиях. Во-первых, абсолютно необходимо, чтобы
предмет, нам его внушающий, был сам природой или казался нам
природой; во-вторых, чтобы он был (в самом широком значении
этого слова) наивен, то есть чтобы природа, приходя здесь в
столкновение с искусством, посрамляла его. Раз последнее
присоединяется к первому, и только в этом случае, природа становится чем-то
наивным.
Рассматриваемая таким образом природа есть для нас не что
иное, как добровольное бытие, самобытное состояние вещей,
существование по собственным и неизменным законам.
Это представление безусловно необходимо там, где
предполагается интерес к этого рода явлениям. Если бы возможно было
придать искусственному цветку видимость естественного до полнейшей
иллюзии, то чувство, о котором идет речь, было бы совершенно
уничтожено открытием, что это только подделка. Отсюда явствует, что
этот вид наслаждения природой не эстетический, а моральный; ибо
он порождается непосредственно созерцанием, передается при
посредстве идеи; да и направлен он совсем не на красоту форм. Чем
мог бы привлечь нас сам по себе невзрачный цветок, родник,
обросший мхом камень, чириканье пташек, жужжание пчел и т. д.? Что
могло дать им право даже на нашу любовь? Мы любим не эти вещи,
а воплощенную в них идею. Мы любим в них тихую созидательную
жизнь, спокойную самобытную деятельность, бытие по своим
собственным законам, внутреннюю необходимость, вечное согласие
с собой.
Они то, чем мы были; они то, чем нам предстоит стать. Мы были
природой, как они, и наша культура должна путем разума и свободы
привести нас к природе. Они, стало быть, как бы изображение
нашего утерянного детства, навеки для нас драгоценного; поэтому они
исполняют нас некоторой грустью. В то же время они воплощают
наше высшее совершенство в идеале; поэтому они приводят нас
в состояние возвышенной растроганности.
Когда вспомнишь о прекрасной природе, окружавшей древних
греков, когда пораздумаешь, в какой близости с свободной природой
мог жить этот народ под своим счастливым небом, насколько ближе
были его представления, его ощущения, его нравы простой природе
и сколь верный ее отпечаток представляют собой создания его
поэзии, то неожиданным покажется указание, что в нем самом
замечается очень мало того сентиментального интереса, который так
132
влечет нас, людей нового времени, к естественным сценам и
естественным характерам. Правда, в описании ее грек в высшей
степени точен, верен, обстоятелен, но отнюдь не больше, и сердечное
его участие проявляется здесь не больше, чем в описании наряда,
щита, доспеха, домашней утвари, какого-либо иного произведения
промышленности. В своей любви к вещи он как будто не делает
разницы между тем, что явилось само по себе и что создано
искусством и волей человеческой. Природа как будто занимает больше
его рассудок и его любознательность, чем его моральное чувство; он
не привязан к ней с сердечностью, чувствительностью^ сладостным
томлением, как мы, люди нового времени. Мало того: олицетворяя
ее и обожествляя в ее отдельных явлениях и представляя ее
деятельность как действия свободных существ, он устраняет из нее
спокойную необходимость, которая как раз делает ее столь для
нас привлекательной. Его нетерпеливая фантазия перебрасывает
его через нее к драме человеческой жизни. Только живое и
свободное, только характеры, действия, судьбы и нравы удовлетворяют
его, и если мы в известных моральных состояниях души присочиняем
преимущества свободы нашей воли, делающей нас жертвой такой
внутренней борьбы с собой, такого множества тревог и
заблуждений, и противополагаем эту свободу не знающей выбора, но
спокойной необходимости, которой подчинено все неразумное, то
фантазия греков, в противоположность этому, старается как раз взять
человеческую природу еще в бессознательном мире и одарить волю
влиянием там, где царит слепая необходимость.
Откуда же это различие? Чем вызывается то, что, несмотря на
столь бесконечное превосходство древних над нами во всем, что
есть природа, мы как раз здесь в большей степени почитаем
природу, с большей сердечностью привязаны к ней и даже
безжизненный мир готовы с горячим чувством заключить в свои объятия. Это
вызывается тем, что природа покинула у нас человеческое существо,
и мы лишь за его пределами, в неодушевленном мире, вновь
встречаемся с ней во всей ее правде. Не большее наше соответствие
природе, не большая естественность, а наоборот, именно
противоестественность наших отношений, быта и нравов заставляет нас
доставить пробудившемуся тяготению к правде и простоте, какое, подобно
моральной подпочве, ее порождающей, неподкупное и
неистребимое, заложено во всяком человеческом сердце, доставить ему в
физическом мире удовлетворение, на которое не приходится
надеяться в мире моральном. Поэтому чувство, привязывающее нас к
природе, так родственно чувству, с которым мы оплакиваем
исчезнувшую пору детства и детской невинности. Наше детство есть
единственный остаток неизуродованной природы, встречаемый нами
133
в цивилизованном человечестве, и потому не удивительно, что
каждый след природы вне нас ведет нас обратно к нашему детству. [...]
Таким образов*, чувство, о котором идет здесь речь, не то, что
было у древних; оно, скорее, сходно с тем, которое мы питаем к древ-
ним. Они ощущали естественно; мы ощущаем естественное.
Несомненно, совсем не то чувство наполняло душу Гомера, когда он
изобразил своего божественного свинопаса угощающим Улисса, чем то,
которое волновало душу юного Вертера, когда он после докучного
вечера в гостях читал дома эту песнь. Наше влечение к природе
сходно с тоской больного по здоровью. [...]
Поэты везде уже по своему существу — хранители природы. Где
они уже не могут быть ими вполне и где уже в самих себе ощущают
разрушительное воздействие произвольных и искусственных форм*
там они выступают как свидетели и как мстители за природу. Одно
из двух: или они сами будут природой, или будут стремиться к
утраченной природе. Отсюда проистекают два различных зида поэзии,
которыми исчерпывается и измеряется вся ее область. Все поэты, раз
они поэты подлинные, в зависимости от времени, когда они творят,
или от влияния случайных обстоятельств на их общее развитие и на
их преходящее расположение духа принадлежат к разряду или
наивных, или сентиментальных.
Поэт наивного и духовно стремительного юного мира, равно как
наиболее приближающийся к нему в эпохи искусственной культуры,
холоден, равнодушен, замкнут, чужд всякой откровенности. Строгий
и целомудренный, как девственная Диана среди своих лесов, он
бежит от сердца, его ищущего, от желания, порывающегося
схватить его. Ни на что не отвечает он, ничто не может его смягчить
или ослабить строгие узы его трезвости.
Сухая правдивость, с которой он изображает предмет, нередко
кажется бесчувственностью. Объект захватывает его целиком,
сердце его не лежит, подобно неблагородному металлу, под самой
поверхностью, но, подобно золоту, требует, чтоб его искали в
глубинах недр. Как божество за мирозданием, так он стоит за своим
созданием; он есть создание, создание есть он; надо быть недостойным
этого создания, или бессильным пред ним, или пресыщенным им,
чтобы отыскивать его самого.
Таким является, например, Гомер среди древних и Шекспир
среди новых: две в высшей степени различные, разделенные
безмерным расстоянием эпох личности, но именно в этой черте
совершенно тождественные. В очень ранней юности познакомившись
впервые с последним поэтом, я был возмущен его холодностью, его
бесчувственностью, которая позволяла ему в подъеме высочайшего
пафоса шутить, душераздирающие эпизоды в «Гамлете», «Короле
134
Лире», «Макбете» и т. д. прерывать выступлениями шута и которая
то сдерживала его там, где мое чувство стремительно рвалось
вперед, то немилосердно дергала там, где сердцу так хотелось
помедлить. Приученный знакомством с новыми поэтами прежде всего в
произведении искать поэта, встречаться с его сердцем, совместно
с ним мудрствовать над его предметом, короче, созерцать объект
в субъекте, я не выносил того, что здесь поэт был совершенно
неуловим и нигде не хотел ответствовать предо мной. В течение
многих лет был он предметом моего глубокого почитания и изучения,
прежде чем я научился любить его как личность. Я был еще
неспособен понимать природу непосредственно. [...]
[...] Там, на ступени естественной простоты, где человек
действует всеми своими силами как гармоническое единство, где, таким
образом, цельность его природы получает полное выражение в
действительности, подлинным поэтом делает наиболее полное
изображение действительного мира; [...] напротив, на ступени культуры,
где это гармоническое взаимодействие всего его существа есть
только идея, поэтом делает возведение действительности в идеал
или, что то же, изображение идеала. И это два единственно
возможных метода, в которых вообще может проявиться поэтический
гений. [...]
Поэтому следовало бы или совсем отказаться от сравнения
древних и новых — наивных и сентиментальных — поэтов, или
сравнивать их лишь с точки зрения объединяющего их высшего понятия
(и такое понятие действительно существует). Ибо, разумеется,
когда родовое понятие поэзии предварительно извлекается
односторонне из рассмотрения только древних поэтов, то нет ничего легче,
но и ничего пошлее, чем принижать пред ними поэтов нового
времени. Но если называть поэзией только то, что во все времена
одинаково воздействовало на простую натуру, то, разумеется, нельзя,
рассматривая новых поэтов как раз в самой своеобразной и
возвышенной их красоте, не оспаривать их права на имя поэтов, так как
именно здесь обращаются лишь к питомцу культуры и ничем
простую натуру привлечь не могут 1. Чья мысль не подготовлена к
переходу из мира действительности в царство идей, для того и
богатейшее содержание останется пустой мишурой и высший взлет
1 Мольер, как поэт наивный, мог, конечно, считаться с приговором своей
служанки о том, что надо сохранить и что должно быть вычеркнуто в его
комедиях; было бы неплохо, если бы и мастера французского котурна иногда
проделывали эту пробу со своими трагедиями. Но я не советовал бы
подвергать такому испытанию оды Клопштока, лучшие места в «Мессиаде»,
«Потерянном рае», «Натане Мудром» и многих других произведениях. Г·..].— Прим.
Шиллера.
135
поэтического вдохновения — напряжепностью. Никакому разумному
человеку не придет в голову поставить какого-нибудь нового поэта
рядом с Гомером в том, в чем Гомер велик, и очень смешно
слышать, когда Мильтона или Клопштока считают уместным почтить
именем нового Гомера. С другой стороны, столь же мало мог бы
какой-либо поэт древности, и меньше всего Гомер, выдержать
сравнение с новым поэтом в том, что является характерной
особенностью последнего. Тот, сказал бы я, силен искусством
ограничения, этот — искусством бесконечного.
И именно тем, что сила древнего художника (ибо то, что
сказано здесь о поэте, может с понятными оговорками быть
распространено на художника вообще) заключается в ограничении,
объясняется высокое превосходство, сохраняемое ваянием древности над
новым, и вообще разница в значительности, отделяющая новую поэзию
и новую пластику от обоих этих искусств в древности. Творение,
обращающееся к зрению, лишь в ограниченности обретает свое
совершенство; творение, обращенное к воображению, достигает его и
в безграничном. Поэтому в пластических творениях мало помогает
новому художнику его идейное превосходство. Здесь он вынужден
как можно точнее ограничивать в пространстве образ, представший
его фантазии, и, следовательно, соперничать с древним художником
в том как раз свойстве, в котором тот имеет бесспорное
преимущество. Не то в поэтических произведениях; и если и здесь
древние поэты сразу оказываются выше в простоте форм и в том, что
осязаемо и поддается внешнему воспроизведению, то новый, со своей
стороны, может превзойти их в том, что неизобразимо и невыразимо,
короче, в том, что именуется в созданиях искусства духом 1.
Так как наивный поэт следует только простой природе и
ощущению и ограничивается воспроизведением действительности, то
у него может быть лишь одно отношение к своему предмету, и в
этом смысле для него нет выбора в способе изображения. Различие
во впечатлении, создаваемом произведениями наивной поэзии,
покоится (предполагая, что в мысли устранено все, принадлежащее
в них содержанию, и впечатление это рассматривается как чистый
результат поэтического изображения), покоится, говорю я, только
на различной степени одного и того же рода ощущения; даже раз-
1 Одним словом, индивидуальность есть особенность древних,
идеальность — сила новых. Естественно, что во всем, что, достигнув непосредственного
чувственного воплощения, должно действовать как индивидуальное, древний
поэт одержит победу над новым. Естественно также, с другой стороны, что
там, где дело в духовных образах и чувственный мир может и должен быть
преодолен, древний поэт неизбежно пострадает от ограниченности, вызванной
материей, и именно потому, что строго ее придерживался, будет опережен
новым, который свободен от нее. [...] — Прим. Шиллера.
136
личие во внешних формах ни в чем не может изменить качество
этого эстетического впечатления. Пусть форма будет лирической
или эпической, драматической или описательной: мы можем
испытать более сильное и более слабое воздействие, но (если отвлечься
от сюжета) ни в коем случае не разнородное. Наше чувство
остается сплошь тем же, целиком из одной стихии, так что мы не
можем наметить в нем никаких различий. Даже разница языков и
эпох ничего здесь не меняет, так как именно чистая цельность ее
происхождения и ее действия есть отличительная черта наивной
поэзии.
Совершенно иначе обстоит дело с поэтом сентиментальным. Он
предается размышлениям о впечатлении, производимом на него
предметами, и только на таком размышлении покоится та
растроганность, в которую погружен он сам и погружает нас. Этот
предмет связуетея здесь с идеей, и только на этой связи покоится его
поэтическая сила. Поэтому сентиментальному поэту всегда
приходится иметь дело с двумя борющимися представлениями и
ощущениями, с действительностью как границей и со своей идеей как
бесконечностью, и смешанное чувство, порождаемое им, всегда
будет свидетельствовать о двойственности этого источника. Так как
здесь, таким образом, имеет место множественность основных
начал, то все зависит от того, какое из них перевесит в ощущении
поэта и в его изображении, и, стало быть, возможно различие в
способе изображения. Ибо теперь возникает вопрос, сосредоточится ли
он больше на действительности или на идеале,— представит ли он
действительность как предмет своего нерасположения или идеал
как предмет своего влечения. Его изображение будет, таким
образом, или сатирическое, или (в широком значении этого слова,
которое получит объяснение в дальнейшем) элегическое; одного из
этих двух видов ощущения будет держаться всякий
сентиментальный поэт.
Фридрих Шиллер, Статьи по эстетике, М.—
Л., «Academia», 1935, стр. 317, 318,331—335, 338,
340—343. Перевод А. Г. Горнфельда.
В. ГУМБОЛЬДТ
1767-1835
Вильгельм фон Гумбольдт — прусский министр и дипломат, автор
философских трактатов о необходимости свободного развития человека в
современном государстве, крупнейший языковед, стремившийся создать «всеобщую
науку о языке». Гумбольдту принадлежит также ряд работ по эстетике,
теоретически обобщающих творческий опыт его великого друга Гёте.
137
В исследованиях Гумбольдта «Об изучении древности» (1793), «Лациум
и Эллада» (1806), «История падения и гибели греческих полисов» (1807)
проявился его интерес к искусству античной Греции, которое Гёте и его друзья
рассматривали в этот период как образец всякого подлинно художественного
творчества. Гумбольдт объясняет свою приверженность к античности тем, что
в эту эпоху, по его мнению, эстетический критерий приобрел господствующее
значение, оттеснив на второй план критерий рассудка и требования
практической деятельности. Поэтому изучение искусства, занятия эстетикой тесно
связаны у Гумбольдта с его античными штудиями, и законы художественного
творчества он устанавливает, опираясь на классические образцы искусства Древней
Греции, а также на воплощение «классического» опыта в творчестве Гёте.
Анализируя поэму Гёте «Герман и Доротея», Гумбольдт задается вопросом:
как осуществляет художник свое воздействие на публику? В связи с этим он
исследует роль художественного воображения, разбирает различные виды
художественного воздействия и специально останавливается на жанре эпопеи.
В духе философии Канта Гумбольдт считает, что воображению дано
объединить материал чувственного познания и законы рассудка. Опираясь на
впечатления чувственного мира, художник перерабатывает их в своей фантазии
в некий идеальный и целостный цикл образов. Сила художественного
воображения помогает художнику жить в «ограниченном и конечном реальном мире,
но так как если бы он был неограниченным и бесконечным» 1. Это не
предполагает бегства от реальности в мир вымысла, а лишь означает у Гумбольдта
глубокое познание «идеальной сущности» окружающего мира. Мир, созданный
художником, должен быть похож на внешний мир, но художник освобождает
его от случайных черт, от всего незавершенного, нехарактерного. Воссоздавая
образ предмета, художник жертвует случайным внешним сходством со своей
моделью, отходит от простого подражания природе и видоизменяет объект
изображения, выражая одновременно свое личное отношение к нему.
Отрицая романтический произвол, Гумбольдт требует «объективности»
в познании существенных черт реальности. Этой объективности в особенности
благоприятствует, по его мнению, жанр эпопеи, ибо в отличие, например, от
трагедии, где события происходят непосредственно перед зрителем, эпопея
в силу своего повествовательного характера отодвигает в прошлое события,
о которых идет речь. Эпопея, согласно Гумбольдту, не пробуждает в нас
какого-нибудь одного определенного чувства, не увлекает нас к немедленным
решениям и действиям, не завоевывает наши симпатии на сторону одних героев
в ущерб другим, но «приводит наше сознание в состояние общего
напряженного чувственного созерцания» 2, что открывает путь всестороннему познанию
и объективной оценке.
1 Humboldt W., Werke in 5 Bänden, Bd. II, Berl., 1961, S. 138.
2 Τ a m же, стр. 267.
138
Идеалом эпопеи Гумбольдт считает «Илиаду» Гомера; измеряя этим
высоким критерием эпическую поэму Гёте, он подчеркивает их различия. У Гомера
глубже и значительнее главный конфликт — Троянская война, решающая
судьбу Греции. У Гёте действуют не боги и не герои, а обыкновенные люди, здесь
нет места сверхъестественным событиям, в лучшем случае можно говорить
лишь о случайном совпадении. Рок здесь вырастает из обычных человеческих
взаимоотношений, что, впрочем, не делает его менее могучим. При всем то"м
психология героев Гёте тоньше, характеры разработаны детальнее. Уступая
древним в богатстве внешнего мира, эпопея новейшего времени берет реванш
в разработке мира внутреннего. Глубокие переживания героев показывают их
величие и благородство и потрясают нашу душу до самых глубин. Мы
поднимаемся в область возвышенного, приобщаемся к высокому идеалу, и в этом
просветитель Гумбольдт усматривает высокую воспитательную функцию
искусства.
Назначение человечества, как и отдельного человека, Гумбольдт видит в
том, чтобы с наибольшей полнотой развить свои возможности, испробовать
самые разнообразные формы жизни и прийти в будущем к некоему идеальному
синтезу. Искусство рассматривается им как одно из самых могучих средств,
двигающих человека на пути к этому грядущему совершенству.
О ПОЭМЕ ГЁТЕ «ГЕРМАН И ДОРОТЕЯ»
II. «Основные элементы всякого поэтического воздействия».
Общий план настоящего "рассуждения
Нет более надежного признака истинно поэтического характера,
нежели сочетание в одном и том же образе, в одном и том же
изображении простейшего и высочайшего, абсолютно индивидуального
и вполне идеального (этих двух основных элементов всякого
художественного воздействия).
Ибо в том и кроется прекрасное назначение поэта, чтобы с
помощью единичных образов фантазии привести дух к возвышенной
точке зрения с ее обширным кругозором, чтобы, постоянно
ограничивая свой материал, добиваться неограниченного и
беспредельного воздействия, чтобы в индивидуальном воздать должное идее
и с единой позиции обозревать весь мир явлений.
Может показаться, что задача, возложенная в этом случае на
поэта, диктуется лишь преувеличенными притязаниями
непоэтического века, который, гоняясь повсюду за философскими понятиями,
во всем ищет идею и пренебрегает тем, что кажется ему всего
лишь легковесной игрой чувств и воображения. Стоит, однако,
внимательней всмотреться в ближайшее и наиболее существенное
назначение поэта, и мы со всей очевидностью поймем, что в своем
139
стремлении как можно лучше соответствовать этому назначению он
неминуемо приходит к решению и другой задачи — возвыситься до
идеального и добиться некоей целостности.
III. Простейшее определение искусства
Нива, доставшаяся в удел поэту, есть область воображаемого.
Только обрабатывая эту ниву, только в меру одержимости и
самоотверженности, с которой поэт предается этому занятию,
заслуживает он имени поэта. Природу, которая выступает обычно лишь
объектом чувственного созерцания, должен он претворить в
материал для фантазии. Превращать действительное в образ — такова
в самых общих чертах задача всякого искусства, и к этому более
или менее непосредственно сводятся все прочие задачи.
Добиться успеха в этом деле художник может лишь одним-един-
ственным путем. Он должен погасить в нашей душе всякое
представление о действительном мире и предоставить свободу одной
лишь фантазии, живой и подвижной. В его объекте, касается ли
дело содержания или даже формы, ему не многое дано изменить;
чтобы на картине можно было узнать натуру, художник должен
подражать ей точно и строго; ему остается поэтому обратиться к
субъекту, на которого он стремится воздействовать. Даже если
художник оставит изображаемый предмет во всех подробностях
таким же, как в натуре, этот предмет превратится в нечто совсем иное,
ибо он будет перемещен в другой мир. В реальном мире одно
назначение исключает все другие. Следовательно, то, что это назначение
сообщает предмету благодаря своим качествам, оно тут же снова
отнимает у него благодаря тому, что оно исключает все прочее; в мире
фантазии, однако, это ограничение, вытекающее лишь из природы
реального, отпадает само собой, ибо душа, одухотворенная
фантазией, возвышается над реальностью.
Это самое общее и наиболее простое воздействие всякого
искусства лучше всего можно показать на тех картинах, которые
ограничиваются изображением неживой натуры. Растение, плод
нарисованы совершенно такими, как они выглядят в природе, ничего не
пропущено, ничто не добавлено: почему же все-таки они вызывают
иное впечатление, чем реальный предмет? Почему подобное
творение с точки зрения общего определения искусства обладает в этом
жанре ничуть не меньшей ценностью, чем любое иное
представление в своем? Только потому, что оно непосредственно и в чистом
виде воспринимается фантазией зрителя и в столь же чистом виде
исходит из фантазии художника.
140
До настоящего времени искусство скорей описывали, чем
определяли; его сущность больше поясняли эмпирически, нежели
выводили философски. Подлинное определение, чтобы не казаться
произвольным, должно строиться как производное от понятий. Для
искусства таковое может быть выведено, лишь исходя из общей
природы человеческой души.
Нами различаются три общих состояния нашей души, в которых
все ее силы действуют одновременно, но так, что в каждом случае
одна из них подчиняет себе все прочие. Мы заняты либо
собиранием, упорядочением и применением знаний, получаемых
непосредственно в опыте, либо установлением понятий, независимых от
опыта; либо, наконец, мы живем в ограниченном и конечном реальном
мире, но так, как если бы он был для нас неограниченным и
бесконечным.
Последнее состояние, как это нетрудно понять, связано с силой
воображения, единственной сферой нашей души, которая способна
сочетать противоречивые качества. То, что происходит в этой сфере,
должно сочетать в себе два качества. Оно должно: 1) быть чистым
продуктом воображения; и 2) постоянно сохранять известную
внешнюю или внутреннюю реальность. При отсутствии первого
воображение не стало бы господствующим; лишившись второго, прочие
силы нашей души не могли бы действовать одновременно с
воображением. Но так как реальность, о которой здесь идет речь, не
должна зависеть от действительного бытия, она может основываться
лишь на закономерности.
Из этого состояния и возникает потребность в искусстве.
Поэтому искусство есть способность приводить воображение в состояние
законо черной продуктивности; и это его простейшее определение
является в то же время и наивысшим.
IV. Уровень воздействия, до которого возвышается искусство.
Идеальность. Первое определение: идеальное как нереальное
Воспламенять воображение с помощью воображения — вот в чем
секрет художника. Ибо для того, чтобы заставить наше воображение
непосредственно из своих собственных глубин породить
описываемый предмет, нужно, чтобы этот предмет был свободно порожден
воображением художника. Однако, ввиду того что всякое
произведение искусства, как бы точно ни соответствовало оно сво.ей модели,
воспринимается художником как совершенно новое творение, сам
предмет также претерпевает существенные изменения и
поднимается на новый уровень.
141
Царство фантазии во всем противоположно царству реальности;
и отсюда столь же противоположны характерные черты того, что
входит в каждый из этих двух миров. От понятия реального мира
неотделима та его особенность, что всякое явление здесь существует
в отдельности, само по себе и ни одно из них не зависит от другого
как следствие или причина. Дело здесь не только в том, что
подобная зависимость, по существу, никогда не могла бы наблюдаться,
а могла бы лишь быть выведена путем умозаключения, но и в том,
что понятие действительного делает излишним и самые
поиски-такого рода зависимости. Явление реально наличествует: этого
достаточно, чтобы преодолеть любое сомнение; зачем еще нужно
подтверждать его существование с помощью причины или следствия?
Напротив, когда мы переходим в царство возможного, здесь все
существует лишь в зависимости от чего-то другого; а все, что
мыслится не иначе как при условии сплошной внутренней
взаимозависимости, является тем самым в строжайшем и наиболее простом
смысле слова идеальным. Ибо именно этим своим свойством оно
прямо противоположно действительному миру реальности.
Этим же путем следует идеализировать все, что рукой
искусства переносится в незапятнанную сферу воображения.
Куда бы человек ни обращал свои взоры, повсюду пытается он
утвердить понятие взаимной зависимости, внутренней организации.
Повсеместно воспрепятствовать случайности, сделать так, чтобы она
не оказалось господствующей в области наблюдения и мышления,
не царила в области деятельности,— таково стремление разума.
Уже одним этим он доказывает, что по праву гордится своим более
высоким, чем у прочих творений, происхождением, ибо он
принадлежит к лучшему миру, чем царство реальности, к миру идей.
Перенести с собой туда всю природу, верно и точно
наблюденную, то есть приравнять материал своих наблюдений к объему
вселенной, превратить всю эту огромную массу единичных и
разрозненных явлений в неразрывное единство, в организованное целое,
используя при этом все органы, которые ему для этого приданы,—
такова высшая цель его интеллектуальных усилий.
Так как эти соображения в общем виде выходят за пределы
нашей темы, мы остановимся здесь лишь на той роли, которую
во всей этой большой работе играет воображение и в особенности
художник. Мы вообще вспомнили об этом лишь для того, чтобы
показать, что искусство принадлежит не к низшим механическим
занятиям, которые только подготавливают нас к нашему истинному
призванию, но к высочайшей и возвышенной деятельности, с помощью
которой мы как раз и выполняем это призвание.
142
VI. Необходимость, заставляющая всякого подлинного художника
постоянно искать идеальное
Поскольку сущность искусства обнаружена в законах фантазии,
благодаря которым оно только и может действовать, мы неизбежно
приходим к понятию идеального. Ибо как бы ни был непостижим
путь художника, пусть в нем бесспорно всегда остается нечто — и
притом весьма существенное нечто,— которого не может понять сам
поэт и не в силах выразить критик, столь же бесспорно, однако,
и то, что художник прежде всего исходит из намерения всего лишь
превратить нечто реальное в образ; вскоре он убеждается, однако,
что подобное осуществимо лишь с помощью особого рода живого
послания, которое, в свою очередь, возможно лишь тогда, когда
художник заставляет его, словно электрическую искру, перейти из
своей фантазии в фантазию других людей, и притом не прямо, а
воплощая его в какой-либо вне его сущий объект.
Таков единственный путь, раскрывающийся перед ним, и
помимо воли, просто выполняя свое призвание поэта и полагаясь на
фантазию в осуществлении этого призвания, изымает он природу из
рамок реального бытия и возносит ее в царство идей, превращая
своих персонажей в идеал.
VIII\ Второе преимущество искусства в его высших свершениях:
целостность.— Двоякий путь к ее достижению
Итак, мы показали, как поэт достигает идеальности; выше мы,
однако, не ограничились этим утверждением: мы говорили также,
что он постоянно стремится к целостности; мы употребили при этом
слово «мир», и это не было простой метафорой.
Мир, как замкнутую сферу всего реального, можно
рассматривать двояко: либо отправляясь от предметов, которые он в себя
включает, либо исходя из органов чувств, которыми человек эти
предметы воспринимает. Ибо лишь постольку, поскольку человек
владеет соответствующими органами чувств, существует для него
внешний мир.
Поэт, таким образом, может достичь целостности, к которой он
стремится, этими же двумя путями, охватывая либо сферу объектов,
либо сферу ощущений, вызванных этими объектами. Первый путь
избирает обычно эпический поэт, второй путь присущ поэту
лирическому, хотя по временам они могут и менять свои методы, ибо
речь идет не о первом впечатлении, а о том конечном воздействии,
которое оба они оказывают.
Ни один из этих путей не порождает трудностей в достижении
цели. Все разнообразные состояния духа человеческого, а также и
все силы природные, если уж мы избрали эту позицию, чтобы
143
отсюда бросить свой взор на природу, столь тесно взаимосвязаны и
взаимозависимы, что вряд ли окажется возможным живо
представить что-либо одно, не рассматривая одновременно всю сферу
аналогичных явлении. Для эпического поэта жизнь особенно изобилует
всевозможными связями, и ему совсем не сложно отобразить эти
связи полными значения для людей. Ему достаточно более подробно
развить хотя бы случайно выбранный сюжет, несколько полнее
индивидуализировать задуманные образы, и он тут же всегда
натолкнется на такие ситуации, которые он сможет представить важными
для души, и постепенно, шаг за шагом, исчерпает всю массу
предметов, доступных его наблюдению.
В этом искусстве представить сразу весь мир фантазии или
потрясти всего человека до самых глубин его души и, следовательно,
опять-таки разом охватить все, что его способно растрогать, никто
не сумел превзойти древних. Любой из гимнов Пиндара, каждый
великий хор трагедии, всякая ода Горация охватывает при всем своем
бесконечно изменчивом разнообразии один и тот же круг вопросов.
Поэт постоянно ведет речь о величии богов, власти рока, зависимом
жребии человека, а также о возвышенности его убеждений, величии
духа, позволяющем ему померяться силами с судьбой и даже
одержать над ней верх. Насколько же по-иному, насколько живее,
богаче, наконец, чувственно нагляднее все это обрисовано Гомером!
Не только целиком во всей поэме, но даже в каждой отдельной
песне, чуть ли не в каждом отдельном отрывке перед нами открыто и
ясно представлена вся жизнь, так что душа наша сразу же легко
и уверенно может определить, кто мы и кем мы могли бы стать, что
заставляет нас страдать и что нас радует, в чем мы правы и в чем
мы заблуждаемся.
Прибавьте сюда еще то умиротворяющее действие, которое
испытывает при чтении древних всякое чисто настроенное сознание;
прибавьте, что в самом возбужденном состоянии бурного гнева или
щемящего отчаяния подобное чтение способно успокоить и ободрить вас.
Ибо эта способность к умиротворению не знает отказа, если только
человек в целом рассматривает свое отношение к миру и судьбе.
Когда он сосредоточит свое внимание как раз там, где внешняя
сила угрожает смять его внутреннее сопротивление или, напротив,
его внутреннее усилие грозит нарушить внешнее спокойствие, его
захлестнет доходящая до отчаяния неудовлетворенность, но столь
благоприятна его позиция с точки зрения общего миропорядка, что
гармония и покой тут же снова возвращаются к нему, как только
он успевает охватить взором полный круг явлений, представленных
его фантазией, в эти подлинно трогательные мгновения, когда
человек ведет свой расчет с судьбой.
144
X. Влияние идеального в изображении на целостность
Когда душа уже приведена в состояние художественной
восприимчивости, когда поэт уже сообщил ей эту тонкую
чувствительность, эту легкую возбудимость, только от его собственной воли
зависит, сколько отдельных объектов он ей в действительности
покажет, столько отдельных ощущений он в ней оживит. Это определяет
природа избранного им жанра, выбор сюжета, наконец, его
индивидуальность. О том, что для него не составит особого труда в рамках
любого сюжета создать множество самых различных образов, выше
уже говорилось, но это еще не все. Метод, с помощью которого он
поэтически воспроизводит хотя бы один из них, сам вынудит его
воображение связать с этим первым образом не просто несколько
других образов, но как раз такое их число, чтобы они в сочетании
с первым составили целостную замкнутую сферу. Тем, что
воображение сочетает подобное с подобным и даже между несходными
частями вставляет промежуточные звенья, оно способствует лишь
разнообразию, но не целостности. Для достижения этой последней
воображение и его объект должны быть подготовлены и настроены
на поэтический лад, а это как раз и бывает тогда, когда поэт творит
идеальные образы.
К тому и другому, к идеальности и целостности поэт восходит
лишь в царстве воображения и только тогда, когда он своим
властным словом как бы упраздняет ограниченное и разорванное
реальное бытие. Поэтому обе эти категории должны быть тесно связаны
друг с другом. Тем более что идеальное явно строится на том, что
целостность достижима; ибо отличительной чертой идеала служит
его способность осваивать все, но осваивать на свой особый лад.
С другой стороны, идеальное ограничивает целостность, ибо
множество отдельных составных частей всегда сливается в комплексы,
которые, будучи рассматриваемы с единой точки зрения,
представляются рассудку или созерцанию чем-то целостным.
Мы называем идеалом воплощение идеи в индивидууме. Тем
самым мы требуем от него своеобразия, лишенного односторонности.
Добиться этого, однако, удается лишь в том случае, если мы
соберем все, что является существенным для данного характера
(обязательной основы всякого идеального образа), отвлекаясь в то же
время от всего, что в нем может быть признано случайным. Поэтому
все идеалы кажутся совершенными лишь в том, и только в том
качестве, которое они реально в себе воплощают. Благодаря этому
у некоторых из них сразу бросаются в глаза точки их взаимного
соприкосновения и их индивидуальной противоположности. Не
хотелось бы, однако, оставлять незаполненными промежутки между
С История эстетики, т. III
145
этими точками. Там, где среди двух звеньев отсутствует
промежуточный член, там-то его как раз и надо обнаружить.
Благодаря этой схожести, никогда не переходящей в
однообразие, и этим различиям, которые никогда не вырождаются в
непримиримое противоречие, весь мир перед идеализирующим взором
распадается на бесчисленные отдельные комплексы. Индивидуумы
объединяются в группы, малые группы в более крупные, все вместе
в единое целое. То же происходит и с поэтом. И он выводит только
комплексы. Весь его материал сочетает такую подвижность с таким
стремлением к форме, что в тех случаях, когда этот материал
рассекают, он всегда распадается на органические группы элементов,
а там, где его концентрируют, он опять-таки собирается в
аналогичные группы.
Тем же путем, которым гений поэта выводит одну из другой
эти разнообразные группы, следует шаг за шагом и фантазия его
читателя; и как только возникает хотя бы один идеально
окрашенный образ, она сама настоятельно требует появления прочих, и еще
других, до тех пор пока не будет создана определенная сфера,
достаточно большая и емкая для любой меры художественного
вдохновения.
Теперь все образы, которые может вывести поэт, будут иметь
общую связующую точку — их отношение к человеческой природе.
Из этой центральной точки сможет он непосредственно управлять
их движением и властвовать над ними. Многие из них, однако, еще
более родственны друг другу и образуют еще более тесно
сплоченную сферу.
Если теперь оба они — воображение и его объект — приведены
в такое состояние, когда первое не задерживается на единичном,
а второй не стремится его на этом единичном задержать, тогда лишь
по завершении всего цикла, только после достижения полной
целостности наступает мир и покой.
Можно ли, например, живо описать юность героя, не дав
фантазии тут же помыслить и о дитяти, из которого вырос юнец, и о
зрелом муже, в которого он вскоре превратится, и о старце, в облике
которого угаснут последние искры ныне одушевляющего его
пламени? Как изобразить героя на поле битвы, окруженного мертвыми,
повелевающего смертью и обдуманно несущего гибель, не вызвав
одновременно в душе образ мирного мыслителя, который у себя
в четырех стенах, не гоняясь за властью и чуждаясь тревог своего
времени, весь захвачен поисками истины, плодами которой
насладятся, быть может, лишь грядущие поколения, или же образ
мирного пахаря, которого беспокоят заботы нынешнего дня и который
146
занят чередованием извечно сменяющих друг друга времен года да
мыслями о зреющем урожае.
Одно состояние само вызывает постоянно другие, и сквозь все
эти состояния лишь сообща могут пройти отдельные люди или все
человечество. В том и заключается величайшая услуга,
оказываемая художественно настроенным воображением еще и нравственному
человеку, что оно учит его сочетать все житейские возрасты,
завершать прошлое и зачинать будущее, не утрачивая при этом
теснейшей связи с настоящим.
W. Humboldt, Werke in 5 Bänden, Berl., 1961,
Bd. II. S. 135—140, 143, 145—147, 150—152.
Перевод А. Г. Левинтона.
ФИХТЕ
1762-1814
Иоганн Готлиб Фихте — один из видных представителей немецкой
классической философии. Сначала Фихте находился под влиянием Канта, считая себя
его учеником. Но вскоре он создает собственную философскую систему, первым
наброском которой является его «Наукоучение» (1794). Фихте отказывается от
кантовского понятия «вещи в себе»; поскольку все представления о внешнем
мире возникают лишь в процессе деятельности сознания, вся действительность
рассматривается Фихте как результат творчества мыслящего субъекта, «я».
Таким образом, Фихте преодолевает дуализм кантовской философии,
последовательно развивая субъективно-идеалистическую точку зрения. С этих же
позиций Фихте критиковал «Письма об эстетическом воспитании» Шиллера в
неопубликованной статье «Дух и буква в философии», посланной им в 1794 году
Шиллеру.
В «Системе учения о нравственности» (1794) Фихте рассматривает эстетику
как составную и подчиненную часть учения о морали. Фихте пытается найти
нравственную основу искусства, выяснить обязанности художника с точки
зрения воспитания человечества. В решении этой задачи Фихте идет сначала за
эстетикой Канта и Шиллера, утверждая, что искусство воздействует не только
на ум, как наука, и не только на сердце, как нравственность, но формирует
целостного человека, находясь, таким образом, где-то посередине между наукой
и нравственностью, разумом и волей. Однако, в отличие от Шиллера, Фихте
считает искусство лишь подготовкой к морали и видит его цель в
освобождении человека от чувственных природных склонностей. Представляя природу
в качестве продукта свободной духовной деятельности, искусство тем самым
подготавливает человека к философскому пониманию действительности, оно
«делает трансцендентальную точку зрения обычной».
6*
147
Фихте оказал большое влияние на развитие эстетической теории
романтизма. Субъективизм творческого «я», диалектически рождающего и
разрешающего противоречия действительности, импонировал романтикам, которые
широко использовали философию Фихте для обоснования своих эстетических
идей, и прежде всего учения об иронии. «Французская революция,—писал
Ф. Шлегель,— наукоучение Фихте и «Мейстер» Гете обозначают величайшие
тенденции нашего времени» ^ В то же время Фихте был подвергнут резкой
критике такими выдающимися мыслителями своего времени, как Шеллинг,
Зольгер и Гегель.
СИСТЕМА УЧЕНИЯ О НРАВСТВЕННОСТИ
Об обязанностях художника
Поскольку я уже говорил об отношении нравственного
наставника народа и ученого к воспитанию (Bildung) человеческого рода,
то теперь я хочу сказать и о художнике, который оказывает столь
же большое, но не столь заметное влияние на это образование;
высказаться об этом меня побуждает отчасти требование полноты,
отчасти же потребность нашего столетия, чтобы каждый делал то, что
ему свойственно.
Искусство формирует не только ум, как это делает ученый, и не
только сердце, как нравственный наставник народа; оно формирует
целостного человека, оно обращается не к уму и не к сердцу, но ко
всей душе в единстве ее способностей; это нечто третье, состоящее
из двух первых. То, что оно делает, вероятно, нельзя выразить
лучше, кроме как словами: оно делает трансцендентальную точку
зрения обычной. Философ возвышает себя и других до этой точки
зрения в упорном труде, следуя известным правилам. Дух красоты
(der schöne Geist) стоит на этой точке зрения, не размышляя о ней
определенно; он не знает никакой иной точки зрения, и он столь
незаметно возвышает до нее тех, кто отдается его влиянию, что они
не сознают этого перехода.
Я разъясню свою мысль. Мир сотворен с трансцендентальной
точки зрения, он дан с обычной точки зрения; с эстетической точки
зрения он дан, но исходя из того, как он сотворен. Мир,
действительный данный мир, природа, ибо я говорю только о ней,— имеет
две стороны: она продукт нашего ограничения, она же — продукт
нашего свободного, разумеется, идеального действия, а не нашей
1 «Литературная теория немецкого романтизма», стр. 172.
148
реальной действительности. При первом воззрении она сама повсюду
ограниченна, при последнем — она сама повсюду свободна. Первое
воззрение является обычным, второе — эстетическим. Например,
каждую фигуру в пространстве можно рассматривать как
ограничение соседними телами; ее можно рассматривать как выражение
внутренней полноты и силы самого тела, обладающего ею. Кто
следует первому воззрению, тот видит только искаженные,
сплющенные, жалкие формы, он видит безобразное; кто следует последнему
воззрению, тот видит могучую полноту природы, видит жизнь и
устремление, он видит прекрасное. Так же обстоит дело и с высшим.
Нравственный закон повелевает абсолютно, и он подавляет всякую
естественную склонность. Кто так его рассматривает, тот относится
к нему как раб. Но этот закон одновременно и само «я»; он
проистекает из внутренних глубин нашей собственной сущности, и если
мы подчиняемся ему, то мы подчиняемся лишь самим себе. Кто так
его рассматривает, тот рассматривает его эстетически. Дух
прекрасного видит все с прекрасной стороны; он видит все свободным и
живым.
Я не говорю здесь о грации и бодрости, которые это воззрение
придает всей нашей жизни: я должен обратить здесь внимание
лишь на воспитание и облагораживание ради нашего конечного
предназначения, которые мы получаем благодаря этому.
Но где же существует мир прекрасного духа? Внутри в
человечестве, и больше нигде. Итак: искусство вводит человека внутрь
себя самого и располагает его там как дома. Оно отрывает его от
данной природы и делает его самостоятельным для себя самого.
Ведь самостоятельность разума является нашей конечной целью.
Эстетическое чувство — это не добродетель: ведь нравственный
закон требует самостоятельности согласно понятиям, первое же
приходит само по себе, без всяких понятий. Но оно является
подготовкой к добродетели, оно подготовляет для нее почву, и, когда
возникает моральность, она находит уже выполненной половину
работы — освобождение от уз чувственности.
Поэтому эстетическое образование (Bildung) в необычайной мере
способствует целям разума, и можно намеренно отдаться его
задачам. Ни от кого нельзя требовать: заботься об эстетическом
образовании рода человеческого; ибо мы видели, что эстетическое
чувство не зависит от свободы и не может быть образовано понятиями,
но должно прийти совершенно самостоятельно. Однако во имя
нравственности каждому можно запретить: не препятствуй этому
образованию и не делай его, насколько это зависит от тебя,
невозможным тем, что ты распространяешь безвкусицу. Вкус может иметь
каждый, его можно образовать благодаря свободе; поэтому каждый
149
может знать, что противно вкусу. Распространение безвкусицы в
области красоты не оставляет людей безразличными в ожидании
будущего образования, но превратно образовывает их. Относительно
этого предмета можно дать два правила:
1) Для всех людей. Не становись художником против воли
природы: а это постоянно происходит против ее воли, если это вытекает
не из ее побуждений, а из своевольно принятого намерения.
Абсолютно верно то, что художником рождаются. Правило сдерживает
гения, но оно не создает гения; именно потому, что оно правило,
оно стремится к ограничению, а не к свободе.
2) Для истинного художника. Остерегайся из корыстолюбия или
стремления к мимолетной славе отдаться испорченному вкусу твоего
века: старайся воплотить идеал, витающий перед твоей душой, и
забудь все остальное. Пусть художник вдохновляется только
святостью своей профессии; пусть он научится служить своим
талантом не людям, а только своему долгу; и тогда он будет созерцать
свое искусство совершенно другими глазами; он станет лучшим
человеком, и притом лучшим художником. Для искусства, как и для
моральности, одинаково вредно общепринятое изречение: прекрасно
то, что нравится. Прекрасно то, и только то, что нравится
образованному человечеству; пока же оно еще не образованно,— и когда оно
станет таковым? — ему часто может нравиться безвкуснейшее,
поскольку оно является модой, а превосходнейшее произведение
искусства может не находить отклика, так как эпоха еще не развила
той способности, с помощью которой это произведение должно быть
постигнуто.
I. G. Fichte, Werke, Bd. II, Lpz., 1908, S. 747—750.
Перевод Ю. H. Попова.
[Об остроумии]
Острота [...] в форме насмешки, возбуждающей смех,— вот за чем
гонится эпоха; ибо смех есть указанное самим природным
инстинктом средство освежить истощенный чрезмерными дозами скуки дух
и несколько оживить его волнообразным движением, в какое смех
приводит застоявшиеся органы. Но и в этой форме острота
необходимо остается недосягаемой для эпохи; ибо, чтобы владеть нелепым
и выставить его в наглядности, необходимо самому быть свободным
от нелепости. Не они, люди этой эпохи, обладают остротой, но
острота очень часто и большей частью тогда, когда они очень
остроумны на свой лад, владеет ими; иными словами, в собственных
своих личностях они без всякого умысла являют более разумному
зрителю вид нагляднейших образцов глупости и нелепости. Тот,
кто, желая дать их точный портрет, вложил бы им в уста известного
150
рода речи, какие они часто неожиданно высказывают с великой
серьезностью, мог бы претендовать на репутацию остряка.
[...] Остроумие есть божественная искра и никогда не спускается
к глупости. Оно вечно присуще идее и никогда не покидает ее. Оно
есть дивный проводник света в мире духов, разливающий мудрость,
взошедшую впервые в одном месте, на всем протяжении этого ми-
ра. [...]
И. Фихте, Основные черты современной эпохи,
Спб., 1906, стр. 67, 68.
ШЕЛЛИНГ
1775-1854
Фридрих Вильгельм Иосиф Шеллинг — выдающийся представитель
немецкой классической философии XIX века. Развиваемая Шеллингом
объективно-идеалистическая «философия тождества» мыслилась им как преодоление
выдвинутой в кантовской философии противоположности природы и свободы,
реального и идеального, эмпирического и умопостигаемого. Природа и дух
тождественны по своей внутренней сути и представляют собой самообнаружение
единого абсолюта. Трансцендентальная философия должна привести субъекта
к осознанию этого тождества, к раскрытию того, что как действительный, так
и идеальный мир, первоначально представляющиеся сознанию чем-то
отличным друг от друга, суть продукты одной и той же духовной деятельности.
Объективным свидетельством этого единства выступает у Шеллинга
художественное творчество.
Философия искусства развита Шеллингом прежде всего в «Системе тран-
цендентального идеализма» (1800), а также в речи «Об отношении
изобразительных искусств к природе» (1807) и курсе лекций по эстетике, прочитанном
в 1802—1805 годах и изданном лишь после смерти Шеллинга под заглавием
«Философия искусства» (1859).
«Философия искусства» завершает философскую систему Шеллинга, ибо
искусство непосредственно обнаруживает в своих произведениях то изначальное
тождество сознательного и бессознательного, свободы и необходимости, субъекта
и объекта, доказательство которого является конечной целью философии.
Шеллинг называет искусство «истинным и вечным органоном философии».
Сознательное творчество художника является аналогом бессознательного
творчества природы. Поэтому в искусстве — этом высшем продукте
самосознания — раскрывается сама суть природы, вселенной как художественного
творения бога, абсолюта. Искусство дает нам не копию действительных вещей,
а воспроизводит в форме «противообраза» (Gegenbild) их «первообраз»
(Urbild), коренящийся в абсолютном. Эти «первообразы» или идеи выступают
в мире фантазии в облике богов, поэтому материалом искусства служит бо-
151
жественный мир фантазии или мифология, которая создается и развивается
непроизвольно, подобно языку.
Развитие искусства и мифологии складывается из реального и идеального
ряда. Расцветом первого была греческая мифология, «высший первообраз
поэтического мира»; идеальный ряд достиг своего полного развития в христианстве.
Реальный ряд представлен у Шеллинга изобразительным искусством (к
которому он относит музыку, живопись и пластику), идеальный ряд — словесным
искусством (поэзией лирической, эпической и драматической). Шеллинг
подробно обосновывает символический характер мифологии и искусства,
представляющих собой органическое слияние всеобщего и особенного, в
противоположность одностороннему преобладанию того или другого начал в схематизме
рассудка и в аллегории, возникающей лишь с разложением подлинной мифологии.
Эти идеи оказали определенное влияние на гегелевскую концепцию
символической, классической и романтической художественных форм.
Шеллинговское истолкование комического и трагического с точки зрения
единства и борьбы свободы и необходимости, раскрытие им взаимосвязи этих
категорий сыграло большую роль в развитии эстетики романтизма (как в
Германии, так и в других странах; впоследствии В. Гюго в предисловии к драме
«Кромвель» видел в слиянии трагедии и комедии важнейший признак
романтической драмы).
Выясняя различия между античной и современной, «романтической»
поэзией, характерными особенностями последней Шеллинг считает отсутствие
строгих границ между эпосом, лирикой и драмой, а также «смешение
противоположностей» и прежде всего трагического и комического элементов. В
эстетике Шеллинга содержится первая философская теория романа, определяемого
как «борьба реального с идеальным».
Философия искусства Шеллинга пользовалась большим влиянием как в
самой Германии, так и за ее пределами. Она послужила философским
обоснованием эстетических теорий немецкого романтизма, в особенности иенского
кружка романтиков (бр. Шлегели, Новалис), к которому был близок Шеллинг. В
России идеи Шеллинга в области эстетики пропагандировали кружок
«любомудров» (В. Ф. Одоевский, Д. В. Веневитинов), критик Н. И. Надеждин и другие.
В обосновании объективности искусства, в историческом рассмотрении
художественного развития Шеллинг выступает как один из непосредственных
предшественников Гегеля.
СИСТЕМА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО ИДЕАЛИЗМА
После того как мы дедуцировали сущность и особенности
произведения искусства с той полнотой, какая потребна для целей
настоящего исследования, нам остается лишь установить, в какой связи
философия искусства находится со всей системой философии
вообще.
152
1. Философия, взятая в целом, должна исходить из принципа,
который, будучи абсолютной тождественностью, никак не может
носить характер объекта. Но тогда спрашивается, как же это
абсолютно необъективное восходит до сознания и постигается, что
необходимо, раз здесь мы имеем предпосылку для всякого
философского понимания. Не требует доказательств, что со столь же малым
успехом это основное может быть достигнуто и представлено в
понятиях. Не остается, следовательно, ничего другого, как представить
его в виде непосредственного созерцания, которое, однако, в свою
очередь непостижимо, поскольку объект его должен быть чем-то
совершенно необъективным, и даже, по-видимому, внутренне са-
мопротиворечиво. Но все же, если существует подобное созерцание,
в качестве своего предмета имеющее абсолютно тождественное,
в чем еще нет подразделения на субъект и объект, и если в основе
подобного созерцания, которое может быть лишь интеллектуальным,
лежит ссылка на непосредственный опыт, то возникает вопрос, как
можно снова придать объективность всему этому, то есть как может
быть поставлено выше всех сомнений, что мы не находимся здесь во
власти чисто субъективной иллюзии, раз этому созерцанию не
свойственна всеобщая, всеми общепризнанная объективность. Эта всеми
признанная и не допускающая никакого отвержения объективность
интеллектуального созерцания и является самим искусством. Ибо
эстетическое созерцание не что иное, как созерцание
интеллектуальное, приобретшее объективность. Произведение искусства лишь
отражает то, что не допускает никакого отражения в мысли:
чудодейственность искусства ведет к тому, что в его произведениях
навстречу нам выступает то абсолютно тождественное, что раздельно
даже в самом «я», следовательно, то, что обычно не доступно
никакому созерцанию, но должно браться раздельным уже в первом акте
осознания, который только совершается философом.
Но впервые объективными благодаря эстетическому творчеству
становятся не только первый принцип философии и первичное
созерцание, от которого она отправляется, но также и весь механизм,
развиваемый философским познанием в качестве своей основы.
Философия исходит от бесконечной раздвоенности
противоположных деятельностей, на такую же точно раздвоенность опирается
и всякое эстетическое творчество, и в каждом отдельном
художественном произведении эта раздвоенность полностью
преодолевается. Что же это за удивительная способность, благодаря которой,
как это утверждает философия, в творческом созерцании
преодолевается безграничная противоположность? Этот механизм до сих пор
мы не были в состоянии постигнуть полностью, так как для снятия
с него всех покровов тайны требуется художественная одаренность.
153
Это именно та творческая способность, при помощи которой
искусству удается совершить невозможное, а именно бесконечную
противоположность преодолеть в конечном, ограниченном своем
произведении. Перед нами поэтический дар, который на своей первой
ступени представляется первично данным созерцанием, и обратно:
возведенное в свою высшую степень многочастно повторенное
творческое созерцание и является как раз поэтическим даром. Действенный
принцип един для того и для другого — это то единственное в своем
роде, благодаря чему мы становимся способными мыслить и сочетать
воедино противоречивое, — одним словом, это сила воображения.
Одни и те же продукты, создаваемые одной и той же деятельностью
в качестве мира художественного вымысла, представляются
действительными по ту сторону сознания, и они же оказываются
идеализированными — для посюсторонности сознания. [...]
2. Если эстетическое созерцание не что иное, как
объективированное трансцендентальное, то становится ясным само собой, что в
искусстве мы имеем как документ философии, так и ее
единственный извечный и подлинный органон, беспрестанно и неуклонно все
наново свидетельствующие о том, чему философия не в силах
подыскать внешнего выражения, а именно о бессознательном в
действии и творчестве в его первичной тождественности с
сознательным. Именно только поэтому искусство является философу чем-то
высочайшим, словно открывает его взору святая святых, где как бы
в едином светоче изначального вечного единения представлено то,
что истории в природе ведомо лишь в своей обособленности и что
вечно от нас ускользает как в жизни и действовании, так и в
мышлении. Воззрение на природу, составляемое философом
искусственно, для искусства естественно и первично. Природа для
художников уже не то, чем она была для философа, а именно не всего
только идеальный мир, являющийся нашему взору лишь при
определенных ограничивающих условиях, она перестает быть
несовершенным отблеском мира, существующего не вне, а внутри нас. [...]
Но если одному лишь искусству даровано превращать в
объективно общезначимое то, что философ в состоянии излагать
исключительно в форме субъективности, то отсюда можно сделать еще
один вывод. А именно, раз философия когда-то на заре науки
родилась из поэзии, наподобие того как произошло это и со всеми
другими науками, которые так именно приближались к своему
совершенству, то можно надеяться, что и ныне все эти науки совместно
с философией, после своего завершения, множеством отдельных
струй вольются обратно в тот всеобъемлющий океан поэзии, откуда
первоначально изошли. И вообще нетрудно сказать, что явится по
средствующим звеном для этого возвращения науки к поэзии, ибо
154
подобное звено уже существовало в форме мифологии еще до того,
как произошел невоссоединимый, как нам ныне кажется, разрыв.
Как же сможет возникнуть эта новая мифология в качестве
измышления не одного какого-нибудь отдельного поэта, но в результате
работы целого поколения, которое представит как бы единую
творческую личность? Разрешения этой проблемы нужно ожидать
единственно от будущих судеб мира, от последующего хода истории.
Ф. В. И. Шеллинг, Система
трансцендентального идеализма, Л., 1936, стр. 389—395. Перевод
И. Я. Колубевского.
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА
[Общее понимание искусства]
Прежде всего я в философии искусства конструирую не
искусство как искусство, как нечто особенное, но я конструирую вселенную
в форме искусства, и философия искусства есть наука о вселенной
в форме или потенции искусства. Только сделав этот шаг, мы
поднимаемся в отношении этой науки до сферы абсолютной науки об
искусстве.
Однако то, что философия искусства есть изображение вселенной
в форме искусства, еще не дает нам полной идеи об этой науке,
прежде чем мы точнее не определим тот характер построения, который
необходим для философии искусства.
Объектом построения, а тем самым и объектом философии,
является вообще только то, что способно вместить в себя бесконечное
как особенное. Искусство, чтобы стать объектом философии, должно,
таким образом, либо вообще действительно воспроизводить в себе как
особенном бесконечное, либо по крайней мере быть в состоянии
воспроизводить его. И это не только имеет место в искусстве, но в
качестве изображения бесконечного оно стоит на равной высоте с
философией; как последняя воспроизводит абсолютное в первообразе,
так искусство дает абсолютное в противообразе.
Так как искусство с такой точностью соответствует философии
и само является лишь ее совершеннейшим объективным
отражением, то оно также должно пройти все потенции, которые
философия проходит в идеальном, и этого одного достаточно, чтобы
рассеять в нас все сомнения относительно метода, необходимого нам
в нашей науке.
Философия изображает не действительные вещи, но их
первообразы, так же как и искусство. Те же самые первообразы,
несовершенными отпечатками которых, по свидетельству философии, явля-
155
ются действительные вещи, объективируются в самом искусстве —
в качестве первообразов и потому в их совершенстве — и
воспроизводят интеллектуальный мир в самом отраженном мире. Приведем
несколько примеров: так, музыка есть не что иное, как исконный
ритм природы и самой вселенной, который посредством этого
искусства прорывается в мир отображений. Совершенные формы,
которые порождаются пластикой, представляют собой объективно
воспроизведенные первообразы самой органической природы.
Гомеровский эпос есть само тождество, коренящееся в абсолютном и
лежащее в основе истории. Каждая картина открывает
интеллектуальный мир.
При такой предпосылке в философии искусства в отношении
последнего мы должны будем решить все те проблемы, которые мы
рассматриваем в общей философии как проблемы вселенной вообще.
Мы не сможем и в философии искусства исходить из какого-либо
другого принципа, кроме как из принципа бесконечного:
1. Мы должны будем раскрыть бесконечное как безусловный
принцип искусства. Подобно тому как для философии абсолютное
является первообразом истины, так для искусства оно составляет
первообраз красоты. Поэтому мы должны будем показать, что
истина и красота представляют собой лишь два различных способа
созерцания единого абсолюта.
2. Второй вопрос как в отношении философии вообще, так и в
отношении философии искусства следующий: каким образом в себе
безусловно единое и простое переходит в множественность и
различие, каким образом, следовательно, из общей и абсолютной
красоты могут проистекать особенные прекрасные вещи. Философия
отвечает на этот вопрос учением об идеях или первообразах.
Абсолютное есть безусловно единое, однако это единое, созерцаемое
абсолютно в особенных формах, но так, что при этом не
упраздняется абсолютное, есть идея. Так же и искусство. Искусство тоже
созерцает первообраз красоты только в идеях как особенных
формах, из которых каждая, однако, сама по себе божественна и
абсолютна, и, в то время как философия рассматривает идеи, каковы
они в себе,— искусство созерцает их реально. Идеи, таким образом,
поскольку они созерцаются как реальные, являются материалом
и как бы всеобщей и абсолютной материей искусства, из которой
только и возникают все отдельные художественные произведения
как законченные создания. Эти реальные, живые и существующие
идеи суть боги; общая символика или общее воспроизведение идей
как реальных дано поэтому в мифологии, и решение второй
вышеупомянутой задачи сводится к построению мифологии. В самом
деле, боги любой мифологии представляют собой не что иное, как
156
философские идеи, лишь созерцаемые в объективном или реальном
их виде.
Этим, однако, все еще не дается ответа, как возникает
действительное и отдельное художественное произведение. Как
абсолютное — недействительное — состоит всюду в тождестве, точно так же
и действительное заключается в несовпадении всеобщего и
особенного, в разъединении, таким образом, либо в особенном, либо во
всеобщем. Итак, и здесь возникает противоположность —
противоположность изобразительного и словесного искусства. Изобразительное
и словесное искусство равнозначны реальному и идеальному ряду
в философии. Предметом первого является единство, в котором
бесконечное воспринимается конечным,— построение этого ряда
соответствует философии природы; предметом идеального ряда является
другое единство, в котором конечное облекается в бесконечное,
построение этого ряда соответствует идеализму в общей системе
философии. Первое единство я буду называть реальным, второе —
идеальным, то, которое заключает в себе оба единства,—
безразличием. [...]
F. W. J. v. S с h е 11 i η g, Werke. Auswahl in drei
Bänden, hrsg. von Weiß, Lpz„ o. J., Bd. III.
Schriften zur Philosophie der Kunst und zur
Freiheitslehre, S. 16—19. Перевод П. С. Попова
под редакцией Ю. Н. Попова.
Безразличие идеального и реального в качестве безразличия
воспроизводится в идеальном мире посредством искусства. Ибо
искусство не является в себе ни простым действием, ни простым знанием,
но оно представляет собой действие, полностью проникнутое наукой,
или, наоборот, знание, полностью перешедшее в действие, то есть
безразличие обоих. [...]
Можно сказать, что красота положена повсюду, где
соприкасаются свет и материя, идеальное и реальное. Красота не есть ни
только всеобщее или идеальное (это истина), ни только реальное
(это действие), следовательно, она является лишь полным
взаимопроникновением или слиянием обоих. Красота положена там, где
особенное (реальное) столь соразмерно своему понятию, что
последнее само в качестве бесконечного вступает в конечное и
созерцается in concreto. [...]
Необходимость и свобода относятся как бессознательное и
сознательное. Искусство покоится поэтому на тождестве сознательной
и бессознательной деятельности. Совершенство художественного
произведения, как такового, возрастает поэтому в той мере, в какой
оно содержит в себе выраженным это тождество или в какой в нем
слиты намерение и необходимость. [...]
157
Истинное построение искусства есть изображение его форм как
форм вещей, каковыми они являются в себе или в абсолютном. Так
как вселенная создана в боге как вечная красота и как абсолютное
художественное произведение, то и все вещи, каковыми они
являются в себе или в боге, столь же абсолютно прекрасны, как и
абсолютно истинны. Поэтому и формы искусства, так как они
представляют собой формы прекрасных вещей, суть формы вещей,
каковыми они являются в боге или в себе, и так как всякое построение
есть изображение вещей в абсолютном, то и построение искусства,
в частности, есть изображение его форм как форм вещей,
каковыми они являются в абсолютном, а тем самым и изображение самой
вселенной как абсолютного художественного произведения, как она
создана в вечной красоте в боге.
Там же, стр. 28—30, 32, 34, 35. Перевод
Ю. Н. Попова.
[Искусство и мифология]
Мифология есть необходимое условие и первоначальный
материал всякого искусства. [...]
Мифология есть не что иное, как вселенная в высшем облачении,
в ее абсолютной форме, подлинная вселенная в себе, образ жизни и
чудесного хаоса в божественном воображении, она сама уже есть
поэзия и опять-таки сама по себе — материал и стихия поэзии.
Она [мифология] является миром и как бы почвой, на которой лишь
и могут расцветать и существовать создания искусства. [...]
Изображение абсолютного с абсолютным безразличием
всеобщего и особенного в особенном возможно лишь символически. [...]
То изображение, в котором всеобщее означает особенное или в
котором особенное созерцается посредством всеобщего, является
схематизмом*
То изображение, в котором особенное означает всеобщее или в
котором всеобщее созерцается посредством особенного, является
аллегорическим..
Синтез обоих, где ни всеобщее не означает особенного, ни
особенное не означает всеобщего, но где оба абсолютно едины,
представляет собой символическое. [...]
Каждое из этих трех мы должны отличать еще от образа. Образ
всегда является конкретным, чисто особенным и определен со всех
сторон таким образом, что для полного тождества с предметом
отсутствует лишь определенная часть пространства, в котором
находится последний. В схеме же господствует всеобщее, хотя оно и
созерцается в ней как особенное. [...]
158
Что представляют собой схема и схематизм, каждый может,
следовательно, узнать посредством собственного внутреннего
созерцания; так как наше мышление об особенном всегда является,
собственно, схематизированием последнего, то требуется лишь
рефлексия об этом схематизме, постоянно совершаемом даже в языке,
чтобы обеспечить себе его созерцание. В языке даже для обозначения
особенного мы всегда пользуемся лишь общими обозначениями,
поэтому даже язык представляет собой не что иное, как продолженное
схематизирование.
Правда, существует и схематизм искусства, однако из самого
объяснения, которое мы дали схематизму, видно, что чистый
схематизм не может называться совершенным изображением
абсолютного в особенном, хотя схема в качестве всеобщего является опять-
таки особенным, но так, что всеобщее означает особенное.
Следовательно, было бы невозможно мифологию вообще или греческую в
частности, поскольку она представляет собой подлинную символику,
понять просто как схематизм природы или вселенной, хотя могло
бы казаться, что отдельные элементы ее можно толковать таким
образом. [...]
Что же касается аллегории, то она является
противоположностью схеме, следовательно, как и последняя, безразличием
всеобщего и особенного, но так, что особенное означает здесь всеобщее
или созерцается как всеобщее. По видимости этот способ
объяснения скорее всего можно было бы применить к мифологии, и так
многократно и делалось. Однако здесь происходит то же, что и в
отношении схематизма. В аллегории особенное лишь означает всеобщее,
в мифологии оно одновременно само является всеобщим. Но именно
поэтому очень легко аллегоризировать все символическое, поскольку
символическое значение так же заключает в себе аллегорическое,
как в слиянии всеобщего и особенного содержится единство как
особенного со всеобщим, так и всеобщего с особенным. Правда,
нельзя было утаивать от себя, что у Гомера, как и в образах
пластического искусства, мифы понимаются не аллегорически, но с
абсолютной поэтической независимостью, как реальность сама по
себе. Поэтому в новое время придумали другое объяснение.
Говорили, что мифы первоначально понимались аллегорически, но
Гомер как бы эпически преобразовал их, истолковал чисто поэтически
я создал из них те приятные детские сказки, которые он рассказал
в «Илиаде» и «Одиссее». Таково, как известно, то представление,
которое выдвинул Гейне1 и пыталась утвердить его школа. [...)
1 Гейне Кристиан Готлоб (1729—1812)—немецкий филолог-классик,—
Прим. перев.
159
Можно было бы сказать, что это грубейший способ уничтожить
поэтический характер Гомера. [...]
Волшебство греческой поэзии и всей мифологии основано на том,
что они содержат в себе аллегорическое значение в качестве
возможности. [...] На этом покоится бесконечность смысла в греческой
мифологии. Но всеобщее содержится в ней лишь как возможность.
В себе она не является ни аллегорической, ни схематической, но
представляет собой абсолютное безразличие обоих — символическое.
Это безразличие было здесь первоначальным. Не Гомер
самостоятельно сделал эти мифы поэтическими и символическими, они были
таковыми с самого начала; лишь в более поздние времена в них
выделили аллегорический элемент, что стало возможным только
тогда, когда угас всякий поэтический дух. [...] Таким образом, мы
ясно видим, что мифология кончается там, где начинается
аллегория. Концом греческих мифов является известная аллегория об
Амуре и Психее. [...]
Теперь через противоположности достаточно выяснено понятие
символического. Последовательность этих трех способов
изображения можно вновь рассматривать как последовательность потенций.
Постольку они опять-таки являются всеобщими категориями. [...]
Мы вернемся к этим понятиям при построении отдельных
художественных форм. Музыка — это аллегоризирующее искусство,
живопись — схематизирующее, пластика—символическое. Точно так же
в поэзии лирика носит аллегорический характер, эпическая поэзия
имеет необходимую склонность к схематизированию, драма
является символической.
В качестве необходимого следствия из всего исследования
вытекает: мифологию вообще и всякое поэтическое творчество ее в
частности нельзя понять ни схематически, ни аллегорически, но
символически.
Ибо требование абсолютного художественного изображения
заключается в изображении с полным безразличием, а именно таким
образом, что всеобщее полностью является особенным, а особенное
одновременно — всеобщим, а не означает его. Это требование
поэтически осуществлено в мифологии. Ибо каждый образ в ней следует
принимать за то, что он есть, ведь именно благодаря этому он
дринимается за то, что он означает. Значение здесь одновременно
является самим бытием,, оно перешло в предмет, едино с ним. Как
только мы заставим эти существа вечно означать, они сами ничего
больше не представляют собой. Лишь реальность едина у них с
идеальностью, то есть их идея, их понятие также рушатся, как только
они мыслятся не как действительные. Их высшая привлекательность
покоится именно на том, что они, просто существуя без какого-либо
160
отношения — абсолютные в самих себе,— все же одновременно дают
просвечивать значению. Во всяком случае мы не довольствуемся
простым бытием, лишенным значения, которое дает, например,
простой образ, не довольствуемся мы и простым значением, но мы
хотим, чтобы предмет абсолютного художественного изображения был
столь конкретным, подобным лишь самому себе, как образ, и притом
столь всеобщим и полным смысла, как понятие; поэтому немецкий
язык метко называет символ смыслообразом (Sinnbild).
Там же, стр. 53—60. Перевод Ю. Н. Попова.
[Драма как единство свободы и необходимости]
В общих чертах уже при анализе лирической и эпической
поэзии мы доказали, что всеобщая противоположность бесконечного
и конечного в искусстве выражается в своей высшей потенции как
противоположность необходимости и свободы. Но поэзия вообще, и в
своих высших формах в особенности, несомненно должна изобразить
эту противоположность в высшей потенции, следовательно, как
противоположность необходимости и свободы.
Уже было сказано, что в лирическом стихотворении имеется эта
взаимная борьба противоположностей, но она в качестве борьбы и
прекращения борьбы происходит лишь в субъекте и
сосредоточивается в нем, поэтому в целом лирическому стихотворению
преимущественно свойствен в себе характер свободы.
В эпическом произведении вообще не существует борьбы; здесь
царит необходимость в виде тождества, но, как уже было отмечено,
именно потому, что нет борьбы, необходимость может проявиться не
как необходимость — в смысле судьбы, но в тождестве со свободой,
даже отчасти в виде случайности. Эпическое произведение в гораздо
большей мере имеет дело с успехом, чем с действием. В успехе
необходимость или счастье приходит на помощь свободе и выполняет то,
чего свобода не может реализовать. Итак, здесь необходимость и
свобода действуют согласованно, без всякого расхождения. Поэтому
в эпосе герой не может оказаться несчастным в конце, не упраздняя
тем природы данного рода поэзии. Ахиллес, будучи главным
действующим лицом «Илиады», не может быть побежден, так же как и
Гектор, поскольку он может оказаться побежденным, не может
быть героем «Илиады». Эней является героем эпопеи только в
качестве завоевателя Лациума и основателя Рима.
По поводу нашего утверждения, что в эпосе царит тождество или
необходимость, можно было бы возразить, что необходимость
гораздо убедительнее доказала бы свою силу, если бы она реализо-
161
вала нечто против желания свободы, вместо того чтобы, наоборот,
составлять со свободой единство и реализовать начинания свободы.
Однако 1) необходимость в эпосе не может проявляться в союзе
со свободой без того, чтобы, с другой стороны, не действовать
против нее; Ахиллес не может быть победителем без поражения
Гектора; 2) если бы необходимость в борьбе против свободы проявилась
так, как было сказано, а именно, если бы она хотела как раз того,
чему противодействует свобода, то герой либо оказался бы
побежденным необходимостью, либо возвысился бы над ней. Но в
первом случае главный герой оказался бы побежденным, а во втором —
свобода скорее доказала бы свое превосходство над необходимостью,
чего, однако, не должно быть.
Итак, для нас несомненно следующее. В лирическом
стихотворении существует борьба, но она носит чисто субъективный
характер; она вообще не доходит до объективного конфликта с
необходимостью. В эпическом произведении царит лишь необходимость,
которая постольку должна составлять единство с субъектом, что иначе
наступил бы один из двух указанных выше случаев; таким образом,
если, с одной стороны, случится несчастье, то оно, с другой
стороны, должно быть уравновешено счастьем.
Если мы теперь, исходя из этих положений и не имея в виду
какой-либо особенной формы, поставим совершенно общий вопрос
о том, каким должно быть то произведение, которое в качестве
целостности было бы синтезом обеих противоположных форм, то
первым определением непосредственно будет следующее: в таком
произведении должна быть налицо действительная и потому
объективная борьба обоих начал — свободы и необходимости, и притом обе
должны проявляться, как таковые.
Следовательно, в подобном произведении не должна
изображаться ни одна лишь субъективная борьба, ни чистая
необходимость — поскольку она связана с субъектом, именно потому она
перестает быть необходимостью,— но подлежит изображению
необходимость, действительно находящаяся в борьбе со свободой, и
притом так, чтобы было соблюдено равновесие того и другого.
Спрашивается, как это возможно?
Нет настоящей борьбы там, где отсутствует возможность победы
с любой стороны. Но в данном случае это немыслимо ни с той, ни с
другой стороны; ведь ни одна из них по-настоящему не может быть
побеждена; необходимость — потому, что в случае, если бы она
оказалась побежденной, она перестала бы быть необходимостью,
свобода — потому, что она и является свободой именно вследствие того,
что не может быть побеждена. Но если бы даже, согласно понятию,
было возможно, чтобы свобода или необходимость оказались по-
162
бежденными, то это было бы невозможно поэтически; ибо это не
было бы возможно без абсолютной дисгармонии.
Нас отталкивает мысль о том, чтобы свобода оказалась
побежденной необходимостью, но столь же мало мы хотели бы, чтобы
необходимость была побеждена свободой, так как это
свидетельствовало бы о полном отсутствии закономерности. При таком
противоречии не остается ничего другого, как допустить, чтобы обе,
и необходимость и свобода, выходили бы из этой борьбы
одновременно и победителями и побежденными и, следовательно, во всех
отношениях одинаковыми. Но именно это, несомненно, иГ было бы
высшим явлением искусства, если бы свобода доходила до полного
совпадения с необходимостью и, наоборот, необходимость была бы
одинаковой со свободой, ничего не теряя при этом; ведь только при
этом отношении становится объективным то подлинное абсолютное
безразличие, которое свойственно абсолютному и которое коренится
не в одновременности, а в одинаковости бытия. Ибо свобода и
необходимость, подобно конечному и бесконечному, не могут стать
чем-либо единым иначе, как в одинаковой абсолютности.
Поскольку свобода и необходимость составляют высшее
выражение той противоположности, которая вообще лежит в основании
искусства, постольку высшим проявлением искусства оказывается
такое, где побеждает необходимость без того, чтобы свобода
оказалась в подчинении, и наоборот, торжествует свобода без того, чтобы
необходимость оказывалась побежденной.
Теперь спрашивается, каким образом и это возможно?
Необходимость и свобода как общие понятия неизбежно должны
проявляться в искусстве символически, и, так как только
человеческая природа, будучи, с одной стороны, подчиненной
необходимости, с другой стороны, способна к свободе, то свобода и
необходимость должны быть символизированы в человеческой природе и
через нее; человеческая природа, в свою очередь, должна быть
представлена индивидами, которые в качестве натур, где свобода и
необходимость связаны, именуются личностями. Ведь лишь в
человеческой природе и встречаются условия возможности, чтобы
побеждала необходимость без того, чтобы свобода оказывалась в
подчинении, и, наоборот, побеждала бы свобода без того, чтобы было
нарушено движение необходимости. Ибо та самая личность,
которая подчиняется необходимости, можст в своем образе мыслей
возвыситься над ней, так что оба начала, будучи побежденными и
одновременно побеждая, проявляются в своем высшем безразличии.
Следовательно, вообще человеческая природа представляет собой
единственное средство для изображения этого отношения. Однако,
опрашивается, при каких обстоятельствах сама человеческая
163
природа способна обнаружить это могущество свободы, которая,
будучи независимой от необходимости, в то же самое время, когда
необходимость торжествует, победоносно поднимает свою голову?
Свобода будет единодушна с необходимостью в отношении всего
благоприятного, подходящего для субъекта. Следовательно, в
счастье свобода не может проявиться ни в подлинной борьбе с
необходимостью, ни в подлинном совпадении с ней. Свобода может
обнаружиться в таком виде только тогда, когда необходимость
предопределяет несчастье, и свобода, возвышаясь над этой победой,
добровольно принимает это несчастье в его необходимости, иными
словами, в качестве свободы все же ставит себя в положение, равное
необходимости.
Итак, высшее проявление человеческой природы в искусстве
окажется возможным только там, где отвага и величие
умонастроения побеждают несчастье и свобода выходит из этой борьбы,
грозящей уничтожить субъект, в качестве абсолютной свободы, для
которой не существует борьбы.
Там же, стр. 335—339. Перевод П. С. Попова
под редакцией Ю. Н. Попова.
О сущности трагедии
[...] Вопрос заключается в том, каким должно быть несчастье,
нужное в трагедии. Чисто внешнее несчастье не есть то несчастье,
которое вызывает подлинно трагическое противоречие. Ведь мы
уже невольно требуем, чтобы личность возвышалась над внешним
несчастьем, и мы ее презираем, если она на это не способна. Герой,
подобно Улиссу, преодолевающий при своем возвращении на родину
ряд злоключений и разнообразные бедствия, вызывает наше
удивление, и мы охотно следим за его судьбой; но он не представляет
для нас трагического интереса, потому что всему этому можно
противостоять с помощью такой же силы, именно физической силы,
или с помощью ума и рассудка. Но даже такое несчастье, которому
нельзя помочь средствами, находящимися в распоряжении
человека, например неизлечимая болезнь, потеря имущества и т. п., не
имеет трагического интереса, поскольку оно является только
физическим; ведь с терпением переносить непоправимые беды есть лишь
подчиненное действие свободы, не переходящее границ
необходимости. [...]
Борьба свободы и необходимости в действительности происходит
только там, где необходимость подтачивает самую волю и свобода
оспаривается в ее собственной сфере.
164
Вместо того чтобы осознать, что такое отношение есть
единственно подлинно трагическое и что с ним не может сравниться
никакое другое, где несчастье коренится не в воле и не в самой
свободе, скорее ставится вопрос, как могли греки переносить эти
страшные противоречия в своих трагедиях. Рок предопределяет
смертного к вине и преступлению, этот смертный, подобно Эдипу,
может вступить в борьбу против рока, чтобы избежать вины, и все
же он терпит страшное наказание за преступление, которое было
делом судьбы. Ставили вопрос, не кричащее ли это противоречие
и в чем причина красоты, достигнутой греками в их трагедиях?
Ответ на этот вопрос таков. Доказано, что настоящая борьба между
свободой и необходимостью может произойти лишь в приведенном
случае, когда виновный становится преступником благодаря судьбе.
Но что виновный, который всего лишь подчинился всесильной
судьбе, все же был подвергнут наказанию, это было необходимо,
чтобы показать триумф свободы; это было признанием свободы,
честиj ей подобающей. Герой должен был биться против рока, иначе
вообще не было бы борьбы, не было бы проявления свободы; герой
должен был оказаться побежденным в том, что подчинено
необходимости, но, не желая допустить того, чтобы необходимость
оказалась победительницей, не будучи вместе с тем побежденной, герой
должен был добровольно искупить и эту предопределенную
судьбой вину. В этом заключается величайшая мысль и высшая победа
свободы — добровольно нести наказание за неизбежное
преступление, чтобы самой утратой своей свободы доказать именно эту
свободу и погибнуть, проявляя свою свободную волю.
Таков внутренний смысл греческой трагедии, как это выяснено
здесь и как это уже было показано мною в «Письмах о догматизме
и критицизме» 1. В этом причина того примирения и той гармонии,
которые заключены в них: они не терзают нас, а исцеляют и, как
говорит Аристотель, очищают.
Свобода не может существовать как чистая особенность, это
возможно лишь постольку, поскольку она возвышается до
всеобщности и, поднявшись таким образом выше последствий вины, вступает
в союз с необходимостью, а так как она не может избежать
неизбежного, то она добровольно подчиняется его действию.
Я утверждаю: только это и есть подлинно трагический элемент
в трагедии. Дело не в злополучном конце. Как можно вообще
называть конец злополучным, если, например, герой добровольно отдает
свою жизнь, не будучи в состоянии больше достойно жить, или
1 Десятое письмо. Русский перевод С. Гессена в сборнике «Новые идеи
в философии», 1914, № 12, стр. 120.— Прим. перев.
165
если он навлекает на самого себя другие последствия своей
безвинной вины, подобно Эдипу у Софокла, не успокаивающемуся до тех
пор, пока он сам не распутает все страшные хитросплетения и не
прояснит целиком всей грозной судьбы?
Как можно назвать несчастным того, кто оказывается столь
совершенным, что одинаково отказался и от счастья и от несчастья
и находится в таком душевном состоянии, когда для него нет ни
того, ни другого?
Несчастье бывает только до тех пор, пока воля необходимости
еще не сказала своего слова и не раскрылась. Как только сам герой
все для себя уяснил и его участь очевидна, для него уже нет более
сомнений, или, во всяком случае, их для него не должно больше
быть, и как раз в момент своего высшего страдания он переходит
к высшему освобождению и к высочайшему бесстрастию. С этого
мгновения непреодолимая сила судьбы, казавшаяся абсолютно
всемогущей, представляется теперь лишь относительно большой; ибо
она преодолевается волей и становится символом абсолютно
великого, а именно, возвышенного умонастроения.
Поэтому трагическое воздействие ни в коем случае
исключительно или ближайшим образом не основывается на том, что
принято называть злополучным концом. Трагедия может завершиться
полным примирением не только с судьбой, но даже с жизнью, как,
например, примиряется Орест в «Эвменидах» Эсхила. Орест также
был предопределен к преступлению судьбой и волей одного из богов,
именно Аполлона, но это отсутствие вины не устраняет наказания.
Орест бежит из родительского дома и тут же сразу обнаруживает
Эвменид, которые преследуют его вплоть до священного храма
Аполлона, где их, спящих, пробуждает тень Клитемнестры. Вина с
Ореста может быть снята лишь путем действительного искупления, и в
Ареопаге, к которому его отсылает Аполлон и перед которым он
сам его защищает, ему кладут в обе урны одинаковое число голосов,
чтобы перед нравственным сознанием было соблюдено равенство
необходимости и свободы. Ореста освобождает лишь белый камень,
брошенный Палладой в урну с голосами за освобождение, но
обнаруживается, что в то же время с этим не могут примириться богини
судьбы и необходимости — мстительные Эриннии, и с той поры
народ Афин стал чтить их в качестве божественных сил, а в самом
городе против крепости, где царит Афина, они имеют свой храм.
Греки в своих трагедиях искали именно такого равновесия
справедливости и человечности, необходимости и свободы, без этого они
не могли удовлетворить свое нравственное чувство, как и в
самом этом равновесии нашла свое выражение высшая
нравственность. Именно это равновесие и является основным элементом в тра-
166
гедии. То, что обдуманное и добровольное преступление
подвергается наказанию, не является трагическим. Как уже было сказано,
то обстоятельство, что невинный неизбежно становится отныне по
воле судьбы виновным, есть само по себе высшее несчастье, какое
только мыслимо. Но то, что этот без вины виноватый добровольно
принимает на себя наказание, составляет возвышенный момент в
трагедии, и только этим свобода преображается в высшее
тождество с необходимостью.
Там же, стр. 342—347. Перевод IL С. Попова
под редакцией Ю. Н. Попова.
О сущности комедии
Уже вначале было замечено, что в общем понятии не определено,
на какой стороне находится свобода и на какой необходимость, но
что первоначальное отношение свободы и необходимости есть то,
в котором необходимость выступает как объект, свобода — как
субъект. Но это отношение есть отношение трагедии, и потому она
представляет собой первое и как бы позитивное явление драмы.
Следовательно, посредством обращения отношения должна возникнуть
та форма, в которой необходимость или тождество, скорее,
представляет субъект, а свобода или различие — объект; это отношение
комедии, как это выяснится из последующих рассуждений. [...]
[...] Так как, следовательно, вместе с принятым обращением
отношения одновременно упраздняется всякий страх перед
необходимостью как судьбой и допускается, что в этом отношении
действия вообще невозможна подлинная судьба, то становится
возможным чистое удовольствие от несообразности самой по себе, и это
удовольствие можно вообще называть комическим; внешне оно
выражается в свободной смене напряженности и расслабленности. Мы
напрягаемся, чтобы постичь несообразность, противоречащую
нашему пониманию, но в этой напряженности непосредственно
замечаем полную бессмысленность и невозможность явления, так что
эта напряженность мгновенно переходит в расслабленность и этот
переход выражается внешне в смехе.
Если мы теперь можем назвать обращение любого возможного
отношения, основывающегося на противоречии, вообще комическим
отношением, то несомненно высший комизм и как бы вершина его
будет там, где противоречия подвергаются обращению в высшей
потенции, в качестве необходимости и свободы, и так как борьба
обоих сама по себе представляет собой объективное действие, то и
отношение подобного обращения само по себе является
драматическим.
167
Нельзя отрицать, что каждое возможное обращение
первоначального имеет комическое действие. Если трус поставлен в положение,
где он должен быть храбрым, а скупой — расточительным, или если
в нашей семейной драме женщина играет дома роль мужчины,
а мужчина — роль женщины, то это один вид комического. [...]
Понятно, что, так как необходимость по своей природе
объективна, необходимость в субъекте может быть лишь притязанием,
чем-то напускным и представляет собой аффектированную
абсолютность, которая подвергается теперь осмеянию посредством
необходимости в форме внешнего разлада. Как свобода и особенность,
с одной стороны, представляются необходимостью и всеобщностью,
так, с другой стороны, необходимость принимает видимость свободы
и уничтожает напускную закономерность под деланной внешностью
отсутствия закономерности, в основе же согласно необходимому
порядку. Необходимо, чтобы особенность уничтожалась там, где она
становится к необходимости в отношение объективности;
следовательно, постольку в комедии есть высшая судьба и она сама вновь
становится высшей трагедией. Однако именно потому, что сама
судьба принимает противоположный ей характер, она является в
забавной форме лишь как ирония, а не как рок необходимости.
Там же, стр. 359—361. Перевод Ю. Н. Попова.
О современной драматической поэзии1
Я перехожу теперь к характеристике современной комедии и
трагедии. Чтобы не утонуть вовсе в этом обширном море, я
попытаюсь сосредоточить внимание на немногих основных моментах
отличия современной драмы от античной, а также на вопросе о том,
в чем они совпадают и каковы особенности новой драмы, причем
в основание всех этих сопоставлений я опять-таки положу
определенную оценку — что следует признать высшим проявлением
современной трагедии и комедии. В связи с этим в отношении основных
пунктов я преимущественно буду иметь в виду Шекспира.
Первое, с чего вы должны начать этот анализ,— с
утверждения, что в основании современной драмы лежит принцип смешения
противоположностей, следовательно, преимущественно
трагического и комического. Следующие соображения помогут усвоить
смысл этого смешения. Трагическое и комическое могли бы быть
изображены или в состоянии совершенства, неустраненного безразли-
1 Под современной поэзией здесь понимается вся поэзия нового времени,
иначе говоря, «романтическая» поэзия —в противоположность античной.—
Прим. пере в.
168
чия,— в таком случае поэзия не должна была бы проявляться ни
как трагическая, ни как комическая поэзия; это был бы совсем
другой род, это была бы поэзия эпическая. Оба элемента, которые
в драме разъединяются в борьбе, в эпической поэзии не объединены,
они вообще еще не разделены. Следовательно, смешение обоих
элементов в таком виде, чтобы они вообще не казались разделенными,
не может составлять отличительной особенности современной
трагедии. Скорее это смешение, в котором оба элемента определенно
отличаются друг от друга, причем поэт одинаково оказывается
мастером того или другого — таков Шекспир, умеющий
сконцентрировать драматическую мощь в обоих направлениях; Шекспир
потрясает как в Фальстафе, так и в Макбете.
При всем том мы можем рассматривать это смешение
противоположных элементов как стремление современной драмы вернуться
к эпосу без своего превращения в эпос, как и наоборот — та же
самая поэзия в эпосе через роман стремится к драматической форме
и, таким образом, с обеих сторон устраняет чистое ограничение
высшего искусства.
Для этого смешения необходимо, чтобы писатель одинаково
владел и трагическим и комическим элементом не только в целом, но
и в нюансах, подобно Шекспиру, который в комических местах
одновременно тонок, занимателен и остроумен (как в «Гамлете») и груб
(в сценах с Фальстафом), но не вульгарен; в трагических же
моментах он умеет быть душераздирающим (как в «Лире»), грозным
(как в «Макбете»), нежным, трогающим и успокаивающим, как
в «Ромео и Джульетте» и других пьесах смешанного характера. [...]
Далее надо исследовать, свойственна ли современной трагедии
сущность античной или нет. Имеется ли в современной трагедии
подлинная судьба, именно та высшая судьба, которая охватывает
свободу в ней самой? [...] На место судьбы древних у него [Шекспира]
выступает характер, но Шекспир вкладывает в характер такую
роковую силу, что он уже больше не может совмещаться со свободой,
но существует как непреодолимая необходимость.
Макбета вовлекают в убийство адские призраки, но здесь нет
объективной необходимости деяния. Банко не дает голосам ведьм
обольстить себя, Макбет же поддается этому обольщению. Таким
образом здесь решает характер. [...]
По той же причине, по какой Шекспир вынужден был перенести
необходимость преступления в характер, он должен был с ужасной
силой использовать отвергнутую Аристотелем ситуацию, когда
преступник из счастья попадает в несчастье. Вместо подлинной судьбы
у него царит Немезида, и она проступает во всех образах, когда
ужасы громоздятся друг на друга, когда одна кровавая волна гонит
169
другую, когда над проклятым сбывается проклятие, как в
английской истории во время войны Алой и Белой розы. [...]
Между тем отличие этой Немезиды от подлинной судьбы очень
значительно. Она происходит из действительного мира, ее место —
в действительности; это та же Немезида, которая царит в истории,
Шекспир и почерпнул ее, как и весь свой материал, из истории.
Борьба свободы со свободой ее вызывает; это последствие, и месть
непосредственно не совпадает с преступлением. [...]
Если мы после всего сказанного захотим определить одним
словом, что представляет собой Шекспир сравнительно с величием
античной трагедии, то мы должны будем назвать его величайшим
творцом характерного. Он не в состоянии изобразить ту высокую,
оправдываемую судьбой, как бы очищенную и преобразованную
красоту, сливающуюся в единое целое с нравственным добром, он также
не может изображаемую им самим красоту представить так, чтобы
она проявилась в целом и чтобы целое каждого произведения
отражало бы ее образ. Он постиг высшую красоту лишь как единичный
характер. Он не смог подчинить ей все, потому что он слишком
широк в своей универсальности как человек нового времени, как
человек, воспринимающий вечное не в ограничении, но в
беспредельности. Древние обладали концентрированной универсальностью,
полнотой не во множестве, а в единстве. [...]
Само собой разумеется, что при такого рода универсальности
у Шекспира нет ограниченного мира; а поскольку идеальный мир
сам есть ограниченный, замкнутый мир, у него нет и идеального
мира, но зато у него нет и мира, прямо противоположного
идеальному — того, чем убогий вкус французов заменяет идеальный мир —
мира условностей.
Таким образом, Шекспир никогда не изображает ни идеального
мира, ни мира условностей, но всегда мир действительный. [...]
Там же, стр. 336—371. Перевод П. С. Попова
иод редакцией Ю. Н. Попова.
[Теория романа]
Романтический эпос сам опять-таки характеризуется
противоречием в роде, к которому он принадлежит. А именно, раз он по
материалу вообще является универсальным, а по форме —
индивидуальным, то можно заранее ожидать другого соответствующего рода, где
частный или ограниченный материал становится предметом
общезначимого и как бы безразличного изображения. Этим родом
является роман, и тем местом, которое мы ему отводим, мы
одновременно определили и его природу.
170
Правда, и материал романтического эпоса можно назвать лишь
относительно универсальным, так как он всегда притязает на то,
чтобы субъект вообще переносился на фантастическую почву, чего
не делает античный эпос. Но именно потому, что материал требует
чего-то от субъекта — веры, желания, фантастического
настроения,— поэт должен внести что-то со своей стороны и посредством
изображения вновь извлечь из материала то, что он в одном
отношении может заранее иметь универсального. Чтобы возвыситься над
этой необходимостью и более приблизиться к объективному
изображению, не остается ничего другого, как отказаться от
универсальности материала и искать ее в форме. [...]
Уже то явное ограничение, что роман лишь благодаря форме
изображения является объективным, общезначимым, указывает, в
каких пределах он только и может приблизиться к эпосу. Эпос по
своей природе есть неограниченное действие: оно, собственно, не
начинается и могло бы продолжаться до бесконечности. Роман, как
было сказано, ограничен предметом, поэтому он больше
приближается к драме, являющейся ограниченным и замкнутым в себе дей-
ствием* В этом отношении роман можно было бы представить как
смешение эпоса и драмы,— таким образом, что он разделяет
свойства обоих родов. В целом новое искусство и здесь оказывается
более родственным живописи и царству красок, тогда как
пластическая эпоха или царство фигур строго все разграничивало. [...]
Так как в форме изображения роман, насколько это возможно,
должен быть подобен эпосу, то поэт должен заменить эпическую
общезначимость относительно еще большим безразличием к
главному предмету или герою, чем то, которое характеризует
эпического поэта. Он не должен поэтому быть сильно привязанным к
герою, а тем менее — как бы подчинять ему все в книге. Так как
ограниченный материал выбран лишь для того, чтобы в форме
изображения показать абсолютное, то герой как бы уже по природе
является более символическим, чем личным, и должен быть так
представлен в романе, что все легко связывается с ним и он
является коллективным именем, лицом собирательным.
Безразличие должно идти столь далеко, что оно может
переходить даже в иронию по отношению к герою, так как ирония
является единственной формой, в которой то, что исходит или должно
исходить от субъекта, вновь самым определенным образом
отделяется от него и становится объективным. Следовательно,
несовершенство никак не может повредить в этом отношении герою; напускное
же совершенство роман уничтожает. Сюда относится то, что Гёте
в «Вильгельме Мейстере» говорит о замедляющей силе героя, с осо-
бсй иронией вкладывая это в уста самого героя. Так как роман,
171
с одной стороны, необходимо склоняется к драматическому, а с
другой стороны, должен медлить, как эпос, то он вынужден вложить
в объект, а именно в самого героя, эту силу, сдерживающую
быстрый ход действия. [...]
Роман должен быть зеркалом мира, по крайней мере эпохи, и
стать таким образом частной мифологией. [...]
Пробуждая все в человеке, роман должен привести в действие
и страсти; ему позволены как высочайший трагизм, так и
комическое, лишь сам поэт должен оставаться нетронутым. [...]
Роман, поскольку он по своему близкому родству с драмой
больше покоится на противоречиях, чем эпос, должен использовать
последние преимущественно для иронии и для живописного
изображения, как та картина в «Дон-Кихоте», где герой и Карденио, сидя
в лесу друг против друга, разумно ведут себя друг с другом, пока
безумие одного не приводит в возбуждение другого. Вообще,
следовательно, роман должен стремиться к живописному, ибо так можно
представить, в общем, то, что носит характер драматического, лишь
мимолетного явления. Само собой понятно, что живописное всегда
имеет содержание, связанное с умонастроением, нравами, народами,
событиями. [...] Все, что нравы дают романтического, должно быть
взято, и не следует избегать авантюрного, если последнее опять-
таки может быть пригодно для символики. Вульгарная
действительность должна изображаться, чтобы ее можно было использовать для
иронии или какого-либо противоречия. [...]
Не будет слишком громким утверждение, что до сих пор
имеется лишь два романа, а именно «Дон-Кихот» Сервантеса и
«Вильгельм Мейстер» Гёте. [...] Достаточно лишь вспомнить о
«Дон-Кихоте», чтобы осознать, что значит понятие мифологии, созданной
гением единственного человека. Дон-Кихот и Санчо Панса —
мифологические фигуры для всего образованного мира, как и история с
ветряными мельницами и т. д. представляет собой подлинный миф,
мифологическое сказание. [...] Тема целого — реальное в борьбе
с идеальным. В первой половине произведения идеальное
трактуется лишь естественно-реалистически, то есть идеальное начало
героя сталкивается лишь с обыденным миром и обыденными
действиями последнего, в другой части идеальное мистифицируется,
то есть мир, с которым оно вступает в конфликт, сам является
идеальным, не обыденным. [...]
В «Вильгельме Мейстере» также обнаруживается неустранимая
почти ни в каком всеобъемлющем изображении борьба идеального
с реальным, характерная для нашего мира, вышедшего из состояния
тождества. [...]
Там же, стр. 321—329. Перевод Ю. Н. Попова.
172
ГЕГЕЛЬ
1770-1831
Великий немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель является
наиболее выдающимся представителем немецкой классической философии,
которую Ленин назвал одним из трех источников марксизма. По своему
философскому направлению Гегель был объективным идеалистом. Однако ему
принадлежит большая заслуга — разработка диалектического метода, находящегося
в ярком противоречии с его идеалистической системой. Гегель, по словам
Энгельса, «впервые представил весь природный, исторический и духовный мир
в виде процесса, то есть в беспрерывном движении, изменении, преобразовании
и развитии, и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения
и развития... Для нас здесь безразлично, что Гегель не разрешил этой задачи.
Его историческая заслуга состояла в том, что он поставил ее» К
В философии Гегеля отразилось прогрессивное развитие буржуазного
общества и те громадные политические события, которые наполняют эпоху 1789—
1814 годов, эпоху французской революции и национально-освободительных
войн.
В ранние годы Гегель был сторонником французской революции в лице ее
наиболее последовательной партии — якобинцев. Он прошел затем через кризис
этого идеала и стал на почву реальной истории, которая предстала перед ним
в образе Наполеона, творившего дело прогресса жестокими методами войны
и угнетения. В философии Гегеля, и особенно в его «Феноменологии духа»
(1805), фантастически отражается стихийный, антагонистический ход
мировой истории, поглощающей отдельные ступени культуры и национальные
формы развития во имя духовного единства человеческой культуры. Оправдывая
все жертвы этого процесса как безусловно необходимые, Гегель превращает
его в мистическую историю развития «абсолютного духа». Однако в процессе
изображения отдельных ступеней этого развития и неизбежности их
внутреннего самоотрицания он часто проявляет глубокое историческое понимание,
хотя это зашифровано сложным, умозрительным изложением и особой
терминологией.
Умственный опыт эпохи конца XVIII и начала XIX столетия, свое
понимание общественной борьбы и обобщающий взгляд на достижения различных
наук Гегель переработал в грандиозную систему логических категорий, первый
набросок картины диалектического движения («Наука логики», 1812—1816). Но
диалектика Гегеля, по известному выражению Маркса, «стоит на голове». Она
представляет собой движение идеальных сущностей вне времени и
пространства, а действительный мир истории и природы является для нее
воплощением этого «царства теней». Поэтому в гегелевской системе процесс
конкретизации, перехода от абстрактного к конкретному, рассматривается превратно —
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 20, стр. 23.
173
не как процесс отражения реальной борьбы сил, ведущей к созданию более
богатых, более всеобщих форм жизни, а как примирение идеала с исторически
данной, стихийно сложившейся реальностью. Отсюда у Гегеля, особенно в его
философии права, попытка вывести логически и доказать с точки зрения
самой диалектики разумную необходимость монархического наследственного
правления, сословного строя и догматов протестантской церкви. Особенно в
период Реставрации, в последний, так называемый берлинский период жизни
Гегеля, его философия как бы подчиняется консервативному направлению
мысли, система абсолютного идеализма побеждает диалектический метод.
И все же эта победа остается в значительной мере внешней. Энгельс писал:
«Подобно тому, как во Франции в XVIII веке, в Германии в XIX веке
философская революция предшествовала политическому перевороту. Но как не
похожи одна на другую эти философские революции! Французы ведут открытую
войну со всей официальной наукой, с церковью, часто также с государством;
их сочинения печатаются по ту сторону границы в Голландии или в Англии,
а сами они нередко близки к тому, чтобы попасть в Бастилию. Напротив,
немцы — профессора, государством назначенные наставники юношества; их
сочинения — общепризнанные руководства, а система Гегеля — венец всего
философского развития — до известной степени даже возводится в чин королевско-
прусской государственной философии! И за этими профессорами, за их
педантически-темными словами, в их неуклюжих скучных периодах скрывалась
революция? Да разве те люди, которые считались тогда представителями
революции,— либералы,— не были самыми рьяными противниками этой философии,
вселявшей путаницу в человеческие головы? Однако то, чего не замечали ни
правительства, ни либералы, видел уже в 1833 году, по крайней мере, один
человек; его звали, правда, Генрих Гейне» К
Гегель создал целую энциклопедию знания, в которую входит и его
эстетика. Она представляет собой цикл лекций, прочитанных в Гейдельбергском
и Берлинском университетах (1817—1829). Главным достоинством эстетики
Гегеля является ее исторический метод, охватывающий все известные в его
время виды и формы художественной деятельности, эпохи и стили как
отдельные ступени движения целого. Это целое, с точки зрения Гегеля, есть идеал
в искусстве, проявляющийся в различных противоречивых формах.
Содержание идеала — человеческая жизнь в ее высшей свободе и самодеятельности.
Но так как Гегель и в эстетике остается идеалистом, то эта свобода
рассматривается как чисто духовная жизнь, которая только проявляется в
чувственной, материальной оболочке. Поэтому, с точки зрения Гегеля, основное
противоречие, которое движет историей искусства, есть противоречие между
развитием идеи и чувственным образом. На известной ступени развития духа его
содержание неизбежно должно воплотиться в реальном чувственном образе,
и это единство формы и содержания есть прекрасное. Историческое развитие
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 21, стр. 273, 274.
174
художественного творчества — это подготовка, осуществление и упадок
прекрасного в искусстве, поскольку духовное развитие неизбежно должно
превзойти чувственную форму и найти себе более высокое выражение в форме
мысли. Различные роды и виды искусства являются отдельными сторонами
и ступенями этого исторического процесса.
Таким образом, несмотря на диалектический анализ материала и
подчеркивание важности содержания в искусстве, несмотря на множество глубоких
исторических наблюдений, эстетика Гегеля осталась в замкнутом круге
объективного идеализма. Живой исторический материал подчиняется здесь
отвлеченной схеме, и общим выводом из этой схемы является примирение с
действительностью в ее прозаической и чуждой искусству форме.
Гегель признает царство идеала чем-то принадлежащим прошлому. Он не
видит впереди тех революционных переворотов, которые вместе с
освобождением человечества несут с собой и возрождение искусства.
Маркс и Энгельс очистили рациональное зерно гегелевской диалектики от
мистической шелухи. Их революционное мировоззрение было и в области
эстетики полным разрывом с идеалистической точкой зрения. Вопрос о судьбах
искусства они переносят на почву реальной истории. Классовая борьба
пролетариата является выходом из противоречий мировой культуры, отразившихся
в эстетике Гегеля.
ЛЕКЦИИ ПО ЭСТЕТИКЕ
[Искусство и другие формы сознания]
Так как искусство занимается истинным как абсолютным
предметом сознания, то и оно также принадлежит к абсолютной сфере
духа и стоит по своему содержанию на одной и той же почве как
с религией в специальном смысле слова, так и с философией. [...]
При такой тождественности их содержания три царства
абсолютного духа отличаются друг от друга лишь теми формами, в
которых они осознают свой объект, абсолютное.
[...] Первой формой этого постижения является непосредственное
и потому чувственное знание, знание в форме и образе самого
чувственного и объективного, в котором абсолютное становится
предметом созерцания и чувствования. Второй формой является
представляющее сознание и, наконец, третьей формой — свободное
мышление абсолютного духа.
Форма чувственного созерцания свойственна искусству. Именно
искусство доводит до сознания истину в виде чувственного образа,
и притом такого чувственного образа, который в самом своем
явлении имеет высший, более глубокий смысл и значение. Искусство,
однако, не стремится постичь посредством этого чувственного
175
воплощения понятие как таковое, понятие в его всеобщности, ибо
как раз единство этого понятия с индивидуальным явлением и
составляет сущность прекрасного и его художественного
воспроизведения. Правда, это единство порождается в искусстве и в особенности
в поэзии также и в элементе представления, а не только
чувственной, внешней предметности. Однако даже в поэзии, этом наиболее
духовном искусстве, имеется налицо, хотя бы только для
представляющего сознания, единство значения и его индивидуального
воплощения, и каждое содержание схватывается и делается предметом
представления непосредственным образом. [...]
Если мы отводим искусству это абсолютное место, то этим мы
явно и без оговорок устраняем упомянутое выше представление,
согласно которому искусство может быть использовано для выражения
многих других содержаний и достижения чуждых ему интересов.
Правда, религия довольно часто пользуется искусством, чтобы
заставить нас лучше почувствовать религиозную истину или сделать
ее доступной фантазии, выразив ее в образах, и в таком случае
искусство несомненно стоит на службе у отличной от него области.
Однако там, где искусство достигает высшего совершенства, оно
именно в своей образности находит наиболее соответственный и
существенный для содержания истинный способ изложения. Так,
например, у древних греков искусство было высшей формой, в которой
народ представлял богов и осознавал истину. Поэтому поэты и
художники стали для греков творцами их богов, то есть художники
дали нации определенное представление о делах, жизни и
воздействии божественного, дали ей, следовательно, определенное
содержание религии. И это не следует понимать так, что эти
представления и учения уже раньше абстрактно существовали в сознании
как всеобщие религиозные положения и определения мышления,
а затем художники лишь облекли их в образную форму и окружили
внешними украшениями вымысла. Художественное творчество
именно в том и состояло, что эти поэты могли выразить бродившее в них
содержание только в этой форме искусства и поэзии. На других
ступенях религиозного сознания, где оно оказывается менее
доступным художественному воплощению, искусство получает в этом
отношении меньше простора.
Таково изначальное, истинное положение искусства как
представляющего собой высший интерес духа.
Подобно тому как искусство имеет в лице природы и конечных
областей жизни предшествующую ему ступень, так оно имеет и
последующую ступень, то есть сферу, которая в свою очередь выходит
за пределы его способа понимания и изображения абсолютного. Ибо
искусство в самом себе имеет ограничивающий его предел и
первая
ходит поэтому в высшие формы сознания. Это ограничение
определяет также и место, которое мы привыкли теперь отводить
искусству в нашей современной жизни. Мы не считаем больше искусство
той высшей формой, в которой осуществляет себя истина.
Гегель, Сочинения, т. XII, М., 1938, стр. 105—
107. Перевод Б. Г. Столпнера. Новая редакция
перевода Ю. Н. Попова по изд.: G. W. F. H е g е !,
Ästhetik, Berl., 1955.
[Идея прекрасного и ее воплощение)
[...] Так как искусство обращается к непосредственному
созерцанию и имеет своей задачей воплотить идею в чувственном образе,
а не в форме мышления и вообще чистой духовности, и так как
ценность и достоинство этого воплощения заключаются в соответствии
друг другу и единстве обеих сторон, идеи и ее образа, то
достигнутая искусством высота, степень превосходства и соразмерная его
понятию реальность будут зависеть от той степени внутреннего
единства, в какой художнику удалось слить друг с другом идею и ее
образ.
В этой точке высшей истины, представляющей собой духовность,
завоевавшую для себя адекватное понятию духа формирование,
содержится основание деления для философии искусства. Дух,
прежде чем он достигнет истинного понятия своей абсолютной
сущности, должен пройти через ряд ступеней, коренящихся в самом
понятии, и этим ступеням содержания, которые он себе сообщает,
соответствует непосредственно с ними связанная последовательная
смена типов искусства, в форме которых дух как художественное
начало обретает сознание самого себя.
[...] Идея как художественно прекрасное не является идеей, как
таковой, абсолютной идеей, как ее должна понимать
метафизическая логика, а идеей, оформившейся далее в действительность и
вступившей с ней в непосредственное единство. Хотя идея, как
таковая, есть сама истина в себе и для себя, однако она есть истина
лишь со стороны своей еще не объективированной всеобщности.
Идея же как художественно прекрасное есть идея с тем
специфическим свойством, что она является индивидуальной действительностью,
выражаясь иначе, она есть индивидуальное формирование
действительности, обладающее специфическим свойством являть через себя
идею. Этим мы уже высказали требование, чтобы идея и ее
формообразование как конкретная действительность были доведены до
полной адекватности друг другу. Понятая таким образом идея как
7 История эстетики, т. III
177
действительность, получившая соответствующую своему понятию
форму, есть идеал.
Эту задачу сделать их соответствующими друг другу можно
было бы понимать совершенно формально в том смысле, что идея
может быть той или другой идеей, лишь бы действительный образ,
безразлично какой, воплощал именно эту определенную идею. Но
такое понимание смешивает требуемую истинность идеала с голой
правильностью, которая состоит в том, что какое-нибудь значение
выражается соответствующим ему образом и можно снова
непосредственно находить его смысл в этой форме. Не в этом смысле следует
понимать идеал. Ибо какое-нибудь содержание может получить
совершенно адекватное, соответствующее его сущности выражение
и при этом все же не иметь права притязать на то, чтобы быть
идеалом, то есть художественно прекрасным. Более того, в сравнении
с идеальной красотой это выражение будет представляться
неудовлетворительным.
В этом отношении следует уже здесь заметить (хотя доказать
это положение можно будет лишь позднее), что
неудовлетворительность художественного произведения не всегда следует
рассматривать как субъективную неискусность, ибо неудовлетворительность
формы проистекает также и из неудовлетворительности содержания.
Так, например, художественные создания китайцев, индусов,
египтян, их изображения и статуи богов и божков оставались
бесформенными или получали лишь дурную, неистинную определенность
формы. Эти народы не могли овладеть тайной истинной красоты,
потому что их мифологические представления, содержание и мысль
их художественных произведений были еще неопределенны внутри
себя или отличались дурной определенностью, а не были в самих
себе абсолютным содержанием. Чем превосходнее в этом смысле
становятся художественные произведения, тем более глубоким и
внутренне истинным является их содержание и мысль. И при этом мы
не должны думать о большей или меньшей искусности, с которой
схватываются и копируются образы природы, как они существуют
во внешней действительности. Ибо на известных ступенях
художественного сознания и воплощения неверная и карикатурная
передача природных форм не представляет собой ненамеренной неискус-
ности> вызванной отсутствием технического упражнения, а
является намеренным изменением, которого требует находящееся в
сознании содержание.
Таким образом, существует несовершенное искусство, которое
в техническом и прочем отношении может быть вполне
законченным в своей определенной сфере, но которое при сопоставлении
с понятием искусства и с идеалом представляется неудовлетвори-
178
тельным. Лишь в высшем искусстве идея и воплощение подлинно
соответствуют друг другу в том смысле, что образ идеи внутри себя
самого есть истинный в себе и для себя образ, потому что само
содержание идеи, которое этот образ выражает, является истинным.
Там же, стр. 76—79.
[Три формы искусства]
Нам предстоит рассмотреть здесь три отношения между идеей
и ее формообразованием.
а) Во-первых, начальную стадию. Ее порождает идея, поскольку
последнюю делают содержанием художественных образов в тот
период, когда она еще сама остается неопределенной и неясной или
обладает лишь дурной, неистинной определенностью. В качестве
неопределенной она еще не обладает в самой себе той
индивидуальностью, которой требует идеал. Ее абстрактность и односторонность
оставляют образ с внешней стороны неудовлетворительным и
случайным. Первая форма искусства представляет собой в большей мере
лишь искание воплощений в образной форме, чем сцособность дать
истинное изображение, так как идея еще не нашла формы внутри
самой себя и остается лишь усилием и стремлением к таковой. Мы
можем назвать эту форму символической формой искусства.
В этой форме абстрактная идея имеет свой образ вне себя, в
чувственном природном материале, из которого исходит формообразо^
вание и которым оно всецело связано. Находимые в природе
предметы созерцания оставляются таковыми, каковы они есть, но вместе
с тем в них вкладывается субстанциальная идея как их значение, так
что они получают теперь призвание служить ее выражением и
должны истолковываться так, как будто в них присутствует сама
идея. [...]
Так как идея и образы природы несоразмерны друг другу, то ее
отношение к предметному миру становится отрицательным. Ибо она
как нечто внутреннее недовольна такими лишь внешними
предметами и ставит себя как их внутреннюю всеобщую субстанцию выше
всего этого несоответственного ей изобилия образов. Благодаря этой
возвышенности идеи явления природы, человеческие формы и
события человеческой жизни берутся и оставляются таковыми, каковы
они есть, но одновременно познаются неадекватными их значению,
которое высоко парит над всем содержанием нашего мира.
Указанные черты составляют общий характер первого, восточного
пантеизма в искусстве, который вкладывает абсолютное значение
в самые дурные предметы, а с другой стороны, насильственно
заставляет явления служить выражением своего миросозерцания и тем
7*
179
самым становится причудливым, гротескным и безвкусным или же
презрительно обращает абстрактную свободу субстанции против
всех явлений как ничтожных и мимолетных. Вследствие этого
значение не может быть полностью реализовано в выражении, и,
несмотря на все стремления и попытки преодолеть эту
несоразмерность между идеей и образом, опа все же остается неопределенной.
Такова первая, символическая форма искусства с ее исканием,
ее брожением, загадочностью и возвышенностью.
Ь) Во второй форме искусства, которую мы будем называть
классической, исчезает двоякий недостаток символического
искусства. Символический образ несовершенен, потому что в нем идея
входит в сознание лишь в абстрактной определенности или, иначе
говоря, неопределенной. Вследствие этого соответствие между
значением и образом должно оставаться недостаточным и лишь
абстрактным. В качестве устранения этого двойного недостатка
классическая художественная форма представляет собой свободную
адекватную реализацию идеи в образе, уже принадлежащем ей в
соответствии с ее понятием. Поэтому идея может достигнуть полного
свободного созвучия со своим образом. Следовательно, лишь
классическая форма создает завершенный идеал и дает нам возможность
созерцать его как осуществленный.
Однако соразмерность друг другу понятия и реальности в
классическом искусстве не следует понимать в смысле чисто
формального соответствия содержания его внешнему формообразованию.
В противном случае любой портрет с натуры, лицо, ландшафт,
цветок, какая-нибудь сцена и т. д., составляющие цель и содержание
изображения, были бы уже классическими только потому, что в них
имеется такое совпадение формы и содержания. Своеобразие
содержания в классическом искусстве состоит в том, что оно само
является конкретной идеей и в качестве таковой конкретно духовным,
ибо лишь духовное есть подлинно внутреннее. Для воплощения
такого содержания мы должны отыскать среди предметов природы тот,
который сам по себе соразмерен духовному в себе и для себя. [...]
Выступая как временное явление, этот образ, которым идея как
духовность, и притом как индивидуально определенная духовность,
обладает в самой себе, является человеческим образом. На эти
олицетворение и антропоморфизацию часто клеветали, выставляя их
как деградацию духовного. Однако искусство, поскольку оно имеет
своей целью дать созерцанию духовное в чувственном воплощении,
должно перейти к этой антропоморфизации, так как дух получает
адекватное себе воплощение только в своем теле. [...]
В классической форме искусства человеческое тело в его формах
уже не признается больше только чувственным бытием, а рассмат-
180
ривается как внешнее бытие и природный облик духа. Оно должно
быть освобождено от всех недостатков того, что является только
чувственным, от случайной конечности, присущей его явлению.
Если облик очищен, чтобы выражать собой адекватное ему
содержание, то, с другой стороны, для того чтобы соответствие между
значением и обликом было полным, духовность, составляющая содержание,
также должна быть в состоянии полностью выразить себя в
природном человеческом облике, не выходя за пределы этого
чувственного и телесного выражения. Вследствие этого дух определен здесь
как частный, как человеческий, а не как безусловно абсолютный и
вечный дух, ибо последний способен проявлять и выражать себя
лишь в стихии духовности.
Это последнее обстоятельство становится в свою очередь тем
недостатком, вследствие которого разлагается классическая форма
искусства. Оно требует перехода в высшую, третью форму, а именно,
в романтическую.
с) Романтическая форма искусства вновь снимает завершенное
единство идеи и ее реальности и возвращается, хотя и на более
высоком уровне, к различию и противоположности этих двух сторон,
оставшихся неопределенными в символическом искусстве»
Классическая форма искусства достигла вершины того, что может дать
чувственное воплощение, присущее искусству, и если в ней есть
какой-нибудь недостаток, то это недостаток самого искусства и
ограниченность художественной сферы. Эта ограниченность состоит
в том, что искусство делает своим предметом в чувственно-копкрет-
ной форме то, что, согласно своему понятию, есть бесконечно
конкретное, всеобщее, дух. В классическом искусстве оно дает нам
полнейшее взаимное слияние духовного и чувственного бытия как их
соответствие друг другу. Но в этом слиянии дух не представлен
согласно своему истинному понятию. Ибо дух есть бесконечная
субъективность идеи, которая, нося абсолютно внутренний
характер, не может свободно развернуться в качестве таковой до тех пор,
пока телесное воплощение остается адекватной формой ее
существования. Исходя из этого принципа, романтическая форма искусства
снова отказывается от нераздельного единства классического
искусства, так как она приобрела содержание, выходящее за пределы
классической художественной формы и ее способа выражения.
Чтобы вызвать в уме знакомое представление, скажем, что это
содержание совпадает с тем, что христианская религия высказывает
о боге как духе, в отличие от греческого представления о богах,
которое составляет главное и наиболее соответственное содержание
классического искусства. В последнем конкретное содержание есть
в себе единство человеческой и божественной природы, единство,
181
которое именно потому, что оно есть лишь непосредственно и в себе,
достигает адекватного проявления также непосредственным и
чувственным образом. Греческий бог существует для наивного
созерцания и чувственного представления, его формой является телесный
человеческий облик, сфера его власти и его сущности носит
индивидуально обособленный характер, и по отношению к субъекту он
представляет собой некую субстанцию и силу, с которой
субъективно внутреннее находится в единстве лишь в себе, а не обладает
этим единством как внутренним субъективным знанием его. Более
высокой ступенью является знание этого в себе существующего
единства, которое классическая форма искусства имеет своим
содержанием, получающим завершенное изображение в телесном
воплощении. [...]
Так как христианская религия представляет себе бога как
дух, и не как индивидуальный особенный дух, а как абсолютный
дух, так как она постигает бога в духе и в истине, то она
возвращается от чувственности представления к внутренней духовной
жизни и делает ее, а не телесную форму материалом и наличным
бытием своего содержания. И точно так же единство человеческой и
божественной природы выступает здесь как осознанное единство,
реализующееся лишь посредством духовного знания и в духе.
Обретенное благодаря этому новое содержание не связано с чувственным
изображением как с соответствующей ему формой, а освобождено
от этого непосредственного бытия, которое должно быть подвергнуто
отрицанию, преодолено и рефлектировано обратно в духовное
единство. Таким образом, романтическое искусство есть возвышение
искусства над самим собой, которое совершается, однако, в форме
самого искусства и внутри его собственной области.
Поэтому мы можем вкратце сформулировать третью ступень
искусства следующим образом: на этой ступени предмет искусства
составляет свободная конкретная духовность, которая в качестве
духовности должна предстать в явлении внутреннему духовному
оку. Искусство в соответствии с характером этого предмета не
может работать для чувственного созерцания. Оно может работать
только для внутренней душевной жизни, сливающейся со своим
предметом как с самой собой, и для субъективной задушевности,
для сердца, чувства, которое в качестве духовного чувства
стремится к свободе внутри самого себя и ищет и достигает своего
примирения лишь во внутренних глубинах духа. Этот внутренний мир
составляет содержание романтического искусства, которое и должно
изображать его в качестве такового и в видимости этой внутренней
жизни. Мир души торжествует победу над внешним миром и являет
182
эту победу в самом внешнем мире, вследствие чего чувственное
явление обесценивается.
Но и эта форма, как всякое искусство, нуждается во внешних
средствах для своего выражения. Так как духовность, покинув этот
внешний мир, отказавшись от прежнего непосредственного единства
с ним, ушла в себя, то внешняя, чувственная сторона
воспринимается, как в символическом искусстве, чем-то несущественным,
преходящим. Субъективный конечный дух и субъективная воля
изображаются вплоть до частных проявлений и индивидуального
произвола, случайных черт характера, поступков, событий,
осложнений и т. д. Аспект внешнего существования предоставлен
случайности и авантюризму фантазии, которая по произволу то отражает
существующее как оно есть, то беспорядочно перемешивает образы
внешнего мира и искажает их до карикатурности. Ибо это внешнее
уже не имеет больше своего понятия и значения в самом себе и
внутри себя, как в классическом искусстве, а имеет его в области
чувства. Последнее находит свое проявление не во внешнем мире
и его форме реальности, а внутри себя самого. Оно способно
сохранить примиренность с собой или снова обрести ее во всех
самостоятельно складывающихся случайных обстоятельствах, во всяком
несчастия и страдании и даже в самом преступлении.
Вследствие этого идея и образ снова оказываются, как в
символическом искусстве, безразличными, несоразмерными и
разделенными друг от друга. Однако существенное отличие состоит в том,
что в символическом искусстве недостатки формообразования были
вызваны неудовлетворительностью идеи, тогда как в романтическом
искусстве идея как дух и душевная жизнь должна являться
завершенной внутри себя. Именно благодаря этой высшей завершенности
она не поддается адекватному соединению с внешним миром, так
как может искать и порождать свою истинную реальность и явление
лишь внутри себя самой.
Таков, в общем, характер символической, классической и
романтической художественных форм как трех видов отношения между
идеей и ее образом в области искусства. Они состоят в стремлении
к идеалу как истинной идее прекрасного, в достижении идеала и в
выходе за его пределы. [...]
Отношение этой идеи к отдельным искусствам, взятое в его
конкретности, состоит в том, что искусства представляют собой
реальное существование художественных форм. Символическое
искусство достигает своей наиболее адекватной действительности и
величайшего распространения в архитектуре, в которой оно
господствует соответственно полноте своего понятия и еще не низведено
до уровня неорганической составной части другого искусства.
783
Напротив, для классической художественной формы безусловной
реальностью является скульптура, архитектуру же она приемлет
лишь как обрамление и не в состоянии развить живопись и музыку
в качестве абсолютных форм своего содержания. Наконец,
романтическая форма искусства овладевает живописным и музыкальным
выражениями в их самостоятельности и безусловности, равно как
и поэтическим изображением. Но поэзия соразмерна всем формам
прекрасного и распространяется на всех них, потому что ее настоя-,
щей стихией является художественная фантазия, а фантазия
необходима для творчества красоты, какова бы ни была форма
последней.
Таким образом, все, что реализуют в отдельных художественных
произведениях частные искусства,— это, согласно своему понятию,
лишь всеобщие формы развивающейся идеи прекрасного. Обширный
пантеон искусства возвышается как внешнее осуществление этой
идеи; его архитектором и строителем является творящий самого
себя дух прекрасного, завершен же этот пантеон будет лишь в ходе
тысячелетней работы всемирной истории.
Там же, стр. 80—86, 94.
ПРЕКРАСНОЕ В ИСКУССТВЕ, ИЛИ ИДЕАЛ
[Общее состояние мира, благоприятствующее идеалу: век героев]
[...] В идеале особенная индивидуальность и субстанциальное
должны оставаться в неразрывном созвучии между собой, и так как
идеалу присуща свобода и самостоятельность субъективности, то
окружающий мир состояний и условий не должен обладать такой
существенной объективностью, которая существовала бы сама по
себе, независимо от субъективного и индивидуального. Идеальный
индивид должен быть замкнутым внутри себя, объективное должно
принадлежать ему, а не совершаться само по себе в качестве
отрешенного от индивидуальности субъектов, потому что в противном
случае субъект отступал бы на задний план как нечто
второстепенное по сравнению с самим по себе уже готовым миром.
В этом отношении всеобщее должно быть действительным в
индивиде как нечто теснейшим образом принадлежащее ему, и
принадлежащее не в качестве мыслей субъектов, а как свойство его
характера и чувства. Другими словами: для достижения единства
всеобщего и индивидуального требуется форма непосредственности
в противоположность опосредствованию и различению, присущим
мышлению, и самостоятельность, на необходимость которой мы
указываем, получает образ непосредственной самостоятельности.
184
[...] Чтобы яснее выступил определенный характер
действительности, благоприятной для искусства, бросим взгляд на
противоположный способ существования.
Последний имеется там, где нравственное понятие,
справедливость и характеризующая ее разумная свобода выработали
проверенную опытом форму законопорядка, которая существует во
внешней действительности как неизменная внутри себя необходимость
и не находится в зависимости от особенной индивидуальности
и субъективности эмоционального строя души и склада характера.
Это происходит в рамках государственной жизни. [...]
Положение отдельных индивидов в государстве таково, что они
должны примкнуть к этому прочному порядку и подчиниться ему,
так как они с их характером и душевным строем уже не являются
больше единственным существованием нравственных сил. Наоборот,
как это происходит в истинных государствах, все частные
особенности образа мыслей, субъективного мнения и чувства должны
регулироваться этой законностью и приводиться в гармонию с ней.
[...] Субстанциальность тетгерь уже не представляет собой лишь
особое достояние того или другого индивида, а существует сама для
себя и развита всеобщим и необходимым образом во всех своих
сторонах до мельчайших деталей. Какие бы правовые, нравственные,
закономерные поступки ни совершали отдельные лица в интересах
и в ходе развития целого, их воля и достижения, как и они сами,
остаются всегда незначительными и простыми иллюстрациями по
сравнению с целым. [...]
Подчиненное положение отдельного лица в развитых
государствах проявляется, наконец, в том, что каждый индивид получает
лишь определенную и ограниченную долю в работе целого. В
истинном государстве работа на общую пользу, как и торговля и
промышленная деятельность в гражданском обществе и т. д., разделена
многообразнейшим способом, так что государство в целом не
является конкретным действием одного индивида и вообще не может
быть доверено произволу, силе, мужеству, храбрости, могуществу
и разумению отдельного лица. [...]
Во всех этих отношениях в правовом благоустроенном
государстве публичные власти не носят индивидуального характера. В них
всеобщее, как таковое, господствует в своей всеобщности, в которой
индивидуальная жизнь выступает как нечто снятое или как
второстепенное и безразличное. В таком состоянии мы не найдем
требуемой нами самостоятельности. Поэтому для свободы
формирования индивидуальности мы требовали наличия противоположного
состояния, в котором сила нравственности покоится только на
индивидах, становящихся по своей особенной воле и благодаря выдаю-
185
щейся силе и влиянию их характера во главе той действительности,
в которой они живут. Справедливое остается тогда их собственным
решением, и если они своими поступками нарушают нравственное
в себе и для себя, то не существует обладающей властью публичной
силы, которая привлекла бы их к ответу и подвергла бы наказанию.
Такое состояние мы привыкли приписывать веку героев. Не
место разъяснять здесь, какое из этих двух состояний лучше,
состояние ли развитой государственной жизни или состояние века
героев. Мы занимаемся здесь лишь идеалом искусства, а для
искусства это отделение всеобщности от индивидуальности, сколь бы оно
ни было необходимым для остальной действительности духовного
существования, еще не должно выступать указанным выше образом.
Ибо искусство и его идеал и есть всеобщее, воплощенное в
доступной для созерцания форме и составляющее непосредственное
единство с частными явлениями во всей их живости.
Это находит себе место в так называемом веке героев — том
времени, когда добродетель, αρετή в греческом понимании этого слова,
составляет основание поступков. [...] В греческой добродетели
имеется непосредственное единство субстанциального и индивидуальной
склонности, влечения, воли, так что индивидуальность сама для себя
является законом, не будучи подчинена никакому самостоятельно
существующему закону, постановлению и суду. Так, например,
греческие герои или выступают в век, когда еще нет закона, или сами
становятся основателями государств, так что право и порядок,
закон и нравы исходят от них и существуют как их индивидуальное
дело, связанное с ними.
Уже Геркулес восхваляется древними греками в качестве
такого героя и выступает перед нами как идеал первобытной
героической добродетели. Его свободная самостоятельная добродетель,
побуждающая его частную волю восстать против несправедливости
и бороться с человеческими и природными чудовищами, не является
всеобщим состоянием его времени, а принадлежит исключительно
ему и составляет его характерную особенность. И притом он не
является каким-то моральным героем, как это показывает случай
с пятьюдесятью дочерьми Феспиоса, которые забеременели от него
в одну и ту же ночь. Он также не аристократичен — вспомним об
авгиевых конюшнях,— а выступает как образ совершенно
самостоятельной силы, защищающей дело права и справедливости, для
осуществления которого он по свободному выбору и собственной воле
подвергает себя бесчисленным тяготам и трудам. [...] Похожи на него
и гомеровские герои. Хотя они также имеют общего верховного
вождя, однако их союз не является заранее законно установленным
отношением, которое заставляло бы их подчиняться этому вождю.
186
Они добровольно следуют за Агамемноном, который не является
монархом в современном смысле этого слова, и каждый из героев
дает свои советы, разгневанный Ахилл самостоятельно уходит от
Агамемнона, и вообще каждый из них приходит и уходит, сражается
и перестает сражаться, когда ему это угодно. Такими же
самостоятельными, не связанными раз навсегда установленным порядком
и не являющимися лишь частицами этого порядка выступают
богатыри древнейшей арабской поэзии, а также «Шах-наме» Фирдоуси.
На христианском Западе ленные отношения и рыцарство были
почвой, на которой произрастало свободное богатырство и
опирающиеся на себя индивидуальности. Таковыми являются рыцари
круглого стола, а также тот круг героев, в центре которого стоит
Карл Великий. [...]
В героическом состоянии общества субъект, оставаясь в
непосредственной связи со всей сферой своей воли, действия,
свершения, целиком отвечает за все последствия своих действий. Когда же
мы действуем или оцениваем действия других, мы требуем для
вменения поступка индивиду, чтобы он знал и понимал характер
своего поступка и обстоятельства его свершения. [...] Героический же
характер не проводит этого различия, а отвечает за все свое деяние
всей своей индивидуальностью. Эдип, например, отправившись
вопрошать оракула, встречает на своем пути мужчину и убивает его
в ссоре. В те времена такой поступок не был бы преступлением: ведь
убитый им человек хотел применить к нему силу. Но этот человек
был его отцом. Эдип женится на царице, но супруга оказывается
его матерью; не ведая этого, он вступил в кровосмесительный брак.
Однако он признает себя ответственным за всю совокупность этих
преступлений и наказывает себя как отцеубийцу и кровосмесителя,
хотя он и не хотел убить отца и вступить на ложе матери и не знал,
что он совершает эти преступления. Самостоятельный, крепкий
и цельный героический характер не хочет делить вины и ничего
не знает о противопоставлении субъективных намерений
объективному деянию и его последствиям, тогда как в наше время, совершив
запутанный и разветвленный поступок, каждый ссылается на
других и, насколько это только возможно, отстраняет от себя вину. [...]
Столь же мало героический индивид отделяет себя от того
нравственного целого, которому он принадлежит, сознавая себя лишь
в субстанциальном единстве с этим целым. Мы же, согласно нашему
современному представлению, отделяем себя в качестве лиц с
нашими личными целями и отношениями от цели такого целого.
Индивид делает то, что он делает, исходя из своей личности и для себя
как лица; поэтому он и отвечает лишь за собственные действия, а не
за действия того субстанциального целого, которому принадлежит.
187
Мы, например, проводим различие между лицом и семьей.
Героический век не знает такого различения. Вина предка отмщается на
внуке, и целый род страдает за первого преступника; судьба вины
и проступка переходит по наследству от одного поколения к
другому. [...] В древней пластической целостности индивид не стоит
отдельно как нечто внутри себя обособленное, а является членом
своей семьи, своего рода. Поэтому характер, действия и судьбы
семьи остаются собственным делом каждого ее члена, и каждый
отдельный человек не только не отрекается от деяний и судьбы
своих предков, но добровольно заступается за них как за свои
собственные. Они живут в нем, и он есть то, чем были его предки с их
страданиями и преступлениями. [...]
Поэтому идеальные образы искусства и переносятся в
мифические века и вообще в более древнее прошлое как представляющие
собой наилучшую почву для их действительности. [...] Прошлое
принадлежит области воспоминаний, а воспоминание уже само по себе
облекает характеры, события и действия в одеяние всеобщности,
через которое не проглядывают особенные, внешние и случайные
частные черты. [...] А многообразные опосредствующие нити,
условия и отношения со всеми облекающими их конечными фактами
дают художнику средства и точку опоры, чтобы сохранить
индивидуальность, в которой нуждается художественное произведение. [...]
Шекспир, например, черпает материал для многих своих
трагедий из хроник или старинных новелл, повествующих о таком
состоянии, которое еще не развилось до совершенно установленного
порядка. Господствующим и определяющим остается здесь живой
почин индивида в принятии решений и их исполнении. Зато
собственно исторические драмы Шекспира носят лишь внешний
исторический характер и дальше отстоят от идеального способа
изображения, чем его трагедии, хотя и здесь известные состояния
и действия проистекают из суровой самостоятельности и своеволия
индивидуальных характеров. Правда, эти характеры в своей
самостоятельности большей частью лишь формально основываются на
самих себе, тогда как в самостоятельности героического характера
мы должны высоко оценивать также и содержание, осуществление
которого они поставили себе целью. [...]
Там же, стр. 184—194.
[Идеал и современная прозаическая действительность]
Рассмотрев со всех этих точек зрения современное состояние
мира с его развитыми правовыми, моральными и политическими
условиями, мы убедимся, что в пределах действительности нашего
188
времени возможности для создания идеальных образов очень
ограниченны, ибо ничтожно число и объем тех кругов общества, в
которых остается свободное поприще для самостоятельных решений
частных лиц. В этом отношении главным материалом для современных
трагедий служат семейственность и добропорядочность, идеалы
честных мужчин и хороших женщин, поскольку их желания и действия
не выходят за пределы тех сфер, в которых человек еще действует
свободно в качестве индивидуального субъекта, то есть по своему
индивидуальному произволу является тем, что он есть, и делает то,
что он делает.
Однако и этим идеалам недостает более глубокого содержания,
и наиболее важной остается лишь субъективная сторона
умонастроения. Более объективное содержание уже дано твердо
существующими отношениями, так что существеннейше интересным в этом
содержании остается характер его проявления в индивидах, в их
внутренней субъективности, моральности и т. д. Было бы
неподобающим выставлять для нашего времени идеалы, например, судей
или монархов. Если лицо, принадлежащее к судебному ведомству,
ведет себя и поступает так, как этого требует долг и должность, то
оно этим исполняет лишь свою определенную, сообразную порядку,
предписанную правом и законом обязанность. То, что
государственные служащие привносят в это исполнение долга от своей
индивидуальности, например мягкое обращение, проницательность и т. д.,
не есть главное, не является субстанциальным содержанием и носит
более безразличный и второстепенный характер.
Монархи нашего времени также не образуют больше, подобно
героям мифической эпохи, конкретной внутри себя вершины целого,
а являются лишь более или менее абстрактным центром внутри
самостоятельно развитых и установленных законом и конституцией
учреждений. Важнейшие дела правителя монархи нашего времени
выпустили из своих рук. Они уже не вершат сами правосудия;
финансы, гражданский порядок и гражданская безопасность не
составляют больше их собственного специального занятия: война и мир
определяются общими условиями внешней политики, которая не
подлежит их личному руководству и ведению. [...]
Таким образом, в нашем современном состоянии мира субъект
может действовать в том или другом отношении, исходя из самого
себя, однако каждый отдельный человек, как ни вертись,
принадлежит существующему общественному строю и выступает не как
самостоятельная, целостная и индивидуально живая фигура этого
самого общества, а лишь как ограниченный в своем значении его
член. Он действует лишь как связанный условиями этого общества,
и интерес, вызываемый этой фигурой, а также содержание ее целей
189
и деятельности носят чрезвычайно частный характер. Ибо в
конечном итоге все сводится к тому, какова будет судьба данного лица,
удастся ли ему достигнуть своей цели, какие препятствия,
неприятности станут на его пути, какие случайные или необходимые
обстоятельства помешают удачному исходу или приведут к нему и т. д. [...]
Там же, стр. 196—198.
[...] Поэтому меняется и характер рыцарства героев, действующих
в новейших романах. В качестве индивидов, обладающих своими
субъективными целями, любовью, честью, благоговением или своими
идеалами улучшения мира, они противостоят этому существующему
порядку и прозе действительности, которая всюду ставит на их пути
затруднения.
Из-за этой противоположности субъективные желания и
требования взвинчиваются безмерно высоко. Каждый застает перед собой
зачарованный, для него совершенно неподходящий мир, против
которого он должен бороться, так как этот мир противится ему и в
своей неподатливой прочности не уступает страстям героя,
выдвигает как препятствие желания отца, какой-нибудь тетки,
гражданские отношения и т. д. Такими новыми рыцарями являются
преимущественно юноши, которым приходится пробиваться через
круговорот мира, осуществляющийся вместо их идеалов. Эти юноши
считают несчастьем, что существуют вообще семья, гражданское
общество, государство, законы, профессиональные занятия и т. д.,
так как субстанциальные жизненные отношения с их ограничениями
жестоко противодействуют их идеалам и бесконечному закону
сердца. Надо пробить брешь в этом порядке вещей, изменить,
улучшить мир или по крайней мере вопреки ему создать себе на земле
небесный уголок, пуститься в поиски подходящей девушки, найти
и отвоевать ее наперекор злым родственникам или неблагоприятным
обстоятельствам.
Но эта борьба является в современном мире лишь годами
ученичества, воспитанием индивида, соприкасающегося с существующей
действительностью. Только в этом ее истинный смысл. Ибо учение
это кончается тем, что субъект обламывает себе рога, вплетается
со своими желаниями и мнениями в существующие отношения
и разумность этого мира, в его сцепление и приобретает в нем
существующее местечко. Сколько бы тот или иной человек ни ссорился
с миром, сколько бы его ни бросало из стороны в сторону, он в конце
концов все же получает свою девушку и какую-нибудь службу,
женится и делается таким же филистером, как все другие. Жена
будет заниматься домашним хозяйством, не преминут появиться
дети, женщина, предмет его благоговения, которая недавно была
190
единственной, ангелом, будет вести себя приблизительно так, как
и все прочие. Служба заставит работать и будет доставлять
огорчения, брак создаст домашний крест, и, таким образом, он ощутит
всю ту горечь похмелья, что и другие.
Гегель, Сочинения, т. XIII, М., 1940, стр. 153—
154. Перевод Б. Г. Столпнера. Новая редакция
перевода А. П. Огурцова по изд.: G. W. F. Hegel,
Ästhetik, BerL, 1955.
Но мы никогда не перестанем и не можем перестать
интересоваться индивидуальной цельностью и живой самостоятельностью, не
перестанем испытывать в ней потребность, сколько бы мы ни
признавали выгодными и разумными условия развитой организации
гражданской и политической жизни. В этом смысле мы можем
восхищаться поэтическим устремлением молодых Гёте и Шиллера, их
попыткой вновь обрести утраченную самостоятельность образов
поэзии в рамках условий нового времени, которые они имели перед собой.
Но как осуществляет Шиллер в своих первых произведениях
эту попытку? Лишь посредством возмущения против всего
гражданского общества. Карл Моор, несправедливо обиженный
существующим порядком и людьми, которые злоупотребляют его силой,
выходит из рамок законности. Найдя в себе смелость отбросить
стеснявшие его ограничения и создав для себя новое героическое состояние,
он становится восстановителем права и самостоятельным мстителем
за беззакония, несправедливости и притеснения. Однако какой
ничтожной и редкой должна оказаться эта частная месть при
неудовлетворительности находящихся в ее распоряжении необходимых
средств! С другой же стороны, такая месть может привести лишь
к преступлению, так как она сама заключает в себе ту
несправедливость, которую хочет уничтожить. Избранный Карлом Моором
путь является роковой ошибкой, и, хотя он трагичен, этот
разбойничий идеал может соблазнить только детей.
Точно так же персонажи «Коварства и любви», страдающие под
гнетом отвратительных условий, носятся со своими мелкими
частными интересами и страстями, мучаются ими, и лишь в «Фиеско»
и «Дон Карлосе» выступают более возвышенные главные персонажи,
так как они усваивают себе более субстанциальное содержание —
освобождение своего отечества или свободу религиозных
убеждений — и становятся борцами, жертвующими собой ради достижения
возвышенных целей.
Еще более значителен Валленштейн. Стоя во главе армии, он
берет на себя роль регулятора политических отношений. Он хорошо
знает силу этих отношений, от которых зависит даже его собственное
191
средство — армия,— и долгое время колеблется между желанием
π долгом. Но едва он решился, как увидел, что средства,
относительно которых он был уверен, трещат под его руками, что его
орудие сломано. Ибо военачальников и генералов связывает с ним
в конечном счете не благодарность за назначения и повышения и не
слава полководца, а лишь их долг по отношению к общепризнанной
власти и правительству, их присяга главе государства, австрийскому
императору. В результате он оказывается одиноким и не столько
терпит поражение от противостоящей ему внешней силы, сколько
лишается всех средств для осуществления своей цели.
Подобный этому, хотя и обратный исходный пункт берет Гёте
в «Геце». Время, когда жили Гец и Франц фон Зикинген,
представляет собой ту интересную эпоху, когда рыцарство и дворянская
самостоятельность входивших в его состав индивидов находили свою
гибель от рук вновь возникшего объективного порядка и законности.
То обстоятельство, что Гёте избрал темой своего первого
драматического произведения это столкновение и коллизию между
средневековой эпохой героев и законоупорядоченной современной жизнью,
свидетельствует о его большом уме. Ибо Гец и Зикинген являются
еще героями, которые самостоятельно хотят регулировать условия
своего более широкого или узкого круга, опираясь лишь на свою
личность, ее дерзновение и непомутненное чувство справедливости;
однако новый порядок вещей делает Геца неправым и приводит
его к гибели.
Лишь рыцарство и ленные отношения являются в средние века
подлинной почвой такой самостоятельности. После же того как за-
конопорядок в его прозаическом виде достиг более полного развития
и стал господствующим, индивидуальная самостоятельность
отдельных рыцарей, ищущих приключений, теряет всякое значение. Если
она все еще хочет считать себя единственно важной и в духе
рыцарства бороться против несправедливости, оказывать помощь
притесняемым, то она делается смешной. В этом состоит комизм
сервантесовского Дон-Кихота.
Гегель, Сочинения, т. ХНХ стр. 199—200.
Перевод Б. Г. Столпнера под редакцией Ю. Н. Попова.
[Идеал и романтическое искусство]
Радостное спокойствие и блаженство, самодовление в своей
замкнутости и удовлетворенность мы можем рассматривать в качестве
основной черты идеала. Идеальный художественный образ предстает
перед нами как некий блаженный бог. Блаженные боги не при-
192
нимают всерьез бедствий, гнева и заинтересованности конечными
сферами и целями, и эта положительная сосредоточенность внутри
себя и отрицание всего особенного сообщает им черту радостности
и тихого спокойствия. [...]
Эту силу индивидуальности, это торжество концентрированной
внутри себя конкретной свободы мы познаем в блаженно-радостном
покое образов античного искусства. И это происходит не только
тогда, когда они изображают достигаемое без борьбы удовлетворение,
но даже и в том случае, когда все существование субъекта являет
картину его глубокой разорванности внутри самого себя. Если,
например, трагические герои побеждаются судьбой, то все же душа
отступает в простое бытие-у-себя, говоря: да, это так! Субъект все
еще остается верным самому себе, он отказывается от того, чего
его лишают; ему не только не дают достигнуть преследуемых им
целей, но он и сам отказывается от них и благодаря этому не теряет
самого себя. Человек, потерпевший поражение от судьбы, может
потерять свою жизнь, но не свободу. Эта внутренняя независимость
и делает возможным для трагического героя сохранять и проявлять
безмятежную ясность даже в самом страдании.
В романтическом искусстве разорванность и диссонансы
внутренней жизни идут еще дальше; в нем изображаемые противоречия
углубляются и могут фиксироваться в их разладе. Так, например,
живопись в изображении страстей Христовых показывает насмешку
на лицах мучающих его солдат, отвратительное издевательское
выражение лица. При такой фиксации раздвоения, в особенности
в изображении порочности, греховности и зла, исчезает светлая
ясность, господствующая в идеале. И хотя разорванность в
романтическом искусстве не всегда остается столь неизменной, ее часто
заменяет если и не безобразное, то по крайней мере некрасивое.
Правда, в старой нидерландской живописи обнаруживается
внутреннее душевное примирение, проявляющееся в свойственной ее
произведениям непреклонной честности и верности самому себе, вере
и непоколебимой уверенности, но эта твердость все же не
поднимается до светлой ясности и удовлетворенности, господствующих
в идеале. Страдания и боль в романтическом искусстве глубже
задевают душу и субъективное внутреннее переживание, чем у древних,
но в нем может получить воплощение какая-то духовная нежность,
радостность покорности судьбе, блаженство в скорби и наслаждение
в страдании, какое-то, пожалуй, сладострастное чувство в
испытываемых муках. Даже в носящей серьезный характер итальянской
религиозной музыке выражение жалобы проникнуто подобным
наслаждением и преображением скорби. Романтическое искусство
выражает это улыбкой сквозь слезы. Слеза указывает на скорбь,
193
улыбка — на светлую ясность, и улыбка в плаче означает
внутреннее успокоение в испытываемых муках и страданиях. [...]
Исходя из этого, можно в известном отношении найти
оправдание и принципу современной иронии, оговорившись, однако, что
в этой иронии часто отсутствует всякое истинно серьезное
отношение, что она любит избирать своими героями преимущественно
дурных людей и кончает голой тоской души по идеалу, вместо того
чтобы действовать и осуществлять его. Так, например, одну из
благороднейших душ, стоявших на этой точке зрения, Новалиса,
она привела к отсутствию определенных интересов, к страху перед
действительностью, взвинтила его до того, что он дошел, так сказать,
до чахотки духа. Это томление, которое не хочет унизиться до
реальных действий и реального созидания, боясь замарать себя
соприкосновением с конечностью, хотя оно и носит внутри себя
чувство неудовлетворенности этой абстракцией.
Таким образом, в иронии содержится та абсолютная
отрицательность, в которой субъект в своем уничтожении определенностей
и односторонностей соотносится с самим собой. Как мы уже указали
на это выше при рассмотрении принципа иронии, уничтожение
поражает не только само по себе ничтожное, обнаруживающее свою
пустоту, как это происходит в комическом, но в равной мере и все по
своей природе дельное и превосходное. В качестве этого
всестороннего искусства уничтожения, как и вышеуказанного томления,
ирония обнаруживает в сравнении с истинным идеалом внутреннюю
антихудожественную беспочвенность и неустойчивость. Ибо идеал
нуждается в субстанциальном в себе содержании, которое,
воплощаясь в форме и образе внешнего, хотя и приобретает ограниченный
характер, но содержит внутри себя эту ограниченность таким
образом, что все только внешнее в нем отбрасывается и уничтожается.
Лишь благодаря этому отрицанию голой внешности определенная
форма и образ идеала выводят содержание в область его
воплощения, созерцания и представления.
Там же, стр. 161—164.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ФОРМА ИСКУССТВА
Разложение романтической формы искусства
[...] Романтическое искусство с самого начала находится во
власти противоречия. Оно заключается в том, что бесконечная внутри
себя субъективность несоединима сама по себе с внешним
материалом и должна оставаться несоединимой с ним. Самостоятельное
противопоставление этих двух сторон и уход внутренней жизни
194
в себя составляют содержание романтического. [...] Классическое
искусство пребывает в круге прочно установленных образов, в круге
завершенной искусством мифологии и ее нерушимых созданий.
Поэтому разложение классического искусства, кроме ограниченных
областей комического и сатирического, представляет собой, как мы
видели это при рассмотрении перехода к романтической форме
искусства, или движение к приятному, или подражание,
вырождающееся в мертвенную и холодную ученость и деградирующее в конце
концов до уровня небрежной и плохой техники. [...] Напротив,
поступательное движение и заключительный этап романтического
искусства — это внутреннее разложение самого материала искусства,
распадающегося на свои элементы. Его стороны становятся свободными;
субъективное мастерство и искусство изображения возрастают, и чем
больше они совершенствуются, тем все более исчезает
субстанциальное начало.
[...] С одной стороны, искусство переходит к изображению
обыденной действительности как таковой, к изображению предметов
в том виде, как они находятся перед нами, в их случайной
единичности и ее своеобразии; оно интересуется лишь превращением этого
внешнего бытия в видимость посредством техники искусства. С
другой же стороны, это искусство впадает в полнейшую субъективную
случайность понимания и изображения, в юмор, который является
искажением и смещением всякой предметности и реальности при
помощи остроумия и игры субъективного взгляда на мир; оно
кончает творческой властью художественной субъективности над
какими бы то ни было содержанием и формой.
[...] В пластике классического искусства субъективное
внутреннее содержание так относится к внешнему, что это внешнее есть
образ, свойственный внутреннему, и оно не получает
самостоятельного существования. Напротив, в романтическом искусстве, где
внутреннее переживание отступает в себя, содержание внешнего
мира обретает свободу, возможность самостоятельно развертывать
себя и сохранять его своеобразие и определенность. И, наоборот,
когда субъективное, внутреннее, душевное переживание становится
существенным моментом изображения, тогда столь же случайно,
в какое содержание внешней действительности и духовного мира
будет вживаться душа.
Романтическое внутреннее содержание в состоянии обнаруживать
себя при любых обстоятельствах. Оно выражается в огромном
множестве положений, состояний, отношений, блужданий, переплетений,
конфликтов и удовлетворений. Это возможно лишь потому, что
ищется и имеет ценность только субъективное формообразование
в самом внутреннем содержании, выражение и способ восприятия
195
души, а не объективное, в себе и для себя значимое содержание.
Поэтому в изображениях романтического искусства все находит себе
место: все жизненные сферы и явления, большое и малое, высокое
и ничтожное, нравственное, безнравственное и злое. Чем больше это
искусство становится мирским, тем в большей мере оно захватывает
конечные явления мира. Эти явления становятся излюбленными
предметами его изображения, оно делает их полностью значимыми,
и художник чувствует себя хорошо, изображая их такими, каковы
они есть.
Так, например, у Шекспира наряду с изображением самых
возвышенных областей и важнейших интересов мы встречаем
изображение самых незначительных и второстепенных явлений, потому
что у него действия персонажей уходят в конечные жизненные
связи, дробятся и рассеиваются, переходя в круг случайностей,
причем все имеет свое значение. В «Гамлете», например, мы видим
наряду с королевским двором часовых, в «Ромео и Джульетте» —
челядь, а в других пьесах — шутов, дураков и всевозможные
низменные вещи повседневной жизни: кабаки, извозчиков, ночные
горшки и блох, точно так же как в религиозном круге
романтического искусства в изображении рождения Христа и поклонения
волхвов должны быть волы и осел, ясли и солома. И так происходит
везде, дабы и в искусстве исполнилось изречение: первые да будут
последними.
В случайном характере избираемых искусством предметов,
которые отчасти являются только фоном более важного в самом себе
содержания, отчасти же изображаются и самостоятельно,
обнаруживается то разложение романтического искусства, которого мы уже
коснулись. С одной стороны, выступает реальная действительность
с ее точки зрения идеала прозаической объективности. Содержание
обычной повседневной жизни постигается не в его субстанции, в
которой оно содержит нравственное и божественное, а в его
изменчивости и конечном преходящем характере. С другой стороны,
субъективность со своими чувствами и взглядами, с правом и силой своего
остроумия возводит себя в хозяина всей действительности. Ничего
не оставляя от обычной связи и значения действительности для
обыденного сознания, она чувствует себя удовлетворенной лишь
постольку, поскольку все вовлеченное в эту область оказывается
в самом себе разложимым и разложившимся для созерцания и
чувства благодаря той форме и установке, которую придают всему
субъективное мнение, каприз, гениальность.
Гегель, Сочинения, т. XIII, стр. 137—138, 155,
156. Перевод Б. Г. Столпнера под редакцией
А. П. Огурцов а.
196
Конец романтической формы искусства
[...] Подобно тому как человек во всякой своей деятельности —
политической, религиозной, художественной, научной — является
сыном своего времени и имеет своей задачей выявить существенное
содержание и разработать необходимо обусловленную этим
содержанием форму, так и назначение искусства состоит в том, чтобы найти
художественно адекватное выражение духа народа. До тех пор, пока
художник в непосредственном единстве и твердой вере сливается
с определенным содержанием такого миросозерцания и религии, он
сохраняет истинно серьезное отношение к этому содержанию и его
воплощению. Это содержание адекватно тому, что есть бесконечного
и истинного в его собственном сознании. Он по самой своей
внутренней субъективности живет в изначальном единстве с этим
содержанием, тогда как форма, в которой он его выявляет,
представляется для художника окончательным, необходимым, высшим
способом сделать наглядным абсолютное и вообще душу предметов.
Имманентная субстанция материала связывает его с определенным
способом выражения. Материал и форму, соответствующую этому
материалу, художник носит непосредственно внутри себя, они
являются сущностью его существования, которую он не выдумывает,
а которая есть он же сам. Ему надо только объективировать это
истинно существенное, представить его и воплотить во всей его
жизненности, извлекая его из себя. Лишь в этом случае художник
всецело воодушевлен своим содержанием и изображением. Вымыслы
его оказываются не продуктом произвола, а возникают в нем, исходят
из него, из этой субстанциальной почвы, из того фонда, содержание
которого полно беспокойства, пока не достигнет с помощью
художника индивидуального облика, соответствующего своему понятию.
Если в наше время кто-либо пожелает сделать предметом
скульптурного произведения или картины греческого бога, подобно тому
как современные протестанты избирают для этой цели Марию, то
он не сможет отнестись к такому материалу с подлинной
серьезностью. Нам недостает глубочайшей веры, хотя в те времена, когда
полностью господствовала вера, художник вовсе не обязательно
должен был быть тем, что принято называть благочестивым
человеком, да и вообще художники не всегда были очень-то
благочестивыми людьми. К ним предъявляется лишь то требование, чтобы
содержание составляло для художника субстанциальное начало,
сокровеннейшую истину его сознания и создало для него необходимость
данного способа воплощения. Ибо художник в своем творчестве
принадлежит природе, его мастерство — природный талант, его
деяния — не чистая деятельность постижения в понятиях, которая
197
всецело противостоит своему материалу и объединяется с ним в
свободной мысли, в чистом мышлении. Творчество художника, еще не
отрешившись от природной стороны, непосредственно соединено
с предметом, верит в него и тождественно с ним в своем
сокровеннейшем самобытии. В этом случае субъективность целиком
находится в объекте. Художественное произведение всецело проистекает
из нераздельной внутренней жизни и силы гения, созидание прочно,
устойчиво и сосредоточивает в себе полную интенсивность. Это —
основное условие существования искусства в его целостности.
При той ситуации, в которой необходимо оказалось искусство
в ходе его развития, все отношение совершенно изменилось. Этот
результат мы не должны рассматривать как чисто случайное
несчастье, постигшее искусство лишь вследствие трудного времени,
прозаичности, недостатка интереса и т. д. Он является действием
и поступательным движением самого искусства, которое, приводя
свой материал к предметной наглядности, благодаря этому развитию
способствует освобождению самого себя от воплощенного
содержания. Когда мы имеем перед своим чувственным или духовным
взором предмет, выявленный благодаря искусству или мышлению
столь совершенно, что содержание его исчерпано, все обнаружилось
и не остается больше ничего темного и внутреннего,— тогда мы
теряем к нему всякий интерес. Ибо интерес сохраняется только при
бодрой деятельности. Дух трудится над предметами лишь до тех
пор, пока в них еще есть некая тайна, нечто не
раскрывшееся. Здесь речь идет о том случае, когда материал еще
тождествен с нами.
Но если искусство всесторонне раскрыло нам существенные
воззрения на мир, заключающиеся в его понятии, и содержание,
входящее в эти воззрения, то оно освободилось от данного
определенного содержания, предназначенного всякий раз для особого
народа, особого времени. Истинная потребность в нем пробуждается
только с потребностью обратиться против того содержания, которое
до сих пор исключительно обладало значимостью. Так, Аристофан
восстал против своего времени, Лукиан — против всего греческого
прошлого, а в Италии и Испании на исходе средних веков Ариосто
и Сервантес начали выступать против рыцарства.
В противоположность той эпохе, когда художник благодаря
своей национальности и своему времени находится субстанциально
в рамках определенного мировоззрения, его содержания и формы
воплощения, в новейшее время достигла полного развития
совершенно другая точка зрения. Почти у всех современных народов
отточенность рефлексии и критика затронула также и художников,
а у нас, немцев, к этому прибавилась и свобода мысли. Это сделало
198
художников, так сказать, tabula rasa1 в отношении материала
и формы их творчества, после того как были пройдены необходимые
особенные стадии романтической формы искусства. Связанность
особенным содержанием и способом воплощения, подходящим только
для этого материала, отошли для современного художника в
прошлое; искусство благодаря этому сделалось свободным инструментом,
которым он в меру своего субъективного мастерства может
затрагивать любое содержание. Тем самым художник возвышается над
определенными освященными формами и образованиями; он
движется свободно, самостоятельно, независимо от содержания и
характера созерцания, в которое прежде облекалось для сознания
святое и вечное. Никакое содержание, никакая форма уже больше
непосредственно не тождественны с задушевностью, с природой,
с бессознательной субстанциальной сущностью художника. Для него
безразличен любой материал, если только он не противоречит
формальному закону, требующему, чтобы материал этот был вообще
прекрасным и был способен сделаться предметом художественной
обработки.
В наши дни нет материала, который сам по себе возвышался бы
над этой относительностью. Если он над ней и возвышается, то
отсутствует безусловная потребность в изображении его искусством.
Художник относится к своему содержанию словно драматург,
который создает и раскрывает другие, чуждые лица. Он и теперь еще
вкладывает в него свой гений, вплетает в него часть собственного
материала, но этот материал является лишь общим или совершенно
случайным. Более строгая индивидуализация не принадлежит ему
самому, художник пользуется здесь своим запасом образов, способов
формирования, образами прежних форм искусства. Сами по себе
взятые, они ему безразличны и приобретают важность лишь постольку,
поскольку они представляются ему наиболее подходящими для того
или иного материала.
В большинстве искусств, особенно изобразительных, предмет дан
художнику извне. Он работает по заказу и должен лишь придумать,
что может быть сделано из библейских или светских рассказов, сцен,
портретов, церковных зданий и т. д. Ибо сколько бы он ни
вкладывал свою душу в данное ему содержание, оно все же всегда остается
материалом, который для него самого не является непосредственно
субстанциальным элементом его сознания. Бесполезно вновь
усваивать субстанцию прошлых мировоззрений, то есть вживаться в одно из
них, стать, например, католиком, как это в новейшее время многие
делали ради искусства, желая укрепить свое душевное настроение
1 —чистая доска (латин.).
199
и превратить определенную ограниченность своего изображения
в нечто в себе и для себя сущее. Художник не должен приводить
в порядок свое душевное настроение и заботиться о спасении
собственной души. Его великая свободная душа еще до того, как он
приступает к творчеству, должна знать и ощущать, в чем ее опора,
быть уверенной в себе и не бояться за себя. Особенно современные
большие художники нуждаются в свободном развитии духа,
приводящем к тому, что всякое суеверие и вера, ограниченные
определенными формами созерцания и воплощения, низводятся на степень
моментов, над которыми властвует свободный дух. Он не видит в них
освященных, незыблемых условий своего выражения и способа
формирования, ценя их только благодаря тому высшему
содержанию, которое он вкладывает в них как соразмерное им.
Итак, в распоряжении художника, талант и гений которого
освободились от прежнего ограничения одной определенной формой
искусства, находятся отныне любая форма и любой материал.
Но если мы поставим вопрос: каковы те содержание и форма,
которые могут рассматриваться как характерные для этой ступени,
то окажется следующее.
Всеобщие формы искусства были связаны преимущественно
с абсолютпой истиной, которой достигает искусство. Источник своего
обособления они обретали в определенном понимании того, что
сознание считало абсолютным и что в самом себе носило принцип
своего формирования. Поэтому в символическом искусстве
природный смысл выступает в качестве содержания, а природные предметы
и человеческие олицетворения — в качестве формы изображения.
В классическом искусстве мы имели духовную индивидуальность, но
как нечто телесное, не ушедшее в себя наличное, над которым
возвышалась абстрактная необходимость судьбы. В романтическом
искусстве это духовность имманентной самой себе субъективности, для
внутреннего содержания которой внешний облик оставался
случайным. В этой последней форме искусства, так же как и в
предшествующих, предметом искусства было божественное в себе и для
себя. Но это божественное должно было объективироваться,
определиться и тем самым перейти к мирскому содержанию
субъективности. Сначала бесконечное начало личности заключалось в чести,
любви, верности, затем в особенной индивидуальности, в
определенном характере, сливающемся с особенным содержанием человеческого
существования. Наконец, срастание с такой специфической
ограниченностью содержания было устранено юмором, который сумел
расшатать и разложить всякую определенность и тем самым вывел
искусство за его собственные пределы.
200
В этом выходе искусства за свои границы оно представляет
собой также возвращение человека внутрь себя самого, нисхождение
в свое собственное чувство, благодаря чему искусство отбрасывает
всякое прочное ограничение определенным кругом содержания
и толкования и его новым святым становится humanus 1 — глубины
и высоты человеческой души как таковой, общечеловеческое в его
радостях и страданиях, в его стремлениях, деяниях и судьбах. Тем
самым художник получает свое содержание в самом себе. Он
действительно является человеческим духом, определяющим,
рассматривающим, придумывающим и выражающим бесконечность своих
чувств и ситуаций. Ему уже больше ничего не чуждо из того, что
может получить жизнь в сердце человека. Это — предметное
содержание, которое само по себе не определено художественно, а
предоставляет произвольному вымыслу определять содержание и
форму. Здесь не исключен никакой интерес, так как искусство больше
уже не должно изображать лишь то, что на одной из его
определенных ступеней является вполне родным ему, а может
изображать все, в чем человек способен чувствовать себя, как на родной
почве.
Имея в виду эту обширность и многообразие материала,
необходимо прежде всего выдвинуть требование, чтобы в способе трактовки
материала повсюду проявлялась современная жизнь духа.
Современный художник может, разумеется, примкнуть к древним
художникам; быть гомеридом, хотя бы и последним, прекрасно; творения,
которые отражают поворот романтического искусства к средним
векам, также имеют свои заслуги. Однако одно дело — эта
общезначимость, глубина и своеобразие материала, а другое — способ его
трактовки. Ни Гомер, Софокл и т. д., ни Данте, Ариосто или
Шекспир не могут снова появиться в наше время. То, что так значительно
было воспето, что так свободно было высказано — высказано до конца;
все это — материалы, способы их созерцания и постижения, которые
пропеты до конца. Лишь настоящее свежо, все остальное блекло
и бледно. [...] Все материалы, из жизни какого бы народа и какой бы
эпохи их ни черпали, обретают свою художественную правду только
как носители живой современности, того, что наполняет сердце
человека и заставляет нас чувствовать и представлять себе истину.
Проявление и деяние непреходяще человеческого в самом
многостороннем его значении и бесконечных преобразованиях — вот что
может составлять теперь абсолютное содержание нашего искусства
среди человеческих ситуаций и чувств.
Там же, стр. 163—168.
1 —человек (латин.).
201
ФЕЙЕРБАХ
1804-1872
Людвиг Андреас Фейербах — выдающийся немецкий философ-материалист,
один из непосредственных предшественников марксизма. Первоначально
находился под влиянием философии Гегеля, лекции которого слушал в Берлинском
университете. Однако уже в конце 40-х годов Фейербах переходит на позиции
материализма, обоснованию которого посвящены его крупнейшие философские
сочинения — «К критике философии Гегеля» (1839), «Сущность христианства»
(1841) и др.
Фейербах не дал законченной или целостной системы эстетики. Его
высказывания по вопросам искусства отрывочны и фрагментарны, они разбросаны
в самых различных его философских сочинениях. И тем не менее
высказывания эти не являются случайными, они тесно связаны с философской системой
и методом Фейербаха.
Выступая против объективного идеализма Гегеля, для которого наука,
религия, философия и искусство выступают как деятельность абсолютного духа,
Фейербах пытался представить все формы человеческого сознания как
раскрытие определенных способностей человека. Искусство, например, представляет
собой проявление такой присущей человеку способности, как фантазия.
Фейербах считал, что фантазия, или воображение, является важнейшим элементом
искусства, без которого невозможно само его существование. Правда, фантазия
создает не только искусство. Религия, по Фейербаху, также представляет собой
результат деятельности фантазии, создающей обманчивый, нереальный мир
религиозных образов. И поскольку в основе религии лежит поэтическая
фантазия, постольку каждая религия является, по мнению Фейербаха, не чем иным,
как поэтическим отражением мира.
Вместе с тем между религией и поэзией существует весьма существенное
различие. Религия предполагает безусловную веру в реальность своих образов,
тогда как искусство, по словам Фейербаха, не требует признания своих образов
за действительность, оно «не выдает свои создания за нечто другое, чем они
есть на самом деле, то есть другое, чем создания искусства» 1. Далее, если
религия изображает только нереальное, потустороннее, то искусство, напротив,
имеет дело только с действительным, реальным. Поэтому религия и искусство
не только отличны, но в известной мере противоположны и даже враждебны
ДРУГ другу.
Специфическим предметом искусства, согласно Фейербаху, является вся
область чувственного. Фейербах, как никто до него, раскрыл огромное значе-
1 Л. Фейербах, Избранные философские произведения, т. 2, М., 1955,
стр. 693. Это положение Фейербаха особо подчеркнул В. И. Ленин,
конспектируя его «Лекции о сущности религии» (см.: В. И. Ленин, Сочинения, т. 38,
стр. 62).
202
ыие чувственных способностей человека, указал на специфику истинно
человеческих чувств. Человек отличается от животного не только разумом,
способностью мыслить, но и характером своих чувств. В отличие от животного,
чувства человека универсальны, безграничны. Будучи свободны от эгоистического,
узкокорыстного интереса, они способны «одухотворяться», подниматься до
высоты эстетического чувства, наполняться теоретическим смыслом. «Где чувство
возвышается над пределами чего-либо специального и над своей связанностью
с потребностью, там оно возвышается до самостоятельного, теоретического
смысла и достоинства: универсальное чувство есть рассудок, универсальная
чувственность — одухотворенность» 1. Поэтому чувственность должна стать
основой всей науки и искусства. Эти положения Фейербаха близки
аналогичным высказываниям молодого Маркса в его «Экономическо-философских
рукописях 1844 года».
Вместе с тем точка зрения Фейербаха существенным образом отличается
от эстетических воззрений классиков марксизма. Главный недостаток фейерба-
ховского материализма, как указывал Маркс, состоит в том, что «предмет,
действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме
созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не
субъективно» 2. Вследствие этого Фейербах не был в состоянии понять
творческую, революционную роль искусства. Он указал только на связь искусства
с человеческими чувствами, но в силу созерцательного характера своего
материализма не смог осознать, что сами эти чувства порождаются и формируются
искусством.
Материалистическая по своему содержанию, демократическая по своей
направленности эстетика Фейербаха оказала значительное влияние на
современников, и прежде всего на формирование эстетических воззрений молодых
Маркса и Энгельса. Ее воздействие обнаруживается также в эстетике Р.
Вагнера в Германии, в эстетических взглядах Белинского, Чернышевского,
Добролюбова в России.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕЗИСЫ К РЕФОРМЕ ФИЛОСОФИИ
По Гегелю, абсолютный дух раскрывается или реализуется
в искусстве, в религии, в философии. По-немецки это вот что
значит: дух искусства, религии и философии есть абсолютный дух. Но
искусство и религию нельзя отделить от человеческих ощущений,
фантазии и созерцания, философию же нельзя отмежевать от
мышления — словом, абсолютный дух нельзя отмежевать от субъективного
духа или сущности человека, иначе мы опять вернемся к старой
1 Л. Фейербах, Избранные философские произведения, т. 1, М., 1955,
стр. 201.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 3, стр. 1.
203
теологической точке зрения, иначе мы будем вводить себя в
заблуждение абсолютным духом, как особым, отличенным от человеческого
существа духом, другими словами, вне нас существующим призраком.
Искусство есть очевидное доказательство, что «абсолютный дух»
есть так называемый конечный, субъективный дух, таким образом,
одно нельзя и не следует отмежевывать от другого. Искусство
вытекает из того чувства, что потусторонняя жизнь есть подлинная
жизнь, что конечное и есть бесконечное, искусство коренится в
одухотворении определенной, действительной сущности как
высочайшей, божественной сущности. В христианском единобожии нельзя
вскрыть принципа художественного и научного образования.
Только политеизм, так называемое идолопоклонство, составляет
источник искусства и науки. Греки возвысились до совершенного
пластического искусства лишь благодаря тому, что для них
человеческий образ был безусловным и несомненным божественным
образом, высочайшей формой. Христианам стала доступна поэзия, лишь
когда они стали практически отрицать христианскую теологию, когда
они женское существо стали почитать как существо божественное.
Христиане были художниками и поэтами, находясь в конфликте
с сущностью своей религии, как они ее себе представляли, как она
была объектом их сознания. Петрарка, как религиозный человек,
каялся по поводу стихотворений, в которых он обоготворил свою
Лауру. Почему у христиан нет, как у язычников, произведений
искусства, соответствующих их религиозным представлениям,
почему у них нет образа Христа, который бы вполне их удовлетворял?
Потому, что религиозное искусство христиан разбивается о роковое
противоречие между их сознанием и истиной. В действительности
сущность христианской религии — человечна, в сознании же
христиан это нечто другое, не человеческое. Христос должен быть
одновременно человеком и, с другой стороны, не человеком; это нечто
двусмысленное. Искусство же может изображать только истинное,
недвусмысленное.
Людвиг Фейербах, Избранные
философские произведения, т, I, стр. 117—119.
Перевод П. С. Попова.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИЛОСОФИИ БУДУЩЕГО
§ 39
Прежняя абсолютная философия изгнала чувство прямо в
область явлений, конечного, и все же, вразрез с этим, она абсолют,
божественное определила как объект искусства. Но объект искусства
204
есть видимый, слышимый, осязаемый предмет, для словесного
искусства — в опосредствованной форме, для изобразительного
искусства — непосредственно. Таким образом, не только конечная
сущность, не только сущность проявляющаяся, но также подлинная,
божественная сущность есть чувственный предмет, а чувственность —
орган абсолюта. Искусство «изображает истинное в чувственном» —
если это верно понять и выразить, то это значит: искусство
изображает истинность чувственного.
§ 53
Человек отличается от животного вовсе не только одним
мышлением. Скорее все его существо отлично от животного. Разумеется,
тот, кто не мыслит, не есть человек, однако не потому, что причина
лежит в мышлении, но потому, что мышление есть неизбежный
результат и свойство человеческого существа.
Поэтому и здесь нам нет нужды выходить за сферу
чувственности, чтобы усмотреть в человеке существо, над животным
возвышающееся. Человек не есть отдельное существо, подобно животному,
но существо универсальное, оно не является ограниченным и
несвободным, но неограниченно и свободно, потому что
универсальность, неограниченность и свобода неразрывно между собой
связаны. И эта свобода не сосредоточена в какой-нибудь особой
способности — воле, так же как и эта универсальность не покрывается
особой способностью силы мысли, разума,— эта свобода, эта
универсальность захватывает все его существо. Чувства животных более
тонки, чем человеческие чувства, но это верно только относительно
определенных вещей, необходимо связанных с потребностями
животных, и они тоньше именно вследствие этой определенности,
вследствие узости того, в чем животное заинтересовано. У
человека нет обоняния охотничьей собаки, нет обоняния ворона; но
именно потому, что его обоняние распространяется на все виды
запахов, оно свободнее, оно безразличнее к специальным запахам.
Где чувство возвышается над пределами чего-либо специального
и над своей связанностью с потребностью, там оно возвышается до
самостоятельного, теоретического смысла и достоинства:
универсальное чувство есть рассудок, универсальная чувственность —
одухотворенность. Даже низшие чувства — обоняние и вкус —
возвышаются в человеке до духовных, до научных актов. Обонятельные и
вкусовые качества вещей являются предметом естествознания.
Даже желудок у людей, как бы презрительно мы на него ни
смотрели, не есть животная, а человеческая сущность, поскольку он есть
нечто универсальное, не ограниченное определенными видами
средств питания. Поэтому человек свободен от неистовства прожор-
205
ливости, с которой животное набрасывается на свою добычу. Если
оставить человеку его голову, придав ему в то же время желудок
льва или лошади, он, конечно, перестанет быть человеком.
Ограниченный желудок уживается только с ограниченным, то есть
животным, чувством. Моральное и разумное отношение человека к
желудку заключается только в том, чтобы обращаться с ним не как со
скотским, а как с человеческим органом. Кто исключает желудок
из обихода человечества, переносит его в класс животных, тот упол-
номачивает человека на скотство в еде.
§ 55
Искусство, религия, философия или наука составляют
проявление или раскрытие подлинной человеческой сущности. Человек,
совершенный, настоящий человек только тот, кто обладает
эстетическим или художественным, религиозным или моральным, а также
философским или научным смыслом. Вообще только тот человек,
кто не лишен никаких существенных человеческих свойств. «Я —
человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Это высказывание,
если его взять в его всеобщем и высшем смысле, является лозунгом
современного философа.
Там же, стр. 188, 200—202. Перевод
П. С. Попова.
ПРОТИВ ДУАЛИЗМА ТЕЛА И ДУШИ, ПЛОТИ И ДУХА
«Какая разница между чувством доброго или прекрасного и
сладким или кислым вкусом!» Большая разница, конечно, но должен ли
я из-за того одно чувство приписывать чувственному, а другое
нечувственному существу? Разве совмещается эстетический вкус со
вкусом к желудям и сырому мясу? Разве и желудок у
образованного человека не иной, чем у дикаря? Разве там, где процветают
пластические искусства, не процветает и поваренное искусство?
Разве вино дифирамбов льется там, где пьют одну воду? ! Разве
красота ощущается, почитается и изображается как божество там,
где не благоговеют и перед красотой Фрины? Разве зарождается и
осуществляется идея олимпийского Зевса там, где человек не имеет,
как Перикл, вида олимпийца? Не принадлежит ли к греческому
духу и греческое тело? к восточному зною и восточная кровь? к
женскому чувству и женское тело? Разве женщина, чувствующая неж-
1 Как известно, греческий поэт Кратин прямо утверждал, что пьющий одну
воду не может быть хорошим поэтом.— Прим. Фейербаха.
206
нее и тоньше мужчины, не обладает и более нежной, более
чувствительной кожей, более тонкими костями^ более чувствительными
нервами? Не совсем ли иные чувства, желания и мысли у девы, чем
у ребенка, у которого половое различие еще не стало плотью и
кровью? Можешь ли ты отделить девственную душу, то есть
качество, вид л образ девственного чувствования, желания и мышления,
от качества девственного тела?
Там же, стр. 229.
ВОПРОС О БЕССМЕРТИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
АНТРОПОЛОГИИ
Человек впервые познает и ценит силу фантазии после того, как
какой-либо любимый им предмет исчез с его поля зрения. Даже
самые малоразвитые народы подымаются до высот поэзии через
скорбь, порождаемую разлукой с тем, кого они любят, будь то
разлука временная или вечная, пространственная или причиненная
смертью. Фантазия (воображение, память — различие между ними
здесь не играет роли) есть потусторонний мир созерцания:
человек, к своему величайшему удивлению и восхищению, вновь находит
в ней (в фантазии) то, что он потерял в данном мире, то есть в мире
чувственном, действительном. Фантазия заменяет и заполняет
пробелы и недостатки созерцания. Созерцание воспринимает сущность,
истину, действительность, но именно поэтому оно ограничено
временем и местом. Созерцание основательно, материально, верно
своему предмету, скупо на слова, враждебно всяким общим местам.
Труды созерцания содержательны, доброкачественны. Поэтому они
удаются только в особых условиях. Но именно потому созерцание
не может удовлетворить неподобающие требования, предъявляемые
к нему человеком. Фантазия же, наоборот, количественно не
ограниченна, она может сделать все без различия в любое время и в
любом месте. Фантазия по требованию пишет фолианты о предметах,
о которых она не имеет ни малейшего представления, о которых она
не знает ровно ничего. Короче говоря, она всемогуща, всеведуща,
вездесуща. Поэтому фантазия удовлетворяет все желания человека,
но зато вместо чистой монеты созерцания она платит ассигновками
на тот свет, лишь видимостями, лишь тенями, лишь образами —
образами, имеющими для человека, однако, больше ценности и
реального смысла, чем действительность, уже не содержащая в себе
любимых предметов. Фантазия или воображение первоначально были не
чем иным, как духовным зрением. С памятью об утраченном, с
восстановлением его в фантазии, с этим духовным свиданием поэтому
207
непосредственно связаны воля к подлинной встрече с утраченным
и надежда на эту встречу. Созерцание отсутствующих предметов как
подлинно наличных, воспоминание — все это само по себе не что
иное, как стремление, вопреки чувствам, видеть то, чего не видно.
Поэтому вполне естественно, что у народов воображаемое существо
равносильно подлинному существу, а мир фантазии приравнивается
к существующему миру.
Там же, стр. 290—291. Перевод И. С. Нарского.
Или же портняжное ремесло зиждется лишь на нужде в
бренной жизни? Разве этим ремеслом занимаются лишь хлеба ради?
Определенно нет. Сколько людей занято им по охоте, сколько людей
считает это свое ремесло искусством? И действительно, разве
портной не должен обладать эстетическим чувством, вкусом? Разве
платья не должны также рассматриваться перед форумом
искусства? Разве безвкусная одежда не может целиком уничтожить
эффект произведения искусства? Где вообще находится граница между
искусством и ремеслом? Разве не проявляется истинное искусство
там, где ремесленник — гончар, стеклодув, каменщик — выступает
художником своего дела? И разве искусство не связано с обычными
потребностями жизни? Чем же иным занято искусство, как не
облагораживанием обычного, необходимого? Когда не нужны дома,
красивых домов также больше не строят; когда уже не пьют вина и не
ценят его, тогда и не воздают уже честь ему красивыми бокалами; когда
уже не оплакивают мертвых, для их возвеличивания больше не
устанавливают памятников, мавзолеев; когда не течет больше кровь, не
поют уже «Илиаду». Когда твои избавленные, оглушенные
аллилуйями христианского неба уши уже не оскорбляются звуками топора
дровосека и пилы столяра, они уже не приходят в восхищение от
звуков лиры и флейты. Что у тебя останется от искусства, если ты
из-под него вырвешь золотую почву ремесла? В чем вообще чувство
прекрасного находит материал, точку опоры для себя? В чем вообще
оно должно выражаться и к чему прилагается, ежели исчезают
предметы искусства? Если поэтому художник претендует на небесный,
потусторонний мир, то на то же претендует ремесленник, то на
то же претендует вообще человек от головы до ног; ибо наивысший
предмет искусства есть человек, да притом человек весь, человек
от темени до пяток. Греки имели и почитали Венеру Калипигосскую.
Это было необходимым следствием выработанного, совершенного
чувства прекрасного. А если так, почему и Венера не может
претендовать на небо? Как странно! Древние христиане своим
религиозным рвением разрушали прекраснейшие произведения искусства
древности, вообще отказывались от искусства, по крайней мере
208
искусства самостоятельного, не деградированного до уровня орудия
религии; ибо перед их глазами стоял опыт того, что искусство
жизнерадостно, чувственно, безбожно; они знали, что тот, кто охотно
смотриг на красивых женщин на картинах, так же охотно смотрит
на красивых женщин в жизни. А современные
христиане-рационалисты строят на плотском великолепии, на Венере Калипигосской
духовную надежду на небесный, потусторонний мир!
И как суетно и нелепо удовлетворение искусством превращать
в основание необходимости существования потустороннего мира,
как нелепо, что на земле бесчисленные люди не располагают
возможностью развить и удовлетворить чувство прекрасного, ибо эти
бесчисленные люди не могут здесь утолить свой голод, во всяком
случае, так утолить, как это достойно человека! Разве не более
необходимо утолить свой голод, а не удовлетворять в первую очередь
чувство прекрасного? Разве можно мыслить о чувствах эстетических
и моральных, когда тело голодает или же питается пищей,
непригодной для человеческого желудка? Разве человеческое питание —
не первое условие человеческих взглядов, просвещенности?
Следовательно, разве мы не должны требовать такого потустороннего
мира, в котором голодные могли бы насытиться, где те, которые
в данном мире живут лишь помоями, извергаемыми эстетическими
и физическими лакомками, испытали бы, наконец, хоть один раз
высшее наслаждение — отведав жаркого? Рационалист и в
потустороннем мире — сторонник умеренного и рассудительного прогресса,
то есть такого прогресса, который никогда не достигает своей цели;
рационалист отвергает какой бы то ни было насильственный
перерыв, долженствующий произойти в человеке после его смерти;
рационалист лишь полегонечку и исподволь подымает человека со
ступеньки на ступень. Значит, что может быть естественнее,
дешевле, необходимее, чем допустить бесчисленных бедняков и
голодающей нашей земли лишь в потустороннем мире к наслаждению
человеческой пищей, в то время как тем, кто за застольными радостями
уже потерял всякий аппетит к небесным блюдам, предоставить в
потустороннем мире удовлетворять свое чувство прекрасного в
концертах, операх, балетах и картинных галереях!
Там же, стр. 344—346.
Человек, как правило, имеет способность, по крайней мере
продуктивную, активную способность, лишь для одного искусства и в
лучшем случае для родственных этому искусству искусств. Если
один человек даже охватывает несколько или даже все виды
искусства, если он, как Микеланджело, есть поэт, художник, ваятель,
архитектор, то он тем не менее занят главным образом одним видом
История эстетики, т. III 209
или одним родом искусства. Человек совершенно счастлив и удов-
летворен, если он выполняет в одном виде совершенное, если он
удовлетворяет свое чувство прекрасного только в одном виде
искусства. Если он че может все остальные свои чувства прекрасного
удовлетворить собственными произведениями, то он может сделать
это при помощи произведений других людей. Для чего нужно, чтобы
я сам музицировал, если другие создают для меня возможность
наслаждения музыкой? Поэтому ведь люди и живут общественной
жизнью, чтобы и в этом духовном отношении дополнять друг друга;
то, чего не может сделать один человек, делает для него другой.
Мы от себя не требуем знаний во многих областях только потому,
что знаем, что таковыми знаниями обладают другие. Но неправда
даже то, что вследствие удовлетворения одного стремления,
вследствие формирования одной способности в этом печальном мире
другая оттесняется на задний план и что поэтому необходим будущий
лучший мир для того, чтобы прийти к свободе и совершенству.
Художник, обладающий поэтическим чувством, удовлетворит и
применит его в живописи, ремесленник, обладающий эстетическим
чувством, выразит его в пределах своего ремесла. Всякая деятельность,
не совершенно отделенная, не механическая, занимает всего
человека, требует все его силы и именно поэтому дает человеку
всестороннее удовлетворение. Всякое искусство есть поэзия, но точно так
же можно было бы в известном смысле сказать, что всякое искусство
есть музыка, скульптура, живопись. И поэт есть живописец, если не
посредством руки, то посредством головы; и музыкант есть
скульптор, только что он свои фигуры погружает в жидкий элемент
воздуха, поэтому и впечатления об этих фигурах телесно отражаются
в слушателе его соответствующими движениями; и живописец есть
музыкант, ибо он изображает те впечатления, которые зримые
предметы производят не только на его глаз, но и на его ухо. Мы не
только видим его ландшафты, но мы слышим также играющего
пастуха, текущий ручей, дрожащие листья. Развивая свой талант
в том или ином искусстве, человек, очевидно, утрачивает свою
техническую способность относительно другого искусства, утрачивает
механическую сторону, которая есть лишь дело упражнения, а не
дело способности; он утрачивает лишь внешний орган, а не нервы,
или он утрачивает лишь периферические, а не центральнонервные
окончания какого-либо своего иного таланта. Здесь обстоит дело
точно так же, как с чувствами, из частичного отсутствия которых
психологическое суеверие делает вывод о чистом небытии чувства,
следовательно, делает вывод о независимости человека от чувств,
о существовании бесчувственной души, не приняв во внимание, что
человек стремится в наибольшей степени восполнить недостаток от-
210
сутствующего чувства или отсутствующих чувств при помощи своих
других чувств. Человек именно доказывает неотделимость или
необходимость недостающего чувства тем, что, не имея даже
соответственного органа, то есть не обладая технической способностью,
например зрением, все же обладает по крайней мере, если так
можно выразиться, способностью, талантом к нему; доказывает
человек это тем, что даже при отсутствии в нем внешних условий для
зрения у него все же имеются зачатки зрительных нервов, что
равнозначно тому, что чувство, даже не имея, так сказать, зримого,
периферического, обычного существования, имеет тем не менее в
мозге центральное, изотерическое, свернутое существование. Именно
поэтому человек обладает стремлением к зрению и вследствие этого
старается как можно полнее удовлетворить это стремление при
помощи остальных чувств К Точно так же обстоит дело и в области
искусства, лишь с той большой разницей, что недостаток какого-либо
чувства есть всегда недостаток подлинный, достойное сожаления
несчастье, в то время как человек в развитии и удовлетворении своего
таланта в сфере одного искусства находит полное удовлетворение и,
следовательно, не испытывает недостатка в удовлетворении своих
талантов в других искусствах, ибо в той мере, в какой он обладает
ими и желает их удовлетворения, он уже в сфере этого одного
искусства, которому он подчиняет остальные, или наряду с ними,
такое удовлетворение находит. Характерно, что всегда, по крайней
мере в таких людях, которые в чем-либо отличились, господствует
одна склонность, одно стремление; остальные же стремления
подчиняются или приспосабливаются как подчиненные таланты гению
этого одного стремления. Так каждое стремление (конечно, только
при нормальных условиях жизни, ибо только о таких здесь может
идти речь) находит свое удовлетворение, но лишь в той мере, в
какой такое стремление заслуживает и жаждет удовлетворения. Ми-
келанджело писал стихи; значит, наряду со своими другими
эстетическими чувствами он удовлетворял также свою потребность в
поэзии; но рассматривал и занимался своей поэзией он лишь между
прочим и потому именно, что стремление к настоящей поэзии было
у него лишь второстепенным, а не главным стремлением, так же
как, по его собственным словам, его женой была живопись, его
детьми — его произведения в живописи и скульптуре, точно так же
его поэзия была заложена не в пере, а в кисти и резце. Любое
подлинное стремление, а не просто воображаемое — ведь так много
1 У людей, родившихся слепыми и глухими, обычно внешние инструменты
зрения и слуха ненормальны. Пусть причина патологии касается даже нервов,
тем не менее порок не затрагивает соответствующих нервных зачатков.—
Прим. Фейербаха.
8*
211
воображаемых стремлений имеют люди! — так или иначе
завоевывает себе место в данной жизни; но одно стремление — стремление
стать травинкой, другое же стремление — стремление стать
пальмой; одно стремление в избытке довольствуется местом для себя
в узком пространстве обычного свободного часа, другое стремление
довольствуется только местом в просторном ателье всего рабочего
времени. Каждое стремление удовлетворяется, оно есть мера силы
и глубины данного стремления и одновременно мера его
удовлетворения. Поэтому если бы христианский рационалист попытался
какому-нибудь Микеланджело, опираясь на его не пришедшие к
полному развитию поэтические способности, расписывать надежды на
то, что Микеланджело разовьет свой поэтический талант в
потустороннем мире, то Микеланджело наверняка бросил бы книгу своих
стихов в голову этому христианину как некую безделицу, дав ему
понять тем самым, что христианину следует избавить Микеланджело
от бессмертия, ежели христианин не в состоянии, основываясь на
произведениях искусства Микеланджело, обещать ему бессмертие.
Я требую, сказал бы Микеланджело христианину-рационалисту,
бессмертия на основании того, что в поте лица своего, назло своим
завистникам и врагам, я совершил, а не на основании того, что я,
возможно, мог бы сделать. В поэзии уже Данте достиг наивысшего,
забрав у меня поэтическое бессмертие, но в живописи еще не было
Данте, там Данте — я. Но что я есть, тем я хочу и остаться; это
исчерпывает мое существо, только это единственная гарантия моего
бессмертия. Запомни это и относительно твоего потустороннего
мира, христианин-фантазер!
Там же, стр. 348—351.
ЛЕКЦИИ О СУЩНОСТИ РЕЛИГИИ
Я упраздняю лишь предмет религии, вернее, той религии,
которая существовала до сих пор; я хочу лишь, чтобы человек не
привязывался больше своим сердцем к вещам, которые уже больше не
соответствуют его существу и потребности и в которые он, стало
быть, может верить, которые может почитать лишь в противоречии
с самим собой. Есть, правда, много людей, у которых поэзия,
фантазия привязаны к предметам традиционной религии и у которых,
отняв эти предметы, отымаешь и всякую фантазию. Но многие — все
же не все, и что для многих необходимо — не есть еще
необходимость сама по себе, и что сегодня необходимо, не является еще
необходимым на вечные времена. Разве человеческая жизнь, история,
природа не дают нам достаточно материала для поэзии? Разве
212
живопись не имеет другого содержания, кроме того, какое она
черпает в христианской религии? Я не только не упраздняю искусства,
поэзии, фантазии, наоборот, я уничтожаю религию лишь постольку,
поскольку она является простой прозой, а не поэзией. Мы приходим,
таким образом, к существенному ограничению положения: религия
есть поэзия. Да, она — поэзия, но с тем отличием от нее, от
искусства вообще, что искусство не выдает свои создания за нечто другое,
чем они есть на самом деле, то есть другое, чем создания
искусства, религия же выдает свои вымышленные существа за существа
действительные. Искусство не заставляет меня считать данный
пейзаж за действительную местность, данное изображение человека —
за действительного человека, религия же хочет, чтобы я данную
картину принимал за действительное существо. Простая точка зрения
художника усматривает в древних статуях богов лишь произведения
искусства; религиозная же точка зрения язычников в этих
произведениях искусства, в этих статуях видела богов, действительные,
живые существа, для которых они делали все, что постоянно делали
для почитаемого и любимого действительного существа.
Людвиг Фейербах, Избранные
философские произведения, т. II, стр. 693—694.
Перевод Ю. М. Антоновского.
БИБЛИОГРАФИЯ
I. О б щ а я литература
«К« Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». Сост. Мих. Лифшиц, т. 1, М.,
Гослитиздат, 1957, стр. 72—74; 489—523.
Энгельс Ф., Людвиг Фейербах и конец классической немецкой
философии.— К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 21, М., 1961,
стр. 269—317.
Асмус В. Ф., Немецкая эстетика XVIII века, М., «Искусство», [1963],
311 стр.
Гулы га А. В., Немецкая материалистическая философия XVIII в. о
природе эстетического.— В кн.: «Эстетическое», М., 1964, стр. 57—77.
«История немецкой литературы», т. II, М., Изд-во Акад. наук СССР, 1963, 464 стр.
M е ρ и н г Ф., Литературно-критические статьи, М.—Л., «Худож. лит.», 1964,
534 стр.
Овсянников Μ. Ф. и Смирнова 3. В., Очерки истории эстетических
учений, М., Изд-во Акад. художеств СССР, 1963, стр. 257—308.
Рейман П., Основные течения в немецкой литературе 1750—1848 гг. Пер.
О. Н. Михеевой. Под ред. и с предисл. А. С. Дмитриева, М., Изд-во иностр.
лит., 1959, 524 стр.
Begenau S. Η., Zur Theorie des Schönen in der klassischen deutschen
Ästhetik. Versuch über die zentrale Kategorie in der deutschen Ästhetik von Winc-
kelman bis Herders «Kalligone», [Heidenau], 1956, 149 S.
213
В о г i η s к i К., Die Antike in Poetik und Кunsttheorie von Ausgang des
klassischen Altertums bis auf Goethe und Wilhelm von Humboldt, Bd. II, Lpz.,
Dieterich, 1924.
Busch E., Die Idee des tragischen in der deutschen Klassik, Halle, Niemeyer,
1942, 165 S.
Cassirer E., Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte,
Berl., Gassirer, 1916, XIX, 575 S.
Cassirer E., Idee und Gestalt. Goethe, Schiller, Hölderlin, Kleist, Berl.,
Cassirer, 1924, 202 S.
Harnack 0., Die klassische Ästhetik der Deutschen. Würdigung der
Kunsttheoretischen Arbeiten Schiller's, Goethe's und ihrer Freunde, Lpz., Hin-
rich's Verl., 1892, 243 S.
К 1 a i b e г J., Hölderlin, Hegel und Schelling in ihren schwäbischen
Jugendjahre, Stuttgart, Cotta, 1877, 213 S.
Κ η a u s s В., Das Künstlerideal des Klassizismus und der Romantik,
Reutlingen, Gryphius-Verl., 1925, 125 S.
К no χ G. J., The aesthetics theories of Kant, Hegel and Shopenhauer, N. Y.,
Columbia uni v. press, 1936, 219 p.
Kunstgeschichte und Kunsttheorie im 19. Jahrhundert, Berl., de Gruyeter, 1963,
233 S.
Lotze H., Geschichte der Aesthetik in Deutschland. 2. Ausg., Lpz., Cotta,
1913, VIII, 689 S.
Morawski S., Rozwoj mysli estetycznei od Herdera do Heinego, Warszawa,
Panstw. wyd. naukowe, 1957, 184 s.
Nivelle Α., Les théories esthétiques en Allemagne de Baumgarten à Kant, P.,
«Les belles lettres», 1955, 412 p.
Ν о h 1 H., Die ästhetische Wirklichkeit, Frankfurt a. M., Schulte-Bulmke, 1935,
216 S.
Schasler M., Aesthetik als Philosophie des Schönen und der Kunst.
Kritische Geschichte der Aesthetik von Plato bis auf neueste Zeit, Berl., Nicolai,
1871—1872, LX, 1218 S.
S t a i g e r E., Der Geist der Liebe und das Schicksal. Schelling, Hegel und
Hölderlin, Frauenfeld—Lpz., Huber, 1925, 127 S.
Vorländer K., Die Philosophie unserer Klassiker. Lessing, Herder, Schiller,
Goethe, Berl. — Stuttgart, Dietz, 1923, VIII, 194 S.
//. Литература к отдельным авторам
Кант
Сочинения:
Kant I., Gesammelte Schriften, Bd. 1—23, Berl., Reimer und Gruyeter, 1910—
1955.
Kant I., Kleine philosophische Schriften, Lpz., Reclam, [1962], 262 S. (Re-
clam-Universal-Bibliothek).
Кант И., Сочинения в 6-ти томах. [Под общ. ред. В. Ф. Асмуса и др.] Вступит,
статья Т. И. Ойзермана, т. 1—3, М., «Мысль», 1963—1964.
Кант И., Критика способности суждения. Пер. H. М. Соколова, Спб.,
Попов, 1898, 397 стр.
Кант И., Наблюдения об ощущении прекрасного и возвышенного.— В кн.:
Кант И., Сочинения в 6-ти томах, т. 2, М., 1964, стр. 125—224.
214
Литература:
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 2, М., 1957, стр. 227, 229.
Асмус В. Ф., И. Кант о «гении» в художественном творчестве.—В кн.:
«Из истории эстетической мысли нового времени», М., 1959, стр. 24—58.
Асмус В. Ф., Проблема классификации искусств в эстетике Канта.—
«Научные доклады высшей школы. Философские науки», 1959, № 2, стр. 171—
183.
Асмус В. Ф., Эстетика Канта.— В кн.: Асмус В. Ф., Немецкая эстетика
XVIII века, M., J1963], стр. 148—258.
Балашов Н. И., Эстетика Канта.— В кн.: «История немецкой литературы»,
т. И, М., 1963, стр. 332-354.
Гулыга А. В., Гердер как критик эстетической теории Канта.— «Вопросы
философии», 1958, № 9, стр. 48—57.
Зивельчинская Л. Я., Опыт марксистской критики эстетики Канта,
М.—Л., Госиздат, 1927, 210 стр., библ.
Земель Г., Кант и современная эстетика. Пер. М. Сокольского, [Спб.],
«Общественная польза», [1904], 48 стр.
M е ρ и н г Ф., Эстетика Канта.— В кн.: M е ρ и н г Ф.,
Литературно-критические статьи, т. II, М.—Л., 1934, стр. 434—443.
Ρ а й н о в Т. И., Теория искусства Канта в связи с его теорией науки.—
В кн.: «Вопросы теории и психологии творчества», т. 6, вып. 1, Харьков,
1915, стр. 243—382.
Спокойный Л., Эстетика Канта.— «Литературный критик», 1935, № 3,
стр. 17—37.
A Hot ta Α., L'estetica di Kant e degli idealisti romantici, Roma, Perella,
[1943], 375 p.
В a s с h V., Essai critique sur Pesthétique de Kant, 2 éd., P., B-que d'histoire
de la philosophie, 1927, 687 p.
Bäumler Α., Kants Kritik der Urteilskraft, ihre Geschichte und ihre
Systematik, Bd. 1, Halle.. a/S., Niemeyer, 1923, X, 352 S.
Menzer P., Kants Ästhetik in ihrer Entwicklung, Berl., Akad.-Verl.,
1952, 210 S,
Гёте
Сочинения:
Goethe J. W., Werke, hrsg. von Auftrage der Grossherzogin Sophie v.
Sachsen, Bd. 1—142, Weimar, Bohlau, 1887—1919.
Goethe J. W., Sämtliche Werke, Bd. 1—45, München, Müller, 1909—1932.
Goethe J. W., Werke, hrsg. von R. Buchwald, Bd. 1—10, Weimar, Volks-
verl., 1962.
Goethe J. W., Ausgewählte philosophische Texte, Berl., Deutsch. Verl. der
Wissenschaften, 1962, 176 S.
Goethe J, W., Über Kunst und Literatur. Eine Auswahl, hrsg. und eingel.
von W. Girnus, Berl., Aufbau, 1953, 562 S.
Гёте И. В., Собрание сочинений, т. 1—13, М.—Л., Гослитиздат, 1932—1949.
Гёте И. В., Избранные произведения. Сост., предисл. и коммент, Н. Н. Виль-
монта, М., Гослитиздат, 1950, 763 стр.
Гёте И. В., Статьи и мысли об искусстве. Сборник статей под ред. Л. С.
Гущина, Мм «Искусство», 1936, 410 стр.
Гёте и Шиллер, Переписка, т. 1, М.—Л., «Academia», 1937, XXXII,
409 стр.
215
Литература:
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1> М., 1957, стр. 492, 493—523.
Верцман И.^ Эстетические взгляды Гёте.— «Литературный критик»,
1936, № 4, стр. 44—71.
Вильмонт H. Н., Гёте. История его жизни и деятельности, ML,
Гослитиздат, 1959, 335 стр.
Волгина Е. И., Борьба Гёте за передовое национальное искусство.—
«Ученые записки Куйбышев, пед. ин-та. Литература», вып. 30, 1960, стр. 269—
291.
M е ρ и н г Ф., Эстетический идеализм Гёте и Шиллера.— В кн.: Мерин г Ф.(
Литературно-критические статьи, т. II, М.—Л., 1934, стр. 443—452.
Щагинян M. С., Гёте, M.—JL, Изд-во Акад. наук СССР, 1950, 192 стр.
9 к к е ρ м а н И. П., Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. Вступит,
статья В. Ф. Асмуса, М.—Л., «Academia», 1934, 965 стр.
Blume F., Goethe und die Musik, Kassel, Bärenreiterverl., 1948, 100 S.
Benz R., Goethe und die romantische Kunst, München, Piper, 1940, 253 S.
Bode W., Goethes Ästhetik, Berl., Mittler, 1901, 341 S.
В о у d J., Goethe und Shakespeare, Köln —Oplden, Westdeutsch. Verl., [1962],
27 S.
Brudford W. H., Theatre, Drama and Audience in Goethe's Germany, Lond.,
Routledge, 1950, 388 p.
Butler E. M., Byron and Goethe. Analysis of a passion, Lond., Bowes and
Bowes, [1956], XIII, 299 p.
Einem H. v., Goethe und Dürer. Goethes Kunstphilosophie, Hamburg,
Schröder, 1947, 75 S.
Fisch S. Goethe und die Musik, Frauenfeld, Huber, 1949, 106 S.
Friedländer M., Goethe und die Musik, Weimar, Goethe-Gesellschaft,
1916, 68 S.
G i г η u s W., Goethe der größte Realist der deutschen Sprache. Versuch einer
kritischen Darstellung seiner ästhetischen Auffassungen, Lpz., 1953,
202 S. Diss.
Hey felder E., Ästhetische Studien, 2. Heft. Die Illusionstheorie und
Goethes Ästhetik, Freiburg, 1904, 201 S.
Jolies M., Goethes Kunstanschauung, Bern, Franke, [1957], 342 S.
К о r f f Η. Α., Geist der Goethezeit, T. 1—5, Lpz., Vochler und Amelang, 1955—
1957.
Kronacher Α., Das Deutsche Theater zu Berlin und Goethe. Ein Beitrag
zur Ästhetik der Bühne, Lpz., Verl. für Literatur, Kunst und Musik, 1908, 100 S.
Menzer P., Goethes Ästhetik, Köln, Kölner Univ. Verl., 1957, 223 S.
Moser H. J., Goethe und die Musik, Lpz., Peters, [1949], 219 S.
Prang H., Goethe und die Kunst der italien. Renaissance, Berl., Ebering,
1938, 275 S.
Ρ у г i t ζ H., Goethe-Bibliographie, Lief. 1—8, Heidelberg, Winter, 1955—
1963, 640 S.; Lief. 6, Ästhetik, S. 442—451.
Schubert J., Goethe und Hegel, Lpz., Meiner, 1933, VIII, 194 S.
Schulz-Uellenberg G., Goethe und die Bedeutung des
Gegenstandes für die bildende Kunst, München, Filser-Verl., 1947, 380 S.
S e η g 1 e F., Goethes Verhältnis zum Drama, Berl., Junker und Dünnhaupt,
1937, 131 S. Diss.
Stein K. H., Goethe und Schiller. Beitrage zur Ästhetik der deutschen
Klassiker, Lpz., Reclam, S. Α., 126 S.
216
Steiner R., Goethe als Vater einer neuen Ästhetik, Neue Ausgabe, Düsseldorf,
Deibele und Teubig, 1948, 29 S.
S t e 1 ζ e r 0., Goethe und die bildende Kunst, Braunschweig, Vieweg, 1949,
192 S.
Strich E., Goethe und die Weltliteratur, 2. Aufl., Bern, Francke, [1957], 389 S.
Trevelyan H., Goethe and the Greeks, Cambridge, univ* press, 1942, X,
325 p.
W e g η e r M., Goethes Anschauung der antiker Kunst, Berl., Mann, 1944, 158 S.
Шиллер
Сочинения:
Schiller F., Werke. Nationalausgabe. Im Auftrag des Goethe und Schillers-
Archivs und des Schiller-National Museum, hrsg. von J. Petersen und
H. Schneider, Bd. 1—30, Weimar, Böhlau, 1943—1963.
Schiller F., Gesammelte Werke, hrsg. und eingel. von A. Abusch, Bd. 1—8,
Berl., Aufbau-Verl., 1959.
Schiller F., Schiller zu Fragen der Ästhetik. Einleitung, Komment, und
Auswahl, von S. H, Begenau, Dresden, Verl. der Kunst, 1953, 205 S.
Schiller F., Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. [Nach den
Handschriften des Goethe und Schiller Archivs hrsg. von H. G. Graf und A. Leitz-
mann], Bd. 1—3, [Lpz.], .Insel-Verl., 1955.
Шиллер Φ., Собрание сочинений в семи томах. [Под ред. Η. Н. Вильмонта
и Р. М. Самарина!, т. 6, Статьи по эстетике, М., Гослитиздат, 1957, 790 стр.
Шиллер Ф., Избранные произведения. [Под общ. ред. Η. Н. Вильмонта
и Р. М. Самарина. Вступит, статья Н. А. Славятинского], т. 1—2, М.,
Гослитиздат, 1959.
Шиллер Ф., Статьи по эстетике, М,—Л., «Academia», 1935, LXXXIII,
671 стр.
Литература:
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1., М., 1957, стр. 492; т. 2, стр. 475.
Асмус В. Ф., Шиллер как философ и эстетик.—В кн.: Асмус В. Ф.,
Немецкая эстетика XVIII века, М., [1963], стр. 259—310.
Баскина Р., Место эстетики в общефилософском мировоззрении
Шиллера.— «Ученые записки Красноярск, пед. ин-та»,т. 2, вып. 1, 1958, стр.
126-160.
Баскина Р., Просветительная сущность эстетических взглядов Ф.
Шиллера.— «Ученые записки Моск. обл. пед. ин-та», т. 59, труды каф. философ.,
вып. 5, 1957j стр. 91—117.
M е ρ и н г Ф., Эстетический идеализм Гёте и Шиллера.— В кн.: M е ρ и н г
Ф., Литературно-критические статьи, т. II, М.—Л., 1934, стр. 443—452.
Фишер К., Публичные лекции о Шиллере, М., Иогансон, 1890, 264 стр.
Шибанов И., О народности драматургии Шиллера.— «Известия Воронежск.
пед. ин-та», т. 21, 1956, стр. 141—164.
В статье дается обзор эстетических взглядов Шиллера.
Шиллер Ф. П., Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество, М., Гослитиздат,
1955, 430 стр.
Шиллер Ф. П., Творческий путь Фридриха Шиллера в связи с его
эстетикой, М.—Л., Гослитиздат, 1933, 124 стр.
Эйхенбаум В., Трагедии Шиллера в свете его теории трагического.—
В кн.: «Искусство старое и новое», II, 1921, стр. 94—148.
Abusch Α., Schiller. Größe und Tragik eines deutschen Genius, Berl.,
Aufbau-Verl., 1955, 331 S.
217
Baumecker G., Schillers Schönheitslehre, Heidelberg, Winter, 1937, 137 S.
Böhm W., Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, Halle,
Niemeyer, 1927, 190 S.
Bolze W., Die philosophische Begründung der Ästhetik des tragischen in
Schillers Abhandlungen, Lpz., Xenien-Verl., 1913, 120 S.
Borchert H., Schiller und die Romantiker. Briefe und Dokumente, hrsg.
und eingl., Stuttgart, Cotta, 1948, 760 S.
Buchwald R., Schiller. Leben und Werk. 4. neue bearb. Aufl. Ungekürzte
Ausg. in einem Band, [Wiesbaden], Insel-Verl., 1959, 838 S.
Kerry St. S., Schiller's writings on aesthetics, Manchester, uni v. press, [1961],
IX, 178 p.
Lewkowitz Α., Hegels Aesthetik im Verhältnis zu Schiller, Lpz., Meiner,
1910, 77 S.
Lo sso w H., Schiller und Fichte in ihren persönlichen Beziehung und in ihrer
Bedeutung für die Grundlegung der Aesthetik, Dresden, Risse-Verl., 1935,
61 S. Diss.
Loup К., Schönheit und Freiheit. F. Schiller und das Düsseldorfer
Schauspielhaus Dumont-Lindemann, Düsseldorf, Stern-Verl., 1959, 208 S.
N о e 1 t i η g В., Schiller über die ästhetische Erziehung des Menschen.
Vortrag, gehalten zur Erinnerungen an Schillers 100-jährigen Todestag, Riga,
Jonck und Polinosky, 1905,.. 31 S.
Rosalewski W., Schillers Ästhetik im Verhältnis zur Kantischen,
Heidelberg, 1912, VIII, 129 S.
Schiller-Bibliographie 1893—1958. Bearb. von W. Vulpius, Weimar, «Arion»,
1959 XVIII 569 S
S tor ζ G., Der'Dichter F. Schiller, Stuttgart, Klett, [1959], XII, 516 S.
Τ ι e d g e J., Schillers Lehre über das Schöne, Lpz., 1913, 104 S.
Usinger F., F. Schiller und die Idee des Schönen, Mainz, Akad. d. Wiss.
und d. Lit, 1955, 13 S.
Wenzel H., Das Problem des Scheins in der Ästhetik. Schillers «Ästhetische
Briefe», [Köln, 1958], 80 S. Diss.
Wiese В., F. Schiller, Stuttgart, Metzler, [1959], XXI, 866 S.
Wilpert G., Schiller-Chronik. Sein Leben und Schaffen, Beil., Akad.-
VerL, 1959, 336 S.
Гумбольдт
Сочинения:
Humboldt W. v., Werke in 5 Bd., hrsg. von A. Flitner und K. Giel, Bd.
1—3, Berl., Rütten und Loening, 1960—1963; Bd. 2, Schriften zur
Altertums-Kunde und Ästhetik, 1961, 632 S.
Humboldt W. v., Gesammelte Schriften, hrsg. von d. Preuss. Akad. d.
Wissenschaft, Bd. 1—17, Berl., Behr, 1904—1936.
Humboldt W. v., Ansichten über Aesthetik und Literatur. Briefe an Christian
Gottfried Körner (1793—1830), hrsg. von F. Jonas, Berl., Schleiermacher,
1880, XI, 190 S.
Humboldt W., Über Schiller und Goethe. Aus den Briefen und Werken gesam.
und erläut. von E. Haufe, Weimar, Kiepenheuer, 1963, 396 S.
«Wilhelm von Humboldt. Sein Leben und Werk darg. in Briefen, Tagebüchern
und Dokumenten seiner Zeit» [ausgew. und zusgest. von R. Freese], S. L.,
Verl. der Nation., [1953], 1018 S.
Гумбольдт В., О границах деятельности государства.— В кн.: Гайм Р.,
Вильгельм фон Гумбольдт..., М., 1898, V—VII, стр. 1—166.
218
Литература:
Г а й м Р., Вильгельм фон Гумбольдт. Описание его жизни и характеристика,
М., Солдатенков, 1898, 529 стр.
Шпет Г. Г., Внутренняя форма слова (Этюды и вариации на темы
Гумбольдта), М., [Гос. Акад. худ. наук], 1927, 219 стр.
F и е η t е H. V., Aus der W. v. Humboldt's Forschungen über Ästhetik, Giessen,
Töpelmann, 1912, VII, IV, 144 S.
Grube K., Wilhelm von Humboldts Bildungsphilosophie, Halle, Akad.-Verl.,
1935, 100 S.
Spranger E., W. von Humboldt und die Humanitätsidee, BerL, Reuther
und Reichard, 1909, X, 506 S.
Stadler Р. В., W. von Humboldts Bild der Antike, Zürich, Stuttgart,
«Artemis», 1959, 211 S.
S t r y k G., W. von Humboldts Ästhetik, als Versuch einer Neubegründung
der Sozialwissenschaft dargestellt, BerL, Puttkamer und Mühlbrecht, 1911,
129 S.
Фихте
Сочинения:
Fichte J. G., Sämtliche Werke, Bd. 1—8, Lpz., Mayer und Müller, [1924].
Фихте И. Г., О назначении ученого. Пер. под ред. и со вступит, статьей
В. Вандека, [М.], Соцэкгйз, 1935, 140 стр.
Литература:
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., 1957, стр. 492.
«В. И. Ленин о литературе и искусстве», М., 1960, стр. 550.
Бур М., Иоганн Готтлиб Фихте.— «Вопросы философии», 1964, № 2, стр.
83-92.
Деборин Α., Фихте и Великая французская революция.— «Под знаменем
марксизма», 1924, № 10—11, стр. 5—22; 1925, № 3, стр. 5—23.
Ойзерман Т. И., Философия Фихте, М., изд-во «Знание», 1962, 48 стр.
Abusch Α., Johann Gottlieb Fichte und die Zukunft der Nation [Rede zur
nationalen Fichte-Ehrung am 17. Mai 1962 in Berlin], BerL, Aufbau-Verl.,
1962, 46 S.
Berger K. H., J. G. Fichte, BerL, «Neues Leben», 1953, 238 S.
Bergner D., Neue Bemerkungen zu J. G. Fichte, BerL, Deutscher Verl. der
Wissenschaft, 1957, 144 S. BibL
«Wissen und Gewissen». Beitrage zur 200 Geburtstag Johann Gottlieb Fichtes
(1762—1814), BerL, Akad.-Verl., 1962, 292 S.
Шеллинг
Сочинения:
Schelling F. W. J., Schriften zur Kunst und der Freiheitslehre.-- In:
S с h e 1 1 i η g F. W. J., Werke. Auswahl in 3 Bd., Bd. 3, Lpz.,
Meiner, 1912, 935 S.
Шеллинг Φ. В. И., Система трансцендентального идеализма. Пер. и ком-
мент. И. Я. Колубовского, [Л.—М.], Соцэкгйз, 1936, LIX, 455 стр. (имеется
подробная библиография работ об эстетике Шеллинга).
Ш е л л и ή г Ф. В. И., Об отношении изобразительных искусств к природе. Пер.
И. Я. Ко лубовского.— В кн.: «Литературная теория немецкого
романтизма», Л., [1934], стр. 289—326.
219
Литература:
К. Маркс — Людвигу Фейербаху 3 окт. 1843 г.— К. Маркс и Ф.
Энгельс, Сочинения, т. 27, стр. 376—377.
«В. И. Ленин о литературе и искусстве», М., 1960, стр. 550.
Каменский 3. Α., Шеллинг в русской философии начала XIX века.—
«Вестник истории мировой культуры», 1960, № 6, стр. 46—59.
Фишер К., История новой философии, т. VII. Шеллинг, его жизнь, сочинения
и учение, Спб., «Общ. польза», 1.905, XXVI, 893 стр.
Adam M., Schellings Kunstphilosophie, Lpz., Quelle und Meyer, 1907, 88 S.
(Abhandlungen zur Philosophie und ihre Geschichte, hrsg. von R.
Falkenberg, H. 2).
Brüstiger Ch. N., Kants Ästhetik und Schellings Kunstphilosophie, Lpz.,
1912, 100 S. Diss.
Gibelin J., L'esthétique de Schelling d'après la «Philosophie de l'art»,
P., [1935], LVI, 355 p.
Hirsch Ε. D., Wordsworth and Schelling. A typological study of romanticism,
New Haven, Yale univ. press, 1960, XIII, 214 p.
Knittermeyer H., Schelling und die deutsche romantische Schule,
München, Reinhardt, 1929, 482 S.
N о а с k L., Schelling und die Philosophie der Romantik, Bd. 1—2, Berl.,
Mittler, 1859.
Schneeberger G., Friedrich Wilhelm Joseph -von Schelling. Eine
Bibliographie, Bern, Francke, 1954, 190 S.
Steinkrüger Α., Die Ästhetik der Musik bei Schelling und Hegel. Ein
Beitrag zur Musikästhetik der Romantik, Bonn, 1927, 281 S. Diss.
Zimmermann R., Schelling's Philosophie der Kunst, Wien, 1876, S. 627—
676. Abdr.
Гегель
Сочинения:
Hegel G. W. F., Sämtliche Werke. Jubiläumausgabe, hrsg. von H.
Glockner, Bd. 1—26, Stuttgart, 1927—1940 (т. 21—26 — монография издателя
о Гегеле).
Hegel G. W. F., Ästhetik, Berl., Aufbau-Verl., 1955, 1174 S.
Гегель Г. В. Φ., Сочинения, т. 1—14, M.—Л., Изд-во Акад. наук СССР,
1929—1958 (т. 12—14. Лекции по эстетике).
Литература:
Верцман И., Диалектика побеждает систему. (К проблемам литературы
в эстетике Гегеля).— «Вопросы литературы», 1963, № 8, стр. 104—130.
Глазман Г. М., Проблема прекрасного в эстетике Гегеля, Душанбе, 1960,
246 стр. («Ученые записки Душанб. пед. ин-та им. Т. Г. Шевченко», т. 28,
серия общ. наук, вып. 4).
Лифшиц Μ. Α., Эстетика Гегеля и диалектический материализм.— В кн.:
«Вопросы искусства и философии», М., 1935, стр. 114—143.
Овсянников Μ. Ф., Проблема эстетического у Гегеля.— В кн.:
«Эстетическое», М., 1964, стр. 34—56.
Овсянников М. Ф., Философия Гегеля, М., Соцэкгиз, 1959, 306 стр.
Степанов В., Эстетика Гегеля.— «Большевик», 1940, № 24, стр. 77—89.
Фишер К., Гегель. Его жизнь, сочинения и учение. Предисл. В. Вандека
и П. Тимоско, М.—Л., Соцэкгиз, 1938, XXXIII, 607 стр. (Фишер К.,
История новой философии, т. VIII, 1).
220
Чернышев B.C., Социологические мотивы в эстетике Гегеля.— Журн.
«Искусство», 1927, кн. 4, стр. 5—54.
Четунова Н., О красоте.— В кн.: Четунова Н., В спорах о
прекрасном, Мм I960, стр. 102—142.
Bradley А. С, Hegel's theory of tragedy.— In: В r a d 1 e у А. С,
Oxford lectures on poetry, Lond., 1909, p. 69—95.
Go h η J., Hegels Ästhetik.—«Zeitschrift für Philosophie und philosophische
Kritik», 1902, Bd. 120, S. 160-185.
Groce В., Lebendiges und Totes in Hegel's Philosophie mit einer
Hegel-Bibliographie, Heidelberg, Winter, 1909, XV, 228 S.
D a η ζ e l T. W., Ueber die Aesthetik der Hegelschen Philosophie, Hamburg,
Meissner, 1844, 69 S.
Frost W.r Hegels Ästhetik. Die bedeutendste Kunstphilosophie der neueren
Zeit in ihrer Beziehung zum modernen Menschen, München, Reinhardt, 1928,
121 S.
Kuhn H., Die Vollendung der klassischen deutschen Ästhetik durch Hegel,
Berl., Junker und Dünnhaupt, 1931, VI, 123 S.
Lewkowitz Α., Hegels Ästhetik im Verhältnis zu Schiller, Lpz., Heiner,
1910, 77 S.
Lucas R. S., A problem of Hegel's aesthetics.— «Renaissance and modern
studies», 1916, v. 4, p. 82—118.
Poggeler O., Hegel's Kritik der Romantik, Bonn, Bouvier, 1956, 398 S.
Ρ ugï ies F., L'estetica di Hegel e suoi presupposti teoretici, Padova, Cedam,
1953, 189 p.
Teyssèdre В., L'esthétique de Hegel, P., Presses univ. de France, 1958,
VII, 104 p.
Vecchi G., L'estetica di Hegel, Milano, «Vita e pensiero», 1956, VI, 243 p.
Фейербах
Сочинения:
Feuerbach L., Sämtliche Werke, hrsg. von W. Bolin und F. Jodl, Bd.
1—10, Stuttgart, Frommann, 1903—1911.
Feuerbach L., Ausgewählte Briefe, hrsg. u. eingel. von W. Bolin, Bd. 1—2,
Lpz., Wigand, 1904.
Фейербах Л., Сочинения, т. 1—3, M.—Пг., Госиздат, 1923—1926.
Фейербах Л., Избранные философские произведения, т. 1—2. [Общ. ред.
и вступит, статья М. М. Григорьяна], М., Госполитиздат, 1955.
Литература:
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., 1957, стр. 78.
«В. И. Ленин о литературе и искусстве», М., 1960, стр. 75.
Букин В. В., Л. Фейербах об искусстве и его происхождении.— «Вестник
Ленингр. ун-та», серия экон., философ, и права, 1959, № 17, вып. 3, стр. 87—
93.
Л у к а ч Г., Л. Фейербах и немецкая литература.— В кн.: Л у к а ч Г.,
Литературные теории XIX века и марксизм, М., 1937, стр. 7—69.
Blau G., Paul Johann Anselm Feuerbach, Berl.—Lpz., Volk und Wissen,
[1948], 128 S.
£ С Τ Ε Τ Κ1Α
HE ΜΕ ЦКОГО
РОМАНТИЗМА
конце XVIII века в Германии зарождается новое
литературно-художественное движение,
получившее название романтической школы. В своем
развитии романтизм выходит далеко за пределы
литературного направления, охватывая самые
разнообразные формы идеологии и культуры:
философию и науку, поэзию и театр, эстетику и
литературную критику, историю и филологию. Поэтому
не случайно романтическая школа объединила
вокруг себя представителей самых разнообразных профессий: поэтов
и писателей, филологов, философов, художников и даже
естествоиспытателей. Неоднородная по своему социальному составу,
разнообразная по своим идейным и эстетическим принципам,
романтическая школа оказалась необычайно сложным и противоречивым
явлением немецкой культуры.
Поражение французской революции, наполеоновские войны,
господство крупной буржуазии показало всю беспочвенность иллюзий
222
просветителей о торжестве «царства разума», обнаружило
действительный смысл их исторических идеалов. По словам Энгельса,
просветительный идеал «вечного разума» оказался в действительности
«лишь идеализированным рассудком среднего бюргера, как раз в то
время развивавшегося в буржуа... Государство разума потерпело
полное крушение. Общественный договор Руссо нашел свое
осуществление во время террора, от которого изверившаяся в своей
политической способности буржуазия искала спасения сперва в
подкупности Директории, а в конце концов под крылом наполеоновского
деспотизма» !.
Романтизм с самого начала возникает как реакция на
буржуазную действительность с ее господством прозаических, торгашеских,
узкокорыстных интересов. В нем отразилось разочарование в
результатах французской революции, осознание неосуществимости
просветительных надежд на установление «царства разума»,
построенного по образцу республиканского Рима. Исторически
изжившим себя античным иллюзиям романтики противопоставили идеал
нового, более полного и универсального искусства, которому они
дали имя «романтического». Это противопоставление «античного»
и «романтического» составляет одну из главных тем романтической
эстетики. В поисках «чистой общественности», свободной от
разделяющего действия частной собственности, утилитарных интересов и
своекорыстия, романтики обратились к искусству Древнего Востока
и европейского средневековья, которые обладали, по их мнению,
патриархальной естественностью и простотой. «Первая реакция на
французскую революцию и связанное с ней Просвещение,
естественно, состояла в том,— писал Маркс,— чтобы видеть все в
средневековом романтическом свете...» 2.
Романтики одними из первых указали на исторически
преходящий характер античного искусства и античной культуры. Они
внесли в эстетику принцип историзма. Для них античное искусство при
всех его достоинствах — не идеальная художественная культура,
которая должна восприниматься в качестве какого-то нормативного
образца; напротив, все художественные культуры прошлого и
настоящего равноценны, каждая вносит свой вклад в развитие
мировой культуры. Тем самым романтики реабилитировали современное
искусство, признали его самостоятельное, вполне оригинальное
значение и эстетическое своеобразие. В их представлении
романтическое искусство должно стать одним из главных условий
формирования новой целостной личности, вобравшей в себя всю полноту и
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 20, стр. 267,
2 К. Маркой Ф. Энгельс, Сочинения, т. 32, стр. 44.
223
своеобразие самых различных исторических, эпох и культур.
«Современный человек,— писал Новалис,— должен жить во многих местах
и во многих людях. У него должен быть неизменно налицо широкий
круг и разнообразие событий. Тогда образуется здесь истинное,
грандиозное состояние духа, которое делает человека подлинным
гражданином мира...» К
Это признание современной художественной культуры
сочеталось у романтиков с резкой критикой буржуазной
действительности, власти вещей над сознанием и чувствами людей. Романтики
остро почувствовали «отчужденный» характер социальных сил,
царящих в капиталистическом обществе. Мотив «отчуждения», утраты
человеком общественного, «человеческого» содержания,
превращения человека в частного индивида, в механизм, автомат — широко
распространенная тема их творчества, начиная от «Генриха фон
Офтердингена» Новалиса (превращение золота из дара природы в
собственность отдельного человека) и кончая жуткой магией
отчуждения человеческих способностей, изображенной в «Крошке Ца-
хесе» Э. Т. А. Гофмана.
Центральное место в эстетике раннего романтизма, связанного
прежде всего с деятельностью иенских романтиков (братья Шлегель,
Вакенродер, Тик, Новалис), занимает концепция так называемой
романтической иронии. В иронии как выражении творческой
свободы художника романтики видят внутреннюю сущность
современного искусства. Никакая художественная форма, никакое
художественное произведение, как бы оно ни было совершенно, не может
быть адекватным выражением авторской фантазии, которая всегда
богаче и содержательнее любого своего создания. Свободное
парение фантазии художника над собственными произведениями и
составляет дух иронии, то есть то настроение, которое, по словам
Ф. Шлегеля, «с высоты оглядывает все вещи, бесконечно
возвышаясь над всем обусловленным, включая сюда и собственное свое
искусство и добродетель и гениальность» 2.
Иенские романтики придавали иронии огромный критический
смысл. В их представлении ирония не просто язвительная насмешка,
случайно присутствующая в произведении. Это обязательный
элемент всякого истинно художественного произведения,
отличительный признак художественного гения. По словам Жан-Поля, она
парит не над отдельными заблуждениями, но над всяким знанием
вообще. «Ирония,— говорит Зольгер,— признает ничтожество не
единичных характеров, но всей человеческой сущности как раз в ее
1 Novalis, Schriften, hrsg. von J. Minor, Jena, 1907, Bd. 2, S. 253.
2 «Литературная теория немецкого романтизма», стр. 177.
224
высшем и благороднейшем существе, она признает, что нет ничего,
способного устоять перед божественной идеей» *.
Таким образом, сущностью искусства романтики объявляли
критическое самосознание, идею абсолютной свободы, вечной
подвижности. Ирония антидогматична. Она требует от каждой личности
самостоятельного мышления, свободы от авторитетов не только в сфере
искусства, но и во всех областях общественной жизни.
Провозглашая иронически мыслящего индивида средоточием и судьей
общественного процесса, романтики тем самым бросали вызов
буржуазному государству с его социальными институтами и полицейским
режимом. Не случайно в своих более поздних работах Ф. Шлегель
определил романтическое как «антиполицейское».
Однако, несмотря на весь критический пафос, объективный
смысл романтической иронии оказался гораздо менее значительным,
чем тот, который пыталась вложить в нее романтическая эстетика.
Установка на ироническое отношение к буржуазной
действительности не шла дальше субъективного ее неприятия, а ироническая
универсальность вырождалась зачастую в субъективный произвол
авторской фантазии. Гегель был совершенно прав, когда, указав на
связь концепции романтической иронии с субъективным
идеализмом Фихте, подверг безжалостной критике «апостолов иронии» —
Ф. Шлегеля и Новалиса 2.
Романтический протест против буржуазной действительности
сочетался у иенских романтиков с критикой эстетики просветителей,
с безусловным отрицанием этики долга, реабилитацией
человеческой чувственности, освобождением ее от суровых требований кан-
товского категорического императива. У иенских романтиков
нравственный долг совпадает с естественным влечением человеческого
чувства. Строгому ригоризму просветительной этики они
противопоставляют требование личного счастья, индивидуального
наслаждения. Не случайно, что одной из тем романтических сочинений
как художественных, так и теоретических является любовь. Любовь
у иенских романтиков — это универсальная космическая сила,
объединяющая в единое целое человека и природу, конечное и
бесконечное, духовное и чувственное. Любовь, говорят романтики,
идеальна, но проявляется она в реальной, вполне земной любви к женщине.
В чувственной любви, по мнению романтиков, проявляется
мировая любовь, а в мировой любви раскрывается действительный смысл
любви к женщине. Эти рассуждения, естественно, расходились с
1 К. S о 1 g е г, Vorlesungen über Aesthetik, Lpz., 1829, S. 125.
2 См.: Гегель, Лекции по эстетике,— Сочинения, т. XII, М., 1938, стр.
68—71.
225
традиционными понятиями буржуазной морали. Так, философский
роман Ф. Шлегеля «Люцинда» вызвал со стороны буржуазной
публики обвинения романтиков в аморализме и безнравственности.
Романтики пытались совместить признание индивидуальности во
всей полноте ее чувственной и духовной жизни с пантеистической
трактовкой природы. Для них природа — не собрание мертвых,
лишенных жизни вещей, а живое, органическое целое. Это
представление несомненно явилось результатом влияния на романтическую
эстетику философии Шеллинга, провозгласившего природу высшим
образцом художественного творения. В соответствии с этим
романтики требуют, чтобы творчество художника было подобно
бессознательному творчеству органической природы. Они отвергают принцип
подражания, считая, что подражание приводит к рабскому
копированию действительности. В противовес рассудочному рационализму
эстетики классицизма они выдвигают на первый план формы
непосредственного, интуитивного знания: «интеллектуальную
интуицию», воображение, фантазию. Романтики придают большое
значение индивидуальному началу в художественном творчестве.
Эстетика романтизма выдвигает не только новые средства, но и
новый предмет художественного познания. Для романтического
искусства характерен интерес к внутренней духовной жизни индивида.
Этот интерес возникает из убежденности в том, что современная
общественная жизнь представляет собой неблагоприятный материал
для искусства. Поскольку гармония личности и общества утрачена
и свобода возможна только в пределах индивидуальной духовной
жизни, постольку главным предметом искусства становится область
внутренних переживаний и чувств личности. Романтики впервые
указывают на тесную связь произведения искусства с личностью
художника, его биографией, его духовным миром. Они считают, что
индивидуальная жизнь художника должна определять не только
содержание, но и форму художественного произведения. Такой
наиболее адекватной формой для выражения внутреннего мира
гениальной индивидуальности может быть только роман, ибо роман — это
своего рода энциклопедия духовной жизни гениальной личности.
Каждый человек, говорит Ф. Шлегель, «в душе своей содержит
роман» 1.
В противоположность эстетике классицизма, которая исходила из
строгого разграничения видов и жанров искусства, романтики
обнаруживают бесконечные взаимопереходы отдельных видов искусства,
взаимосвязь самых разнообразных эстетических форм: прекрасного
и безобразного, трагического и комического, поэтического и прозаи-
1 «Литературная теория немецкого романтизма», стр. 183.
226
ческого, высокого и низменного, смешного и серьезного. Более того,
именно эту подвижность жанров, смешение эстетических родов и
видов романтики считали отличительной особенностью нового,
романтического искусства в противоположность искусству античному.
Романтики разрушают строгую иерархию в соотношении видов
искусств, которую установила эстетика классицизма. Высшей
формой искусства они признают музыку как искусство наиболее
свободное и духовное. Это, однако, не означает, что все остальные виды
искусства подчинены музыке в порядке субординации, но в каждом
из них романтики обнаруживают подвижность образов, родственную
свободной игре музыкальных тонов. Поэзия, например, представляет
собой своего рода промежуточное искусство между живописью и
музыкой, а орнамент, арабески и т. д. — это не что иное, как «видимая
музыка». Правда, в этих сопоставлениях полярных категорий
нередко проявляется скорее стремление к парадоксальному, чем
обнаружение объективной диалектики искусства. Однако опыт
романтической школы не пропал даром, хотя бы уже потому, что на этой
почве возникла богатая диалектическим содержанием эстетика Золь-
гера. Центральными категориями этой эстетики являются наиболее
популярные у романтиков понятия вдохновения и иронии. Однако
ирония Зольгера имеет свои существенные отличия. Если у иенских
романтиков ирония нередко вырождалась в бесконечный процесс
отрицания и самоотрицания, то у Зольгера она получает
положительное значение, приближаясь по своему смыслу к
диалектическому принципу отрицания отрицания. Преодолевая субъективизм
романтиков, Зольгер одним из первых в догегелевской эстетике
пришел к обоснованию диалектики в искусстве, к исследованию
объективной логики развития художественного познания. Не случайно
Гегель, резко критиковавший романтиков, дал чрезвычайно высокую
оценку эстетической концепции Зольгера, указав на ее глубокий
диалектический смысл.
Иенские романтики довольно быстро растеряли элементы
либерализма, которые содержались в их ранних эстетических программах.
От критики буржуазной прозы они переходят к защите наиболее
реакционных политических идеалов, к оправданию католицизма,
к реставрации остатков немецкого средневековья. Этот поворот
в сторону реакции является отличительной особенностью
немецкого романтизма. Если французские романтики на основе мощного
демогфатического подъема 20—30-х годов эволюционировали влево,
то немецкие романтики, напротив, с неизбежностью эволюционируют
в сторону реакции. Этот процесс был связан с отсутствием в Германии
широкого демократического движения, с активизацией дворянско-
католических сил.
227
Реакционный характер романтической эстетики становится
особенно очевидным на следующем этапе романтического движения,
в эстетике так называемых гейдельбергских романтиков (Арним,
Брентано и другие). Их исторические идеалы имеют религиозную
и националистическую окраску. Материалом для будущей
эстетической культуры они считают быт и искусство немецкого
средневековья: народные песни, сказки, предания. Поэтому они придают
большое значение национальной традиции. Арним и Брентано
издают сборник народных, песен «Волшебный рог мальчика» (1806—
1808), братья Гримм публикуют народные «Детские сказки» (1812),
Геррес — сборник «Немецкие народные книги» (1807) и
«Старонемецкие народные песни и мейстерзанг» (1817). Историческая заслуга
гейдельбергских романтиков состоит в том, что они приобщили
современную цивилизацию к сокровищам народного искусства. Однако
это сочеталось у них с идеализацией пережитков средневековья
в современности. Возрождая и пропагандируя народное искусство,
они истолковывали его в мистическом духе, использовали его для
обоснования реакционных философских и эстетических концепций.
У гейдельбергских романтиков в еще большей степени
проявляется иррационалистическая трактовка художественного творчества.
Арним и Брентано исходят из противопоставления народной
(Naturpoesie) и искусственной, собственно «художественной»
(Kunstpoesie) поэзии, причем предпочтение отдается первой. Только
народная поэзия как естественный и бессознательный продукт
природы является истинной, совершенной. Современная поэзия, какими
бы достоинствами она ни обладала, несет на себе трагическую
печать цивилизации: индивидуализм, искусственность и т. д.
Бессознательность является высшим эстетическим критерием в оценке
искусства. По словам Я. Гримма, «поэзия Гёте менее значительна,
чем какая-нибудь старинная мифология... сознательная борьба
отдельной личности не может иметь такого значения, как
бессознательно существующая истина; убогая народная песня так относится
к поэзии талантливого мейстерзингера, как сердечная вера
простодушной прихожанки — к проповедям ученого богослова» К
Теоретическое обоснование эта тенденция к иррационализму и
бессознательности получила выражение у близкого романтикам
философа Ф. Шлейермахера. В своих «Речах о религии» Шлейермахер
проповедовал идею о том, что не просвещение и искусство, а религия,
наивная религиозность человеческих чувств является главным
фактором эстетического образования личности, достижения внутренней
1 Цит. по кн.: В. Жирмунский, Религиозное отречение в истории
романтизма, М., 1919, стр. 26.
228
гармонии, спасения от той ограниченности и односторонности, к
которой неизбежно приводит ее всякое творчество и всякая
деятельность, в том числе и искусство.
Эволюция, которую претерпевает эстетика романтизма,
свидетельствует о разнородности и противоречивости тех социальных
идеалов, которые отражал романтизм. «Романтическая школа,—
писал Ф. Меринг,— отобразила это причудливо двойственное
положение вещей. Национальные и социальные интересы бюргерства
вступили в непримиримое противоречие друг с другом: этот класс не мог
свергнуть с себя чужеземное иго, не усиливая вместе с тем ига
внутреннего. Тщетно старались Шлегели и Тики, литературные
вожди романтики, заполнить эту зияющую пропасть при помощи
вымученной гениальности и пресловутой «иронии», тщетно искали они
в литературе всех времен и народов почву, на которую они могли бы
прочно опереться. Романтическая школа могла найти эту почву
только в «залитой лунным сиянием волшебной ночи» средневековья;
только здесь они могли найти свои национальные идеалы. Но
средневековье было временем безраздельного классового господства
юнкеров и попов. Из этого разлада между национальными и
социальными интересами не было никакого выхода» *.
Эстетическое наследие немецкого романтизма, его влияние на
искусство и эстетику XIX века оказалось глубоко противоречивым
и двойственным. С одной стороны, культивируя субъективистские,
изощренно индивидуалистические способы познания мира,
романтизм питал наиболее иррационалистические системы буржуазной
эстетики XIX века. Известное влияние романтизма сказалось на
философских и эстетических воззрениях предтечи современного
экзистенциализма датского философа С. Кьеркегора. Не случайно
его докторская диссертация «О понятии иронии» (1848) посвящена
одной из излюбленных тем романтической эстетики. Иррационали-
стическую линию в романтизме продолжил и развил Артур
Шопенгауэр. Правда, его первое философское сочинение «Мир как воля
и представление», написанное в 1818 году, оказалось совершенно
неизвестным и непопулярным у современников. Лишь во второй
половине XIX века в связи с поражением революции 1848 года и
усилением реакционных и пессимистических идей учение Шопенгауэра
получает огромную популярность в буржуазной философии и
эстетике как последовательное обоснование иррационалистических
взглядов на искусство и прекрасное.
1 Ф. Меринг, Литературно-критические статьи, М.—Л., 1934, т. Г,
стр. 726.
229
С другой стороны, романтизм расшатал метафизические
построения буржуазных эстетических систем XVIII—XIX веков, наметил
диалектический и исторический подход к искусству, исследовал
национальные и народные истоки художественного творчества. Эти
стороны романтической эстетики оказали значительное влияние на
целый ряд передовых писателей и мыслителей XIX века, например
на Гейне в Германии, Гюго во Франции.
В целом при всей своей сложности, противоречивости,
непоследовательности романтизм представлял собой значительный этап в
развитии немецкой эстетической мысли XIX века.
В. П. ШЕСТАКОВ
ГЕЛЬДЕРЛИН
1770-1843
За Гельдерлином давно уже утвердилась слава одного из великих поэтов
и видных мыслителей Германии; его поэзия наряду о лирикой Гёте и драмами
Шиллера стала одним из высоких достижений немецкой классической
литературы. Короткая творческая биография поэта почти целиком заполнена
болезнями, бедностью, литературным неуспехом. Фридрих Гельдерлин, сын бедного
пастора, учился в Тюбингенской семинарии (вместе с Шеллингом и Гегелем);
позднее был вынужден служить гувернером в богатых семействах. Вскоре,
в 1802 году, он заболевает шизофренией и живет еще сорок лет, не приходя
в сознание. Хотя талант Гельдерлина ценили Гёте, Август Шлегель, Брентано,
почти все произведения поэта были напечатаны только посмертно и получили
заслуженную известность уже в XX веке.
Решающим фактом для взглядов и литературной работы Гельдерлина было
его особое понимание античности. Греция означала для Гельдерлина расцвет
личности, гармонию внутреннюю и внешнюю, братство людей в союзе с
природой и богами. «Богоравные» греки были для Гельдерлина идеальными
людьми, и он верил, что когда-нибудь это прошлое вернется на землю. Эта мечта
об Элладе,. о лучшем мире выросла из постоянного отвращения Гельдерлина
к современной ему Германии с ее затхлостью, узостью и мелочной княжеской
тиранией.
Не случайно Гельдерлин в молодости приветствовал французскую
революцию. Правда, дальнейший ход революции (якобинство, а затем термидор)
уже не вызвал у него сочувствия. Но Гельдерлин до конца жизни сохранил
верность идеалу свободы и человеческого братства.
В стихах Гельдерлина развернут целый мир широких и смелых
поэтических концепций. Как поэт Гельдерлин воспитался на греческих образцах; об
этом говорит обновление мифа, законченность стихотворной формы и большая
сжатость выражения. Кроме стихов Гельдерлину принадлежат отрывки мону-
230
ментальной трагедии «Эмпедокл» (1799—1800), лирический роман «Гиперион»,
законченный в 1797—1799 годах и изданный тогда же при содействии Шиллера.
Не будучи философом, Гель дер лин выдвинул ряд глубоких и плодотворных
идей, повлиявших на развитие немецкой мысли. Философские взгляды поэта
полнее всего изложены в его письмах и в некоторых частях романа
«Гиперион».
Одухотворение природы, признание ее автономного бытия, критика
рационализма Фихте, интерес к античной диалектике — все это делает взгляды Гель-
дерлина важным звеном в развитии немецкой философии. Поэт оставил также
ряд заметок по литературе и эстетике, которые при всей их разрозненности
содержат ряд проницательных суждений (о природе поэтических жанров, о
поэмах Гомера), отчасти предвосхищающих идеи Гегеля. Особый интерес
представляют те поэтические и прозаические тексты, где ясно выражена самая
главная и своеобразная тема Гельдерлина: его понимание античности.
Знакомясь, хотя бы и отрывочно, с сочинениями и письмами Гельдерлина,
читатель встречается с мыслителем совершенно особого склада. Законченной
системы идей у Гельдерлина нет: форма его философии — поэтический миф:
смысл подчас граничит с легендой; оружие его мысли — не аргумент, а
поэтическое прозрение. Но эти прозрения не имеют ничего общего с дурным
субъективизмом; Гельдерлин проникает здесь в самую суть проблем искусства и
истории.
Как и большинство немецких мыслителей после Винкельмана, Гельдерлин
указывает, что великое греческое искусство неотрывно от афинской
демократии. Но он толкует эту демократию как своего рода безгосударственное
правление. Афинская республика была, по Гельдерлину, формой и проявлением, а
не причиной греческой вольности. Спарта с ее культом законов, войны и силы
резко осуждается. Поэт ведет здесь глубокий спор с идеологией просветителей,
отвергает их проповедь жертвенности, их культ государственной формы и
отвлеченной гражданской добродетели. Острота этого спора продиктована
буржуазным финалом французской революции.
Требуя ограничить права государства, Гельдерлин указывает на более
простые и древние нормы человеческого общежития. Яснее всего это сказано в
стихотворении «Диотима»: люди должны жить «как леса дружные вершины».
Здесь заметен не только протест против «бронзовой гражданственности» (слова
из письма 1801 года), но и неосознанная близость поэта к традиции ранних
социалистических мечтателей. Гельдерлин пишет свою Элладу такими же
радостными красками, как Томас Мор писал свою страну Утопию, и Кампанелла—
Город солнца.
Другая своеобразная черта взглядов Гельдерлина — необычайно высокое
понимание красоты. Красота как бы перводвигатель мира: ею создано не
только искусство, но и религия, философия, даже государственные формы.
Несомненно, здесь слышатся слова художника, его философская лирика; но надо
помнить, что красота для Гельдерлина — это прекрасная человечность, та
231
личная гармония, которая немыслима без гармонии социальной. Идея красоты
неотделима здесь от критики антигуманных деспотии, от призыва к
справедливой жизни. Если добавить, что красота и поэзия выступают у Гельдерлина
в единстве с философией (то есть с глубоким содержанием), то станет ясно,
что философский гимн красоте у Гельдерлина вряд ли можно отождествить
с позднейшим эстетизмом.
Идеи Гельдерлина, как и его поэзия, стали живым наследством для
немецкой литературы наших дней. Недаром Томас Манн в знаменитой статье
«Социализм и культура» (1929) писал о необходимости союза «консервативной
идеи культуры с революционной общественной мыслью», союза Афин и
Москвы, Гельдерлина и Маркса К Имя Гельдерлина звучит здесь как синоним
слов «немецкое искусство», как апофеоз несравненной тонкости и сложности
германской культуры,— и это не случайная обмолвка писателя, а мнение всей
передовой Германии.
ИЗ «ГИПЕРИОНА»
[Поездка в Афины 2].
Мы выплыли из гавани ранним утром, когда пел петух. И мы
и весь мир вокруг нас — все блистало юной свежестью. Золотая
безбурная юность жила в наших сердцах, И жизнь наша в ту
минуту была подобна жизни новорожденного острова в океане, когда
там зацветает первая весна.
Моя душа рядом с Диотимой давно уже обрела гармонию;
сегодня она была вдвойне чиста, и, словно в единой золотой точке, во
мне сосредоточились все мои силы, прежде нестройные и
дремлющие.
Мы говорили меж собой о достоинствах древнего народа
афинского, откуда они возникли и в чем они видны.
Один из друзей сказал, что всему причиной был климат, другой —
искусство и философия, третий — религия и образ правления.
Афинское искусство, религия, философия и образ правления,—
молвил я, — это цветы и плоды дерева, но не корень и родная почва.
Вы принимаете следствия за причину.
Кто утверждает, что все это создал климат, пусть помыслит^ что
мы и ныне живем в этом климате.
Никем и ни в чем не стесненным, свободным от насильственных
влияний, как ни один другой народ земли,— таким рос народ афин-
1 Th. Mann, Gesammelte Werke, Bd. ll,.Berl., 1956, S. 714.
2 В этом отрывке из романа «Гиперион» в философских беседах Гипериона,
его подруги Диотимы и их друзей высказаны идеи Гельдерлина об
общественной справедливости, о воспитании человека, о греческом искусстве как
синтезе красоты и истины.
232
ский. Завоеватель не гнетет его, военное счастье не кружит ему
голову, служение чужим богам не притупляет ум, и поспешная
мудрость не торопит его навстречу преждевременной зрелости. С
детства афиняне предоставлены самим себе, как зреющая жемчужина.
О них почти ничего не известно, вплоть до времен Гиппарха и Пи-
систрата. Лишь малыми силами они участвуют в Троянской войне,
где многие греческие народы, как в теплице, до времени
пробудились и зацвели. Великая судьба не нужна для воспитания человека.
Сыновья такой матери — гиганты, мощные телом, но до красоты,
или, иными словами, до человечности, им не дожить никогда, разве
что в поздние годы, когда все их противоречия, утомясь от жестокой
борьбы, заключат мир меж собой. [...]
Спартанцы навсегда остались фрагментом в истории, ибо тот,
кто не был никогда настоящим ребенком, вряд ли станет когда-либо
настоящим мужем.
[...] Итак, повторяю: природа все устроила так хорошо, что
афиняне выросли в свободе от всех насильственных воздействий и при
умеренном достатке; более она ничего не могла сделать.
Не стесняйте человека ни в чем от самой его колыбели, не губите
тугую почку его души, малую хижину его детства, не делайте мало
добра, чтобы ему не могло недоставать вашего участия и он не мог
уловить различия меж собой и вами, не делайте много добра, чтобы
он не почувствовал вашу или свою собственную силу и не мог
уловить различие меж собой и вами. Иными словами, пусть он как
можно дольше не догадывается, что есть еще что-либо на свете,
кроме него самого; только тогда станет он человеком. Но человек —
это бог, если он истинный человек. А если он бог,— он
прекрасен.
Удивительно! — воскликнул один из друзей.
Еще никогда ты не высказывал так ясно все, что я чувствую,—
молвила Диотима.
Это ты меня научила,— ответил я.
Итак, афинянин стал человеком,— продолжал я,— он должен
был стать им. Он вышел прекрасным из материнских рук природы,
прекрасным душой и телом, как говорят обычно.
Первая дочь человеческой, божеской красоты — это искусство.
В нем молодеет и обновляется божественный человек. Он хочет
увидеть сам себя и потому ставит перед собой образ своей красоты. Так
создал человек своих богов. Ибо вначале человек и его боги были
одно, и одна вечная красота жила в мире, не сознавая себя. Я
говорю словами мистерий, но это правда.
Первая дочь божеской красоты — это искусство. Так было у
афинян.
233
Вторая дочь — религия.
Религия — это любовь к красоте. Мудрец любит ее самое,
бесконечную и всеобъемлющую, народ же любит ее детей, богов, которые
являются ему в разноликих образах. Так было у афинян. А без
такой любви к красоте государство — лишь сухой скелет,
безжизненный и бездушный, и все мысли и дела человеческие — дерево без
кроны, колонна с обломанным верхом.
Что именно такая любовь вдохновляла греков, и в особенности
афинян, что их искусство и религия были дочерьми вечной красоты,
беспорочной человеческой природы и только эта беспорочная
природа могла породить их,— это ясно видно, если смотреть
непредубежденным оком на создания их божественного искусства и ту
религию, в обрядах которой они любили и чтили эти создания.
Ошибки и промахи бывают всюду, есть они и здесь. Но
неоспоримо верно, что в образцах греческого искусства всего чаще мы
видим зрелого человека. Здесь нет будничного или чудовищного, как
у египтян или готов, здесь виден человеческий разум, человеческий
облик. Менее, чем иные народы, греки впадают в крайности
сверхчувственного или чувственного. И, пребывая в золотой середине
человечности, их боги возвышаются над другими богами.
[...] Из духовной красоты афинян родилось и их чувство
свободы. [...] Афинянин не хочет сносить произвола, его божественная
природа не терпит стеснения, и он не всегда может сносить
законность, ибо она не всегда нужна ему.
[...] Хорошо! — перебил меня один из друзей.— Мне это ясно,
но как этот поэтический и глубоко верующий народ мог стать
народом философов, я этого не понимаю.
Напротив,— молвил я,— без поэзии они никогда не стали бы
народом философов.
Что общего у философии,— отвечал он,— что общего у этой
высокой и холодной науки с поэзией?
Поэзия,— молвил я, уверенный в моей правоте,— есть начало
и конец этой науки. Наука эта, как Минерва из головы Юпитера,
рождается из поэзии бесконечного божественного бытия. И все
несоединимое в конце концов соединяется в ней, чтобы вернуться в
таинственную реку поэзии.
[...] Великое изречение Гераклита εν διάφερον εάυτω (единое
в самом себе различное) могло принадлежать только греку, ведь
в нем заключена вся сущность красоты, и, пока оно не было
известно, не могло быть никакой философии.
Теперь можно было давать законы, целое было известно. Цветок
раскрылся, и можно было его подробно рассматривать.
Момент красоты открылся людям, он явился в том вечно едином,
234
что было жизнью и было мыслью. Можно было разбирать его,
разлагать мыслью и вновь собирать расчлененное [...].
Теперь вы поняли, почему именно афиняне должны были стать
народом философов? [...]
От одного рассудка не может произойти философия, ибо
философия не есть ограниченное признание уже известного.
От одного разума не может произойти философия, ибо
философия не есть слепое требование бесконечных успехов в расчленении
и мысленном собирании какого-либо предмета.
Но если порываниям разума светит божественное εν διάφεραν
έάϋτω, идеал красоты, то разум желает не слепо, но знает, чего
и зачем он хочет.
Но если рассудку в его делах сияет, как майский полдень в
мастерской художника, солнце красоты, то он, хотя и не заносится
мечтой, не забывает своей черной работы, но с любовью думает
о скором празднике, когда он будет бродить в весеннем сиянии,
омолаживающем душу.
Так говорил я, когда наш корабль приближался к берегу Аттики.
Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. II, Berl., 1943,
S. 183—191. Перевод Г. И. Ратгауза.
ИЗ ПИСЬМА БРАТУ
1 января 1799 года
Благотворное действие, которое оказывают философские и
политические сочинения на развитие нашей нации,— неоспоримо, и,
может быть, именно немецкий народный характер, если я верно его
постиг по моему малому опыту, более всего нуждается в таком
воздействии. [...] Однако интерес к философии и политике, будь он даже
более распространен и более серьезен, чем ныне, совершенно
недостаточен для развития нашей нации, и надо пожелать, чтобы
наконец кончилось чудовищное недоразумение, которое принижает
искусство, и особенно поэзию, и в глазах самих художников и в
глазах любителей искусства. Очень много говорилось о воздействии
изящных искусств на развитие человека, но всегда в итоге
получалось, что никто не принимал этой мысли всерьез, и это понятно,
ибо никто не думал, что же такое искусство, и особенно поэзия, по
самой своей природе. Всех обманывал непритязательный внешний
облик поэзии, который, правда, неотделим от ее существа, но
совершенно с ним не тождествен; поэзию считали игрой, ибо она
является нам в скромном обличье игры, и, естественно, ей
приписывали такое же действие, как и игре, а именно — развлечение. Но
это почти прямо противоположно тому действию, которое оказывает
235
истинная поэзия. Ибо поэзия помогает человеку собраться с
силами, она дарит ему покой, не бессодержательный, а живой покой, где
все наши силы играют жизнью и только вследствие своей глубокой
гармонии не проявляют себя во внешнем действии. Она сближает и
сплачивает людей и тем отличается от игры, которая также
сближает людей, давая им отдых от заботы, но живое своеобразие
личности в игре проявиться не может.
[...] Посмотрим, не смогу ли я добавить несколько слов к тому,
что тебе писал о поэзии. Поэзия, как я уже говорил, сближает
людей совсем иначе, чем игра, она — если это истинная поэзия, если
она действует истинно,— сближает между собой людей со всем их
многообразным страданием, и счастьем, и порывом, и надеждой, и
страхом, со всеми их идеями и добродетелями, со всем великим
и малым, что в них есть, и сплачивает их все более и более в одну
живую многочастную общность, ибо именно такой должна быть сама
поэзия, а какова причина, таково и следствие. Не так ли, дорогой,
подобная панацея пошла бы немцам на добрую пользу даже после
всех политических и философских лекарств: ведь в конечном счете
философско-политическое образование имеет один недостаток: оно
объединяет людей в сознании важных, существенно необходимых
отношений, в сознании долга и права, но как мало этого для полной
гармонии человека! Пусть передний и задний план картины
написан по правилам оптики, но такой ли ландшафт можно поставить
рядом с живым созданием природы? А ведь лучшие из немцев
считают, что, если бы только устроить мир по славным законам
симметрии, все будет отлично. О Греция! Куда исчез твой гений, твоя
тихая радость? Даже я, при всей моей доброй воле, только плетусь
и в мыслях и на деле за этим неповторимым народом, и все, что я
делаю и говорю, выходит тем нескладнее и неуместнее, что я сам,
словно гусь в мелкой воде, стою в моем столетии и, беспомощно
хлопая крыльями, хочу взлететь к греческому небу. Не сердись на меня
за это сравнение.
Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. Ill, S. 365—
731. Перевод Г. И. Ратгауза.
ДВА ОТРЫВКА ОБ АХИЛЛЕ
1
Меня радует, что ты заговорил об Ахилле. Он мой любимец меж
прочих витязей, такой сильный и нежный, самый яркий и
недолговечный цвет племени героев, «рожденный на краткое время» (как
говорит Гомер),— именно потому, что он так прекрасен. Я почти
236
убежден, что старый поэт потому лишь так мало дает ему
действовать и позволяет шуметь остальным, пока его герой сидит в шатре,
чтобы как можно меньше вмешивать его в суету Троянской войны.
Дела же Улисса он (Гомер.— Перев.) может описывать сколько
угодно. Ведь этот царь похож на мешок мелкой разменной монеты:
считать такую монету надо долго, много дольше, чем золото.
2
Но более всего я люблю и уважаю поэта поэтов за его Ахилла.
Ни с чем не сравнима та любовь и тонкость разума, с какой он
увидел, и выдержал, и возвысил этот характер. Вспомни почтенного
Агамемнона, вспомни Одиссея и Нестора с их мудростью, шумного
Диомеда, бешено гневного Аякса и сравни их с Ахиллом, с его
высоким гением, всепобедной силой и тонкой меланхолией, с Ахиллом,
этим сыном богов и enfant gate 1 матери-природы. Вспомни, как
поэт ставит юношу, исполненного львиной силы, притягательности
и разума, между старческой мудростью одних и грубостью других,
и ты увидишь чудо искусства в характере Ахилла.
[...] Видно, как Гомер уважает своего любимого героя. [...] Он
не хотел замешивать божественного юношу в суету Троянской
войны. Идеальное не должно было являться в будничном виде.
Там же, стр. 247—248.
Перевод Г. И. Ратгауза.
ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «АРХИПЕЛАГ»
Но увы! блуждает в ночном холодном Аиде
Без божества наш нерадостный род. И каждый прикован
К грузу собственных дел, и в кузнице яростно-шумной
Каждый внимает себе; и без устали трудится каждый.
Мощной рукой куют металл, но рабское дело
Будет бесплодно вовек, как злая любовь Эвмениды.
Но, пробудившись от грозных снов, душа человека
Снова младая взойдет, и любови древней дыханье —
Вы его знали давно, Эллады радостной дети,—
К новым дойдет временам, и. вольные очи еще раз
Тихую поступь бога природы в небе увидят...
Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. IV, 1943,
S. 99. Перевод Г. И. Ратгауза.
1 — балованный ребенок (франц.).
237
ДИОТИМА ]
Молчишь и страждешь, всеми непонята,
Душа благая! Клонишь свой взор к земле.
Бежишь дневных лучей... Напрасно
Ищешь ты близких под этим солнцем.
Я говорю о царственном племени.
Где люди-братья жили, как дружные
Верхи раскидистого леса
Под всеобъемлющим, ясным небом.
Сердца их звучно пели хвалу любви,
Земле отцов, богам-прародителям,
И богочеловек свободный
Жил, не страшась неотступной смерти.
Давно ушли они, величавые,
Но плач о них все будет звучать, пока,
О тех веках напоминая,
Древние звезды восходят в небе.
О плач по мертвым — о неутешный плач!
Но время все целит. Небожители
Всесильны, и природа снова
Вспомнит о древнем своем господстве.
Еще могильный холм не насыплют нам,
Как это слово сбудется, милая!
Среди богов, среди героев
Встретишь ты солнце своей отчизны.
Там же, стр. 25. Перевод Г. И. Ратгауза.
Ф. ШЛЕГЕЛЬ
1772-1829
Фридрих Шлегель — знаменитый критик, филолог, поэт, один из вождей
немецкого романтизма. В ранних статьях, посвященных античности, Шлегель
под влиянием Винкельмана рассматривает греческую поэзию в тесной связи
1 Греческое имя, заимствованное Гельдерлином из диалогов Платона. Стихи
обращены к Сюзетте Гонтар (1769—1802), подруге поэта.
238
с общественной жизнью и нравами греков («О школах греческой поэзии»
1794). Приводимая ниже работа этого периода «Об изучении греческой поэзии»
(1796) содержит резкую критику поэзии нового времени, имеющей
«искусственное» происхождение и устремленной к характерному и индивидуальному.
Грядущая «эстетическая революция» должна вернуть искусство к его истинной
цели—объективно прекрасному, свидетельством чего является творчество Гёте.
В статьях этого времени о Г. Форстере и Лессинге Ф. Шлегель выдвигает идеал
«общественного», всесторонне образованного писателя, «универсальнога гения»,
не чуждого ни одной области человеческой культуры.
В конце 90-х годов Ф. Шлегель — в центре кружка иенских романтиков.
В 1798 году вместе с братом Августом он издает журнал «Атенеум», где
публикует свои «Фрагменты» (1798), содержащие в форме отдельных заметок и
афоризмов теорию романтической поэзии. Во «Фрагментах» Ф. Шлегель
отказывается от односторонней ориентации на античность и исходит из признания
равноправности античного и современного, «романтического» искусства. Данте,
Шекспира и Гёте он называет «великим трезвучием нового времени».
Романтическую поэзию он определяет как «прогрессивную универсальную поэзию»,
постоянно развивающуюся, соединяющую в себе все различные виды и жанры
поэзии и связывающую поэзию с философией. Роман — основная форма
романтической поэзии, он соединяет поэзию с прозой, гениальную
непосредственность с критическим анализом, искусство с природой.
С этими идеями тесно связано понятие «романтической иронии»,
возникшее у Ф. Шлегеля не без влияния философии Фихте. Ирония, это постоянное
«самолародирование», означающее снятие всех односторонних подходов к
предмету и ограниченных точек зрения, характеризует не только отношение
художника к изображаемому предмету, но и отношение его к своему
произведению, его возвышение, «парение» над ним. Она выражает сознание
неразрешимого противоречия между абсолютным и условным, между невозможностью
и необходимостью исчерпывающего высказывания художника. В духе
«романтической иронии» написан роман Ф. Шлегеля «Люцинда» (1799), вызвавший
бурные нападки на автора.
В «Разговоре о поэзии» (1800), частью которого являются «Речь о
мифологии», «Письмо о романе», статья «Эпохи мировой поэзии» и др., Ф. Шлегель
отстаивает историческое изучение искусства и мечтает об универсальной
энциклопедии наук и искусств в связи с историей человеческого духа. Он выступает
в защиту гротеска и исповеди, в которых видит «единственные романтические
порождения нашего неромантического века». В «Речи о мифологии» Ф. Шлегель
сожалеет, что у нового времени нет мифологии, в которой древние находили
почву для своей поэзии. Он призывает к созданию новой мифологии, зачатки
которой видит в немецком идеализме, новейшей натурфилософии, а также в
произведениях романтической школы.
В 1802 году Ф. Шлегель в Париже изучает изобразительные искусства,
восточные языки и литературы. В 1808 году выходит в свет его книга «О языке
239
и мудрости индийцев», имевшая большое значение для сравнительного
языкознания. К этому времени относится поворот Ф. Шлегеля к католической
реакции, отразившийся в его «Истории древней и новой литературы» (1815). В 1809
году он поступает на австрийскую службу, становится сотрудником Меттер-
ниха, проповедует объединение всех религий под эгидой папства. Эти
католические тенденции он проводит в своих последних работах—«Философия жизни»
(1828) и «Философия истории» (1829). Гейне писал о Фридрихе Шлегеле в
«Романтической школе», что в «муках нашего времени он видел не муки рождения
нового, а агонию смерти, и в смертельном ужасе бежал он в шаткие развалины
католической церкви» К
Идеи Ф. Шлегеля иенского периода оказали большое влияние на развитие
литературы и искусства XIX века. Во Франции эти идеи (через посредство
Августа Шлегеля) были популяризированы в книге де Сталь «О Германии».
Теория «романтической иронии», столь характерная для творчества Тика,
Гофмана, позднее — Гейне, имела большое значение для выявления
существенных особенностей эстетики романтической школы.
ОБ ИЗУЧЕНИИ ГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
При знакомстве с современной поэзией сразу бросается в глаза,
что она либо еще не достигла цели, к которой стремится, либо же
ей вообще не свойственно устремление к четко поставленной цели;
развитие ее не идет в каком-либо определенном направлении, так
что совокупность явлений, составляющих ее историю, не имеет
закономерной связи: взятая в целом, она не представляет единства.
Правда, в современной поэзии нет недостатка в таких
произведениях, перед неисчерпаемо богатым содержанием которых пасует
восторженный ум, и восхищенный взор в смущении отступает перед
гигантской их высотой, нет недостатка в произведениях,
увлекающих и покоряющих сердца своей огромной мощью. Однако самые
мощные потрясения, самое многогранное воздействие зачастую
менее всего способно вызвать ощущение удовлетворенности. Как раз
лучшие творения современных поэтов, возвышенная сила и
мастерство которых достойны полного уважения, нередко лишь для того
собирают воедино духовные силы, чтобы сразу же мучительно их
разорвать. После них в душе остается какой-то ранящий шип, и они
больше берут у нее, нежели дают ей. Удовлетворение возникает
лишь из всей полноты наслаждения, когда сбываются все
возбужденные ранее ожидания, когда не остается места ни малейшему
беспокойству и смолкает всякое томление. Именно этого и недостает
1 Гейне, Собрание сочинений, т. 6, М., Гослитиздат, 1958, стр. 189
240
поэзии нашей эпохи. В ней множество разрозненных великолепных
красот, но нет согласованности и завершенности, нет спокойствия
и того умиротворения, которое только и может проистечь из них;
нет завершенно прекрасного, цельного и устойчивого, нет такой
Юноны, которая в самое мгновение пламенных объятий не
превратилась бы в бесплотное облако. [...]
Великой заслугой новой поэзии является то, что в ней нашло
защиту и прибежище, зачастую родную почву и внимательный уход
много доброго и благородного, которое не получило признания
и было подавлено в законодательстве, общественном устройстве
и школьной премудрости. Сюда, в поэзию, как в единственное
неоскверненное место всего греховного столетия, немногие
благородные люди принесли и сложили, словно на алтарь человечества, цветы
своей возвышенной жизни, лучшее, что они сделали, мыслили, что
пережили, к чему стремились. Но разве правда и добрые нравы не
столь же часто, если не чаще, служили главной целью этих поэтов,
чем красота? Проанализируйте намерение художника, не важно,
выражено ли оно ясно, или же он не вполне осознанно следует
своему влечению,— изучите суждения знатоков и приговоры
публики. Почти всегда вы найдете скорее любой другой принцип,
молчаливо или открыто признанный высшей целью, основным законом
искусства, решающим мерилом ценности произведения, но только
не красоту. Последняя до такой степени не является господствующим
принципом поэзии, что многие из лучших произведений, вне всяких
сомнений, служат изображению безобразного, так что приходится
с сожалением согласиться наконец с тем, что в самом деле
существует изображение смятения в его наибольшей полноте, отчаяния
при изобилии всяких сил, которое требует от поэта не меньшей,
если не более высокой творческой потенции и художественной
мудрости, чем изображение полноты и силы в случаях полнейшей
согласованности. Самые прославленные произведения современной
поэзии, по-видимому, отличаются от этого рода произведений скорее
в количественном отношении, чем по существу, и если даже иногда
и встречается в них смутное предчувствие совершенной красоты,
то оно выражено не в спокойном наслаждении, а в
неудовлетворенности и томлении. И даже нередко поэт тем дальше отходил от
красоты, чем настойчивее он к ней стремился. Грани науки и
искусства, истины и красоты настолько смешались, что едва ли
непоколебимо само убеждение в незыблемости этих извечных граней.
Философия говорит языком поэзии, а поэзия — языком философии*
историю толкуют как поэзию, в поэзии ищут историю. Даже роды
иоэзии обменялись своими задачами: лирическое настроение
становится предметом изображения, а драматический сюжет вписывается
9 История эстетики, т. III 241
в лирическую форму. Эта анархия не сводится к нарушению всего
лишь внешних граней, но распространяется на всю область вкуса
и искусства. [...]
И даже теория как бы совсем потеряла надежду найти опорную
точку в этой вечной изменчивости. Общественный вкус — но
можно ли вообще обнаружить его там, где не существует общественных
нравов? Нет, точнее, мода, гримаса общественного вкуса ежеминутно
меняется, кадит новому кумиру. [...] Обычно за каждым самобытным
художником, покуда его еще несет вверх волна моды, следует рой
бесчисленных ничтожных подражателей, до тех пор, пока в
результате нескончаемых перепевов и искажений великий образец не
превратится в нечто будничное, тошнотворно скучное и на смену
прежнему обоготворению не придет отвращение или забвение навеки.
Бесхарактерность кажется единственным характерным признаком
новой поэзии, беспорядочное смешение царит во всех произведениях,
беззаконие — закон ее истории, к скептицизму приводит ее теория.
И даже национальное своеобразие утеряло определенные, четкие
свои грани. Порой кажется — литература · французская и
английская, итальянская и испанская, словно на маскараде, обменялись
своими национальными чертами. А немецкая литература —
настоящая кунсткамера: здесь собраны национальные черты любой эпохи,
любых стран, и только немецкая национальность, как говорят, не
представлена в этом собрании. И даже более культурная часть
нашей публики, ненасытно жадная к материалу и, по существу,
безразличная ко всему, что связано с формой, не требует от писателя
ничего, кроме интересной индивидуальности. Лишь бы вещь
производила впечатление, лишь бы впечатление было сильным и новым,
а способ, которым оно достигается, и материал, в котором оно
воплощено,— к этому публика так же равнодушна, как и к тому,
сливаются ли отдельные впечатления в законченное, совершенное
целое. [...]
Но неужели нельзя найти путеводную нить, которая помогла бы
распутать эту непонятную путаницу, отыскать выход из этого
лабиринта? Ведь должна же существовать какая-то возможность
объяснить происхождение, состав и причину столь многих странных
особенностей современной поэзии. Быть может, нам удастся вывести
из духа ее прежней истории также и смысл ее теперешних
устремлений, направление ее последующего развития и ее будущую
цель. [...]
Как всякая современная культура, так и современная поэзия
представляет собой некое связное целое. [...]
Уже широкое проявление в современной поэзии взаимного
влияния (разных народов) указывает на их внутреннюю связь. Начиная
242
с эпохи восстановления наук, между разными национальными
литературами крупнейших и наиболее культурных народов Европы
непрестанно шло взаимное подражание. Итальянская, французская
и английская манера, каждая из них имела свою золотую эпоху,
когда она деспотически подчиняла себе вкус всех остальных
культурных европейских стран. Одна только Германия до настоящего
времени всего лишь воспринимала самые разнородные чужеземные
влияния, но не оказывала обратного воздействия. Благодаря этому
общению все больше стирается первоначальная резкость
национального характера, и он наконец почти совсем исчезает. Вместо него
возникает общий европейский характер, и история любой
национальной литературы современности представляет собой не что иное,
как постеленный переход от изначально самобытного характера
к позднейшему, искусственно образовавшемуся характеру. Однако
уже с самого начала исконно самобытные особенности национальных
литератур имеют между собой так много общего, что можно видеть
в них ветви единого ствола — сходство языков, стиховых размеров,
крайне специфических родов поэзии. До тех пор, пока
фантастические сюжеты рыцарских времен и христианские легенды составляли
мифологическую основу романтической поэзии — сходство материала
и духа изображения так велико, что национальное различие почти
исчезает в общем потоке. Самый характер той эпохи был проще
и единообразнее. Однако и после того как в результате полного
переворота европейский мир получил совсем новый вид и с
восхождением третьего сословия полнее выявились национальные характеры
и расхождение их возросло, у них все еще сохранилось
чрезвычайно много общего. Сходство оказало влияние и на поэзию, оно
сказалось не только на характере тех жанров, материалом которых
была жизнь бюргеров, и на духе всех произведений, но и в
появлении общих своеобразных явлений. Правда, некоторые из этих
черт, пожалуй, еще можно было бы объяснить общим
происхождением, внешним соприкосновением, короче говоря, причинами
внешними. Но имеются у современной поэзии и такие примечательные
особенности, которые решительно отличают новую поэзию от всех
остальных, известных нам из истории, особенности, сущность и
назначение которых нельзя удовлетворительно объяснить иначе, чем
из общности внутреннего принципа.
Сюда относится в высшей степени показательное упорство всех
народов Европы в подражании античному искусству, от чего их не
могли полностью отвратить никакие неудачи. Последние только
рождали попытки по-новому решить эту задачу. Даже то
странное соотношение теории и практики, когда вкус — как в лице
художника, так и в лице публики — требует от науки не только
9*
243
истолкования своих проявлений и объяснения своих законов, но и
практического поучения, хочет, чтобы наука указала ему цель,
определила направление творчества и закон искусства. Колеблясь, не
находя опоры внутри себя, заболевший вкус ждет исцеления от
рецептов врача или знахаря, лишь бы тот сумел обмануть своим
диктаторским апломбом простодушную его легковерность.
К числу особенностей современной поэзии относится резкий
контраст высокого и низкого искусства. В непосредственном соседстве
живут — и это особенно характерно для наших дней — две
различные поэзии; каждая имеет свою особую публику и идет своим путем,
не считаясь с другой. Они ни в малейшей степени не обращают
внимания друг на друга, разве только когда одна случайно
натолкнется на другую, они взаимно проявят презрение и насмешку,
зачастую вследствие затаенной зависти к популярности одной или
к благородному тону другой. Публика, привыкшая к сравнительно
грубой пище, настолько наивна, что отвергает всякую поэзию,
выражающую мало-мальски возвышенное стремление, полагая, что она
создана только для людей ученых, для индивидуумов
исключительных, и может прийтись к месту разве только в особо торжественные,
редкие моменты жизни. Далее надо отметить самое решительное
преобладание характерного, индивидуального и интересного во всем
потоке современной поэзии, особенно же в поэзии более поздних
периодов. Наконец, сюда же относится непрестанное и неутолимое
стремление к новизне, к пикантному и кричащему, причем это
стремление все же остается неутоленным. [...]
Уже в самые ранние эпохи европейской образованности можно
обнаружить бесспорные свидетельства искусственного
возникновения современной поэзии. Правда, материал и движущая сила были
даны природой, однако не инстинктивное влечение вело к
образованию эстетического вкуса, а некие понятия, признанные
руководящими. [...]
Господством разума, искусственностью наших эстетических
воззрений объясняются все и даже самые удивительные особенности
нашей поэзии.
В период детства направляющего разума, пока теоретизирующий
инстинкт еще не способен самостоятельно что-либо произвести, он
охотно примыкает к какому-нибудь готовому воззрению, в котором
надеется найти объект всех своих постоянных устремлений —
всеобщую значимость.
Этим объясняется то удивительное подражание античному
искусству, к которому уже очень рано обратились все нации Европы,
на котором они постоянно настаивали, к которому они после
коротких перерывов возвращались вновь и вновь на новый лад. Потому
Ш
что обращенный к теории инстинкт надеялся именно здесь
удовлетворить свое стремление, найти искомую объективность.
Младенческий разум готов извлечь из единичного примера общее правило,
возвеличить то, что традиционно, санкционировать предрассудок.
Авторитет древних (как бы плохо их ни понимали, как бы ложно
им ни подражали) — это первый из основных законов того
стариннейшего эстетического догматизма, который был всего лишь первым
подготовительным шагом к созданию собственно философской
теории поэзии. [...]
Искусственность эстетической культуры нового времени ни
в чем так полно не проявляется, как в решительном преобладании
индивидуального у характерного и философского во всем потоке
новой поэзии. [...]
Огромный подъем характерного, заметный во всем эстетическом
развитии современной поэзии, проявляется и в других искусствах.
Разве не существует характерная живопись, интерес которой
состоит не в эстетическом, не в историческом, а исключительно в
физиологическом, то есть философском, где художник ищет выразить
не столько историческое, сколько идеальное. Она настолько же
превосходит поэзию в определенности индивидуального, насколько
уступает ей в широте, внутренней связи и завершенности. Даже
в музыке, совершенно вопреки природе этого искусства, преобладает
характеристика индивидуальных объектов. В драматургии также
неограниченно господствует характерное. Виртуозу мимики
приходится быть физическим и интеллектуальным Протеем,
перевоплощаться физически и духовно, вживаясь в каждую манеру, в каждый
характер до самых личных особенностей. При этом красоте
уделяется недостаточное внимание, часто бывает оскорблено приличие,
а мимический ритм и вовсе забыт. [...]
Собственное естественное развитие приводит характерную поэзию
к философской трагедии — этой полной противоположности трагедии
эстетической. Последняя есть высшее достижение прекрасной
поэзии, она сплошь состоит из лирических частей, конечным ее итогом
является высшая гармония. Первая же есть вершина искусства
дидактического и сплошь состоит из характерных элементов, конечным
ее результатом является высшая дисгармония. Катастрофа ее
трагична, чего нельзя сказать о всей ее массе: в то время как
сплошная чистота трагического есть необходимое условие эстетической
трагедии, правде характерного и философского искусства она
нанесла бы ущерб.
Здесь не место подробно развивать еще совершенно не известную
теорию философской трагедии. Но позвольте нам дополнить
поставленное понятие об этом роде поэзии, которое не только само по себе
245
представляет интересный феномен, являясь в то же время
интереснейшим документом для характеристики современной поэзии,
примером, по содержанию и законченности своей самым лучшим в своем
роде. [...]
В «Гамлете» все отдельные части развиваются с
необходимостью из всеобщего центра, и в свою очередь все на него
воздействуют. [...] Центр целого — в характере героя. Необычайная
ситуация оттесняет всю силу его благородной натуры в рассудок,
действенную же силу совершенно уничтожает. Душа его распадается,
словно при пытке разрываемая в разные стороны, и тонет в избытке
праздного рассудка, который более мучительно давит его, чем все,
с чем ему приходится иметь дело. Кажется, не существует более
совершенного изображения безысходной дисгармонии, которая и
является подлинным предметом этой философской трагедии, нет больше
ничего равного столь безграничному конфликту мыслящей и
действующей силы, чем характер Гамлета. Конечное целостное
впечатление от всей этой трагедии — безграничное отчаяние. Все
впечатления, которые казались большими и важными, исчезают как
ничтожные перед тем, что здесь предстает как конечный вывод всего
бытия и мышления, перед вечным колоссальным диссонансом,
пропастью, разделяющей человечество и судьбу.
На фоне всей современной поэзии эта драма выделяется как
важнейший документ для историка эстетической мысли. Сознание автора
проявилось в ней всего ярче. Здесь собралось воедино все, что
в других его произведениях рассеяно повсюду. Шекспир же среди
других художников — тот, в ком дух современной поэзии проявился
наиболее полно и выразительно. В нем соединились прекраснейшие
цветы романтической поэзии, гигантское величие готского
героического времени с тончайшими чертами современного общения, с
глубочайшей и богатейшей поэтической философией. В обоих
последних отношениях может казаться, что Шекспир предвосхитил
развитие нашего века. Кто превзошел его в неисчерпаемой полноте
интересного? В силе всех страстей? В неподражаемой правде
характерного? В неповторимой оригинальности? Он охватывает
своеобразнейшие эстетические преимущества новейших поэтов каждого
жанра своей беспредельной широтой, высшим совершенством и всем
своим своеобразием, не исключая эксцентрических особенностей
и ошибок, которые они за собой влекут. Можно назвать его без
преувеличения вершиной современной поэзии. [...]
Изображение его никогда не бывает объективным, но всегда
манерно, хотя я первый готов признать, что его манера
величайшая, его индивидуальность — самая интересная из всех до сих пор
известных. Не раз уже отмечалось, что оригинальный отпечаток его
246
индивидуальной манеры узнается безошибочно, что она
неподражаема. Возможно, что индивидуальное вообще может быть лишь
индивидуально воспринято и изображено. По крайней мере
характерное искусство и манера — всегда неразрывные спутники,
обязательно взаимно связаны. Под манерой понимают в искусстве
индивидуальное направление мысли и индивидуальное настроение
чувственности, проявляющиеся в произведениях, которые должны быть
идеальными.
При этом недостатке всеобщей значимости господством
манерного, характерного и индивидуального, разумеется, объясняется
и основное направление поэзии, даже всего эстетического развития
новейших поэтов, к интересному *. Интересным является каждый
оригинальный индивидуум, имеющий повышенное количество
интеллектуальности содержания или эстетической энергии. [...]
Среди разнообразнейших форм и направлений наблюдается —
хотя и в различной степени, но во всей массе новейшей поэзии —
одна и та же потребность в полнейшем умиротворении, одинаковое
стремление к абсолютному максимуму искусства. То, что сулила
теория, что искали в природе, что надеялись найти в каждом
отдельном идоле, что это, если не поиски эстетически высшего?
Но чем чаще заложенное в человеческой природе стремление
к полному удовлетворению кончалось разочарованием в единичном
и изменчивом, тем жажда эта становилась сильнее и неустаннее.
Лишь общезначимое, устойчивое и необходимо объективное может
заполнить этот огромный пробел, лишь прекрасное может утолить
эту духовную жажду. [...] Избыток индивидуального, таким образом,
сам ведет к объективному, интересное есть подготовка прекрасного,
и конечная цель современного искусства не может быть ни чем
иным, как высшей красотой, максимумом объективного
эстетического совершенства. [...]
Характер эстетической культуры нашего времени и нашей нации
выдает сам себя знаменательным и большим симптомом. Поэзия
Гёте — это заря настоящего искусства и чистой красоты. Сила
чувств, с которой уже выступил этот юноша, увлекая за собой
эпоху и народ, была его самым незначительным преимуществом.
Философское содержание, характерная правда его позднейших
1 Там, где громче всего говорится о прекрасном, при внимательном
изучении оказывается, что его основой обычно является лишь интересное. Пока
художника оценивают не по идеалу прекрасного, а по понятию виртуозности,
сила и искусство — лишь две различные точки зрения одного и того же
принципа эстетической оценки, и сторонники правильности отличаются от
сторонников гениальной личности не принципом, а лишь направленностью своей
критики на положительное или на отрицательное.—Яргш. Ф. Шлегеля.
247
произведений шли в сравнение с неисчерпаемым богатством
Шекспира. Да, если бы «Фауст» был закончен, он далеко превзошел бы
«Гамлета», шедевр Шекспира, с которым он, по-видимому, имеет одну
цель. Там — лишь судьба, событие, слабость, здесь — душа,
действие, сила. Настроение и устремление Гамлета — результат его
внешнего положения, сходное устремление Фауста проистекает из
его исконного характера.
Мне кажется несправедливым в отношении Гёте превращать его
в немецкого Шекспира. В характерной поэзии все же первенство
принадлежит, пожалуй, этому склонному к искусственности
англичанину. Целью немецкого поэта является объективность. Прекрасное
является истинным мерилом для оценки его достойной поэзии. [...]
Он стоит на грани между интересным и прекрасным, между
манерным и объективным. Нас не должно удивлять, что в
некоторых немногих его произведениях его собственная индивидуальность
проявляется еще слишком громко, что во многих других он по
настроению изменяется и принимает чуждую манеру. Все это остатки,
наследие эпохи характерного и индивидуального. И все же он умеет
вносить, насколько это возможно, и в манерное — некую
объективность.
Этот великий художник открывает перспективу поэзии на
совершенно новой ступени эстетической культуры. Его
произведения — это неоспоримое свидетельство того, что объективное
возможно, что чаяние прекрасного — не пустой бред разума. [...]
Поистине поразительно, как в наше время постоянно
ощущается потребность в объективном, как возрождается вера в
прекрасное и несомненное, если только эти признаки возвещают
появление лучшего вкуса. Кажется, действительно созрел момент, когда
должна произойти эстетическая революция, благодаря которой
объективное в эстетической культуре современных писателей может
стать господствующим. [...]
Для эстетической революции требуются две необходимые
предпосылки как предварительное условие ее возможности. Первая из
них — это эстетическая сила. Не только гений художника или
оригинальная мощь идеального изображения и эстетической энергии
не могут быть добыты или заменены. Существует также и
первоначальный природный дар истинного знатока, который хотя и можно
всячески развивать, когда он есть, но который и нельзя заменить
никакой культурой, когда его нет. Меткому взгляду, уверенному
такту повышенной возбудимости чувств, высшей впечатлительности
воображения нельзя ни выучиться, ни выучить других. Но и
счастливейшее дарование недостаточно для создания великого художника
или большого знатока. Без силы и широты нравственной
способного
сти, бе»з гармонии всего сознания или по крайней мере постоянной
склонности к ней никто не войдет в святилище храма муз. Поэтому
второй необходимой предпосылкой как для отдельного мастера
и знатока, так и для массы публики является нравственность.
Верный вкус является, можно сказать, проявлением развитого чувства
нравственного сознания добра.
Однако одной доброй воли недостаточно, так же как недостаточно
для законченного возведения здания лишь голого фундамента.
Выродившаяся и самой себе неверная сила нуждается в критике,
в цензуре, а последняя предполагает законодательство. Совершенное
эстетическое законодательство должно бы стать первым органом
эстетической революции. Ее назначением было бы слепую силу
направлять, противоборствующее приводить в равновесие, беспорядочное —
к гармонии, эстетической культуре в целом дать твердую основу,
уверенное направление и закономерное настроение.
Законодательную власть эстетической культуры современных художников не надо
долго искать. Она уже установлена. Это теория: потому что разум
с самого начала был направляющим принципом этой культуры.
Законченная эстетическая теория была бы не только надежным
указателем в развитии культуры, но уничтожением вредных
предрассудков она освободила бы творческую силу от многих оков и
очистила бы ее путь от терниев. [...] Но одна она, без опыта, была бы
пустой, так же как опыт без нее был бы путаным, лишенным смысла
и цели. Только в тесной связи с совершенной историей она могла
развивать учение о природе искусства и его разновидностях. Значит,
наука нуждается в опыте искусства, которое было бы совершенным
в своем роде примером, искусства как такового, особая история
которого была бы всеобщей естественной историей искусства.
Греческая поэзия в массе есть максимум и программа
естественной поэзии, и каждое отдельное произведение представляет в своем
роде совершенство. [...]
Вот вечная естественная история вкуса и искусства. В ней,
собственно, содержатся чистые и простые элементы, на которые следует
разложить смешанные продукты новейшей поэзии, чтобы раскрыть
все загадки в ее лабиринте. Здесь все отношения так подлинны,
первоначальны и определены необходимостью, что даже характер
каждого отдельного греческого поэта является уже чистым и
простым эстетическим воплощением. Например, нельзя более
определенно, наглядно и кратко определить стиль Гёте, чем сказав, что он
соединяет в себе стиль Гомера, Еврипида и Аристофана. [...]
F. Schlegel,Seine prosaischen Jugendschriften,
hrsg. von J. Minor, Bd. I, Wien, 1882, S. 85—118.
Перевод Φ. Гейман.
249
ФРАГМЕНТЫ
1798
Чем люди являются среди прочих творений земли, тем являются
художники по отношению к людям.
Благодаря художникам человечество возникает как цельная
индивидуальность. Художники через современность объединяют мир
прошедший с миром будущим. Они являются высочайшим духовным
органом, в котором встречаются друг с другом жизненные силы всего
внешнего человечества и где внутреннее человечество проявляется
прежде всего.
Критиковать поэзию можно только посредством поэзии.
Художественная оценка, не являющаяся сама по себе художественным
произведением — либо по своему материалу, либо по умению
показать, как возникает общее впечатление, либо благодаря прекрасной
форме и свободному тону в духе древнеримских сатир,— не имеет
никаких прав гражданства в мире искусства.
Вся история современной поэзии есть непрекращающийся
комментарий к краткому тексту философии; всякое искусство должно
стать наукой, всякая наука — искусством; поэзия и философия
должны объединиться.
Цицерон расценивает философские системы согласно их
пригодности для оратора, точно так же можно было бы спросить, какая из
них более всего соответствует потребностям поэта. Это, конечно,
не должна быть система, противоречащая принципам чувства и духу
общественности; или превращающая действительность в явление;
или воздерживающаяся от всякого определенного решения; или
ограничивающая порывы к сверхчувственному; или же нищенским
образом выводящая идею человека из внешних явлений.
Следовательно: не эвдемонизм, не фатализм, не идеализм, не скептицизм,
не материализм и не эмпиризм. Какого же рода философия
выпадает на долю поэта? Это творческая философия, исходящая из идей
свободы и веры в нее и показывающая, что человеческий дух диктует
свои законы всему сущему и что мир есть произведение его
искусства.
Французская революция, наукоучение Фихте и «Мейстер» Гёте
обозначают величайшие тенденции нашего времени. Кто противится
250
этому сопоставлению, кто не считает важной революцию, не
протекающую громогласно и в материальных формах, тот не поднялся
еще до широкого кругозора всеобщей истории человечества. Даже
в наших убогих историях культуры, которые чаще всего напоминают
снабженное бесконечными комментариями собрание вариантов
утерянного классического текста, иная маленькая книжка, в свое время
почти не замеченная толпой, играет большую роль, чем все, что
приводило эту толпу в движение.
Романтическая поэзия есть прогрессивная универсальная поэзия.
Ее назначение состоит не только в том, чтобы заново объединить все
обособленные виды поэзии и привести в соприкосновение поэзию
с философией и риторикой. Она стремится и должна то смешивать,
то растворять друг в друге поэзию и прозу, гениальность и
критику, поэзию художественную и естественную. Она должна придать
поэзии жизненность и дух общительности, а жизни и обществу
придать поэтический характер. Она должна превратить остроумие
в поэзию, насытить искусство серьезным познавательным
содержанием и внести в него юмористическое одушевление. Она
охватывает все, что только принадлежит поэзии, начиная с обширной
системы искусства, содержащей в себе опять-таки много иных систем,
кончая вздохом, поцелуем, которые живут в безыскусственной
песне ребенка. Она способна до такой степени отдаваться
изображенному, что можно подумать, будто основная ее сущность и
заключается в характеристике разного рода поэтических
индивидуальностей, и все же никакая другая форма столь совершенно не могла бы
выразить душу самого автора, так что многие художники,
намеревавшиеся дать только роман, в действительности изображали самих
себя.
Только романтическая поэзия, подобно эпосу, может быть
зеркалом всего окружающего мира, отражением эпохи. И все же она
способна витать на крыльях поэтической рефлексии между
изображаемым и изображающим, свободная от всякого реального и
идеального интереса, потенцируя эту рефлексию все снова и снова и как бы
в бесчисленном множестве зеркальных отражений умножая ее. Она
способна к высочайшему и многостороннему развитию не только на
пути от внутреннего к внешнему, но и на обратном пути. Ибо она
так организует целое своих произведений, что оно воспроизводится
во всех своих частях, благодаря чему перед ней открывается
перспектива безгранично возрастающего классического совершенства.
Романтическая поэзия в искусстве то же, что остроумие в философии
и общение, дружба и любовь в жизни. Прочие виды поэзии
закончили свое развитие и полностью поддаются анализу.
Романтики?
ческая же поэзия находится еще в процессе становления; более того,
самая сущность ее заключается в том, что она вечно будет
становиться, никогда не приходя к своему завершению. Она не может
быть исчерпана никакой теорией, и только ясновидящая критика
могла бы решиться на характеристику ее идеалов. Единственно она
бесконечна и свободна и основным своим законом признает произвол
поэта, который не должен подчиняться никакому закону.
Романтический жанр поэзии — это единственный, который есть нечто
большее, нежели отдельный жанр. Он является всей поэзией в ее
совокупности, ибо в известном смысле всякая поэзия есть и должна
быть романтической.
Сократовская ирония есть единственный случай, когда
притворство и непроизвольно и в то же время совершенно обдуманно.
Одинаково невозможно как вызвать ее искусственными ухищрениями,
так и выпасть из ее тона. Кому она не дана, для того и после самого
откровенного признания она останется загадкой. Она не должна
никого вводить в заблуждение, кроме тех, кто считает ее иллюзией
и либо радуется, видя это великолепное лукавство, которое
посмеивается над всем миром, либо злится, подозревая, что и для них не
делается исключения. В иронии все должно быть шуткой и все
должно быть всерьез, все простодушно-откровенным и все глубоко
притворным. Она возникает, когда соединяются чутье к искусству жизни и
научный дух, когда совпадают друг с другом и законченная
философия природы и законченная философия искусства. В ней содержится
и она вызывает в нас чувство неразрешимого противоречия между
безусловным и обусловленным, чувство невозможности и необходимости
всей полноты высказывания. Она есть самая свободная из всех
вольностей, так как благодаря ей человек способен возвыситься над
самим собой, и в то же время ей присуща всяческая закономерность,
так как она безусловно необходима. Нужно считать хорошим
знаком, что гармонические пошляки не знают, как отнестись к этому
постоянному самопародированию, когда попеременно нужно то
верить, то не верить, покамест у них не начнется головокружение,
шутку принимают всерьез, а серьезное принимают за шутку.
Философия есть истинная родина иронии, которую можно
было бы определить как прекрасное в сфере логического. Ибо везде,
где в устных или письменных беседах не вполне систематически
предаются философии, там следует создавать иронию и требовать
ее. Ведь даже стоики считали светскость добродетелью. Правда,
существует и риторическая ирония, при осторожном употреблении
производящая превосходное действие, в особенности в полемике.
252
но все же в сравнении с возвышенной светскостью сократовской
музы она то же, что великолепие блестящей искусственной речи
по сравнению с высоким стилем древней трагедии. Одна лишь поэзия
также и в этом отношении способна подняться до уровня философии,
и при этом она основывается не только на элементах иронии, на
отдельных иронических эпизодах, как это делает риторика.
Существуют древние и новые произведения поэзии, во всем своем
существе проникнутые духом иронии. В них живет дух подлинной
трансцендентальной буффонады. Внутри них царит настроение, которое
с высоты оглядывает все вещи, бесконечно возвышаясь над всем
обусловленным, включая сюда и собственное свое искусство, и
добродетель, и гениальность. По своей форме, по исполнению — это
мимическая манера хорошего обыкновенного итальянского буффо.
Возможно, что наступит совершенно новая эпоха в развитии
наук и искусства, если совместное философствование и совместное
поэтическое творчество получат такое всеобщее и органическое
распространение, что уже не будет казаться странным, когда
дополняющие друг друга натуры будут создавать коллективные
произведения. Часто трудно бывает освободиться от мысли, что два существа,
подобно двум разрозненным половинам, должны были бы
существовать вместе и что только в связи друг с другом они стали бы тем,
чем могли бы быть. [...]
Действительно свободный и образованный человек должен бы по
своему желанию уметь настроиться то на философский лад, то на
филологический, критический или поэтический, исторический или
риторический, античный или же современный — совершенно
произвольно, подобно тому как настраиваются инструменты,— в любое
время и на любой тон.
Остроумие есть логика, которой пользуется светское общежитие.
Рассудок есть механический, остроумие — химический, гений —
органический дух.
В остроумии выражается дух светскости и общения или же
фрагментарная гениальность.
Остроумие — это взрыв связанного сознания.
Ирония есть форма парадоксального. Парадоксально все, что есть
хорошего и значительного.
253
Для духа одинаково смертельно обладать системой, как не иметь
ее вовсе. Поэтому он должен будет решиться на то, чтобы сочетать
то и другое.
Фрагмент, подобно небольшому произведению искусства, должен
обособляться от окружающего мира и быть как бы вещью в себе —
как еж.
Многие сочинения древних ныне стали фрагментами. Многие
сочинения новых гоюателей были фрагментами уже при своем
возникновении.
Поэзия есть республиканская речь, речь, сама по себе
являющаяся законом и целью, где все части подобны свободным
гражданам, имеющим право подать свой голос.
В настоящей прозе все слова должны быть подчеркнутыми.
Ядро, центр поэзии, следует искать в мифологии и в древних
мистериях. Когда вы насытите свое жизненное чувство идеей
бесконечного, вы начнете понимать древних и поэзию вообще.
Произведения великих поэтов нередко дышат духом смежных
искусств. Не так ли и в живописи? Разве в известном смысле Ми-
келапджело не пишет как ваятель, Рафаэль — как зодчий, Кор-
реджо — как музыкант? И, конечно, от этого они не в меньшей
степени живописцы, чем Тициан, который был живописцем и только.
С точки зрения романтизма даже самые эксцентричные и
уродливые разновидности поэзии имеют свою ценность. Если в них
только что-нибудь содержится, если они оригинальны, то они суть
материалы и предварительные опыты для универсального искусства.
Многие превосходные романы представляют собой сводку,
энциклопедию всей духовной жизни некоего гениального
индивидуума. [...] Каждый человек, культурный и работающий над
собственной своей культурой, в душе своей содержит роман. Однако вовсе
не нужно, чтобы этот роман получил выражение вовне и чтобы он
был написан.
Романы — это сократовские диалоги нашего времени. Эта
свободная форма служит прибежищем для жизненной мудрости,
которая спасается от школьной мудрости.
«Литературная теория немецкого романтизма»,
стр. 170—183. Перевод Т. И. Сильман.
254
РАЗГОВОР О ПОЭЗИИ
Речь о мифологии
Я утверждаю, что нашей поэзии не хватает того средоточия,
каким для древних была мифология, и все существенное, в чем
современное поэтическое искусство отстает от античного, можно
сформулировать в словах: у нас нет мифологии. Но я прибавлю, что мы
близки к тому, чтобы получить ее, или, скорее, наступает время,
когда мы серьезно должны содействовать ее появлению.
Ибо она придет к нам совершенно противоположным путем, чем
древняя, прежняя мифология, первый цветок юношеской фантазии,
непосредственно примыкающий к ближайшим, жизненнейшим
элементам чувственного мира и образующийся в соответствии с ними.
Напротив, новая мифология должна быть произведена из
сокровеннейших глубин духа, она должна быть самым художественным из
всех художественных произведений, ибо она должна охватывать все
остальные,— новое вместилище и сосуд древнего вечного
первоисточника поэзии и бесконечная поэма, содержащая зачатки всех
остальных поэм.
F. Schlegel, Seine prosaischen Jugendschriften,
Bd. II, Wien, 1882, S. 358.
Перевод Κ). H. Попова.
Письмо о романе
Сентиментальному присуща еще одна черта, составляющая
своеобразное отличие романтической поэзии от античной. В античной
поэзии совершенно отсутствует различие между явлением и
сущностью, между игрой и серьезностью. В этом заключается
величайшее ее расхождение с новой поэзией. Древняя поэзия целиком
примыкает к мифологии и даже избегает настоящих исторических
сюжетов. Даже трагедия у древних была игрой, и поэт, изобразивший
действительное событие, глубоко волновавшее всю нацию, был бы
за это осужден. Романтическая поэзия, наоборот, покоится целиком
на исторической основе в гораздо большей степени, чем об этом
знают и подозревают. О первой попавшейся драме, которую вы
смотрите, или рассказе, который вы читаете, если они содержат
остроумную интригу, вы с уверенностью можете сказать, что они
основаны на действительном, хотя бы сильно измененном происшествии.
Весь Боккаччо — это почти сплошь действительная история, так же
как и другие источники, от которых берет начало всякий
романтический вымысел.
Я установил определенный отличительный признак для
разграничения античности и романтики. В то же время я прошу вас
не понимать меня так, как будто романтическое и современное
255
означают для меня одно и то же. Я полагаю, что они столь же
отличаются друг от друга, как картины Рафаэля или Корреджо от
вошедших ныне в моду эстампов. Чтобы полностью уяснить себе это
различие, почитайте хотя бы «Эмилию Галотти», это в высшей степени
современное и нисколько не романтическое произведение, а затем
вспомните Шекспира, в котором я усматриваю подлинный центр,
средоточие романтической фантазии. Я ищу и нахожу
романтический дух у самых старых из новых поэтов — у Шекспира,
Сервантеса, в итальянской поэзии и в том веке рыцарства, любви и сказок,
откуда происходит самое понятие романтизма и самый термин. До
сей поры это единственное, что может быть противопоставлено
классическим творениям древности. Только эти невянущие цветы
фантастики достойны того, чтобы из них плелись венки для
изображений древних богов. И совершенно ясно, что все наиболее прекрасное
в современной поэзии по общему духу своему и по форме склоняется
в эту сторону. Возвращение к античности неминуемо. Как наша
поэзия берет начало в романе, так поэзия греков началась с эпоса,
чтобы в конце концов снова раствориться в нем.
С той только разницей, что романтическое является не столько
отдельным жанром, сколько необходимым элементом всякой поэзии,
который может в большей или меньшей степени господствовать или
отступать на второе место, но никогда не должен отсутствовать
совершенно. Вам, по-моему, должно быть ясно, почему я настаиваю
на том, чтобы всякая поэзия была романтична, и в то же время
презираю роман, если он выступает как особый жанр.
[...] В своих исторических исследованиях я пришел к нескольким
первичным формам, далее уже не разложимым. Так, даже в сфере
романтической поэзии новелла и сказка, например, кажутся мне
бесконечно противоположными. И мне не остается ничего более, как
желать, чтобы художники обновляли все эти жанры, сообщая
каждому из них его первоначальный характер. Если бы подобные
образцы появились, я бы тогда более решительно мог подойти к
созданию теории романа, которая была бы теорией в самом
первоначальном смысле этого слова: спокойное, радостное и полное
духовное созерцание предметов, как то и подобает при созерцании полной
значения игры божественных образов. Такая теория романа сама
должна превратиться в роман, который в фантастической форме
передал бы каждое божественное звучание фантазии и возродил бы
хаос рыцарских времен. Тогда старые образы примут новые формы;
священная тень Данте восстанет из преисподней, божественная
Лаура явится нашему взору, Шекспир и Сервантес поведут между
собой дружескую беседу, и Санчо снова начнет обмениваться
шутками с Дон-Кихотом.
256
Это будут подлинные арабески^ составляющие, как я утверждал
в начале моего письма, в соединении с исповедью единственные
романтические порождения нашей эпохи.
Что к ним я причисляю и исповедь, более не покажется вам
странным после того, как вы признаете, что фундаментом
романтической поэзии является подлинная история. И если вы захотите
подумать над этим, вы с легкостью убедитесь, что в хороших
романах самое лучшее есть не что иное, как более или менее
замаскированные личные признания автора, результат авторского опыта,
квинтэссенция авторской индивидуальности.
«Литературная теория немецкого романтизма»,
стр. 206—209. Перевод Т. И. Сильман.
А. ШЛЕГЕЛЬ
1767-1845
Август Шлегель — видный критик, историк литературы, переводчик, поэт,
один из вождей иенских романтиков. Его лекции о литературе и искусстве,
прочитанные в 1801—1804 годах в Берлине, представляют собой первый опыт
систематического изложения эстетики романтизма; в них А. Шлегель стремится
слить воедино «теорию, историю и критику искусства». Художественное
творчество характеризуется им как процесс «вечного символизирования»,
установления соответствия между духовным и чувственным, внутренним и внешним.
В художественном символе оказываются слитыми дух и материя,
представляющиеся рассудку чем-то противоположным и даже несоединимым.
Символическая деятельность, то есть деятельность непосредственного
выражения внутреннего во внешнем, лежит в основе человеческого общения и
обусловливает возникновение языка, который сам представляет собой постоянно
развивающееся и никогда не завершающееся поэтическое произведение. Слова,
будучи первоначально непосредственными знаками наших чувствований, затем
начинают употребляться для обозначений предметов внешнего мира; в
дальнейшем это отношение становится произвольным, образная связь между знаком
и обозначением исчезает и язык превращается в «собрание логических цифр»,
пригодных для «выкладок рассудка». Поэзия, рассматриваемая А. Шлегелем
как «универсальный дух» искусства,— это отличает его от большинства других
романтиков, видевших прообраз всякого искусства в музыке,— призвана
восстановить первоначальную образность языка, его всеобщую символику
(«волшебное царство вечных превращений»), где каждая вещь отражает все другие
и выступает как «зеркало вселенной».
Идея о противоположности античной, или классической, и романтической
поэзии, возникшей в средневековой Европе, проходит через все лекции А. Шле-
геля и выявляется на примере всех искусств (скульптуры, живописи, музыки,
257
поэзии — эпической и драматической). Содержание самих понятий
классического и романтического еще не раскрывается в берлинских лекциях — более
подробно эти категории рассматриваются А. Шлегелем в венских «Лекциях о
драматическом искусстве и литературе» (1808), где им придается широкий
антропологический и историко-культурный смысл. Греческая культура покоится
на гармоническом равновесии всех человеческих способностей,
непосредственном единстве человека с природой и носит характер «просветленной и
облагороженной чувственности». Культура нового времени исходит из чувства
внутренней раздвоенности, противоположности между чувственным и
духовным, действительным и возможным; в своем стремлении к примирению этих
противоположностей она отмечена печатью незавершенности, бесконечного
движения к недостижимому идеалу. Эта идущая от Ф. Шиллера («О наивной
и сентиментальной поэзии») антитеза античного и нового искусства была
воспринята в дальнейшем эстетикой Шеллинга и Гегеля.
ЛЕКЦИИ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ
[...] В высшей степени существенным для истории искусства
является признание противоположности между современным и
античным вкусом. Часто (особенно у французов в эпоху Людовика XIV)
спорили о превосходстве древних или новых народов, однако при
этом считали их различными лишь по степени, а не по характеру,
и обычно с древними сравнивали лишь таких авторов, которые были
полностью воспитаны на классической древности и Стремились идти
по ее путям. То, что произведения, составляющие эпоху в истории
современной поэзии, по своему направлению, по своему
существенному устремлению представляют собой контраст по сравнению с
творениями древности и тем не менее должны быть признаны
превосходными, это утверждение было высказано лишь недавно и находит
еще многих противников. Характер античной поэзии обозначили как
классический, современной — как романтический, и очень метко,
как я покажу это далее при развитии этих понятий. В этом состоит
большое открытие для истории искусства: то, что до сих пор
рассматривали в качестве всей сферы искусства (признавая
неограниченный авторитет древних), составляет лишь его половину,
благодаря этому сама классическая древность может быть лучше понята,
чем из самой себя. Эта великая всеобщая антиномия античного и
современного вкуса (ибо она обнаруживается и в других
искусствах), которую выдвигает история, может быть решена лишь
теорией, и здесь мы снова видим, таким образом, ее тесную взаимную
связь с историей. Те, кто согласно аналитической философии хотел
258
бы свести все к мертвому однообразию, тотчас же отчаиваются,
слыша о том, что противоположные вещи должны стоять на равной
высоте, должны обладать равными правами, и им кажется, что они
потерялись в хаосе и беспорядке. Мы же, поскольку мы знаем, что
все наше бытие покоится на чередовании постоянно разрешающихся
и возобновляющихся противоречий, мы были бы удивлены, если бы
дело обстояло иначе. Мы можем легко сделать наглядными
антиномии искусства с помощью образов внешнего телесного мира,
явления которого проистекают из сходных противоречий. Античную
поэзию можно представить как один полюс магнитной линии,
романтическую — как другой, и историк и теоретик, чтобы правильно
оценить обе, должен по возможности придерживаться нейтральной
точки.
Скульптура
До сих пор мы почти все время основывались на практике
древних и на их примере разъясняли принципы искусства [скульптуры].
Это было сделано преднамеренно, и оправдание этого метода
приводит меня к сравнению древней и новой скульптуры. Во всех
других искусствах есть нечто специфически современное, только в
скульптуре то, что выдается за таковое, представляет собой простое
вырождение, и новейшие художники, чтобы произвести что-либо
подлинное, истинно прекрасное и великое, должны идти по пути
древних: античность — все для их обучения. Некоторые, правда,
думали найти дух специфически современной скульптуры у Микел-
анджело; я очень косвенно и недостаточно знаком с творениями
этого возвышенного духа, чтобы противоречить этому, однако
остается весьма проблематичным, насколько устремления Микеланджело
могут быть признаны всеобщей нормой, и не было ли это скорее
частным путем, соответствующим его оригинальности и открытым
лишь для него, тогда как в античности господствует не
индивидуальный гений того или иного мастера, а всеобщий гений искусства.
По крайней мере не подлежит сомнению, что влияние, которое он
имел, очень скоро совершенно затерялось в маньеризме. Мы не
можем также удивляться отставанию современных художников и
недостатку у них своеобразной силы и направленности в этом
искусстве. Ибо если мы вообще хотим охарактеризовать дух всего
античного и современного искусства, подведя его под принцип
единственного художественного воплощения, то первое мы можем назвать
пластическим, последнее — живописным. Древним во всех их
художественных произведениях свойственны чистота и строгость
разграничения, простота, ограничение существенным, обособление, отказ
259
от материальных эффектов,— все это, как мы видели, лежит в
основе ваяния, новые же художники стремятся, подобно живописи,
к видимости, живой непосредственности и главный предмет своего
изображения сопровождают échappée du vue l — до бесконечности.
Гемстергейс метко говорит: новые скульпторы являются чересчур
живописцами, древние же художники были чересчур скульпторами.
Было естественно, что господствующее по духу искусство иногда
оказывало чрезмерное влияние на другие искусства.
Живопись
Было бы очень превратно трактовать оба искусства (скульптуру
и живопись), поскольку они являются изобразительными, согласно
одним и тем же правилам, и, однако, как в прежние времена
скульптуру хотели сделать живописью, так в новейшее время
рекомендовавшееся подражание античности нередко понимали таким образом,
что живопись должна была быть втиснута в границы
скульптуры. [...]
Скульптура изображает формы посредством форм, живопись же
все видимые явления посредством оптической видимости.
Но первое, что замечает глаз, это свет и краски. Где свет и тени
и различные цвета граничат друг с другом и отделяются не
постепенными переходами, а внезапно,— там мы получаем очертания.
Для одного лишь чувства зрения без помощи других весь видимый
мир был бы не чем иным, как пестрой красочной палитрой. [...]
О формах же предметов и их истинной величине, далее, об их
удаленности и действительном положении друг относительно друга нас
учит лишь сравнение со зрительными впечатлениями других
впечатлений и опытов. В обыденной жизни, осуществляя какие-либо
операции с предметами, мы часто совершенно забываем о видимости
и думаем, что видим предметы таковыми, какими они являются нам
в соответствии с нашим знакомством с ними. Живописная сила
воображения состоит именно в том, чтобы вновь восстановить в нас
видимость и насладиться, например, тысячами видов, которые может
дать нам один-единственный предмет в разнообразных положениях
по отношению к нам и при различных освещениях. Живопись как
бы извлекает из нас чистое первоначальное зрение. [...] Она творит
поэтому не для ребяческого и неискушенного глаза, не для чересчур
искушенного на службе у потребностей, совершенно разучившегося
воспринимать саму видимость, но для образованного чувства,
которое, задержавшись на видимости, в то же время самым
определенным образом постигает ее смысл.
1 —ускользнувшим от взгляда (франц.).
260
Музыка
Согласно нашему общему воззрению об отношении между
древним и новым искусством, мы и в музыке не будем принижать одну
за счет другой, но постараемся понять смысл их
противоположности, и при ближайшем рассмотрении, вероятно, обнаружится, что
господствующим в древней музыке было именно то, что и в прочих
искусствах,— пластическое, чисто классическое, строго
ограничивающее, в новой же музыке — живописное, романтическое или как
там угодно это назвать.
Основные элементы музыки: ритм, модуляция и гармония. [...]
Если мы сравним в отношении этих основных элементов музыку
древних и новых народов, то обнаружим, что в первой ритмический,
во второй гармонический элемент является более сложным и в целом
господствует. У древних было значительно больше размеров
тактов, чем у новых. Далее, что касается связи с пением, то их
композиция (по крайней мере в великую эпоху греческого
художественного стиля) была всегда силлабической, то есть одна нота
приходилась на один слог и точно согласовывалась с размером стихов, так
что долгий слог всегда получал долгую ноту, и наоборот. В
отношении гармонии они остановились на самом простейшем: все, что
слушалось одновременно, должно было звучать в унисон или
находиться в интервале от октавы.
Сколь противоположным является все в современной музыке,
известно, и нам нужно напомнить об этом лишь в общих чертах.
В наших четырехголосных гармониях одновременно звучат
сложные соотношения тонов, которые не искушенному в них уху древних
показались бы лишь беспорядочными диссонансами, так же как
современный музыкант будет выбит из колеи, если он должен будет
сыграть партию в пеоне или эпитрите. Новая музыка знает
различные и сами по себе весьма значительные роды, где гармония
составляет все, а о мелодии нет и речи. [...] Композиция стихов бесконечно
удаляется от силлабической, она ориентируется не на количество
слогов, но часто пение значительно дольше останавливается на
коротком слоге, чем на длинном.
Тем самым мы установили антиномию, противоположность
античных и современных понятий о музыкальном. [...]
Поэзия
Медиумом поэзии является именно то, благодаря чему
человеческий дух вообще достигает осмысления, а его представления
обретают способность к произвольному сочетанию и выражению: язык.
261
Поэтому она не связана с предметами, но сама творит свои
предметы, она является всеобъемлющим из всех искусств, как бы
повсюду присутствующим в них универсальным духом. [...] Можно без
преувеличения и парадокса сказать, что, собственно, вся поэзия
является поэзией поэзии, ибо она уже предполагает язык,
изобретение которого принадлежит поэтической способности и который сам
представляет собой вечно становящееся, изменяющееся, никогда не
завершающееся поэтическое произведение всего человеческого рода.
Более того: в ранние эпохи культуры в языке и из языка столь же
необходимо и непроизвольно, как он, рождается поэтическое
миросозерцание, то есть такое, в котором господствует фантазия. Это
мифология. Она является как бы высшей потенцией первого,
осуществленного языком изображения природы; а основывающаяся на
ней свободная самосознательная поэзия, для которой миф снова
становится материалом, который она поэтически обрабатывает,
поэтизирует, находится, следовательно, еще на одну ступень выше. [...]
Мы хотим попытаться объяснить поэзию генетически и
проследить ее на различных ступенях, которые она должна пройти от
первых движений инстинкта до завершенных художественных
устремлений, до произведения. Сначала, следовательно, мы будем
говорить о естественной поэзии, затем о художественной поэзии. Лишь
в последней происходит разделение родов или, скорее, это
разделение знаменует именно ее начало. [...] Ранее попутно было упомянуто
однажды о возможности естественной истории искусства.
Естественная история искусства есть изложение ее необходимого
происхождения и первых шагов из всеобщих человеческих предпосылок и
обстоятельств, которые должны были выявиться вместе с
пробуждением древнейших поколений человеческого рода, к известному
духовному образованию. [...]
Мы должны, следовательно, возвратиться к древнейшей истории
человечества, чтобы отыскать корень поэзии. В развитии
естественной поэзии мы можем разграничить следующие три ступени или
образовательные эпохи:
1) элементарную поэзию в образе праязыка; 2) отделение
поэтических впечатлений в нашей душе от прочих обстоятельств
посредством внешнего закона формы, а именно ритма; 3) соединение и
сочетание поэтических элементов в представление о мировом целом,
мифологию.
A. W. Schlegel, Vorlesungen über schöne
Literatur und Kunst, Teil I, Heilbronn, 1884, S. 90, 91,
21, 22, 155—157, 182—184, 240—242, 222-268.
Перевод Ю. H. Попова.
262
ЛЕКЦИИ О ДРАМАТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ И ЛИТЕРАТУРЕ
[Основной характер классической
и романтической поэзии и искусства]
Для нашей цели, то есть для обоснования того деления, которое
мы приводим в истории искусства, а следовательно, и в истории
драматической литературы,— достаточно только наметить эту явную
противоположность между античным или классическим, с одной
стороны, и романтическим — с другой. [...]
Греческая культура была воспитана самой природой. [...]
Благодаря редкому сочетанию благоприятных условий, они [греки] создали
все, что только может создать человек в границах земного
существования. Все их искусство, их поэзия выражают это сознание гармонии
всех сил. Они создали поэтику радости. Их религия состояла в
обожествлении природных сил и земной жизни. [...] Однако, как далеко
ни заходили греки в сфере прекрасного и даже нравственного, все
же мы не можем приписать их культуре более высокого значения,
нежели значение просветленной и облагороженной
чувственности. [...]
Религия есть основа человеческого бытия. Если бы человек мог
отрешиться от всякой сознательной и бессознательной
религиозности, он стал бы совершенно поверхностным, потерял бы всякое
внутреннее содержание. При смещении этого внутреннего центра
изменяется и общая направленность душевных и духовных сил.
В современной Европе это произошло благодаря введению
христианства. Эта столь же возвышенная, сколь и благодетельная
религия способствовала возрождению истощенного старого мира,
близкого к своей гибели, и стала, таким образом, направляющим
принципом в истории современных народов. [...] Наряду с христианством
культура Европы с начала средних веков переживает влияние
северогерманских завоевателей, вливших новую жизненную струю в
вырождающееся человечество. Суровая северная природа заставляет
человека уйти в себя, и то, что не находит выхода в свободной игре
чувств, при наличии благородных наклонностей проявляется в
серьезной духовной настроенности. [...]
С привнесением христианских воззрений из сурового, но честного
героизма северных завоевателей возникает рыцарство, задача
которого состоит в том, чтобы благодаря введению свято чтимых обетов
предотвратить злоупотребление силой и оружием.
К рыцарской добродетели вскоре присоединяется новый,
светский дух любви, сущность которого заключается в восторженном
поклонении истинной женственности, почитаемой за вершину чело-
263
вечности. Этот образ девственного материнства, установленный
самой религией, вызывал во всех сердцах чаяние чистейшей любви.
Так как христианство, в противовес языческим религиям
древности, не довольствовалось известными внешними обрядами, но
полностью завладевало существом человека со всеми его сокровенными
переживаниями, то чувство нравственной свободы принуждено было
бежать в сферу чести; таким образом, оно как бы представляло
светскую мораль наряду с религиозной, нередко впадавшую в
противоречие с последней, но все же родственную ей. [...]
Рыцарство, любовь и честь наряду с религией представляют
предмет естественной поэзии, развернувшейся с невиданной
полнотой в средние века и предшествовавшей художественно более
развитой романтической культуре. Эта эпоха также имела свою
мифологию, состоявшую из рыцарских романов и легенд. Однако же
свойственное ей чудесное и героическое представляет собой нечто
совершенно противоположное древней мифологии.
Некоторые мыслители, толкующие современность так же, как и
мы, видят сущность северной поэзии в меланхолии, и, собственно
говоря, нам нечего возразить против этого.
У греков человеческая природа находила удовлетворение в
самой себе. Греки не чувствовали никакого недостатка и не
стремились ни к какому иному совершенству, кроме того, которого они
могли достигнуть собственными силами. [...] Чувственная религия,
о которой мы говорили выше, добивалась лишь внешнего,
преходящего благополучия; бессмертие, поскольку в него вообще верили,
скрывалось, подобно тени, в беспросветной дали,, как некий слабый
отблеск бодрого и радостного земного дня. С появлением
христианских воззрений все переменилось: созерцание бесконечного
уничтожило конечное; жизнь превратилась в ночной мир теней, и только
в потустороннем мире встала заря истинного существования. Такого
рода религия должна была превратить предчувствие, дремлющее во
всяком чутком сердце, в ясное сознание того, что мы стремимся
к счастью, здесь недостижимому, что никакое внешнее явление
никогда не сможет целиком заполнить нашу душу и что всякое
наслаждение есть лишь преходящий обман. И когда душа, как бы
отдыхая под плакучими ивами изгнания, тоскливо вздыхает по
потерянной отчизне, не должна ли меланхолия составлять основу ее песен?
Так оно и есть: поэзия древних была поэзией обладания, наша
поэзия — это поэзия томления. Первая прочно стоит на почве
действительности, вторая колеблется между воспоминанием и
предчувствием. [...] Чувства в новой поэзии стали задушевнее, фантазия бесте-
леснее, мысль созерцательнее. [...]
Греческий идеал человечности состоял в гармоническом
равного
весии всех сил. Это была естественная гармония. Новейшие
народности пришли к сознанию своего внутреннего раздвоения, которое
делает такой идеал недостижимым. Отсюда стремление их поэзии
примирить, слить воедино эти два мира — духовный и чувственный,
между которыми мы колеблемся. [...]
В греческом искусстве и в поэзии существует первоначальное
неосознанное единство формы и содержания. Новейшая поэзия,
поскольку она остается верна ее своеобразному духу, стремится к
более тесному взаимопроникновению обоих как двух
противоположностей.
Первая разрешила свою задачу в совершенстве. Вторая может
удовлетворять своему стремлению к бесконечности только путем
приближения к идеалу и, таким образом, благодаря неизбежной
печати несовершенства скорее подвергается опасности быть
непризнанной.
«Литературная теория немецкого романтизма»,
стр. 215—219. Перевод Т. И. Сильман.
[Древняя комедия, понятая как совершенная противоположность
трагедии; пародия]
Древнюю комедию правильнее всего рассматривать как прямую
противоположность трагедии. [...]
Одну сторону соотношения между комической и трагической
поэзией можно подвести под понятие пародии. [...] Пародировались
не только отдельные моменты, но и вся форма трагической поэзии
в целом, и эта пародия распространялась не только на поэзию, но
и на музыку и танец, на мимику и на сценическое убранство. Более
того, поскольку искусство трагического актера шло по следам
пластического искусства, комическая пародия ориентировалась также
и на это последнее, превращая, например, идеальные фигуры богов
в карикатуры, однако же так, чтобы образец можно было узнать.
Чем сильнее запечатлевались в восприятии произведения всех этих
искусств, чем больше греки в своих народных празднествах,
богослужениях и шествиях были окружены этим возвышенным стилем,
свойственным трагическому представлению, и свыклись с ним, тем
более вызывала смех эта всеобщая пародия на все виды искусства,
содержащаяся в комедии.
Однако этим понятием еще не исчерпывается существо
предмета, ибо пародия всегда предполагает связь и зависимость от
пародируемого. А древняя комедия — это столь же независимый и
самостоятельный жанр, как трагедия: она стоит на равной с ней
высоте. Иначе говоря, она одинаково далеко уносится за пределы
реальной действительности в область свободной творческой фантазии.
265
Трагедия есть поэзия наивысшей серьезности, комедия же вся
целиком шуточна. Но серьезное, как уже было указано во введении,
состоит в сосредоточении душевных сил на одной определенной цели
и в связи с этим — в ограничении их деятельности.
Противоположный принцип, следовательно, заключается в кажущейся
бесцельности, в снятии всех рамок, ограничивающих деятельность
душевных сил. [...] Остроумие и насмешка могут применяться в шутку, но
и то и другое одинаково мирится с самой строгой серьезностью. [...]
Хотя новейшая комедия развлекает нас своими характерами,
контрастирующими положениями и их сопоставлением, и она тем
комичнее, чем сильнее в ней господствует бесцельность, чем чаще
все эти недоразумения, ошибки, тщетные усилия, нелепые страсти
в конечном счете разрешаются в ничто, но при всем изобилии
комических эпизодов форма изображения в комедии сама по себе
серьезна, то есть она закономерно направлена к известной цели. В
античной комедии, напротив, сама форма является комической, ее
определяют кажущаяся бесцельность и произвол; произведение в
целом есть одна грандиозная шутка, в свою очередь содержащая в себе
целый мир отдельных шуточных эпизодов, из которых каждый имеет
свое особое место и нисколько не заботится об остальных. [...]
Если трагедия стремится к гармоническому единству, то
комедия живет и дышит в хаотическом изобилии: ей нужны пестрота
контрастов и постоянно скрещивающиеся противоречия.
Комический поэт, подобно трагическому, избирает для своих
героев идеальную стихию. Однако не мир необходимости ему нужен,
но мир, где господствует безусловный произвол остроумных
вымыслов и где отменяются все законы действительности. Он,
следовательно, имеет право создавать самые дерзкие и фантастические
сюжеты, они даже могут быть бессвязны и бессмысленны, лишь бы
только они бросали самый резкий свет на группу комических
жизненных положений и характеров .[...] Так как контраст между формой
и содержанием здесь правильно соблюдался и так как ничто не
может сильнее противоречить комической трактовке, нежели
важнейшие, серьезнейшие дела и занятия человека, то основным
предметом комедии стала общественная жизнь и государство. Комедия
имела насквозь политический характер. Дела семейные и
приватные, над которыми новейшая комедия неспособна возвыситься,
древняя комедия трактует мимоходом и опосредствованно, только в меру
их отношения к общественной жизни. Хор, следовательно, для нее
существен, так как он в известной мере представляет народ; хор
никоим образом не может рассматриваться как нечто случайное,
связанное с местным происхождением древней комедии; более
важный аргумент заключается в том, что благодаря участию хора паро-
266
дия на трагические формы становится особенно полной и
законченной. [...] Характернейшей особенностью комического хора является
все же парабаза, обращения хора от имени автора к зрителям, не
имеющие ничего общего с содержанием произведения. [...] Парабаза
вполне соответствует существу древней комедии, где комическим
является не только самый предмет, но и весь способ его трактовки.
Это неограниченное господство шуточного элемента проявляется
также и в том, что сама драматическая форма тоже принимается
не до конца всерьез и что ее законы моментами оказываются
снятыми, подобно тому как в веселом маскараде участники его время
от времени позволяют себе сбросить маску. С той поры вплоть до
наших дней в комедии сохранился обычай делать кивки в партер
и заигрывать с ним. [...]
Чтобы в немногих словах охарактеризовать задачи трагического
и комического жанра, нужно сказать следующее: трагедия, вызывая
скорбные чувства, возвышает нас до воззрения на человечество как
на «подражание прекраснейшей и совершеннейшей жизни», по
словам Платона, а комедия создает самое задорное веселье, осмеивая
все вещи на свете и трактуя их в снижающем смысле.
Там же, стр. 231.
ВАКЕНРОДЕР И ТИК
1773-1798 и 1773-1853
Вильгельм Генрих Вакенродер известен в немецкой литературе как автор
двух произведений, написанных вместе с Людвигом Тиком. Это «Сердечные
излияния монаха — любителя искусств» (анонимно издано в 1797 году) и
«Фантазии об искусстве для друзей искусства» (1799), два связанных между собой
сборника маленьких эссе об искусстве, об итальянских художниках, о музыке.
Они включают в себя также жизнеописание Йозефа Берглингера, написанное
Вакенродером,— короткую повесть о музыканте, предшествующую
большинству романтических рассказов и романов, в центре которых — бурная,
гениальная натура в конфликте с людьми и жизнью.
Для Людвига Тика дружба с Вакенродером была только коротким
периодом его долгой жизни, однако периодом одним из самых плодотворных
и к тому же единственным, когда Тик активно касался эстетических проблем.
Тик сыграл выдающуюся роль и в подготовке романтизма и на всех этапах
его развития (особенно как новеллист и драматург: его «Кот в сапогах», 1797,—
манифест романтизма в драме), а также и в преодолении романтизма — своим
поздним творчеством (рассказы и роман «Виттория Аккоромбона», 1840).
После 1800 года Тик занимался и историей литературы и теорией драмы
(«Старонемецкие песни любви», 1803; «Замечания о некоторых характерах в
«Гамлете», 1828; «Историческое развитие сцены нового времени», 1831), но эстетики
прямо почти не затрагивал.
267
«Излияния» и «Фантазии» — квинтэссенция романтизма поры «первых
откровений и легковерного детства», говоря словами Тика, необычайно свежий
отпечаток романтического миросозерцания, когда романтизм только еще
начинал философски осмысливаться. Восторженный, метафорический стиль,
соответствующий «богатой предчувствиями» «детской наивности» (Тик), служил
средством осмысления ряда важных эстетических проблем. Во всех своих
статьях, рассказах и поэтических описаниях Вакенродер и Тик стремятся узпать,
что такое поэзия, что такое музыка и живопись, и как-нибудь выразить свое
представление об этом. Им очевидно, что языки, которыми пользуются
различные искусства, несводимы друг к другу, так что невозможно адекватно
передать содержание, скажем, музыкального произведения посредством слов. Это
противоречило представлениям просветителей, которые не видели таких
трудностей в переходе от одной системы знаков к другой и скорее были склонны
признавать различия в тематике. При этом у Вакенродера и Тика существует
тяготение к слиянию искусств, к их синтезу («Gesamtkunstwerk»). У Тика все
рассуждения или исходят из музыки, или сводятся к музыке, взгляд на
музыку поразительно широкий (есть даже неожиданные параллели, вроде —
«благородный человек и в жизни все воспринимает музыкально»). Другие вопросы
еще только ставятся Вакенродером и Тиком, не получая уверенного ответа:
например, выражает ли музыка чувства, присущи ли ей внутренне образность
и эмоциональность или чувства вкладываются в нее слушателями.
И Вакенродер и Тик колебались между чисто восторженным поклонением
искусству и рациональным отношением к нему. Первое позволило им
высказать (хотя бы в «темной» форме) не одну мысль, которую не осмелились бы
высказать их более последовательно мыслящие современники (такова,
например, мысль Вакенродера об искусстве как «сгущенной» действительности).
Ниже даются отрывки из обоих совместных произведений Вакенродера
и Тика, причем Вакенродеру принадлежат статьи «Описание двух картин»,
«О двух чудесных языках», «Сокровенная сущность музыкального искусства»,
^Чудеса музыки», «Величие Микеланджело». Другие статьи — «Краски»,
«Симфонии», «Звуки» написаны Тиком. В общем же участие каждого из авторов
нельзя слишком строго разграничивать.
СЕРДЕЧНЫЕ ИЗЛИЯНИЯ МОНАХА -
ЛЮБИТЕЛЯ ИСКУССТВ
Несколько слов о всеобщности, терпимости
и любви к ближнему в искусстве
[...] Искусство можно назвать цветком человеческих
чувствований. Вечно меняя свой облик, оно произрастает, поднимаясь к небу,
в самых разных областях земли — и к создателю всех, объемлю-
268
щему землю и все, что есть на ней, и от этого посева возносится
одно единое благоухание.
В каждом творении искусства, под какими бы широтами оно
ни возникло, он видит след той небесной искры, которая изошла от
него и, проникнув через душу человека в его малые творения, из
них снова мерцает навстречу великому творцу. Готический собор
ему столь же приятен, как и храм греков, и грубая воинственная
музыка дикарей для него столь же благозвучна, как сложнейшие
хоры и церковные гимны.
Но когда я от него — бесконечного — через неизмеримые
пространства небес вновь опускаюсь на землю и оглядываюсь среди
своих собратий, то, увы, как горько должен я стенать, ибо они
прилагают так мало усилий, чтобы уподобиться вечному небесному
образцу. Они живут в раздоре, и не понимают самих себя, и не видят,
что все они стремятся к одной и той же цели, но каждый из них,
утвердившись на своем месте, не умеет обнять взором целое.
Людям в их ослеплении непонятно, что на нашем земном шаре
существуют антиподы и что они сами — антиподы. То место, где
они укрепились, они всегда считают центром тяготения для целого,
и духу их недостает крыльев, чтобы облететь весь земной шар и
охватить одним взглядом целое, утвержденное в себе самом.
Точно так же они свое чувство считают средоточием всего
прекрасного в искусстве и, как судьи, надо всем произносят
решительный приговор, забывая о том, что никто не давал им таких
полномочий и что осужденные ими тоже могли бы стать судьями.
Почему не проклинаете вы индейца за то, что он говорит на
индейском, а не на нашем языке?
И, однако, вы готовы проклинать средневековье за то, что оно
строило не такие храмы, как Греция? [...]
Простейшие правила рассудка у всех народов мира
подчиняются одним и тем же законам с той только разницей, что они
распространяются то на бесконечно большое, то на весьма малое
количество предметов. Подобно этому и чувство прекрасного — всегда
один и тот же небесный луч света, который распадается на тысячу
оттенков, пройдя через многогранную призму мироощущений
разных областей земли.
Красота: чудесное, таинственное слово! Найдите сначала новые
имена для каждого особого чувства изящного, для каждого
отдельного произведения искусства! В каждом играют другие
краски, и для каждого из них созданы свои нервы в строении
человека.
Но вы стремитесь выплести из этого слова строгую систему,
прибегая к хитростям рассудка, и хотите заставить всех людей чув-
269
ствовать согласно вашим предписаниям и правилам — сами же не
чувствуете ничего.
Кто верит в силу системы, тот изгнал из своего сердца любовь
к ближнему: уж лучше нетерпимость чувства, чем нетерпимость
рассудка; уж лучше суеверие, чем системоверие.
Можете ли вы заставить меланхолика испытать удовольствие от
шутливых песен и веселых танцев? Или сангвиника — радостно
раскрыть сердце ужасам трагедии?
Так пусть же каждый смертный и каждый народ в этом мире
верует и радуется по-своему! Радуйтесь же тому, что радуются
другие,— пусть даже вас совсем не радует то, что им всего ближе и
всего дороже.
Нам, сынам этого столетия, выпало на долю то преимущество,
что мы стоим на вершине высокой горы, откуда открывается вид
на многие времена и многие страны, которые распростерты у наших
ног. Так будем же наслаждаться этим счастьем и, окинув радостным
взором все времена и все народы, попытаемся обнаружить
человеческое во всех многообразных чувствованиях· и делах, ими
произведенных.
Каждое существо ищет для себя самого прекрасного, но, не в
силах преступить своего круга, его находит только внутри себя. Как
во взоре каждого смертного радуга отражается различным образом,
так и каждый в окружающем мире видит иное отражение красоты.
Но та всеобщая извечная красота, которую мы только в моменты
наивысшего озарения называем и не можем выразить словами,
является лишь тому, кто создал и радугу и глаз, ее видящий.
С него я начал свою речь и к нему возвращаюсь: так же и дух
искусства и всякий дух исходит от него и, пройдя сквозь атмосферу
земли, вновь устремляется к нему, принося себя ему в дар.
W. Н. Wackenroder, Werke und Briefe, hrsg.
von Er. von der Leyen, Jena, 1910, S. 46—51.
Перевод Ал. В. Михайлова.
О двух чудесных языках и их таинственной силе
Язык слов — великий дар неба, вечно да будет благословен
творец, развязавший уста первого человека, чтобы тот именовал все
вещи, созданные всевышним, и все духовные образы, вложенные
всевышним в его душу, упраяшяя свой дух многообразной игрой
всем этим богатством имен. Словами мы царим над всем земным
кругом, и с помощью слов мы легко овладеваем всеми сокровищами
земли. Лишь невидимое, что парит над нами, слова неспособны
низвести в нашу душу.
Вещи бренного мира оказываются у нас в руках, стоит лишь
270
произнести их имена; но если мы слышим, что называют всеми-
лость божию и доблести святых — то, что должно восхитить все
наше существо,— то слух наш полнится пустым звоном и дух наш
не возвышается должным образом.
Но я знаю два чудесных языка, которые творец даровал
человеку, чтобы смертные, насколько это для них возможно (не говоря
дерзко), постигали небесное во всем его величии. Ибо оно совсем
иными путями, нежели в словах, нисходит в душу, оно внезапно,
как бы волшебной силой охватывает все наше существо, проникая
в каждый наш нерв, каждую каплю крови. Одним из этих языков
говорит только бог; на другом говорят немногие избранники,
отмеченные его благодатью. Эти языки — природа и искусство. [...]
Я вижу достойную причину славить могущество и благость
создателя. Он окружил нас бесконечным множеством вещей, где
каждая обладает своей сущностью, непомерной и недоступной нам.
Мы не знаем, что такое дерево, что такое луг, что такое утес, мы
не можем на нашем языке говорить с ними и понимаем лишь друг
друга. И, однако, создатель вложил в сердце человека такое
сочувствие этим вещам, что к нему неизведанными путями идут от них
чувства, или мысли, или как угодно это назвать, но только их не
доставляют нам и самые продуманные и самые размеренные слова. [...]
Искусство — язык совсем иного рода, нежели природа; но и в
нем заключена та же чудесная сила, которая столь же тайно и
непонятно воздействует на душу человека. Этот язык пользуется
человеческими представлениями, стало быть, такими иероглифами,
которые с внешней стороны понятны и доступны нам. Но в эти видимые
образы он столь трогательно и чудесно вливает духовное,
нечувственное, что вновь все наше существо потрясается в самом своем
основании. Многие изображения страстей господних, или святой
девы, или святых отцов более очищали мою душу и внушали мне
более благодетельные помыслы, нежели нравственные системы и
духовные рассуждения. Среди других я с восторгом думаю о
несказанно прекрасном живописном образе нашего святого Себастьяна,
как он нагим привязан к дереву, а ангел изымает стрелы из его
груди, другой же спускается с неба, чтобы увенчать его чело. Этой
картине я обязан проникновенными и твердыми христианскими
убеждениями и едва ли могу вспоминать о ней без слез.
Учения мудрецов приводят в движение наш мозг — одну лишь
половину нашего «я», но те два чудесных языка, мощь которых я
возвещаю, трогают и чувства и сам дух, или, не умею лучше
сказать, кажется, что все части нашего существа (нам непонятного)
сливаются в один новый орган, постигающий этим двояким путем
все небесные таинства.
271
Один из языков, которым от века и до века непрестанно
изъясняется всевышний, вечно живая, бесконечная природа, чрез
неизмеримые воздушные пространства возносит нас к самому божеству.
Но искусство, изобретая все новые соединения из крашеной земли,
смешанной с влагой, подражает человеческому образу, стремясь
к совершенству на своем узком, ограниченном пространстве (так
дано творить смертным) — оно раскрывает нам сокровища
человеческой души, наш взор обращает внутрь нас самих и так — в
человеческом образе — показывает нам все благородное, высокое,
божественное. [...]
Искусство изображает высочайшее совершенство человека.
Природа, насколько может видеть ее око смертного, напоминает
отрывочные пророчества из уст божества. Но если дозволено говорить
о подобном, то можно сказать, что бог, наверно, всю природу и весь
мир созерцает подобно тому, как мы — произведение искусства.
Там же, стр. 64—69.
Чудеса музыки
О, когда я могу по правде глубоко насладиться тем, как из
беззвучной пустоты внезапно сами по себе выходят и вытягиваются
в цепочку прекрасные звуки, медленно, словно жертвенный дым,
поднимаются, повисают над головой и снова опускаются к земле,—
тогда в моем сердце зарождается так много прекрасных образов
и в сладком восторге я не нахожу себе места. То музыка кажется
птицей феникс, что взлетает легко и смело, в свое удовольствие и по
своей воле, ввысь и гордо взмывает к небу, радуя и богов и людей
полетом своих мощных крыльев, то мне кажется, что музыка —
ребенок, спящий в могиле,— розовый луч солнца нежно берет его
душу, и она, перенесшись в небесный эфир, наслаждается золотыми
каплями вечности и обнимает прообразы самых прекрасных
человеческих снов. [...]
Спросите музыканта, почему он радуется своей игре? «Разве
же,— ответит он,— жизнь не прекрасный сон? Мыльный пузырь,
радующий взор? Так и моя пьеса!»
Поистине, радоваться звукам, чистым звукам,— это невинная
трогательная радость! Радость ребенка! Другие окружены деловой
суетой, беспокойными мыслями, как полчищами ночных птиц и
ядовитых насекомых,— и, наконец, сраженные ими, падают,— а я
погружаюсь в священный источник звуков, богиня-целительница снова
вливает в мою душу невинность детства, и я, освеженный, вижу мир
новым взором, растворяясь во всеобщем радостном умиротворении.
Другие ссорятся из-за своих суетных измышлений, или предаются
отчаянной и безысходной игре ума, или же в одиночестве пестуют
272
свои уродливые идеи, в отчаянии пожирающие тут же друг друга,
как сказочные воины: тогда я закрываю глаза, чтобы не видеть этой
всеобщей борьбы, я возвращаюсь в страну музыки, в страну веры,
где все сомнения и страдания теряются в звучащем море, где
забывается гвалт и гомон людских голосов, где треск слов, речей, смесь
букв, чудовищная вязь иероглифов неспособны оглушить нас и где
весь страх сердца излечивается простым касанием. «Но что же? Есть
ли здесь ответ на наши вопросы? Откроются ли нам тайны?» — О
нет! — но вместо ответов и откровений мы видим прекрасные
воздушные облака — вид их, не знаю почему, успокаивает нас; смело
и уверенно мы идем по неизвестной стране, как друзей, радостно
приветствуем и обнимаем неведомые существа, и все те
непонятности, которые со всех сторон наступают на душу,— все эти болезни
человеческого рода — исчезают для наших чувств, наш дух
излечивается созерцанием чудес, еще гораздо более непонятных и
возвышенных. Тогда человеку хочется сказать: «Вот что я думаю! Теперь
я это узнал! Теперь у меня на душе легко и радостно!»
Пусть смеются и издеваются те, другие, кто с грохотом
проносится по этой жизни и кто не знает страны священного покоя в
душе человека. Пусть гордятся они тщетой своих фантазий, пусть
будут уверены, что весь мир на поводу у них,— придут времена,
и они станут нищи.
Блажен, кто, невзирая на колеблющуюся почву под ногами,
светел духом и находит спасение в эфирных звучаниях и, предавшись
их движению, то плавно парит в воздухе, то стремительно кружится
вместе с ними и за этой милой игрой забывает о своих страданиях!
Блажен, кто, устав без конца расщеплять свои мысли — занятие,
иссушающее душу,— предается спокойному и мощному стремлению,
дыхание которого укрепляет дух и возносит к прекрасной вере. Есть
только один путь — всеобъемлющей любви, и только любовь
приблизит нас к небесному блаженству.
Вот — самый прекрасный, самый чудесный образ музыки,
который могу я нарисовать. [...]
Для того чтобы запечатлевать и сохранять чувства, есть много
разных прекрасных изобретений, для того же созданы и все
искусства. Но музыку я считаю чудеснейшим из всех этих
изобретений, потому что она человеческие чувства живописует
сверхчеловеческим образом, потому что она все движения души облекает
золотым облаком эфирных гармоний и, вознося их столь бесплотными
над нашими головами, вновь обращает их к нам, и потому, что она
говорит языком, которого не знает наша обычная жизнь, которому
мы невесть где и когда выучились и который единственно можно
счесть языком ангелов.
10 История эстетики, т. ш 273
Это — единственное искусство, которое все разнообразные и
разноречивые движения души сводит к одним и тем же прекрасным
гармониям, которое одними гармоническими звуками играет в
радости и горе, в отчаянии и почитании. Поэтому она внушает нам
радость и бодрость духа — самое прекрасное сокровище, которое
человек способен обрести — ту бодрость и веселость, когда все в
этом мире кажется нам верным, истинным, добрым, когда в самом
диком людском хаосе мы находим прекрасный смысл, когда мы
чистосердечно чувствуем свою близость всем существам и словно
дети мир видим в дымке радостного сновидения.
Там же, стр. 163—169.
Величие Микеланджело Буонарроти
Мы не удовлетворимся одним только восхищением, но
постараемся постигнуть самый дух этого великого человека, проникнуть
в самую сокровенную сущность его творений. Недостаточно
словами, вроде «прекрасно», «замечательно», выражать свое одобрение
произведению искусства, эти общие слова можно ведь отнести к
самым различным вещам, но мы должны всей душой предаться
великому художнику, должны стремиться созерцать и постигать явления
природы его органами чувств, чтобы уже от имени его души
сказать: «Это произведение в своем роде истинно и верно». [...]
В мире художников нет ничего, что более достойно восхищения,
чем природный оригинальный гений. Работать старательно,
прилежно, быть верным природе и иметь трезвое суждение — это
человеческое; но проникать все существо искусства одним взглядом,
словно по-новому браться за все — это божественное.
Но между тем судьба этих гениев — производить на свет
жалкую толпу подражателей; и сам Микеланджело так предсказал
о себе, как потом и случилось. Гений, в дерзком прыжке сразу же
достигающий пределов искусства и смело и решительно там
утверждающийся, открывает нам необычайное и чудесное. Но
ослепленные умы людей поступают так, что рядом со всем необычайным и
чудесным обязательно оказывается глупость и пошлость. Жалкие
подражатели, собственных сил которых не хватает для того, чтобы
быть последовательными и твердыми, слепо бродят вокруг, и все,
чего они ни касаются в своих произведениях, все это если не слабое
подобие и тень, то искажение и преувеличение.
Время Микеланджело — это первоначальная пора итальянской
живописи и вообще единственная эпоха оригинальных художников.
Кто до Корреджо писал так, как он, а до Рафаэля так, как Рафаэль?
Ήο, кажется, слишком щедрая природа раздарила тогда всех своих
274
гениев; ибо позже, вплоть до самого последнего времени, почти
у всех мастеров была только одна цель — подражать одному или
сразу нескольким оригинальным и образцовым художникам, и
великими они стали, как правило, только потому, что превосходно умели
подражать. [...] А кому же подражали сами родоначальники? Все
свое великолепие они почерпнули в самих себе.
Там же, стр. 87, 89, 90.
Описание двух картин
[...] Прекрасный образ, картину, по моему мнению, вообще нельзя
описать словами — ибо, как только первое слово произнесено,
воображение отлетает прочь от полотна и витает где-то в облаках.
Поэтому так мудро, как кажется, поступали старинные составители
хроник искусства, когда называли картину только превосходной, только
замечательной, ни с чем не сравнимой,— ибо мне кажется, что
большего и нельзя сказать. [...]
Там же, стр. 40.
Сокровенная сущность музыкального искусства
и психология нынешней инструментальной
музыки
В зеркале звуков человеческое сердце узнает самого себя, эти
звуки учат нас по-настоящему чувствовать, они пробуждают к
сознательной жизни спящие в тайниках души идеи и одаряют нас
новыми таинственными силами чувства.
И все эти воплощенные в звуке аффекты управляются сухой
научной системой чисел, словно странными чудодейственными
заклинаниями древнего внушающего ужас мага. Больше того, что
удивительно, система эта способна производить новые оттенки и
изменения чувств, такие, что сама душа поражается, когда таким
видит свое существо — так же и язык слов, служа выражением и
знаком мыслей, нередко добавляет к ним новые, подчиняя своему
движению ритм и танец разума.
Нет другого искусства, которое столь же искусно и смело и так
поэтично (а с точки зрения людей холодных столь неестественно)
живописало бы чувства. Сущность всего поэтического состоит в том,
чтобы сгущать чувства, в повседневной жизни рассеянные и
распыленные, и создавать из них разные плотные и твердые массы 1;
1 "У Вакенродера игра слов: «dichten» — сочинять, творить; «verdichten» —
сгущать.
10*
275
поэзия расчленяет то, что слито, сливает воедино то, что
разъединено. В тесном и узком месте волны становятся круче и выше. Но где
границы и переходы резче, где волны выше, чем в музыке?
Но что, собственно, несут эти волны, так это чистое,
бесформенное бытие, течение, цвет и в первую очередь беспрестанные
переходы чувств; идеальное, ангельски чистое искусство в своей
невинности не знает ни начала, ни цели своих движений, не знает и
связи своих чувств с реальным миром.
И, однако, при всей своей невинности волшебной силой своей
чувственности оно легко возбуждает чудесные роящиеся воинства
фантазии, населяющие звуки магическими образами, обращающие
бесформенные движения в ясные подобия человеческих аффектов,
которые предстают нашему сознанию обманчивыми миражами,
порожденными магическим чудо действием. [...]
Но кто назовет и перечислит их, все эти воздушные фантазии,
которые, как скользящие тени, сменяют друг друга в нашем
воображении? [...]
Там же, стр. 189, 190, 192.
Краски
Человеческое искусство отделяет друг от друга скульптуру,
живопись и музыку. Каждая из них существует обособленно и идет
своим путем. Но мне всегда казалось, что музыка может
существовать в мире самодовлеющем и замкнутом, чего нельзя сказать о
живописи: каждому прекрасному изображению в красках несомненно
соответствует родственное музыкальное произведение, так что у
обоих лишь одна душа. И когда начинает звучать мелодия, новые
лучи жизни загораются на полотне и с нами заговаривает более
могущественное искусство — и звуки, и линии, и краски проникают
друг в друга, сливаясь воедино в пламенном союзе. Тогда искусство
предстает перед нами как аналогия природы, как сама природа,
только гораздо более прекрасная и в оправе самых лучших и самых
чистых наших чувств. Потому, наверно, случается, что в церкви
даже незначительные картины иногда удивительно впечатляют нас,
как бы вдыхая в нас свою живую душу: родственные им звучания
изгоняют мертвенный застой и в каждой линии и в каждом мазке
пробуждают оживленное движение. Скульптура передает только
формы, она пренебрегает красками и речью, она слишком
идеальна, чтобы желать чего-то большего помимо того, что у нее есть.
Музыка — это наивысшее творение духа, тончайшая стихия, и
самые сокровенные сновидения нашей души черпают в ней, как в
невидимом потоке, свои силы. Она ведет свою игру вокруг человека,
276
не требует ничего и требует всего; она выразительнее, чем язык, и,
может быть, еще тоньше, чем мысль,— человеческий дух не может
пользоваться ею как своим орудием и средством, так как она
существует сама по себе и потому обитает в своем собственном
очарованном круге. Живопись же, слишком невинная и почти покинутая
всеми, стоит посередине. Она желает создать иллюзию своей
формой, она подражает и шороху и говору всего одушевленного мира
и стремится к живости движений. Все ее силы напряжены, и,
однако, она бессильна и призывает на помощь музыку, которая
сообщает ей великую жизнь, движение и силу. Оттого так трудно,
так почти невозможно описать картину словами,— слова остаются
мертвыми и даже в присутствии предмета ничего не объясняют:
лишь когда описание становится истинно поэтическим, тогда оно
объясняет и усиливает наш восторг и наше радостное проникновение
в картину, воздействуя на нас уже как музыка и благодаря
блестящим образам и сравнениям заменяет родственную ему музыку
звуков.
Кто станет отрицать, что живопись и сама по себе достигает
высоких целей? В природе даже один цветок, один сорванный лепесток
может вызвать наше восхищение, и нет ничего странного в том, что
цвет сам по себе вызывает удовольствие. Отдельными цветами
говорят с нами природные духи, как духи небесные — звуками
инструментов. Мы не в состоянии выразить, как трогает нас каждый цвет,
ибо краски говорят с нами на более нежном наречии,— это мировой
дух находит радость в том, что одновременно и являет и тут же
скрывает себя на тысячу ладов. Отдельные краски — звуки его речи,
и мы внимательно прислушиваемся к ним, мы чувствуем, что
слышим нечто, в чем, однако, не можем дать отчета ни себе, ни кому
другому. Но тайная магическая радость охватывает нас,— нам
кажется, что мы познаем себя и вспоминаем о некоем древнем,
бесконечно блаженном духовном союзе.
Там же, стр. 267—269.
Симфонии
Человеческий орган языка и звука можно рассматривать как
такой инструмент, на котором звуки боли, радости, восторга и всех
чувств — только отдельные тоны, а именно основные тоны, на
которых покоится все другое, что может произвести инструмент.
Строго говоря, эти звуки только отрывочные восклицания либо
непрерывно льющийся поток печали или тихой радости. Если верить, что
вся человеческая музыка должна выражать по возможности только
277
чувства, то нужно радоваться, если такие звуки все яснее и
отчетливее можно отыскивать у безжизненных инструментов. Многие
художники всю свою жизнь потратили на то, чтобы
усовершенствовать и сделать более прекрасной такого рода декламацию, а
выразительность углубить и возвысить, и их часто славили и почитали как
единственно истинных и великих музыкантов.
В этом роде музыки развились разные правила, следовать
которым безусловно обязан каждый, кто хочет, чтобы его вкус считали
хорошим. Стремятся из этой подлинной музыки изгнать все лишнее,
всякие украшения, все, что противоречит благородству и простоте
исполнения.
Я не буду порицать здесь этого, и, вероятно, собственно
вокальная музыка и должна покоиться на аналогиях человеческой
выразительности; она тогда выражает идею всего человечества с его
желаниями и страстями; одним словом, это потому музыка, что
благородный человек сам по себе уже все воспринимает музыкально.
Но при всем этом такое искусство кажется только
ограниченным и условным; оно остается декламацией и речью, только на
более высоком уровне, тогда как всякая человеческая речь, всякое
выражение чувства должны бы уже быть музыкой, хотя в меньшей
степени.
Но в области инструментальной музыки искусство независимо
и свободно — оно, и только оно само, предписывает себе свои законы,
оно предается фантазии и, однако, достигает высшей цели; оно
следует неясным инстинктам, а выражает самое глубокое, самое
чудесное, и все это своей игрой. Мощные хоры, многоголосные пьесы,
созданные со всем искусством контрапункта,— триумф вокальной
музыки; высшее достижение и прекрасная победа инструментов —
симфонии.
[...] Эти симфонии представляют такую пеструю, разнообразную,
запутанную и вместе с тем прекрасно построенную и вполне
развитую драму, какая поэту никогда не удастся, ибо они загадочным
языком раскрывают самые большие загадки, они не зависят от
законов вероятности, им не нужно брать за основу ни фабулы, ни
характера, они остаются в своем мире чистой поэзии. И этим они
избегают любых средств, которые увлекли бы за собой или
восхитили нас — дело [конструкция.— Перев.] остается от начала до
конца их предметом: цель наличествует в каждый отдельный
момент — она начинает и кончает произведение.
И, однако, звуки иногда заключают в себе такие яркие и зримые
образы, что искусство это зачаровывает равно и слух и зрение. [...]
Там же, стр. 304—306,
278
Звуки
В живой природе звук и шум непрестанно сопровождают цвет
и форму. Живопись и скульптура всегда заимствуют оттуда свои
формы, как бы они их ни приукрашивали: да ведь и утренняя и
вечерняя заря и лунный свет так играют в красках и облаках, что ни
один художник со своими красками не сможет достичь этого или
даже приблизиться к этому; и блеск, горящий в природе, и свет,
которым украшается зеленая земля, недоступны живописи.
Но как все иначе в музыке! Самые прекрасные звуки, которые
производит природа,— пение птиц, шум водопада, горное эхо и шум
леса, да и величественный гром,— все эти звуки непонятны и грубы,
они словно произносятся сквозь сон, и это только отдельные звуки,
если сравнивать их с игрой инструментов. А те звуки, которые
чудесным образом открыты искусством, которые искусство
отыскивает везде и всюду, они имеют совершенно иную природу, они не
подражают, не приукрашают, они — отдельный мир для себя.
[...] Без музыки земля — пустой, недостроенный и нежилой дом.
Поэтому самая древняя греческая и библейская история, да и
история каждого народа, начинается с музыки. Музыка — это поэзия,
поэт сочиняет историю.
Там же, стр. 294-295.
НОВАЛИС
1772-1801
Самый· значительный поэт венского романтического кружка Новалис
(настоящее имя Фридрих фон Гарденберг) был также своеобразным мыслителем
и эстетиком. Помимо художественных произведений (наиболее выдающиеся из
которых — «Гимны ночи» и незаконченный роман «Генрих фон Офтердинген»)
он оставил большое количество «Фрагментов», главным образом философского
и эстетического содержания.
Философские взгляды Новалиса, как они сложились к 1797 году под
воздействием фихтевской философии, носят субъективно-идеалистический
характер, однако Новалису уже несвойственно революционное бунтарство раннего
Фихте. Материалистов и Канта Новалис отвергал. «Не-я», то есть, материя, при ·
рода,— это, по мнению поэта, «символ «я», и служит только для самопознания
«я...» 1. Новалис в характерном для иенских романтиков духе иногда подходил
J Novalis, Schriften, Bd. II, hrsg. von L Minor, Jena, 1907, S. 253 (Fr. 264),
279
к фихтевскому «я» не как к сознанию вообще, а как к конкретному «я»
данного индивида. Получалось, будто индивид силой воли, по произволу может
творить чудеса, пересоздавать мир по своему желанию: «Мир должен быть
таким, каким я хочу [чтобы он был]»; «что я хочу, то я могу» К
Переходя от субъективного идеализма к мистическому пантеизму в духе
Шеллинга, Новалис утверждает в дальнейшем тождество «я» и «не-я».
Истинная философия, как теперь считает поэт,— это «вполне реалистический
идеализм или спинозизм; она покоится на высшей вере. Вера неотделима от
идеализма» 2. Природе в свете такой философии отводилась роль «систематического
индекса» духа. Новалис истолковывал философию Спинозы в мистическом
духе и видел в идее Спинозы о «совершенном знании» «лежащее в основе
всякого мистицизма» положение о «сладострастном постижении» \
Однако идеализм сочетался во «Фрагментах», так же как в других
сочинениях Новалиса, с трезвым подходом к возникавшим в ходе революционных
преобразований буржуазным отношениям. Новалис высоко оценил
«универсальность» французской революции. Он воочию убедился, что «слово «свобода»
приводит в движение народы», и признавал, что «наше существование
находится в связи с тем, что происходит во всем мире, так же как и в связи с
будущим и прошедшим» 4. Социальный опыт приводил Новалиса к трезвым
суждениям: «Природа— враг вечного обладания. Действуя по твердому закону, она
уничтожает все признаки собственности... Земля принадлежит всем, кто живет
на ней; каждый имеет право на все. Пришедшие первыми не могут
пользоваться какими-либо преимуществами из-за этого случайного первородства.
К определенному времени право собственности теряет силу...» 5. Новалис, как
и другие иенские романтики, задумывался над закономерностями
исторического развития и понимал необходимость прогресса (Fortschritt). Он искал
«базис человеческой истории» в «антропологии», то есть в социологии (в таком
смысле употребляли это слово современники Новалиса, в частности Кант в
работах 1790-х годов). Находя, что «образованный человек живет исключительно
для будущего» и что призвание людей «в устройстве жизни на земле»,
Новалис представлял во «Фрагментах» это будущее как компромисс старого режима
с революционными преобразованиями. Полагая, что республика не может
существовать без короля, он уверен также, что вскоре все убедятся, что и король
не может существовать без республики.
Эстетические фрагменты Новалиса со всей их непоследовательностью и
пестротой трактуют не столько об искусстве вообще, сколько о специфике его
собственного ультраромантического и сугубо индивидуального метода творче-
1 Novalis, Schriften, Bd. II, S. 178 (Fr. 14).
2 Там же, стр. 182 (фр. 27).
3 Там же, стр. 282 (фр. 323).
4 Там же, стр. 134 (фр. 92).
5 Там же, стр. ИЗ (фр. 13).
280
ства. Самой сильной стороной Новалисовой «фантастиологии» (Fantastik —
таким словом по аналогии с логикой (Logik) Новалис предполагал обозначить
общую науку об искусстве) было отстаивание значительности и жизненной
необходимости искусства, стремление к такому укладу, при котором вся жизнь
стала бы поэтичной, а всякий человек мог бы в какой-то степени быть поэтом.
Эту идею выделил и высоко оценил Элюар, который писал, что хотя Новалис
«рядился ангелом, земные дела иногда оказываются ему ближе, чем среднему
человеку» К В то же время Новалис отстаивал родство поэзии с прорицанием
и заклятием, ее независимость от того, что происходит в действительности, ее
субстанциальную сказочность и символичность. Эта позиция Новалиса
отчетливо выразилась в критике «Вильгельма Мейстера» Гёте, который произвел на
него глубокое впечатление, но с каждым годом вызывал все большее и большее
раздражение: «До известной степени «Годы учения Вильгельма Мейстера» —
произведение насквозь прозаичное и современное. Романтическое, а также
поэзия природы, чудесное в нем гибнет. Речь ведется исключительно об
обычных человеческих вещах, природа же и мистицизм забыты полностью. Это
поэтизированная бюргерская и домашняя повесть. Чудесное в ней подчеркнуто
трактуется как поэзия и мечтательность. Художнический атеизм — вот дух
книги»2. Эстетика Новалиса вела к принципиальному отрицанию творчества
Гёте как «поэта целиком практического».
В свою очередь немецкой классической эстетике были чужды крайние
тенденции иенских романтиков. Гегель на примере Новалиса анализировал кризис
романтической иронии, которая вместо подлинного действия и стремления
(к осуществлению идеала) приводит к пустоте, к отсутствию определенных
интересов, к ужасу перед действительностью, к «чахотке духа» 3.
Преобладавшая в буржуазной науке до 1940-х годов тенденция представить
творчество поэта как апологию германского национализма уступила
противоположной, но столь же произвольной тенденции трактовать его
субъективизм как анархическую революционность, а самого поэта как
непосредственного предшественника некоего всемирного бунта в жизни и в искусстве
XX века.
Неприятие Новалисом буржуазного мира, трагически правдивое отражение
в его творчестве противоречий эпохи при всей тщетности его попыток
подняться над этими противоречиями, чувство реальности, присутствующее в его
теоретических работах и особенно в поэзии, как бы эта реальность ни была ему
враждебна и горька,— все это обусловливает содержательность и
художественную значительность его творчества.
1 См : Paul Eluard, Les sentiers et les routes de la poésie, P., 1954, p. 19.
2 Novalis, Schriften, Bd. Π, S. 243 (Fr. 237).
3 Hegel, Sämtliche Werke, Bd. XII, hrsg. von H. Glockner, Stuttgart, 1927,
S. 221.
281
ФРАГМЕНТЫ
[О сущности поэзии]
Поэзия есть абсолютно реальное. Это ядро моей философии. Чем
поэтичнее, тем истиннее.
Поэзия растворяет чуждое бытие в своем.
H о в а л и с, Фрагменты, М., 1914, стр. 5, 8.
Перевод Г. Петнжкова.
Сфера поэта есть мир, собранный в фокус современности. Пусть
замыслы и их выполнение будут поэтическими — в этом и
заключается природа поэта. Все может оказаться ему на пользу, он
должен лишь соединить все со стихией духа, он должен создать из
этого целостный образ. Он должен изображать и общее и
частности — всякий образ составлен из противоположностей. Свобода
соединений и сочетаний снимает с поэта ограниченность. Всякая
поэтическая природа есть природа в обычном смысле, ей присущи все
свойства последней. Как бы ни была она индивидуальна, все же
общий интерес сохраняется за ней. К чему нам описания, невнятные
ни уму, ни сердцу, неживые описания неживых вещей. Если они
и не вызывают игры душевных сил, то по меньшей мере пусть будут
они символичны, как символична сама природа. Либо природа
должна нести в себе идею, либо душа должна нести в себе природу.
И закон этот пусть будет действителен и в целом и в частях. Поэт
ни в коем случае не должен быть эгоистом. Себя он должен
рассматривать как явление. Поэт через представления пророчествует о
природе, в то время как философ через природу пророчествует о
представлениях. Для одного весь смысл в объективном, для другого в
субъективном. Тот есть голос вселенной, этот — голос простейших
элементов, принципа; тот — пение, этот — простая разговорная
речь. В одном случае из различий выступает бесконечное, в
другом из многообразия выступают только конечные вещи. Поэт
навеки остается истинным. Он пребывает в коловращениях природы.
Философия же подвержена изменениям, в то время как все вокруг
пребывает. Сущее можно представить только через изменчивое.
Изменчивое — только через пребывающее, через каждый данный
момент. Прошлое и настоящее — суть только знаки природы. Только
она одна — реальность. Всякий поэтический образ должен быть
символическим или трогательным. Я говорю здесь «трогательный»
в смысле воздействия вообще. Символ не воздействует
непосредственно, он побуждает к активности. Одно вызывает раздражение
282
и возбуждает, другое — трогает и движет. Там мы имеем
деятельность духа, тут — пассивную подверженность природе, в одном
случае переход от явления к сущности и от представления к
созерцанию, в другом — от сущности к явлению и от созерцания к
представлению.
«Литературная теория немецкого романтизма»,
Л., 1934, стр. 124—126. Перевод Т. И. Сильман.
Роман должен быть сплошной поэзией. Поэзия, как и
философия, есть гармоническая настроенность нашей души, где все
становится прекрасным, где каждый предмет находит должное
освещение, где все имеет подобающее ему сопровождение и
подобающую среду. В истинно поэтическом произведении все кажется столь
естественным и тем не менее столь же чудесным. Тебе кажется,
будто не существует ничего иного, будто до сей поры ты только
дремал в этом мире и лишь теперь раскрылось тебе истинное понятие
о нем. Всякое воспоминание и предчувствие, вероятно, имеет тот же
источник, как и та действительность, куда удаляешься в
мечтаниях,— немногие часы, когда как бы существуешь во всех
предметах, тобой созерцаемых, когда отдаешься сразу бесконечным и
непостижимым впечатлениям согласного многообразия.
Там же, стр. 136—137.
Некогда поэт был всем для всех, круг людской был еще узок,
между людьми было больше равенства в познаниях, опыте, нравах
и обычаях. И такой человек, не знающий материальных нужд в этом
мире потребностей хотя и более простых, но зато и более сильных,
вознес человечество на прекрасную высоту, сообщил ему высокое
чувство свободы — влияния внешнего мира были еще так новы.
Там же, стр. 126.
С каждой чертой свершения создание отделяется от мастера на
расстояние пространственно неизмеримое. С последней чертой
художник видит, что мнимое его создание оторвалось от него, между
ними мысленная пропасть, через которую может перенестись только
воображение, эта тень гиганта — нашего самосознания. В ту самую
минуту, когда оно всецело должно было стать собственным его
достоянием, оно стало чем-то более значительным, нежели он сам, его
создатель. Художник превратился в бессознательное орудие, в
бессознательную принадлежность высшей силы. Художник
принадлежит своему произведению, произведение же не принадлежит
художнику.
Там же, стр. 123.
283
Искусство приятным образом делать вещи странными, делать их
чужими и в то же время знакомыми и притягательными — в этом
и состоит романтическая поэтика.
Там же, стр. 126.
Инстинкт есть искусство без намерения.
Истинный поэт всеведущ; он действительный мир в малом.
Поэты в одно и то же время изоляторы и проводники
поэтического тока.
Поэт и жрец были вначале едины, и только позднейшие времена
разделили их. Но истинный поэт всегда оставался жрецом, так же
как и истинный жрец — поэтом. И не должно ли грядущее вновь
возвратить древнее состояние вещей?
H о в а л и с, Фрагменты, стр. 9, 10.
Необходимо разнообразие в изображении людей. Только бы не
куклы — не так называемые «характеры», но живой, причудливый,
непоследовательный, пестрый мир (мифология древних).
Комедия и трагедия очень выигрывают от осторожной
символической связи друг с другом и, собственно, лишь благодаря ей и
становятся поэтическими.
Серьезное должно светиться весельем, шутка отсвечивать
серьезным.
В Шекспире обязательно чередуются поэзия с антипоэтическим,
гармония с дисгармонией, обыденное, низкое, уродливое с
романтическим, высоким, прекрасным, действительное — с вымыслом. Это
прямая противоположность греческой трагедии.
«Литературная теория немецкого романтизма»,
стр, 144, 145.
[О музыке и взаимоотношении искусств]
Пластические произведения искусства никогда не следовало бы
смотреть без музыки, музыкальные произведения, напротив, нужно
бы слушать в прекрасно декорированных залах. Поэтические же
произведения следует воспринимать лишь совместно с тем и другим.
Оттого поэзия так сильно впечатляет в красивом театральном зале
или в церкви, убранной с высоким вкусом. Во всяком хорошем
обществе по временам должна раздаваться музыка. Ощущаемая
необходимость в пластических декорациях, без которых невозможно со-
284
здание подлинного общения, породила приемные комнаты. Лучшие
кушанья, общественные игры, более изящный костюм, танец и даже
более изысканная, свободная и более общая беседа возникли
благодаря этому чувству возвышенной жизни в обществе и
последовавшему в связи с этим объединению всего прекрасного и
оживляющего для создания многообразных общих впечатлений.
В жизни образованного человека музыка и не музыка должны
были бы чередоваться точно так же, как сон и бодрствование.
Поэзия в строгом смысле слова кажется почти промежуточным
искусством между живописью и музыкой. Разве не должен
соответствовать такт фигуре, а звук — цвету?
Собственно, видимую музыку составляют арабески, узоры,
орнаменты и т. д.
Музыкальный тон для каждого образа, и образ для каждого
музыкального тона.
(Энциклопедистика). Скульптура и музыка противостоят друг
другу как противоположные массы. Живопись образует, скорее,
переход. Скульптура есть образная твердь. Музыка — образное текучее.
(Маски древних актеров.)
Живопись и рисунок преобразуют все в плоскость и в
плоскостные явления, музыка — в движения, поэзия — в слова и языковые
символы.
Если некоторые поэтические произведения перелагаются на
музыку, почему не перелагают музыку на поэзию?
«Литературная теория немецкого романтизма»,
стр. 129—130.
Всякое наслаждение музыкально, следовательно, математично..
Времена года, дня, жизнь и судьбы — все они достаточно
замечательны, всецело ритмичны, метричны, обладают ладом. Во всех
ремеслах и искусствах, во всех орудиях, органических телах, в
наших каждодневных занятиях, всюду: ритм, метр, лад, напев. Все,
что мы делаем с известной сноровкой, мы делаем это незаметно для
себя ритмически. Ритм находится повсюду, всюду вкрадывается.
Всякий механизм метричен и ритмичен...
H о в а л и с, Фрагменты, стр. 18, 20.
285
Подобно тому как художник созерцает видимые предметы совсем
иными глазами, нежели человек обыденный, так и поэт постигает
происшествия внешнего и внутреннего мира иным образом, чем
остальные люди. Нигде, однако, более явственно, чем в музыке, не
обнаруживается, что именно дух делает поэтическими предметы,
изменения материала и что прекрасное, предмет искусства, не
дается нам и не находится уже готовым в явлениях. Все звуки,
которые порождает природа, грубы и неосмысленны,— только
музыкальной душе шелест леса, свист ветра, соловьиное пение, журчание
ручья нередко кажутся мелодичными и полными значения.
Музыкант изымает существо своего искусства из самого себя, и никакое
подозрение, что он подражает кому-то, не может коснуться его.
Кажется, будто видимый мир все подготовил для живописца и будто
видимый мир есть недосягаемый образец для него. В сущности же,
искусство живописца возникло столь же независимо, совершенно
a priori, как искусство музыканта. Живописец просто пользуется
бесконечно более трудным языком знаков, чем музыкант;
живописец пишет, собственно говоря, глазами. Его искусство состоит в том,
чтобы видеть вещи в их закономерности и красоте. Зрение здесь
является чрезвычайно активной, созидающей деятельностью.
Картина, написанная художником, есть только внутренний шифр,
выразительное средство, способ воспроизведения. Сравните с этим
искусственным шифром ноты. Разнообразное движение пальцев, ног и рта
музыкант тем скорее мог бы противопоставить картине живописца.
Музыкант, собственно говоря, тоже слушает активно. Он как бы
выносит свой слух наружу. Разумеется, это обращенное
употребление органов чувств для большинства является тайной, но каждый
художник с большей или меньшей ясностью сознает его. Почти
каждый человек, хотя бы в малой степени, уже является художником.
Ведь на деле он не всматривается, но смотрит изнутри, не вчувствы-
вается, но полагает вовне свое внутреннее чувство. Главное различие
следующее: художник оживил в своих органах чувств зародыш
созидающей себя жизни, возвысил их чуткость до одухотворенности
и тем самым оказался в состоянии по собственному выбору и без
внешнего побуждения творить через них идеи, употреблять их как
орудия для любых изменений реального мира. В то же время у
нехудожника они оживляются лишь при появлении внешнего
побудителя, и дух, подобно косной материи, подчинен или кажется
подчиненным основным законам механики (всякое изменение
предполагает внешнюю причину, действие всегда равно
противодействию). Утешительно хотя бы знать, что эти механические законы
противны существу нашего духа и преходящи, как и все,
направленное против духовного естества.
286
Однако и у самого обыкновенного человека дух не целиком
повинуется законам механики. Поэтому всякий мог бы развить в себе
эти высшие задатки и способности наших органов. Если мы
вернемся к различию между живописью и музыкой, то сразу же
заметим, что в музыке знак (шифр), орудие и материал разобщены, в
живописи же едины, и именно поэтому у нее каждая часть в
отдельности кажется столь несовершенной. Отсюда достоверный
вывод, что живопись более трудна, чем музыка. То, что живопись как
бы ступенью ближе к святилищу духа и поэтому, если можно так
выразиться, благороднее музыки,— об этом нетрудно заключить из
обычного аргумента меломанов. Они утверждают, что музыка
производит действие более сильное и более всеобщее. Количественным
мерилом не следует определять интеллектуальное достоинство
искусства, скорее напротив. Музыка известна даже животным; о
живописи же они не имеют и понятия. Животные не в состоянии
оценить самую красивую местность, самое очаровательное
изображение. Они только обманываются, если перед ними изображен
предмет, им знакомый. Они принимают его за реальность, но как образ
он не будет воспринят ими.
Хороший актер есть действительно орудие и пластики и поэзии.
Опера и балет на деле являются поэтико-изобразительными
концертами, общим созданием различных пластических средств.
(Действительное значение чувства. Поэзия.)
(Взаимное проникновение музыки и изобразительных искусств —
дело идет не о простом взаимном опосредствовании.)
«Литературная теория немецкого романтизма»,
стр. 127—129.
[О чудесном и сказочном как элементе романтической поэзии]
Сказка есть как бы канон поэзии: все поэтическое должно быть
сказочным. Поэт поклоняется случаю.
Если в сказку привносить элементы фабульности, то это уже
чужеродное тело. Ряд приятных и развлекательных опытов,
перемежающаяся беседа, бальное общество — вот что есть сказка. Более
возвышенной станет она, если, не нарушая сказочного духа, будет
внесен в нее некий общий смысл (связь, значение и т. д.). Даже
полезной могла бы стать сказка.
Тон чистой сказки разнообразен, однако он может быть и прост.
Сказка подобна сновидению, она бессвязна. Ансамбль чудесных
вещей и событий. Например, музыкальные фантазии, гармонические
сопровождения эоловой арфы, сама природа.
287
Странно, что абсолютный, чудесный синтез часто является осью
сказки — или же целью ее.
Ничего не может быть противнее духу сказки, чем
нравственный фатум, закономерная связь. В. сказке царит подлинная
природная анархия. Абстрактный мир, мир сна, умозаключения,
переходящие от абстракций и т. д. к нашему состоянию после смерти.
В истинной сказке все должно быть чудесным, таинственным,
бессвязным и оживленным, каждый раз по-иному. Вся природа
должна чудесным образом смешаться с целым миром духов; время
всеобщей анархии, беззакония, свободы, природное состояние самой
природы, время до сотворения мира. Это время до мира дает как бы
разрозненные черты времени после мира, подобно тому как
природное состояние есть как бы образ вечного царства. Мир сказки
целиком противоположен миру действительности, и именно потому
так же точно напоминает его, как хаос — совершенное творение.
В будущем мире все станет таким же, как оно было в мире
давно прошедшем, и в то же время совершенно иным. Будущий мир
есть разумный хаос: сам в себя проникший хаос, находящийся и в
себе и вне себя.
Истинная сказка должна быть одновременно пророческим
изображением, идеальным изображением, абсолютно необходимым
изображением. Истинный сказочный поэт есть провидец будущего.
«Литературная теория немецкого романтизма»,
стр. 133—134.
ШЛЕИЕРМАХЕР
1768-1834
Жизнь Фридриха Даниила Эрнста Шлейермахера не богата внешними
событиями. Окончив семинарию, он изучает теологию в университете в Галле,
в 1793 году становится пастором, а затем получает должность церковного
проповедника в Берлине, которую и занимает до конца жизни. Интерес к
философии просыпается у Шлейермахера сравнительно рано. Уже в юности он
пишет философские трактаты «О понятии высшего добра» и «О свободе
человека», увлекается пантеистической системой Спинозы, переводит диалоги
Платона. Его собственное миросозерцание формируется в совместной
деятельности с романтиками — Ф. Шлегелем, Новалисом, Тиком и другими. В 1799 году
он публикует «Речи о религии, обращенные к образованным людям в среде
ее недоброжелателей». Основные философско-религиозные сочинения
Шлейермахера увидели свет после его смерти.
Общефилософские воззрения были развиты Шлейермахером в
«Диалектике», изданной лишь в 1839 году. Диалектика понимается им как учение о зиа-
288
нии и его формах. Знание есть единство органической и интеллектуальной
функций. В органической деятельности разума нам дан хаос многообразных
впечатлений, которые лишь благодаря интеллектуальной деятельности
приобретают форму и единство. Религия, как и искусство, по мнению
Шлейермахера, возникает из чувства и представляет собой непосредственное
постижение целого. Для понимания эстетики Шлейермахера особый интерес
представляет его учение об искусстве как символической деятельности,
выражающей во внешнем внутреннюю духовную жизнь личности. Эти идеи получили
дальнейшее развитие в лекциях по эстетике, которые Шлеиермахер читал
в 1819, 1825 и 1832 годах в Берлинском университете и которые были изданы
лишь в 1849 году.
Эстетика Шлейермахера, изложенная в этих лекциях, состоит из двух
частей. В первой части он рассматривает теоретические проблемы эстетики.
Художественная деятельность для Шлейермахера проявляется в различных
градациях у всех людей. Возражая против принципа подражания природе,
Шлеиермахер развивает учение о художественной деятельности как свободной
продуцирующей работе самосознания. Протестуя против утилитаризма,
Шлеиермахер противопоставляет ему тезис о самоценности искусства как свободном
самоизъявлении, самораскрытии человеческого духа. Мерой и критерием
оценки произведения искусства как прекрасного становится у него понятие
совершенства, завершенности произведения.
Вторая часть эстетики Шлейермахера посвящена выяснению сущности
отдельных видов искусства, подразделяемых им на аккомпанирующие,
изобразительные искусства и поэзию. В главе о поэзии Шлеиермахер ставит вопросы
о логических и музыкальных моментах в языке, о видах поэзии и т. д.
Рассматривая язык как символическое выражение сокровенных движений души,
он считает, что каждая личность говорит на своем языке. Обыденный
человеческий язык не может выразить жизнь души, он не соединяет, а разъединяет
людей. Поэтому Шлеиермахер требует создания тайного языка посвященных.
Критическую оценку философии Шлейермахера дал Гегель. Не без иронии
он пишет о том, что у Шлейермахера «я» находит в субъективности и
индивидуальности собственного миросозерцания свое наивысшее тщеславие — свою
религию». И далее: «Знание об абсолютном становится делом сердца; перед
нами выступает множество боговдохновенных; все они говорят, каждый
произносит монолог и понимает другого, собственно говоря, только в пожатии руки
и в немом чувстве» *.
Эстетика Шлейермахера заключает в себе некоторые диалектические
моменты, сближающие ее с идеями Гёте и Гегеля. Такова прежде всего идея
творческой продуктивности. Вместе с тем бесспорной слабостью
романтического проповедника была глубокая субъективность его исходного пункта и
выдвинутый им идеал слияния искусства с религией.
1 Гегель, Сочинения, т. XI, стр. 482, 483.
289
РЕЧИ О РЕЛИГИИ
Во всяком действовании и творчестве, будь оно нравственным
или художественным, человек должен стремиться к мастерству;
всякое же мастерство, когда человек всецело пленен его задачей,
ограничивает и охлаждает, делает односторонним и жестким. Оно
направляет прежде всего человеческую душу на одну точку, а эта
одна точка не может удовлетворить душу. Может ли человек,
переходя от одного ограниченного дела к другому, действительно
использовать всю свою силу? Не останется ли, напротив, большая часть ее
неупотребленной, и разве она тогда не обратится против самого
человека и не станет пожирать его? [...] Или вы видите спасение и от
этого зла в том, что человек, для которого даже один предмет
слишком велик, должен охватить все предметы человеческих
стремлений — науку, искусство и жизнь, и все остальное, если вы еще что-
либо знаете? Это есть, правда, ваше давнишнее влечение иметь
всюду целостную и во всем однородную человечность, ваша вечно
возвращающаяся жажда равенства — но если бы только это было
возможно! [...] И даже в пределах каждой такой сферы каждый
человек должен тем более ограничиваться частным, чем большего
мастерства он хочет достигнуть. И если это мастерство всецело занимает
его и он живет лишь данным своим творчеством, как может он
достигнуть полного участия в мире, как может его жизнь стать
целостной? Отсюда односторонность и духовная нищета большинства
виртуозов или низкий уровень, на котором они стоят вне своей
специальной области. И против этого зла нет иного целебного средства,
кроме того, чтобы каждый, действуя определенным образом в
ограниченной области, вместе с тем без определенной деятельности
открывал себя влияниям бесконечности и всеми видами религиозных
чувств воспринимал все, что лежит за пределами непосредственно
возделываемого им поля. Каждому доступно это; ибо какой бы
предмет вашей свободной и художнической деятельности вы ни избрали,
немногое нужно, чтобы, исходя из каждого, найти вселенную, а во
вселенной вы находите и остальные предметы как ее веления, или
внушения, или откровения. Так воспринимать и наслаждаться ими
в целом — это есть единственный способ, которым, избрав
определенное духовное направление, вы можете усваивать и то, что лежит
вне его — уже не из произвола, как искусство, а из инстинкта ко
вселенной, как религию...
Ф. Шлейермахер, Речи о религии, Мм 1911,
стр. 93—94. Перевод С. Л. Франка.
290
ЛЕКЦИИ ПО ЭСТЕТИКЕ
Известно, что существует объяснение искусства, наиболее
характерное для первого периода в развитии эстетики и отчасти
проистекающее из античных интерпретаций, объяснение, которое
утверждает, что искусство есть подражание природе. [...] Ход мысли здесь
таков: с одной стороны, предметы, которые аффицируют наши
чувства, становятся для нас представлениями и образами, с другой
стороны, благодаря этому аффицированию возникает определенное
состояние человека — подражание, отношение к предмету, взывающее
к действию и исходящее из способности желания, в отличие от
направленности, на познавательную способность. Между ними
находится нечто третье, а именно чувство удовольствия или
неудовольствия, которое не вытекает из познавательного отношения и не
взывает к действию. [...] Удовольствие есть нечто совершенно иное,
чем познание и желание. [...] Удовольствие, возбуждаемое
предметами, вновь рождает желание обладать предметами, но, поскольку
человек не может достигнуть этого, он подражает им, и это
подражание, возникающее из природы удовольствия, есть искусство.
Итак, определение искусства существенно зависит от того,
исходят ли из спонтанности или рецептивности. Но если спрашивают,
что, собственно, означает деятельность, продуцирующая произведения
искусства, и существует ли такая деятельность, то тем самым
развивают совершенно иной взгляд. Если мы представляем себе в целом
понятие искусства, мы можем сделать еще один шаг дальше и
рассмотреть различные виды искусства. [...] Изобразительные искусства
не создают препятствий для их истолкования. [...] Но каково будет
положение вещей, если мы применим это понятие искусства как
подражания природе к музыке? Конечно, могут сказать, что так как
удовольствие есть тот момент, из которого происходит искусство,
то мы должны обратиться к звукам, не проистекающим ни из
человеческого голоса, ни из деятельности. В таком случае мы должны
были редуцировать всю деятельность к подражанию пению птиц
и другим естественным звукам, но этим подобное сведение, которое
совершенно не может занять того же места, что и в
изобразительном искусстве, обнаруживает, что отношение к воспроизводимому
различно. Если мы обратим внимание на другую область
искусства [...], а именно на архитектуру, то она в еще большей степени
предстает как произведение человека. [...] Мы убеждаемся, что мы не
можем отделять и обособлять друг от друга оба исходных пункта,
но они должны быть соединены друг с другом.
Отношение зависимости человека, соответственно которому он
в своей деятельности определяется некиим другим, является
состояла?
нием рецептивности. Напротив, если поразмыслить над
производством идей в поэзии и над возникновением образов в
изобразительных искусствах, то мы должны отметить, что эта деятельность
существует не в форме рецептивности, а в форме продуктивности.
Fr. Schleiermacher, Vorlesungen über die
Aesthetik, 1849, S. 65. Перевод А. П. Огурцова.
Если до этого мы говорили об искусстве и его бытии и сущности,
то ныне появляется другой вопрос, а именно о том, что в искусстве
есть совершенное. [...] Если исследовать путь, как мы достигли
понятия совершенства, которое содержит в себе масштаб для оценки
произведений искусства, то нужно спросить, должно ли такое
понятие быть общим для всех видов искусств, или в каждом из них
должно быть установлено особое понятие совершенства, но тогда
каким образом может существовать общее понятие искусства?
Прежде чем перейти к различным видам искусства, мы в нашей
дедукции этого различия уже исходим из одного совершенно общего
пункта; лишь поэтому создается возможность сконструировать
понятие совершенства; в таком случае существует и общее понятие всех
видов искусства. Конечно, это понятие совершенства может иметь
место лишь в этой общей сфере, и само собой разумеется, что оно
в каждой области искусства должно по-разному модифицироваться.
Напротив, если мы не нашли этого общего понятия совершенства,
то мы должны и само понятие искусства поставить под сомнение.
Если искусство есть нечто единое, то оно должно иметь и единую
меру.
[...] Исходя из этого момента органического совершенства, мы
говорим лишь, что это совершенство произведения искусства как
целостности состоит прежде всего в том, что художественное
произведение есть нечто в себе совершенно замкнутое; в этом заключается
двоякий момент, а именно:
1. Целое, если оно существует, не создает возможности заметить
то, чего недостает, и, следовательно, тот, кто создает произведение
искусства, исключается с известной необходимостью из самого
произведения, однако находит в художественном произведении,
выступающем как целостность, свое умиротворение. Итак, в этом
определяется деятельность отдельного существа, и мы не можем
определить органическое совершенство какого-нибудь произведения
искусства, если будем исходить из отдельных частей; наоборот, они
должны определяться из целого. [...]
2. Если произведение искусства должно быть целиком замкнутым
внутри себя, то в нем ничего не может быть того, что не
принадлежа?
жит ему по сущности, так как, коль скоро мы находим в нем нечто
чуждое, произведение искусства не существует как замкнутое целое
благодаря своей сущности.
Там же, стр. 222—224.
Здесь я не могу удержаться от рассмотрения, которое, конечно,
лежит вне границ нашего предмета, а именно о различных
этических оценках искусства. Нельзя отрицать того, что, исходя из
различных интересов, часто говорят, будто искусство необходимо
рассматривать лишь как особую разновидность роскоши, что оно есть
знак потери человеческим духом собственного пути своего
определения. Подобная оценка основывается на двух совершенно
противоположных принципах — прежде всего на том, что многообразное
развитие человеческого духа принимается за состояние разложения;
поэтому желают найти подлинный тип человеческого духа в простых
формах жизни. Этот взгляд наилучшим образом фиксирован у
Руссо и прямо связан с его взглядом на жизнь в государстве, которое
также возникает из состояния разложения и предстает как предмет,
проистекающий из нужды. Кроме того, другим принципом является
польза, следовательно, взгляд, согласно которому духовные силы
человека должны быть целиком и полностью использованы в области
несвободной деятельности, то есть целесообразности. [...] Напротив,
наш взгляд приводит к тому, что в основе лежит чисто
самостоятельный элемент, который никогда не найдет своего полного воплощения,
и его мы ищем в искусстве. То унижение искусства, о котором выше
шла речь, необходимо рассматривать как односторонний взгляд, [...]
не основывающийся ни на спекулятивном, ни на этическом
принципе.
Но, с другой стороны, критику этого ограниченного взгляда часто
ведут очень ограниченными методами, ибо искусство хотят защитить
тем, что указывают на определенное этическое воздействие
искусства. Убеждение в том, что собственная тенденция искусства
заключается в укрощении страстей, является очень старым. Но коль скоро
исходят из того, что художественная деятельность совершенно
отлична от области целесообразности, то нельзя и говорить о
воздействии художественной деятельности, и должны считать ее не
способной ни к чему иному, кроме как к воплощению своей
собственной жизни. [...] Коль скоро исходят из того, что обнаружение этой
внутренней функции духа, его самостоятельного существования как
принадлежащего по своей сути духу коренится в освобождении от
всех внешних препятствий и влияний, тогда эта деятельность
принадлежит к завершению самосознания; и нельзя отрицать того, что
чем в меньшей степени этот принцип развивается в замкнутой массе
293
человеческой жизни, тем в большей степени человек удерживается
в состоянии служения для своего самосохранения независимо от
того, есть ли это форма отдельной или общественной жизни.
Там же, стр. 209, 210.
ЖАН-ПОЛЬ
1763-1825
Немецкий писатель Иоганн Пауль Фридрих Рихтер вошел в историю
литературы под псевдонимом Жан-Поль. Образование получил в Лейпцигском
университете, где слушал лекции по теологии, философии и филологии. В это
время он знакомится с мировой литературой, отдавая предпочтение
«остроумным» писателям — Сенеке, Вольтеру, Попу, Свифту. В студенческие годы Жан-
Поль пишет свое первое художественное произведение — «Гренландские
процессы, или Сатирические очерки». После окончания университета он стал
провинциальным учителем. Избавление от нищеты и широкую литературную
славу принесли ему романы «Гесперус» (1795), «Зибенкэз» (1797), «Титан» (1801).
В своих романах Жан-Поль язвительно высмеивает полуфеодальный уклад
немецкой провинциальной жизни, бюрократизм, торгашество, религиозную
узость. Эта сатирическая тенденция своеобразно переплетается у него с
сентиментально-идиллическим воспеванием природы, мечтательностью. Последнее
было отмечено в критических оценках Гейне («Романтическая школа»),
В. Г. Белинского (рецензия на «Антологию из Жана-Поля Рихтера») и др.
Наряду с художественными произведениями, Жан-Полю принадлежат
сочинения по философии, эстетике, педагогике. В полемически-юмористическом
трактате «Ключ к Фихте» (1799) дана остроумная критика
субъективно-идеалистической философии этого мыслителя. Главное философское сочинение
Жан-Поля — «Подготовительная школа эстетики» (1804), где анализируются
вопросы о сущности поэзии, о гении, о греческой и романтической поэзии,
о смешном, об остроумии, о романе и др. Это сочинение состоит из трех
частей, которые в свою очередь делятся на главы («программы») и параграфы,
В первых же разделах «Подготовительной школы» Жан-Поль четко
формулирует свои позиции в области эстетики. В главе «Поэтические нигилисты» он
выступает против субъективного произвола, отрыва искусства от
действительности, против растворения особенного во всеобщем. С другой стороны, он
выступает и против «поэтических материалистов», упрекая их в копировании
природы. Сам Жан-Поль стремится объединить оба принципа, утверждая, что
у нигилиста индивидуальное растворяется во всеобщем, а у материалиста
всеобщее окаменевает и закостеневает в индивидуальном: жизнеспособная поэзия
должна достичь такого соединения обоих, чтобы каждая личность находила
себя в ней.
Центральной проблемой трактата Жан-Поля является проблема
комического. Жан-Поль первый в немецкой эстетике дает систематический анализ
294
сущности и значения видов комического: смешного, юмора, остроумия, иронии,
сатиры, бурлеска. Он критикует определения комического у Канта и Шеллинга.
Характеризуя комическое как «бесконечно малое», он отграничивает его от
трагического, сентиментального и возвышенного, а также исключает его из
сферы нравственного, так как «в нравственном царстве нет ничего малого».
Следовательно, для смешного остается только царство рассудка: комично то,
что противоречит рассудку. Правда, голое заблуждение само по себе не может
быть смешным. Для этого оно должно быть облечено в наглядную,
чувственную форму. Кроме того, комическое предполагает осознание заблуждения или
противоречия. Таким образом, Жан-Поль приходит к выводу, что сущность
комического определяется тремя моментами: объективно существующим
противоречием, чувственно воспринимаемым характером этого противоречия и
субъективным знанием противоречия.
В соответствии с этими определениями Жан-Поль различает и виды
комического. Его высшей формой является юмор, который представляет собой
«перевернутое возвышенное»: абсолютно бесконечное и великое он превращает
в ничтожное и конечное. По мнению Жан-Поля, юмор — универсальная
характеристика романтической поэзии в отличие от пластической поэзии греков.
Комизм эпической поэзии характеризует ирония, которая надевает на себя
маску серьезности, нарочито скрывая ею противоречия в объекте. Сатира
находится на границе с комическим, так как она всегда вызывает горечь.
Большой интерес представляет глава «Необходимость культуры остроумия в
Германии», содержащая утопические идеи Жан-Поля об остроумии как пути к
политической и духовной свободе. По мнению Жан-Поля, не только свобода дает
остроумие, но и остроумие — свободу. В развитии остроумия Жан-Поль видит
путь к «всеобщему равенству и всеобщей свободе, путь к поэтической и
философской свободе и творчеству».
Несмотря на близость творчества Жан-Поля романтизму, романтики весьма
критически отнеслись к его «Подготовительной школе эстетики», упрекали его
в ограничении искусства «конечным», то есть действительностью, в отказе от
идеала. «Как печально,—писал Л. Тик в письме Зольгеру от 29 июля 1816
года,—что он смешивает и отождествляет идеал со всеобщим. Поскольку он
утверждает, что зло изобразить легче, чем добродетель, а черта легче, чем человека,
то этим самым бог в нашем представлении как самое идеальное, самое
всеобщее, становится равен нулю» *.
В педагогическом сочинении «Левана, или О воспитании» (1807) Жан-Поль
уделяет большое место вопросам эстетического воспитания, указывая на
необходимость развития у детей чувства прекрасного, остроумия и т. д. В своих
социально-политических произведениях Жан-Поль выступал как демократ,
критиковал реакционную цензуру, отстаивал свободу печати.
1 «Solgers Nachgelassene Schriften und Briefwechsel», Bd. I, Lpz., 1821,
S. 430.
295
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЭСТЕТИКИ
Предисловие к первому изданию
[...] Наше время ничем так не полно, как людьми, занимающимися
эстетикой. Редко случается, чтобы молодой человек правильно внес гонорар за
лекции по эстетике и через несколько же месяцев не собрал его назад с
публики за нечто подобное уже в печатном виде — некоторые даже ухитряются
расплатиться этими деньгами за самые лекции.
Очень легко сопровождать художественное произведение· отрывочными
критическими суждениями, то есть на его полном звезд небосклоне выбирать
себе любые звезды для украшения собственной схемы. Но эстетика — не то же,
что рецензия, хотя всякое суждение уже пытается делать вид, что скрывает
в себе эстетику.
И вот некоторые пробуют свои силы и предлагают нашему вниманию то,
что называется научной системой. Однако если у английских и французских
эстетиков, например у Хома \ Битти2, Фонтенеля 3, Вольтера, по крайней мере
художник получает нечто (хотя в ущерб философу), а именно некоторую
техническую каллипедию4, то у новейших трансцендентных эстетиков пищи для
философа находится не больше, чем для художника, и на долю каждого
приходится по половинке нуля. Сошлюсь на два разных способа, позволяющих
ничего не сказать. Первый — это путь параллелизма, на основе которого
Рейнгольд 5, Шиллер и другие весьма часто создают целые системы,— а именно,
вместо того чтобы конструировать предмет как абсолютный, они сопоставляют
его с каким-то другим — в нашем случае поэзию, скажем, с философией или
пластикой и графикой — и затем вполне произвольно сравнивают их признаки,
получая столь же малые плоды, какие можно получить о принципах танца
путем его сравнения с фехтованием, замечая, что в одном случае больше
двигают ногами, а в другом — руками, в первом больше по кривой, а во
втором — напрямик, что в первом движутся больше навстречу партнеру, а во
втором — наперекор сопернику и т. д. Без конца продолжаются эти сравнения
и в конце не доходят даже до начала. Как было бы хорошо, если бы глубокий,
пылкий Геррес6 оставил эту сравнительную анатомию для более достойного
призвания!
Второй путь получения нуля в эстетике состоит в том, чтобы с легкостью,
принятой в последнее время, растворить в терминах, широких как море —
1 X о м Генри (1696—1782) — английский философ, один из главных
представителей эмпирической эстетики в Англии, автор «Элементов крити?
ки» (1762).
2 Битти Джеймз (1735—1803)—шотландский философ, автор
сочинений по этике и эстетике, хорошо известных в Германии.
3 Фонтенель Бернар ле Бовье де (1657—1757)—теоретик
французского классицизма; имеются в виду его «Размышления о поэзии».
4 Каллипедия — учение о красоте (от греч. callos — красота и
paideyo — воспитываю).
5 Рейнгольд Карл Леонхард (1758—1823) — философ, сторонник Канта.
6 Геррес Иоганн Йозеф (1776—1848) — писатель, философ и
политический деятель. Здесь Жан-Поль имеет в виду его «Афоризмы об искусстве»
(1804). Во втором издании в примечании Жан-Поль пишет: «Он это сделал,
например, в книгах об индийской мифологии и о старонемецких народных
книгах, но у него от изобилия разнообразных способностей и знаний почти
повсюду, притом на противоположных концах, выросли крылья, что затрудняет
управление ими».
296
таких широких, что само бытие лишь плавает в них,— самые устоявшиеся и
прочные предметы; например поэзию определить как индифференцию
объективного и субъективного полюсов. Это в равной мере столь ложно и столь же
истинно, что можно спросить: что же нельзя подвергнуть такой поляризации
и индифференции?
[...] Если здесь и философу достается нуль — а для него нуль уже нечто,—
то можно думать, что получит художник — бесконечно меньше. Художник
здесь повар, который должен составлять кислоты и всякие приправы по
Демокриту, который выводил их вкус из комбинаций углов, образуемых солями
(хотя, как известно, лимонная кислота, как и масло, состоит из круглых
частиц).
Более старые немецкие эстетики, желая принести пользу художникам,
вместо трансцендентной ошибки, когда улетучивается алмаз и нам
демонстрируется оставшийся углерод, совершали другую, гораздо более простительную,
объявляя алмаз... агрегатом алмазного порошка. Прочтите в малозначительной
«Теории изящных искусств» Риделя !, например, статью о смешном, которое
будто бы состоит в сочетании «курьезных, неожиданных, шутливых, веселых
сочетаний», или в старой Платнеровой «Антропологии»2 определение юмора,
состоящего в одном только повторении слова «странный», или, скажем,
Аделунга3. Все эвристические формулы, которые художник получает от учителей
вкуса, лишенных поэзии, имеют один и тот же вид,— как в книге Аделунга о
стиле: «Письма, долженствующие возбуждать чувства и страсти, в
трогательном и патетическом слоге найдут довольно средств для достижения цели». Так
говорит он и подразумевает свои две главы, посвященные этим предметам.
В плену такого логического круга находится всякое лишенное поэзии учение
о прекрасном.
Еще произвольнее любых объяснений те классификации, которые, не
будучи способны предвосхитить будущее царство духа, вынуждены
отгораживаться и обороняться от него, ибо каждый нисходящий с неба гений
приносит новую для эстетики страницу. [.,.]
Поэтому настоящую эстетику напишет однажды тот, кто сумеет соединить
в себе поэта и философа; его труд станет прикладной эстетикой для
философа и в еще большей мере для художника. Если трансцендентная эстетика —
нечто вроде математического учения о звуке, то более простая и обычная —
это, по Аристотелю, гармонистика (генерал-бас), которая по крайней мере
негативно учит сочинять музыку. Мелодистику же музыкальному и
поэтическому искусству дает лишь гений мгновения; то, что может добавить сюда
эстетик, это тоже мелодия, а именно поэтическое описание, на которое
откликается то, что ему родственно. Все прекрасное может быть и обозначено и
разбужено лишь тем, что в свою очередь прекрасно.
0 предлагаемой здесь эстетике мне ничего не остается сказать, кроме
разве того, что она больше написана мною, нежели другими, и в той мере
принадлежит мне, в какой человек в этот век печатной бумаги, когда письменный
стол стоит так близко к книжному шкафу, вообще может сказать «моя» о
какой-нибудь мысли. Тем не менее я говорю это о программах, посвященных
1 Рид ель Фридрих Юстус (1742—1785) — немецкий философ;
упомянутая книга издана в Иене в 1767 году.
2 Платнер Эрнст (1744—1818)—лейпцигский профессор, лекции
которого слушал Жан-Поль. Эстетические проблемы он рассматривал в своей
«Антропологии для врачей и философов» (впервые вышла в 1770—1771 годах).
3 Аделунг Иоганн Кристоф (1732—1806) —известный грамматик, автор
сочинения «О немецком стиле» (1785).
297
комическому, юмору, иронии и остроумию; им я желаю, чтобы испытующие
судьи листали их внимательно и неторопливо, и ради связи желаю того же
и тем, что стоят частью перед, а частью после них, других же вообще нет.
Впрочем, каждый читатель может сообразить, что как данный автор
предполагает данного читателя, так и — дающий дающего. [...]
§2. Поэтические нигилисты.
Из беззаконного произвола нынешнего духа времени — который
предпочтет уничтожить мир и всю вселенную, только чтобы в небытии освободить
место для своих игр, и который повязки со своих ран срывает словно путы —
естественно вытекает презрительное отношение к подражанию природе и ее
изучению. Ибо, по мере того как история превращается в историографа и
забывает о вере и отечестве, произвол себялюбия тоже в конце концов должен
натолкнуться на твердые и четкие заповеди действительности, а потому
предпочитает удалиться в пустое фантазирование, где для него нет никаких
законов, кроме своих собственных, более узких и менее значительных,— законов
рифм и ассонансов. В эпоху, когда бог клонится к закату, как солнце,— мир
погружается в тьму, и те, кто презирает вселенную, внимают только себе и
даже ночью страшатся одних лишь своих творений. Разве не говорят нынче
о природе, будто это творение творца (в котором ее художник ведь не больше
чем крупица краски) едва только годится быть гвоздем или рамкой для малого
творения рук сотворенного? Как будто самое великое — бесконечное — не есть
самое действительное! Но разве история—не высшая трагедия и комедия в
одном? Если бы те, кто так презирает вселенную, пожелали только представить
нам звездное небо, закат солнца, водопады, глетчеры, характеры Христа, Эпа-
минонда, Катона, даже с теми случайностями и мелочами, которые вносят
хаос в действительность, как смелые детали — в произведение великого
поэта,—разве тогда они не создали бы поэму поэм и не повторили бы творца?
Вселенная — самое смелое, самое дерзкое слово языка и самая редкостная
мысль, ибо большинство в мироздании усматривает лишь рыночную площадь
своей тесной жизни и в истории вечности — только историю собственного
города. [...]
Гений отличается тем, что природу видит богаче и полнее — этим и
человек отличается от еле видящего и еле слышащего животного; каждый
гений созидает для нас новую природу — тем, что снимает еще один покров
со старой. Все те поэтические описания, которыми восхищается одна эпоха
за другой, характеризуются новой чувственной индивидуальностью и
восприятием. Всякую астрономию, биологию, географию и всякую другую -логию
и -графию следует считать полезной для поэта — в поэтических пейзажах Гёте
отражаются его живописные. [...]
§ 3. Поэтические материалисты.
[...] Ни материал природы, ни тем более ее форма негодны в их сыром
виде для поэта. Подражание первому предполагает некий более высокий
принцип — ибо каждому человеку явлена иная природа, и вопрос лишь в том,
кому — наиболее прекрасная. Природа для человека находится в процессе
вечного очеловечения, даже что касается ее внешнего облика — у солнца
есть свой фас, у луны — профиль, у звезд — глаза; все живет для живых, и во
вселенной хотя и есть мнимые трупы, но нет мнимой жизни. Но в этом-то
и состоит отличие прозы от поэзии или, иначе, вопрос, чья душа одушевляет
природу — душа ли капитана корабля невольников или душа Гомера.
Что касается формы, которой надлежит подражать, то поэтические
материалисты находятся в вечном противоречии сами с собой, с искусством и при-
298
родой, а потому, что они и наполовину не знают того, чего хотят, они только
наполовину знают, чего им хочется. Ведь в самом деле — разрешают же они
стихотворный размер даже в наивысшей степени страсти (что уже служит
принципом для принципа подражания) и в буре аффекта высшее благозвучие
и довольно яркий образный блеск (насколько яркий — на усмотрение
критика)... [...] Но разве тогда не будет столь же кричащим, как речь посреди пения,
вводить прозаическое крепостное право в мир поэтических вольностей и в
рамках вселенной — таможенные запреты и ограничения. Я хочу сказать: разве
не противоречит это собственным же дозволениям, не говоря уж о прекрасном,
если в это царство чудес, опьяненное солнцем, где видятся блаженные
стройные фигуры богов, где не светит тяжелое земное солнце, где текут более
легкие времена и царят иные языки, где ни в чем не скрывается — как за
жизнью,— настоящая боль,— если в этот просветленный мир, говорю я, станут
высаживаться люди диких страстей, с грубыми возгласами ликований и
мучений, если каждый цветок, заглушаемый травой, станет расти там так же
медленно, как и в нашем косном мире, если железные колеса и железные оси
тяжелых часов истории и вечности, вместо тех небесных цветочных часов, что
лишь раскрываются и закрываются и всегда благоухают, станут медленнее, а
не быстрее отсчитывать свое время? [...]
§ 26. Определение смешного.
Искони смешное не укладывалось в определения философов — разве только
против воли — уже потому, что у чувства смешного столько же лиц, сколько
гримас; среди всех чувствований только у него неисчерпаемый материал,
равный числу кривых линий. Уже Цицерон и Квинтилиан замечают, что смешное
не поддается описанию, и потому даже полагают, что этот Протей со всеми
его превращениями опасен для того, кто захочет связать его в одном из них.
Да и против нового кантовского определения, согласно которому смешное
возникает из внезапного разрешения ожидания в ничто, многое можно возразить.
Во-первых, так случается не со всякими «ничто» — «ее «ничто»
безнравственным, не с разумным или абстрактным, не с патетическим боли или
наслаждения. Во-вторых, часто смеются, когда ожидание «ничто» разрешается в нечто.
В-третьих, ведь всякое ожидание остается за порогом, если речь идет о
целостном юмористическом настроении или изображении. Кроме того, это
определение описывает скорее эпиграмму и один вид остроумия, когда большое
совмещается с малым. Но такое совмещение само по себе далеко от того, чтобы
вызывать смех,— так же как сопоставление серафима и червя; да и пример
этот больше повредит определению, чем послужит на пользу, потому что ведь
эффект останется прежним, если сначала будет червь, а за ним — серафим.
Кроме того, это объяснение столь неопределенно, что столько же истины
в словах: «Смешное заключается во внезапном разрешении ожидания чего-то
серьезного в смешное ничто». Старое определение Аристотеля — а мимо этого
зоркого Аргуса и ученейшего Гериона невозможно пройти — по крайней мере
находится на пути к цели, хотя и не у цели, а именно то, что смешное
возникает из безобидной несообразности. Однако безобидная несообразность отнюдь
не комична у животных или у сумасшедших; не комичны и величайшие
несообразности целых народов, например камчадалов, у которых бог Кулка
думает, что его замерзшие экскременты — неоттаявшая богиня любви. Флегелю !
1 См. его «Историю комической литературы», т. I.—Прим. Жан-Поля. Φ
лете ль Карл Фридрих (1729—1788)—немецкий писатель. Упомянутое его
сочинение многократно переиздавалось.
299
хотелось бы приписать комический эффект мнению Ленге1 об ядовитости
хлеба, мнению Руссо о преимуществах жизни диких племен [...]. Однако как
могут приукраситься до степени комических прелестей и без содействия
искусства простые заблуждения, которыми кишит любой читальный зал, не
становясь от этого théâtre aux Italiens или des variétés amusantes2. Если Фле-
гель ошибочно находит комичной простую духовную несообразность без ее
физического воплощения, то столь же ошибочно он считает комичной
физическую несообразность без одухотворения, когда, например, у принца Палла-
гонии3 в Палермо (Брейгеля-Адского от скульптуры) находит смешным
рельеф страстей Христовых рядом с пляской скоморохов или негра на лошади
напротив римского императора с орлиным носом; ибо такие искажения
пластической действительности лишены духовной значительности, так же как и
зверь, карикатура на человека.
Зоркий рецензент нашей «Школы» в «Иенской литературной газете»
полагает комическое в нарушении целостности рассудка. Однако, коль скоро такие
нарушения бывают разные — начиная от серьезной ошибки до сумасшествия,—
нарушение комическое как раз и нужно сначала отграничивать от всякого
другого посредством определения самого комического [...]. Шиллер толкует
комическую поэзию как низведение предмета до уровня более низкого, чем
сама действительность. Однако нельзя путем простого обращения применить
к комическому различие, возвышающее строгий идеал недосягаемо далеко над
действительностью, так как сама действительность дает приют комическому
и сценический шут подчас появляется в неискаженном виде в самой жизни,—
но трагический герой никогда. И как могла бы нас радовать эта вывихнутая
и приниженная действительность, когда уже натуральная и прозаическая так
печалит нас? Во всяком случае, низведение ниже уровня действительности,
которое ведь серьезный поэт применяет и к грешнику, как отличительная
особенность комического совершенно отпадает.
Новейшему шлегель-шеллинговско-астовскому определению комического,
согласно которому оно (например, комедия) есть «изображение идеальной
бесконечной свободы, то есть негативной бесконечной жизни или бесконечной
определенности и произвола» \— я предлагаю здесь подраться с наиновейшим,
но для художника более пригодным определением Ст. Шютце 5, который
толкует комическое как созерцание противоречия между необходимостью и
свободой и победу одного из них. Но и такой победе, которая зачастую без всякого
комического эффекта происходит при болезни, обмороке, безвинной бедности,
почетном поражении при численном перевесе противника,— и такой победе
нужно сначала гарантировать ее комическое действие, назвав ее
специфические признаки.
Но зачем так долго нападать на чужие определения? Лучше дать
собственное; будь только оно пригодным, старые отомрут сами собой, подобно тому
как орлиные перья уничтожают другие перья, лежащие рядом. Притом автор,
1 Ленге Симон-Николя-Анри (1736—1794) — французский публицист.
2 — театром итальянской комедии (в Париже) или занимательных
разностей (франц.).
3 Принц Паллагония — чудак, владения которого были обставлены
гротескными фигурами. См. зшоминание о нем в «Итальянском путешествии»
Гёте («Палермо, 9 апреля 1787 года»). Питер Брейгель Младший
(1564—1637 или 1638) —голландский художник, прозванный Адским за свои
гротескные изображения дьявола.
4 «Система учения об искусстве» Аста, § 193.— Прим. Жан-Поля. Аст
Фридрих (1778—1841)—немецкий философ.
5 В «Газете для элегантного мира», 1812, февраль.— Прим. Жан-Поля.
300
даже если бы он хотел и мог, не смог бы встретиться лицом к лицу со всеми
враждебными определениями, ибо многие, а может быть, и большинство из них
выступят против него лишь после его смерти, так что ему все равно придется
полагаться на собственное определение после своего погребения.
Впрочем, позднее нам придется кроме нашего определения поискать и еще
нечто более сложное, а именно, причину, почему смешное, будучи ощущением
несовершенства, доставляет тем не менее удовольствие, и притом не только
в поэзии, которая ведь и плесень украшает цветами и возле гроба разводит
цветники,— но и в самой обыденной жизни.
Ощущение легче всего понять, если спросить, какое ему противоположно.
Что же противоположно комическому? Не трагическое, не сентиментальное,
что уже доказывают слова «трагикомическое» и «слезная комедия». Шекспир
как в огне пафоса, так и в холоде комедии выращивает свои юмористические
северные растения без всякого для них ущерба. Более того, Стерн даже
присущую ему самую последовательность патетического и комического обращает
в одновременность того и другого.
Но достаточно вставить одну-единственную веселую строчку этих авторов
в героический эпос — и она разрушит его. Осмеяние, то есть моральное
возмущение, у Гомера, Мильтона, Клопштока уживается с возвышенным
чувством, но смех — никогда. Словом, исконный враг возвышенного — смешное.
«Ирои-комическая поэма» есть противоречие и должна называться комическим
эпосом. Следовательно, смешное есть бесконечно малое. Но в чем же состоит
эта идеальная малость?
§28. Исследование смешного.
Если составитель программы, желая анализировать смешное, начинает с
возвышенного, чтобы прийти к смешному и его анализу, то теоретический путь
его легко может превратиться в практический.
Бесконечно большому, вызывающему восхищение, должно противостоять
столь же малое, которое возбуждает противоположное чувство.
Но в нравственном царстве нет ничего малого: ибо нравственность, будучи
обращена внутрь, порождает уважение к себе и уважение со стороны других,
а ее отсутствие порождает презрение: обращенная вовне, она пробуждает
любовь, а ее отсутствие — ненависть; смешное слишком незначительно, чтобы
его презирать, и слишком хорошо, чтобы его ненавидеть. Следовательно,
смешному остается только царство рассудка, и притом — в пределах последнего —
то, что рассудка лишено. Но, чтобы рассудок вызвал чувство, он должен стать
объектом чувственного созерцания — в поступке или в определенной
ситуации, а это возможно лишь в том случае, когда поступок, будучи ошибочно
выбранным средством, обличает намерение рассудка либо же ситуация,
противореча рассудочным представлениям, обличает последние.
Мы еще не достигли цели. Коль скоро чувственное само по себе (то есть
безжизненное, если оно не персонифицируется) не может быть смешным ',
как в свою очередь и духовное само по себе (просто заблуждение или просто
тупость),— то спрашивается: в каком же именно чувственном отображается
духовное и какое именно духовное?
1 Даже и тогда, когда сам по себе смешной контраст между внешним
и внутренним относится к безжизненному: никакой контраст нарядной
парижской куклы с ее нарядом не может сделать ее смешной.— Прим. Жан-
Поля.
301
Заблуждение само по себе не смешно, точно так же как и неведение; иначе
разные религиозные партии и духовные сословия всегда считали бы друг
друга смешными. Заблуждение должно иметь возможность раскрываться в
устремлении, в действии; так, то же самое идолопоклонство не вызывает смеха,
пока это только представление, но становится смешным, если его наблюдать.
Здоровый человек, считающий себя больным, показался бы комичным лишь
в том случае, если бы стал принимать серьезные меры против своего недуга.
Устремление и ситуация должны быть одинаково наглядными, чтобы их
противоречие могло достигнуть комической высоты. Однако здесь заблуждение
все еще ограниченно, хотя и наглядно; оно отнюдь не является еще
безграничной несообразностью. Ведь в определенном положении человек всегда
руководствуется своим представлением о ситуации. Если Санчо целую ночь
напролет держится на весу над неглубокой ямой, думая, что под ним зияет
пропасть, то при такой предпосылке его усилия вполне можно понять,
наоборот, он бы был глуп, если бы рискнул упасть. Почему же мы тем не менее
смеемся? И вот в этом-то и есть суть дела: мы наше представление и знание
ситуации соединяем с его устремлением и этим порождаем бесконечную
несообразность; наша фантазия, выступая здесь, как и в случае возвышенного,
посредником между внутренним и внешним, оказывается способной к такому
переносу одного на другое благодаря чувственной очевидности заблуждения.
Наш самообман, состоящий в приписывании совершенно противоположного
знания — чужому устремлению, как раз и обращает последнее в тот минимум
рассудка, в созерцаемую наглядно нелепость, над которой мы потом смеемся:
таким образом, комическое, равно как и возвышенное, никогда не заключено
в объекте, но всегда в субъекте.
Вот почему случается так, что мы осмеиваем или одобряем одно и то те
внутреннее и внешнее действие — смотря по тому, можем ли мы или нет
произвести свою подстановку. Никто не смеется над сумасшедшим, вообразившим
себя купцом, а врача — должником; точно так же и над врачом, который его
лечит. Зато, хотя в «Мошенниках» Фута1 внешне и происходит все то же
самое — только что пациент внутренне так же разумен, как и врач, мы
смеемся, когда настоящий купец ожидает от врача уплаты за настоящие товары,
в то время как укравшая их обманщица убедила врача, будто требование
уплаты — лишь навязчивая идея больного. К действиям обоих разумных
мужчин мы прилагаем еще посредством комической иллюзии и наше знание об
обманщице.
Но тогда приходится спросить: почему же любое очевидное заблуждение
и неразумие мы не наделяем той фольгой, которая придает им блеск
комического? Ответ следующий: лишь всемогущество и быстрота чувственного
созерцания вовлекает нас в эту обманчивую игру. Если, например, в хогартов-
ских «Странствующих комедиантах» сушка чулок на облаках заставляет нас
смеяться, то здесь чувственная внезапность противоречия между средством
и целью внушает нам мимолетную веру, будто человек пользуется
настоящими дождевыми облаками как веревками для просушки. Для самого же
комедианта, а позднее и для нас сушка на крепком мнимом облаке не
представляет ничего смешного. Еще очевиднее сила чувственной наглядности
проявляется, когда смех возникает при вполне непреднамеренном бесплодном
бракосочетании самых несходных вещей, например [...] при чтении отдельных
строк попеременно то в левом, то в правом столбце газеты, когда на мгновение
благодаря иллюзии или подстановке преднамеренной связи и сознательного
выбора неизбежно получается эффект, порождающий смех. Без такой опромет-
1 Фут Сэмюэль (1720—1777) — английский драматург. Упомянутая пьеса
написана в 1774 году и была переведена на немецкий язык.
302
чивой подстановки (как бы силлогизма ощущения) спаривание самых несход-
нейших вещей не было бы смешным; ведь какие только несходные вещи
не существуют одновременно и безо всякого комического эффекта — под
ночным небом, например, сосуществуют: небесные туманности — ночные
колпаки — млечные пути — конюшенные фонари — ночные сторожа — карманные
воры — и пр. Впрочем, зачем я это говорю? Разве каждое мгновение вселенная
не наполняется низшим и высшим в самом тесном соседстве? И где был бы
конец смеху, если бы одно соседство уже бралось в расчет? Итак, сами по себе
контрасты сопоставления не смешны и зачастую могут быть весьма серьезны
(если, например, я скажу: перед богом земной шар — снежный ком, или:
колесо времен есть колесо прялки для вечности).
Иногда происходит обратное, и внешняя наглядность становится комичной
лишь благодаря знанию чужого состояния или намерения. Представим,
например, голландца, который стоит в прекрасном саду у стены дома и смотрит из
окна на окружающую местность: тогда в этом человеке, который облокотился на
подоконник, чтобы поудобнее наслаждаться природой, нет ничего, что
позволило бы привести его в пример комического в какой-нибудь подготовительной
школе эстетики. Но тот же невинный голландец мгновенно попадает в область
комического, если прибавить: видя, как все его соседи-голландцы наслаждаются
прекрасной перспективой, он сделал то, что мог, и, не справившись с
постройкой целого дома, велел построить по крайней мере коротенькую стенку с
окном, высунувшись из которого он мог бы свободно и беспрепятственно
наслаждаться открывающимся "перед ним пейзажвхМ. Но для того, чтобы
посмеяться над головой, торчащей из окна, нам надо прежде кое-что приписать ей,
а именно, что голландец пожелал одновременно и заслонить и открыть себе
вид на окрестности.
Или же: когда поэт Ариосто с почтением выслушивает отца,
выговаривающего ему, то поведение обоих до тех пор чуждо всему смешному, пока мы не
заглянем в душу сына и не узнаем, что он как раз выводит ворчливого отца
в своей комедии и потому внимательно изучает своего собственного, видя в
нем нежданного предшественника, златое зерцало и наглядную поэтику
театрального отца, а также в чертах его лица — мимический проект последнего,—
теперь приписывание нашего знания обращает обоих в комических
персонажей, хотя сами по себе бранящийся отец [как] и Хогарт, его зарисовывающий,
весьма не смешны.
Далее: менее смешно то, что Дон-Кихот делает — безумию ничего не
припишешь,— чем то, что он говорит вполне разумно; но Санчо Панса умеет
смешить равно и делами и речами. Или: поскольку слово «jeune» означает
«молодой», «jeûne» — постный, a «général» одновременно «всеобщий» и «генерал», то
известна ошибка переводчика который, переводя «jeûne général», перепутал —
а на войне вряд ли можно назвать это путаницей — «всеобщий пост» и
«молодого генерала», что смешно, только если предполагать сознательную
ошибку. Наконец: почему человек, обладающий каким-нибудь вовсе не смешным
свойством, все же становится смешон через мимическое подражание послед·*
нему, вовсе даже и не стремящееся к пародии,— так сказать, через
перепечатку и эпилог на чужом лице? И почему, напротив, два совсем одинаковых
брата и менехмы \ сидя рядом, скорее вызовут ужас, чем смех?2 Вот на эти
вопросы я и дал ответ.
1 «Менехмы» («Близнецы») —комедия римского поэта Плавта.
2 Меня удивляет, что это страшное удвоение облика нашло употребление
как комический, а не трагический мотив.—Ярил«. Жан-Поля. Уже в 1807 году
вышла пьеса Клейста «Амфитрион», в которой мотив сходства освещен
трагически.
303
Оттого-то никто не может казаться смешным самому себе, пока он
действует; должен пройти по крайней мере час, когда он уже станет своим
вторым «я» и будет способен приписать первому «я» представления второго.
Уважать и презирать себя человек может во время самого действия, являющегося
предметом того или иного чувства, но высмеивать себя он не может, как не
может любить и ненавидеть самого себя (см. «Квинт Фикслейн» 1). Когда гений
и простофиля думают о себе одинаково хорошо и притом одно и то же (что
предполагает большую гордость) и когда тот и другой наглядно обнаруживают
эту гордость одинаковыми телодвижениями, то, хотя гордость и ее выражение
одинаковы, мы высмеиваем только простофилю, потому что только ему одному
мы приписываем нечто. Оттого-то законченная глупость (и совершенное
тупоумие) с трудом вызывает смех, затрудняя или вообще не допуская подстановки
нашего контрастирующего с ней знания2.
Вот почему обычные определения смешного так ошибочны: они признают
лишь один простой реальный контраст вместо второго, мнимого; вот почему
смешное существо и его недостатки должны иметь по меньшей мере видимость
свободы; вот почему мы смеемся только над более или менее умными
животными, позволяющими нам производить подстановку посредством
персонификации и антропоморфизации. Вот почему смешное возрастает вместе с
рассудком комического лица. Вот почему человек, возвышающийся над жизнью и ее
мотивами, уготовляет себе самую длинную комедию, так как он способен
подводить свои более высокие мотивы под более низкие устремления толпы и тем
самым обращать их в несообразности; впрочем, самый жалкий человек может
отплатить ему тем же, подводя свои низкие мотивы под его более высокие
стремления. Оттого множестг^ программ» ученых известий и извещений и тя-
желовеснейшие тюки немецкий книготорговли, которые сами по себе противно
и тошнотворно влачатся по земле, сразу же воспаряют над землей как
высокие произведения искусства, стоит только представить себе (и тем самым
приписать им более высокие мотивы), будто кто-то написал их в шутку как
пародии.
И при комическом ситуации, так же как и при комическом действия, мы
должны придать комическому существу не только действительное
противоречие со всем внешним, но и вымышленное противоречие с самим собой, хотя
в расточительности живого восприятия зачастую бывает так же трудно
уловить действие бездушного закона, как в каждом данном животном — каркас
животного строения. [...]
Да дозволено мне будет для краткости в дальнейшем изложении
обозначать следующим образом три составные части смешного как чувственно
созерцаемого бесконечного неразумия: противоречие, в котором находится
устремление или бытие смешного существа с чувственно созерцаемым отношением
вещей я назову объективным контрастом; само это отношение — контрастом
чувственным; а то противоречие между обоими, которое мы навязываем этому
существу, дополнительно приписывая ему наши чувства и наш взгляд на вещи,
я назову субъективным контрастом.
Эти три составные части смешного, преображаемые искусством, должны
давать начало различным видам комического в зависимости от перевеса той
1 Роман Жан-Поля (1796).
2 Оттого более высокие существа, хотя и редко, могут смеяться над нами
и контрастно сопоставлять наши поступки с собственным знанием, но для
этого годятся не наши глупые, а наши мудрые поступки. Оттого-то философию,
например шеллинговскую, что изгоняет рассудок из области разума, с трудом
можно подвергнуть осмеянию; ибо тот субъективный контраст, который мы ей
тогда припишем, уже содержится в ней.— Прим. Жан-Поля.
304
или иной из них. Скульптура или древняя поэзия дает преобладание
объективному контрасту с чувственным устремлением; субъективный же контраст
скрывается за мимическим подражанием. Всякое подражание по
происхождению своему — насмешка, оттого у древних театр начался с комедии. Чтобы
в игре научиться подражать тому, что внушало любовь или страх,
потребовался более высокий уровень развития. Притом комическое с его тремя
составными частями легче всего можно было передавать мимикой. От мимики потом
поднялись до поэтического подражания. Но в шутке, как и в серьезном,
древние оставались верны своей пластической объективности; потому лавровый
венок комического висит только в их театрах, а у нынешних — ив других
местах. Разница станет значительнее, если исследовать, в чем суть
романтической разновидности комического, и если различить и отделить друг от друга
сатиру, юмор, иронию, каприз.
§ 30. Источник удовольствия от смешного.
Исследовать этот глубокий, прихотливо изливающийся источник трудно, но
неизбежно; ведь именно он выводит на свет природу комического. Из какого бы
определения последнего, исключая одно-единственное, ни выводить даруемые
им радости, ни одно из них —ни безобидная несообразность смешного, ни
улетучивание в ничто, ни болезненное нарушение целостности рассудка,— все
эти вполне реальные пороки не могут доставить ни радости, ни удовольствия
человеческому духу (который и без того бывает мучим разными
несовершенствами), тем более в такой потрясающей степени, чтобы едва можно было
управлять телесным эпилогом этой игры духа, как это случилось с греком
Филемоном, который был к тому же комедиографом, которому к тому же шел
сотый год и который в довершение всего умер, увидев осла, пожирающего
смоквы. Комическое даже и в искусстве способно щекотать душу до боли. [...]
Физический смех — это либо просто последствие духовного, и тогда он
одинаково служит выражением душевной боли в гневе, ярости, отчаянии и т. n.t
либо же он возникает помимо духа, который бы его возбуждал, и тогда в нем
только боль — таков смех при ранении диафрагмы, при истерии, даже при
щекотке. Впрочем, тот же самый орган может повиноваться самым разным
движениям духа: одна и та же слеза — это и роса радости, и в страданиях —
капля грозового дождя, и в гневе — капля ядовитого пота, она же — святая
вода восхищения. Выводить удовольствие духовного смеха из физического
значит объяснять сладостный элегический плач раздражением слезных желез.
Наименее состоятельная попытка вывести комическое удовольствие из
духовного — Гоббса, который выводит его из гордости. Во-первых, ощущение
гордости весьма серьезно и не родственно чувству комического, зато сродни
презрению — чувству столь же серьезному. Смеясь, не столько возвышают себя
(часто совсем напротив), сколько унижают других. Ведь зуд сравнения с
самим собой в качестве комического удовольствия появлялся бы тогда каждый
раз, стоило бы только заметить любую чужую ошибку и чужое падение, и был
бы тем более заразителен, чем выше поставлен человек, на деле же чужая
приниженность, напротив, чаще воспринимается болезненно.
И о каком особом чувстве превосходства может идти речь, если предмет,
подвергающийся осмеянию, зачастую стоит на такой низкой, совершенно
несоизмеримой и несопоставимой с нами ступени сравнения, как упомянутый осел
по отношению к Филемону или как комические оговорки при заикании,
зрительные ошибки и т. д.. Смеющиеся добродушны и часто становятся в один ряд
11 История, эстетики т. III 305
с осмеиваемым; дети и женщины смеются больше всех, а меньше всех —
гордые любители самосравнения; арлекин, выдающий себя за ничтожество,
смеется надо всем, а горделивый мусульманин — ни над чем. Никто не бывает
смущен тем, что смеялся, тогда как столь откровенное самовозвеличение,
какое предполагает Гоббс, всякий держал бы при себе. Наконец, никто не
досадует, а, напротив, всякий рад, если с ним посмеется еще сотня тысяч, то есть
сто тысяч самовозвеличений появится вокруг него, что было бы невозможно,
будь Гоббс прав, ибо среди всех видов обществ и общений собрание гордецов,
вероятно, наиболее невыносимо, не в пример либеральному собранию одних
только скряг или чревоугодников.
Удовольствие от смешного в природе, как и всякое чувство, проистекает
не из отсутствия чего-то хорошего, а из его наличия. А кто, как это бывало,
станет объяснять это чувство отражением удовольствия от комического в
искусстве, тот, верно, будет объяснять красоту матери красотой еще более
прекрасной дочери, похожей на нее,—но ведь люди научились смеяться прежде,
чем появились комические актеры. Комическое удовольствие, правда, как
и всякое другое, можно посредством рассудка разложить на части, если
изучить влияющие на него внешние причины, но в фокусе самого чувства они,
как и составные части стекла, сливаются в плотное и прозрачное целое.
Стихийный дух элементов комической стихии есть наслаждение тремя рядами
мыслей, движущимися в едином созерцании: 1) истинным рядом,
принадлежащим нам же; 2) истинным, принадлежащим другому, и 3) мнимым,
принадлежащим другому, который мы же ему и подставляем. Наглядность
понуждает нас перебегать от одного к другому, играя этими тремя разлетающимися
в разные стороны рядами, но вследствие их несоединимости это понуждение
испаряется в радостной непринужденности. Комическое есть, следовательно,
наслаждение или же фантазия и поэзия рассудка, которому предназначено
пользоваться своей свободой, играя среди трех цветочных гирлянд и цепочек
заключений, и танцевать, держась то за одну, то за другую. Три элемента это
наслаждение рассудка отличают от всякого другого. Во-первых, никакое
сильное чувство не нарушает его вольного бега; комическое скользит мимо разума
и сердца, не задевая и не касаясь их, и рассудок, ни на что не наталкиваясь,
свободно движется по широким и воздушным просторам этого царства. Игра
его такая вольная, что он может даже касаться любимых и уважаемых лиц,
никак не раня их: ведь самое смешное — это только сияние, отбрасываемое
нами и внутрь нас же самих, и в этом волшебном свете никакой другой не
перестает быть видимым.
Второй элемент — соседство комического с остроумием, с тем лишь
преимуществом, что комическое гораздо дальше распространяет свою
живительную силу. Остроумие — что, к сожалению, будет подробно разъяснено лишь во
втором томике «Школы» — есть, собственно, наглядно созерцающий рассудок
или чувственная острота ума; легко поэтому смешать его с комическим, как бы
ни противоречили этому примеры серьезного и возвышенного остроумия и
комического без всяких острот. Ведь более важно другое их различие — то, что
рассудок в остроумии касается лишь односторонних отношений между вещами.
тогда как в комическом он касается разнообразных отношений между людьми;
там — лишь несколько интеллектуальных звеньев, здесь — звенья
действующие; там отношения разлетаются, не имея прочного основания, здесь
несчетное число их живет в одном человеке. Личное открывает поле деятельности
и сердцу, а рассудку — еще более неопределенное и широкое. Ко всему этому
комическое присоединяет еще преимущество чувственной наглядности. Если
шутка сама по себе и бывает подчас комичной, то нужно принять во
внимание, что этот эффект она должна почерпнуть сначала в комическом
окружении или настроении. Если, например, Поп в «Похищении локона» говорит
306
о героине, что та опасается, как бы не запятнать свою честь или парчовое
платье, как бы не позабыть о молитве или маскараде, как бы не потерять на
балу сердце или ожерелье, то комический эффект проистекает лишь из
представления героини, а не из попарного сопоставления совершенно несходных
вещей; ведь в словаре Кампе «запятнать платье», а затем, в несобственном
смысле, «запятнать честь» стояли бы рядом безо всякого комического действия.
Третий элемент комического — это прелесть неразрешенности, приятное
щекотание, создаваемое сменой иллюзорного неудовольствия (минимумом
чужого рассудка) и собственного удовольствия (правильностью своего взгляда),
что вместе, будучи в нашей власти, тем колюче приятнее (пикантнее) трогает
и дразнит нас. [...]
§ 53. Мера остроумия.
Недостаток собственных достоинств никогда не заставляет немца
жаловаться так, как недостаток заграничных,— ибо к утрате отечественных он
относится спокойнее, будь ли это утрата былой свободы или прежней веры; но
когда чужие достоинства становятся наконец его собственными, он уже не
придает им особого значения. Вот почему столь часто он возвышает остроумие
и прибегает к его помощи — наравне с причудой,— именно потому, что оно
еще не сделалось статьей его внутренней торговли. Когда какой-нибудь немец
в изобилии запасается этими товарами и разложит их на продажу, то
рецензенты наказывают его как гражданина, который записался в иностранную
академию или участвует в зарубежной лотерее. Солидный муж с ясной
головой, говорят разные судьи и читатели, пишет хорошим, чистым, складным,
спокойным, плавным слогом, его речь льется непринужденно, но каждому
противно вечное остроумничанье, а если, прибавляют они, деловому человеку
вдобавок подают на стол такую пену, то ой-ой-ой!.. [...]
Избыток цветов в цветнике так же не может быть поставлен в упрек, как
и недостаток травы. [...] Правда, следует признать, что только остроумие и
ничего больше в качестве аббревиатуры рассудка вместе с радостью приносит
утомление, если при помощи его пестрых игральных карт нельзя выиграть
что-либо существенное, например чувство, наблюдение и т. д. и т. д. Острота
ума есть совесть остроумия; она дает ему, правда, порезвиться во время
перемены, но тем более скучает она сама в ожидании следующего урока. [...]
Второе возражение против всемирного потопа остроумия, возражение лишь
частное (первое было — напряжение и усталость), заключается в том, что
такой муж и зачинщик в полном смысле слова гонится за остроумием [...], как
весна за цветами или Шекспир за пылкостью. Но разве есть что-либо в
искусстве, за чем не приходится гоняться и что уже поймано, ощипано, изжарено
и само летит в рот? [...]
Если заметно напряжение, значит, оно пропало понапрасну; натянутую
остроту столь же мало можно считать находкой, как гончую собаку — дичыо.
Лучшая проверка и контроль остроумия — его избыток; мысль, которая
в одиночестве мерцала бы, в блестящем обществе совсем бледнеет. [...]
Остроумие должно изливаться, а не капать по капле — уже потому, что
очень быстро испаряется. Его первый электрический удар самый сильный;
если перечитать то же место, разряд уже пропал, а поэтическая красота
подобна гальваническому столбу и заряжается все снова и снова. Острота тысячу
раз выигрывает от забвения, следовательно, и от воспоминания; но, чтобы ее
можно было подзабыть, она должна содержать так много, чтобы пришлось это
11*
307
делать. Потому Гиппель 1 и Лихтенберг2 при десятом чтении дают десятый
тираж остроумия и радости; это их десятое, хотя и внутреннее, духовное,
издание — и притом насколько улучшенное и исправленное! [...]
Остроумные зарницы в обществе тягостны, потому что после них
становится темнее. Каждое раздражение вызывает потребность в новом и т. д., чтобы
прежняя степень возбуждения могла сохраниться. Итак, остроумие вынуждено
поддерживать возбуждение, чтобы общество не завяло. Красота же похожа на
пищу и сон: освежая и подкрепляя, она не отупляет нас, а повышает нашу
восприимчивость. Первая удачная острота в книге, подобно некоторым
напиткам, возбуждает жажду. Как? и эту жажду надо утолять, подставляя рот под
мелкий дождик? Дайте же сюда полной мерой или кубок Диогена или его
бочку!
§54. Необходимость культуры остроумия в Германии.
Но есть не только оправдание тому, чтобы существовала культура
чрезвычайного остроумия,—существуют призывы к ней, основанные на самой природе
немца. Все нации замечают, что немецкие идеи тверды, прочны, крепки,
незыблемы и нерушимы и что скорее голова немца и его земли относятся к
движимому имуществу, нежели содержимое того и другого. Ведекинд сшивал у
людей, больных бешенством, и рукава и чулки и этим не давал им двигаться,
так же и человеку внутри нас с юных лет связывают воедино все члены,
с тем чтобы двигался он только уж весь сразу. Но, боже, сколь много
выиграли бы мы, будь у нас способность, пенясь как пиво, изливать через край наши
анахоретские идеи! Новым мыслям обязательно присуща свобода, а свободным
в свою очередь — равенство; но только остроумие дает нам свободу и еще
раньше дает нам равенство. Тем, чем в химии служит вода и огонь: Chemica
non agunt nisi soluta (то есть только жидкость освобождает для новых
состояний, или: только растворенные вещества могут образовать новые тела), тем же
для духа служит остроумие. Если быть сильным, таким, как Шекспир, то и при
поглядывании на отблески и переливы остроумия можно не утратить из виду
целого; ведь сочинители героических песен не утрачивают эпической широты
взгляда оттого, что им приходится присматривать за размером, ассонансами
и консонансами (рифмами). К примеру, если автор при виде человека с
веснушками на лице вообразит следы лета, осени и зимы на этом лице, то он по
крайней мере докажет этим свободный взгляд на вещи, который не
связывается предметом и знаками (веснушками) на нем и не теряется в них.
Правда, нам недостает вкуса в остроумии, но предрасположенность к нему
у нас есть: мы обладаем богатой фантазией, а фантазии легко снизойти к
остроумию, как великану легко наклониться к карлику, тогда как остроумию
никогда не достичь уровня фантазии» У французов остроумна вся нация, у нас —
избранные, но именно потому эти последние достигают у нас большего, а там
меньшего: у французов нет острословов, которые могли бы сравниться с
нашими или британскими юмористами. Как раз те народы, которые в жизни
проявляют горячность, стремительность, энергичность — французы и итальянцы,—
в поэзии умеряются и леденеют; те же, что в жизни сдержаннее и
педантичнее — немцы и англичане,— пламенеют и на большее осмеливаются в поэзии;
1 Гиппель Теодор Готлиб фон (1741—1796) —известный
юмористический писатель, автор романа «Жизнеописания по восходящей линии» (1778—
1881) и др. произведений.
2 Лихтенберг Георг Кристоф (1742—1799) — немецкий просветитель,
прославившийся своими тонкими афоризмами.
308
и всякий, кто не станет утверждать, что обуреваемый страстями человек тем
самым уже призван стать поэтом, не будет удивляться пропасти между
жизненным огнем и поэтическим горением.
Итак, поскольку немцу для остроумия не хватает только свободы, то пусть
он добудет ее! Наверное, он думает, что сделал что-то ради свободы тем, что
в последнее время отпустил на свободу, а именно на французскую, тот или
иной кусок прирейнской земли и, так сказать, свои лучшие земли, как когда-то
дворян, отправил в образовательное путешествие к народу, который еще более
свободен, нежели велик; и есть надежда, что туда же и другие округа и уезды
уедут; но до их возвращения нужно заняться воспитанием оставшихся дома
в духе свободы.
Есть здесь все тот же круг, хотя и не ложный и не логический, который
часто и повсюду встречается в этом мире !: свобода рождает остроумие (и
равенство вместе с ним), остроумие — свободу. Пусть в школах больше
упражняются в остроумии, как однажды уже советовали2. Кто старше, тот пусть
позволит остроумию вызволить себя на свободу и сбросить наконец onus рго-
bandi (бремя доказательства), но только не в обмен на onus ludendi (бремя
шуток).
Остроумие — анаграмма природы — по природе своей духо- и
богоотступник; оно не проявляет участия ни к какому существу, но только к
отношениям его частей, оно никого не уважает и не презирает; все для него равно,
коль скоро становится равным и сходным; оно ставит себя между поэзией,
стремящейся передать и себя самое и нечто другое — чувство и образ, и
философией, вечно ищущей объект и реальное, а не простое их искание; и оно
ничего не хочет, кроме себя, и играет ради игры3, каждую минуту оно закончено,
его системы затрагивают и запятые, оно атомистично без подлинной связи;
подобно льду, оно случайно может дать теплоту, если воспользоваться им как
зажигательным стеклом, и случайно может дать свет и ледяные блики, если
взять его в виде ровной поверхности; но столь же часто оно оказывается
рядом со светом и теплотой и не сияет от этого меньше. Потому и мир
становится с каждым днем остроумнее и острее, как и море, по Галлею, с каждым
столетием становится более соленым.
Замерзание людей начинается с эпиграмм, как и замерзание воды — с
ледяных иголок.
Но бывает такое лирико-остроумное состояние, которое, овладев человеком,
только истощает и опустошает его, но, покинув его, подрывает самое крепкое
здоровье, как четырехдневная лихорадка. А именно, когда дух совершенно
освободится от всяких уз; когда голова не мертвый чулан, а шумная гостиная
в преддверии брачной ночи; когда царит общность идей, словно в Платоновой
республике общность жен, и все они сочетаются друг с другом; когда хотя
и хаос, но над ним реет дух святой, или, лучше, хаос инфузорий, вблизи
оказывающийся очень стройным, упорядоченным, живущим и развивающимся:
когда в этом всеобщем распаде, каким рисуют себе страшный суд,— но уже не
в нашей голове,— падают звезды, восстают из мертвых люди и все
смешивается, чтобы создать новое целое; когда этот дифирамб остроумия — не отдельные
1 К примеру, человечество не может стать свободным, не обретя высокой
духовной культуры, и наоборот.— Прим. Жан-Поля.
2 «Невидимая ложа», т. I, стр. 201.— Прим. Жан-Ноля. «Невидимая ложа»—
роман Жан-Поля.
3 Поэтому простой игрой идеями является остроумие, а не поэзия (как
полагают новые эстетики), основываясь на недоразумении Канта, объявившего
ее из-за недостатка уважения к ней игрой силы воображения.—Ярил«. Жан-
Поля.
309
скудные искры от ударов мертвого кремня, а трепетное сверкание и струение
теплой грозовой тучи, когда дифирамб этот больше наполняет человека светом,
нежели зримыми образами,— тогда открыт ему благодаря всеобщему
равенству и всеобщей свободе путь к поэтической и к философской свободе и
творчеству, и его искусству изобретения (эвристике) отныне предстоит прекрасней·:
шая цель. [...]
Jean Pauls Werke, Bd. 7. Vorschule der Ästhetik, hrsg. von Ed. Berend, ВегЦ
Lpz. u. a. [Bongs Goldene Klassiker-Bibliothek], o. J., S. 30—33, 38—39, 44, 45,
97—100, 103—108, 112—115, 173—178. Перевод Ал. В. Михайлова.
АРНИМ
1781-1831
Людвиг Ахим фон Арним — немецкий писатель, автор новелл, двух
романов («Нищета, богатство, прегрешение и вина графини Долорес», 1810;
«Хранители короны», 1817) и драм («Галле и Иерусалим», 1811 и др.). Арним
как писатель выступил в тот период немецкого романтизма, когда несколько
ослабла потребность в его философском выражении. В это время очень явно
проявилась та тенденция романтиков, которую называют историзмом и
которая идет от XVIII века: существование самобытных и целостных культур было
не только осмыслено в эту эпоху, но и пережито, так что впервые
культурное наследие, искусство прошлого было пережито именно как нечто культурно
ценное — вспомним призыв Вакенродера «чувствовать человеческое в каждом
миросозерцании и его продуктах». Отсюда — интерес к слову и языку, мифу.
поэзии, поскольку предполагалось, что все множество культурных форм
сводится к одному источнику.
Проблема поэзии обсуждается Арнимом в переписке с Якобом Гриммом
(1785—1863), знаменитым в будущем германистом, на протяжении нескольких
лет (с 1808 по 1812 годы). Народная, «естественная» поэзия (Naturpoesie)
рассматривается ими как первозданная, подлинная поэзия, спонтанный продукт
коллективного творчества, непосредственное излияние духа народа;
«искусственная», собственно «художественная» поэзия (Kunstpoesie)—это
индивидуальная поэзия, которая кажется им только ответвлением и отголоском
«естественной» поэзии, чем-то даже неполноценным.
Выраженные Арнимом романтические взгляды на поэзию у Гримма
особенно заострены. В основе понимания мифа и искусства (искусство
определяется им через миф) лежат традиционные, в свою очередь коренящиеся в
мифологии представления, осмысляемые им как новые: Гримму представляется,
что есть некоторый центр, или начало, из которого исходит
истина,—расходясь, она слабеет, как лучи света; миф есть непосредственное, бессознательное
310
выражение истины, как она была доступна человеку, близкому к началу,
такова и поэзия, связанная с мифом,— естественная поэзия; со временем же
слово и поэзия все более удаляются от первоисточника. Мир представляется
Гримму существом, у которого есть юность, зрелость и старость, и как лицо
старого человека покрывается морщинами, так в мире происходит
беспрестанный и необратимый процесс мельчания и деления вещей, при этом исчезают
и эпическая поэзия и поэзия естественная и вырастают новые, частные
формы — продукты их разложения.
Миф и народная, естественная поэзия для романтиков ценны своим
внутренним смыслом, в то же время ускользающим и уходящим. Отсюда забота
о его сохранении. В 1805—1808 годах Арним вместе с Клеменсом Брентано
(1778—1842), блестящим немецким поэтом, издает сборник «Волшебный рог
мальчика», куда наряду с народной поэзией вошло и много произведений
известных по именам поэтов, близких по духу народным. Йозеф Гёррес в 1807 году
издает исследование о немецких «народных книгах», а в 1812 году начинают
выходить «Сказки» Якоба и Вильгельма Гриммов.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ АРНИМА И ГРИММА
Арним Якобу Гримму. 5 апреля 1811 года.
[...] Если я когда-либо воодушевлялся народной поэзией, то
совсем не потому, что полагал, будто ее произвели иная природа
и иное искусство — не то, которое в наши дни доставляет мне иногда
такую скуку; только потому, что она прошла уже через тот процесс
отбора, где и от нашего времени останется многое, только потому
я стремился представить ее перед миром по возможности в явном
и заметном виде [...]. Я готов поклясться именем Гёте, что, каким бы
сознательным ни было его творчество, которое ведь называют
искусством, его часто опережает собственная натура, дарящая ему
неожиданные идеи и непредвиденное воздействие на других; клянусь го-
меридами, певцами народных песен, что каждый из них, кто спел
более одного стиха, не делал этого без художественного намерения,
каким бы незначительным ни было последнее по сравнению с тем,
что достигнуто бессознательно. Это мое убеждение поможет тебе
понять, что как в поэзии, так и в истории и вообще в жизни я
решительно отрицаю все противоположности, которые
заблагорассудилось придумать философии наших дней, не вижу, следовательно,
противоположности и между народной поэзией и мейстергезангом,
но для каждого существует свой народ, иногда соприкосновение
и взаимопроникновение, но ненависть и высокомерие друг к другу
редко и случайно. [...]
311
Якоб Гримм Арниму. 20 мая 1811 года.
[...] О критике границ естественной и искусственной поэзии (Natur-
und Kunstpoesie). Различие это я всегда воспринимал как
историческое и всегда так и представлял, не думая о нем как об
одновременном, ведь и доказываю я его исторически. Поэтому
несправедливо упрекать меня, как это делаешь ты, в том, что я в обеих не
вижу одного и того же, а именно поэзии, ведь я и называю их
обеих — поэзией. Поэзия — это душа, непосредственно находящая
выход в слове, и вызывается она, во всяком случае, естественной
потребностью и врожденной способностью к этому — народная
поэзия изливается из души целого; то же, что я понимаю под
искусственной,— из души отдельного. Поэтому новая поэзия называет
имена своих поэтов, а древняя их не знает, ибо она, по существу, не
дело рук одного, или двух, или трех человек, а сумма целого; как
это целое сложилось и произошло, остается, как я уже сказал,
необъяснимым, но это не более таинственно, чем слияние вод в один
поток. Для меня немыслимо, чтобы когда-нибудь существовал Гомер
или автор «Нибелунгов».
История доказывает это различие, между прочим, тем, что
никакому образованному народу при всех усилиях невозможно
произвести на свет эпос — дело ограничивается опытами, которые
различаются степенью своей абсурдности. И Гёте ничего не смог бы здесь
поделать, весьма разумно, что его «Ахиллеида» не имеет
продолжения, а искусное исполнение одного фрагмента не может служить
аргументом, потому что не так трудно вставлять в эпос отдельные
куски, как не замечать, что сочинение эпоса должно заставить
звучать в себе самом древний тон, то есть находить новое положение
для уже существующих эпических мыслей и речей; как только все
это затягивается, человек начинает задыхаться.
Теперь перед нами встает вопрос: является ли древняя поэзия
чем-то большим и лучшим, чем новая? Лучше ли мы, чем прежние
люди? [...] Я верю, чувствую и надеюсь, что в нас есть нечто
божественное, что изошло от бога и ведет нас к нему. Это начало всегда
остается и живет в человеке, оно, как огонь, вырастает из самого
себя, но исторически, если применять наши понятия времени, оно
открывается весьма различным образом, соответственно земному,
человеческому.
Люди древности были более чистыми, высокими и святыми, чем
мы, в них и над ними был разлит свет божественного исхода — так
светятся блестящие, чистые предметы некоторое время, если их,
нагретых палящими лучами солнца, сразу перенести в кромешную
тьму. Поэтому и для меня древняя, эпическая поэтическая и мифи-
312
веская история чище и лучше, я не говорю — ближе и роднее, чем
наша, рассудочная (witzig), то есть знающая, тонкая, составленная
из частей, в которой я замечаю стремление к знанию и поучению,
впрочем, необходимое и искреннее само по себе. Древняя поэзия
невинна и ничего не ведает; она не склонна поучать, то есть
подчинять всех действию и чувству отдельного человека, то есть подводить
наблюдение огромного целого под узость отдельного. Басня
первоначально, как историческая, так и о животных, не содержит ничего
этического или дидактического, и все «ho mythos deloi» * и все
рассуждения прибавлены позже.
Дал:ее: древняя поэзия, как и древний язык, проста и свое
богатство имеет только внутри себя. В древнем языке есть только простые
слова, но в них возможность такого спряжения и склонения, что
происходят настоящие чудеса. Новый язык утратил невинность и с
внешней стороны стал богаче — но только путем сложения и случая,
и потому ему часто требуются большие средства, чтобы выразить
простое суждение. [...]
Далее: у древней поэзии — изнутри рождающаяся форма,
сохраняющая вечное значение; искусственная поэзия проходит мимо ее
тайны и потом уже не нуждается в ней. В естественной поэзии проза
невозможна, в искусственной поэзии она необходима, поскольку сам
язык стал прозаическим. Но разве в «Вильгельме Мейстере» и
«Родственных натурах» Гёте или во многих книгах Жан-Поля не
найдется подлинная поэзия, что заключена в песнях Гёте? [...]
В искусственной поэзии — или как тебе будет угодно назвать то,
что я имею в виду, хотя это хорошее слово и не должно напоминать
ни о чем мертвом и механическом,— я вижу изготовление,
естественная поэзия делается сама собой. [...]
Когда я говорю, что искусственная поэзия стремится
воссоздать поэзию природы из самой себя, но не достигает ее, то я уверен
в своей правоте. В этом же смысле поэзия Гёте есть нечто меньшее,
чем древняя мифология, Лютер — меньшее, чем христианство;
конечно, Лютер стремился к истине в вере, как и Гёте в поэзии, и оба
не напрасно; но это сознательное стремление отдельного человека
не может дать столько, сколько бессознательно наличествующая
истина; скромная народная песня так же относится к умело
сделанному мейстергезангу, как идущая от сердца вера простого
прихожанина к проповеди ученого богослова. И я не сомневаюсь в том,
что Гёте следует определенному инстинкту, когда создает то, что
долгое время вынашивал в себе, но зато народная поэзия так же
мало думает о своих размерах, как певчая птица. [...]
1 — «эта басня означает» (греч.).
313
Если ты можешь отрицать проводимое мною различие, то я по
крайней мере не могу понять, каким образом ты находишь, что оба
направления одновременны. [...] Разве ты не полагаешь, что какая-то
вещь может совершенно невозвратно исчезнуть, как, например,
юность, и что ее место неизбежно замещает другая, например,
старость? [...]
Арним Якобу Гримму. 14 июля 1811 года.
[...] Я никогда не отрицал влияния истории на поэзию, но
поскольку не существует ни одного внеисторического момента, кроме
абсолютно первого момента творения, то нет и абсолютной
естественной поэзии, и в развитии обеих есть только различие в степени;
если во времена Гомера люди не знали сахара, то умели уже варить
мясо и т. д. Чем меньше народ пережил, тем равномернее черты
его облика и мысли; каждый поэт тогда — если уж признается
таковым — народный поэт, а все вместе они могут при известных
условиях создать нечто общенародное, если будут следовать духу и
настроению народа и духу его истории, и их труд намного превзойдет
усилия отдельных людей в позднейшее время, где исторически все
в разной степени подвержено индивидуализации и где невозможно
думать о совместном творчестве, разве что по принуждению, что
опять же не приносит плодов. [...] Но наряду с развитием все более
богатой событиями истории, охватывающей все — от народа до семьи
и каждого человека — и все меньше и меньше допускающей, чтобы
вдохновение отдельного человека воздействовало на других,
продолжает существовать и народ в его целостности — в таких ситуациях,
которые охватывают всех; с другой же стороны, времена года и
любовь приходят снова, как и прежде, а кто лучше других почувствует
и выскажет первое, и второе, и третье, тот, как и в древности, будет
понят всеми, и поскольку, кроме критиков, никто особенно не
заботится об имени сочинителя песни,— то у большинства оно обычно
забывается и лишь немногие его помнят. [...]
Якоб Гримм Арниму. Конец июля 1811 года.
Твой взгляд на старую народную песню я считаю неверным
главным образом потому, что, с моей точки зрения, ты понимаешь ее
слишком внешним образом. Если ты, как и я, веришь, что источник
религии — божественное откровение, что у языка такое же чудесное
происхождение и он не выдуман людьми, то уже поэтому ты должен
понять и почувствовать, что древняя поэзия с ее формами, с ее
рифмами и аллитерациями тоже появилась на свет как целое — и тут
не дело думать о ремесле и рассуждении отдельных поэтов. Одия-
314
единственный человек, такой родоначальник поэзии, которого,
кажется, ты себе представляешь, был бы сверхчеловеком, если он так
глубоко проник в сферу таинственного и нашел то, что потом
тысячелетиями считалось правым и единственно верным, в то время как
все позднейшие изобретения держались лишь самое короткое время.
Как из одного языка мощно излились все прочие, так и ядро мифа
распространилось среди всех племен, и каждое из них взяло с собой
искру поэзии. Как иначе можно понять сходство самых отдаленных
мифов и то, что одна песня встречается во всех диалектах. Ведь
иначе язык пришлось бы заново изобретать тысячу раз и заново
сочинять песню.
Deutsche Literatur. Reihe Romantik, Bd. 12, hrsg.
von P. Kluckhöhn, Lpz., 1934, S. 71—77.
Перевод Ал. В. Михайлова.
ИЗ ПИСЬМА АРНИМА КЛЕМЕНСУ БРЕНТАНО
9 июля 1802 года
[...] Все, что происходит в мире, происходит ради поэзии, история
это выражает в самой общей форме, а судьба ставит эту гигантскую
пьесу. Ради поэтического наслаждения копит деньги купец, ради
воскресенья работает ремесленник, ради игр — школьник; только
немногие, и эти немногие — поэты, пользуются такой милостью, что
для них работа — игра, и они должны трудиться за все остальное
человечество, чтобы то не прошло мимо своей цели в жизни, цели,
состоящей в поэтическом наслаждении после труда. Кто зовет себя
поэтом в этом самом широком смысле слова, у того нет гордости, но
есть высшая добродетель: он молится и истязает себя ради других,
с тем чтобы те обрели жизнь; он смиренный Петр с ключами, что
сидит у врат царства, впуская других, но сам не входит. Это
добровольное безбрачие, это свободно выбранное удаление от царствия
небесного требует жертвенности Регула, который от объятий любви
уходит к врагам своего покоя,— но пусть это будет нашим делом,
я чувствую в себе силы, как и ты, наверно, найдешь их. Поэзия
и музыка — это два самых общих, вполне подходящих друг к другу
отростка поэтического древа; в поэзии — красные розы и короли роз,
в музыке — белые розы. Наше дело выращивать эти розы,
оберегать их от изморози Коцебу 1 и росы Лафонтена2 — и столь же
тщательно — от критического духа Шлегелей и жгучего самума
1 Коцебу Август (1761—1819) —немецкий драматург, автор пьес в
мещанском духе.
2 Лафонтен Август (1758—1831) —немецкий писатель, автор
многочисленных популярных в свое время романов весьма низкого качества.
315
«Утренней зари» Бёме. Наши усилия должны сделать язык слов, язык
звуков более мощным и более приятным. Итак — питомник поэзии
пения! Как Тик, идя противоположным путем, стремился
образовать так называемое образованное общество — тем, что приблизил
к нему настоящую, подлинную поэзию всех народов и всех
состояний, народные книги, так мы поставим целью вернуть народу те
поэтические звуки, что затерялись у высших сословий. Гёте должен
быть так же любим, как и «Кайзер Октавиан» 1 [...].
Там же, стр. 69—70.
КЛЕЙСТ
1777—1811
Генрих фон Клейст — немецкий драматург и новеллист, который занимал
особое место в литературе своего времени. Пройдя через период усвоения
недалекой и плоской моральной философии берлинских эпигонов Просвещения,
Клейст затем (возможно, не без влияния Канта или Фихте) резко сменил свой
прежний идиллический взгляд на действительность как воплощение разумной
целесообразности вполне противоположным: мир Клейста, каким он
предстает в его художественных произведениях (драма «Пентесилея», повесть
«Михаэль Кольхаас» и др.), это мир, в котором загадочно соединяются и
фатальная необходимость и абсолютный произвол, мир, где ничего не известно
заранее и где самый невероятный трагический случай может иметь место.
Как и большинство его современников, Клейст рассматривает
действительность в свете противоречии: такие антитезы, как разум — инстинкт,
закон — личная воля, механическое — живое, объективное — субъективное и
особенно бесконечное как противостояние двух своих полюсов — бесконечно
малого и бесконечно большого, становятся в разной форме проблемой и объектом
переживания. Эти проблемы нашли свое глубокое отражение и в очень немногих
теоретических рассуждениях Клейста, которые — несмотря на то, что
высказаны они предельно кратко, и то не в прямой, а в косвенной форме: в жанре
литературного письма и в жанре эссе, по сути дела, даже рассказа,—
достойным образом равно относятся и к истории философской и к истории
эстетической мысли. Как бурная импульсивность выражения эмоций в драмах Клейста
вдруг оборачивается рационалистическим самоанализом героя, как в эссе
о «Театре марионеток» бытовая ситуация незаметно перерастает в
философскую беседу, так самое конкретное сочетается у Клейста с самым абстрактным,
превознесение чувства и спонтанного самовыражения, еели речь идет о
художнике, с самым отвлеченным подходом к действительности.
1 «Кайзер Октавиан» — одна из самых популярных народных книг.
316
«Письма» Клейста и особенно «Театр марионеток» (все напечатаны в
газете «Берлинер абендблеттер» в 1810—1811 годах) выражают его эстетические
представления с особенной интенсивностью. Не случайно «Театр марионеток»
Томас Манн назвал «блестящим образцом эстетической метафизики». Все эти
работы Клейста тесно связывают анализ процесса творчества с
проблемой противоречий; если «Письма» в основном ограничиваются описанием
одностороннего подхода к каждой проблеме (так, «Письмо одного поэта к другому»
выступает против преувеличения формы, «Письмо молодого поэта» призывает
к непосредственной передаче чувств и τ д.), то в «Театре марионеток» Клейст
стремится уже к целостному образу мира. Для того чтобы рационально
объяснить взаимоотношение между мыслью и интуицией в процессе
художественного творчества, Клейст изображает два противоположных состояния,
демонстрирующих предельные возможности разума и интуиции. Марионетка с ее
предопределенным и закономерным поведением и отсутствием разумности —
один мыслимый предел; другой предел — совершенный разум, совсем не
нуждающийся в интуиции, поскольку он все и так знает наперед. Интуиция — это
автоматизм, который у марионетки выражен в наиболее чистой форме. В
процессе творчества мысли принадлежит первый этап — установление стереотипа,
формулы, которая подлежит автоматизации; вторая стадия — это, собственно,
создание целого, реализация формулы, где мысль может отсутствовать,—
несовершенство танца как раз и происходит оттого, что автоматизм поведения
нарушается рефлексией. Клейст часто обращается к математике и
естествознанию, у него был глубокий интерес к ним, особенно к математике, как к
способу упорядочения и точного выражения мысли.
Художественные произведения Клейста хорошо известны советскому
читателю; такие драмы, как «Семейство Шроффенштейн», «Робер Гискар»,
«Разбитый кувшин», «Принц Фридрих Гомбургский», были переведены Б. Л.
Пастернаком.
О ТЕАТРЕ МАРИОНЕТОК
Зимой 1801 года, когда я жил в М., однажды вечером я встретил
в городском саду г-на К., который с недавних пор был первым
танцовщиком в здешней опере и пользовался чрезвычайным успехом
у публики.
Я сказал ему, что не раз удивлялся, встречая его в театре
марионеток, который был сколочен на рыночной площади и для
увеселения черни представлял маленькие драматические бурлески с
пением и танцами.
Он уверил меня, что пантомимическое искусство кукол весьма
развлекает его, и дал понять, что танцовщик, если хочет
усовершенствовать свое мастерство, многому может поучиться у них.
317
Поскольку замечание это — судя по тону, каким было
высказано,— не было случайно оброненной мыслью, то я сел рядом, чтобы
порасспросить о причинах, побудивших его сделать такое странное
заявление.
Он спросил меня, не нахожу ли я в самом деле весьма
грациозными некоторые движения этих кукол в танце, особенно меньших
из них.
Я не отрицал этого. Вряд ли даже Тенирс более мило сумел бы
изобразить четырех крестьян, пляшущих свое быстрое рондо.
Я спросил его о том, как же устроены эти фигуры и как же
возможно управлять в соответствии с ритмом движений и танца
отдельными их членами и точками тела, если они не связаны
тысячами нитей с пальцами того, кто управляет ими.
Он ответил мне, что не следует думать, будто в каждый
отдельный момент танца машинист управляет всеми частями тела. У
каждого движения есть свой центр тяжести внутри фигуры, сказал
он, и вполне достаточно управлять им, а члены — не что иное, как
простые маятники — уже без дополнительных усилий, чисто
механически следуют за ним.
Движения эти очень просты: каждый раз, когда центр тяжести
передвигается по прямой, члены описывают кривую, так что подчас
уже произвольное сотрясение целого приводит их в какое-либо
ритмическое движение, что очень похоже на танец.
Это замечание, как показалось мне сначала, объяснило то
удовольствие, которое, по его словам, доставлял ему театр марионеток.
Но между тем я совсем еще не предполагал, какие выводы он из
этого сделает.
Я спросил его, полагает ли он, что машинист, управляющий
куклами, сам должен уметь танцевать или по крайней мере иметь
понятие о прекрасном в искусстве танца.
Он возразил, сказав, что если какая-то работа, чисто
механическая, и бывает очень простой, то отсюда не следует еще, что
выполнять ее можно совершенно без участия чувства.
Линия, по которой движется центр тяжести, действительно
очень проста, в большинстве случаев, как ему кажется, прямая. А в
тех случаях, когда она кривая, закон ее кривизны не выходит за
пределы только первого и уж очень редко второго порядка, да и в
последнем случае она является эллиптической, то есть такой формой
движения, которая вообще естественна для конечностей человека
(благодаря суставам), и для машиниста, следовательно, не
составляет особого труда направить движение по такой линии.
Но если посмотреть с другой стороны, то такая линия есть нечто
таинственное, а именно путь души танцора, и сомнительно, чтобы
318
машинист мог определить ее иначе, нежели перемещаясь в центр
тяжести марионетки, то есть, другими словами, танцуя.
Я сказал, что работу эту описывали мне как довольно
бессмысленную: все равно что вращать вал у шарманки.
— Ну нет,— ответил он.— Напротив, между движением пальцев
и движением прикрепленных к ним кукол существует сложная
зависимость вроде той, что между числами и их логарифмами или
между асимптотой и гиперболой.
Но, однако, ему кажется, что и последний остаток духа и мысли,
о котором шла речь, мог бы быть устранен из марионеток, так что
танец их целиком принадлежал бы миру механических сил и мог
бы быть воспроизведен с помощью вала, как я это представлял
себе.
Я выразил свое изумление тем, что он удостаивает таким
вниманием эту разновидность высокого искусства, придуманную на
потеху толпы, и не только считает ее способной совершенствоваться,
но как будто и сам занимается этим.
В ответ он улыбнулся и сказал, что берет на себя смелость
утверждать, что если какой-нибудь механик сделает для него куклу
в соответствии со всеми его требованиями, то посредством ее он
покажет такой танец, что сравняться с ней не сможет ни он сам, ни
любой искусный танцовщик нашего времени, не исключая и самого
Вестри.
— Слышали ли вы,—спросил он, видя, что я замолчал и
потупил взор,— слышали ли вы о механических ногах, которые
английские мастера придумали для тех несчастных, у которых нет
своих?
— Нет,— ответил я,— такого я никогда не видел.
— Жаль,—продолжал он,— ведь если сказать вам, что
несчастные даже танцуют на этих своих ногах, то, я боюсь, вы мне не
поверите. Да что я говорю, танцуют! Круг их движений, правда,
ограничен, но то, что в их силах, они делают столь спокойно, легко
и без труда, что это поразит всякого думающего человека.
Я ответил шутя, что, значит, есть нужный ему человек, ибо ведь
мастер, который сделал такие ноги, несомненно изготовит и целую
марионетку, которая удовлетворит его требования.
— Но каковы же они, эти требования? — спросил я, видя, что
и он, со своей стороны, был несколько смущен,— и что же должны
уметь эти марионетки?
— Ничего особенного,— отвечал он..— Ничего такого, чего бы
не было и без того: нужна симметричность, подвижность, легкость,
ко только в более высокой степени, особенно же более естественное
расположение центров тяжести.
319
— А какие же преимущества будут у такой куклы по сравнению
с живыми танцовщиками?
— Преимущества? Ну, по меньшей мере будет одно, чисто
негативное, а именно то, что она не будет рисоваться. Ведь когда душа
(vis motrix) находится в другом месте, а не в центре тяжести, то
появляется жеманство. Но поскольку в распоряжении машиниста
только одна точка, та, с которой соединяет его проволока или нить,
то все другие члены тела мертвы: они обычные маятники, которые
подчиняются закону тяготения, а как раз это и нужно: этого
чудесного свойства напрасно стали бы искать у большинства наших
танцовщиков. Посмотрите только на П. в роли Дафны,— продолжал
он,— когда ее преследует Аполлон и она, убегая, оборачивается,
чтобы отыскать его глазами: ее душа — в поясничных позвонках,
она сгибается, почти что переламываясь, словно наяда школы Бер-
нини. Посмотрите на молодого Ф., когда в роли Париса он стоит
перед тремя богинями и вручает Венере яблоко: страшно сказать,
но душа у него уходит в локоть.
— Такие промахи неизбежны,— сказал· он, заключая свою
мысль,— раз мы отведали плода с древа познания. Теперь рай
заперт на засов, а за плечами у нас — херувим, так что нужно
отправиться вокруг света посмотреть, нет ли где входа с обратной
стороны.
Я рассмеялся. И, однако, подумал я, дух не может заблуждаться
там, где его нет и в помине: Но тут я заметил, что он еще что-то
хочет сказать, и попросил его продолжать.
— У всех этих кукол,— заговорил он,— есть еще одно
преимущество, это то, что они антигравны. Им неизвестна инертность
материи, а как раз это свойство наиболее препятствует танцу: сила,
которая удерживает их в воздухе, больше той, что притягивает их
к земле. Чего бы ни дала наша добрая Г., чтобы стать на шестьдесят
фунтов легче или чтобы, наоборот, ее антраша и пируэтам
приходила на помощь равная же сила! Куклам, как и эльфам, земля
нужна только для того, чтобы, едва коснувшись ее, этим мгновенным
торможением вновь зарядить свое тело энергией, а нам земля нужна
для того, чтобы отдыхать на ней после напряженного танца, и этот
момент отдыха сам по себе не есть танец, и единственный способ
употребить его в дело — это по возможности скрыть его.
Я сказал, что как бы искусно ни развивал он свои парадоксы,
ему не удастся заставить меня поверить, будто в механическом
манекене заключено больше грации, чем в строении человеческого
тела.
Он возразил, говоря, что человеку совершенно невозможно даже
сравниться с манекеном в этом отношении. Здесь только бог может
320
померяться с материей: это место, где сходятся концы
кольцеобразного мира.
Мое удивление росло, и я не знал, что же сказать в ответ на
такие странные утверждения.
— Кажется,— сказал он мне, достав табакерку и взяв щепотку
табаку,— что вы не очень-то внимательно читали третью главу из
первой книги Моисея, а кто не знаком с этим начальным периодом
всего человеческого образования, с тем нельзя говорить и о
последующих ступенях, тем более о самой последней.
Я ответил, что мне хорошо известны случаи того, как сознание
разрушает естественную грацию человека. Один знакомый мне
юноша прямо на моих глазах утратил свою невинность и весь рай
такого состояния, так что никогда больше, несмотря на все старания,
не обрел его вновь, и все из-за одного только замечания. Но, однако,
добавил я, какие же выводы из этого следуют?
Он спросил меня, какой случай я имею в виду.
Примерно три года назад, таков был мой рассказ, я купался
вместе с одним юношей, во всем теле которого была разлита
удивительная грация. Ему, должно быть, шел тогда шестнадцатый год,
и тщеславия, которое вызывается покровительственным отношением
женщин, совсем почти еще не было заметно в нем. Случилось так,
что незадолго до этого в Париже мы видели «Юношу, вынимающего
занозу из ступни» — скульптуру, копии которой есть в большинстве
немецких собраний. Взгляд, брошенный им в большое зеркало,
стоящее перед ним, в момент, когда он ставил ногу на скамью, чтобы
вытереть ее, напомнил ему об этой скульптуре, и, улыбнувшись, он
сообщил мне о своем открытии. То же и мне самому пришло в
голову на секунду раньше, но, не знаю почему, потому ли, что я хотел
убедиться в естественности присущей ему грации, то ли для того,
чтобы отучить его от тщеславных мыслей,— одним словом, я
рассмеялся и сказал, что у него, должно быть, галлюцинации. Он
покраснел и снова хотел поставить ногу так, чтобы доказать мне свою
правоту, но опыт не удался, что, впрочем, легко можно было
предвидеть. Смутясь, он повторил то же в третий, четвертый, верно,
и десятый раз, и все напрасно; произвести то же самое движение
было выше его сил, больше того, те движения, что он делал, были
невольно такими, что я едва сдерживался, чтобы не рассмеяться.
И начиная с этого дня, собственно, даже с самого этого момента
с юношей стали происходить непонятные превращения. Он часами
просиживал перед зеркалом, и те черты, которые раньше привлекали
в нем, стали покидать его одна за другой. Казалось, что свобода
движений и жестов словно панцирем сковывается какой-то
незримой и неведомой силой, и по прошествии года и следа не осталось
321
от той привлекательности, которая раньше притягивала к себе взоры
людей, окружающих его. И сейчас еще живут свидетели этого
странного несчастного случая, которые могут подтвердить мой рассказ
слово в слово.
— Теперь и я расскажу вам одну историю,— весьма
дружелюбно сказал г-н К.— Вы сами поймете, почему она сюда относится.
Путешествуя по России, я некоторое время пробыл в поместье
г-на фон Г., лифляндского дворянина, сыновья которого как раз в это
время увлекались фехтованием. Старший, только что вернувшийся
домой из университета, был особенным виртуозом в этом деле, и
однажды утром, когда я зашел к нему, он предложил и мне рапиру.
Мы сразились, но случилось так, что я превосходил его умением,
он начал волноваться и путаться, почти каждый мой удар достигал
цели, и в конце концов его рапира отлетела в угол.
Полушутя-полусерьезно он сказал, что нашел во мне достойного противника, но
что и на меня найдется управа, поскольку всегда так бывает в этом
мире. Братья громко рассмеялись и с возгласами: «Вперед! Вниз!
В конюшню!» — взяли меня под руки и повели к медведю, которого
их отец, г-н фон Г., держал на дворе.
Когда я, изумленный, подошел к медведю, тот стоял на задних
лапах, прислонившись к столбу, к которому был привязан, и, подняв
правую лапу — словно изготовившись к бою,— смотрел мне в
глаза: такова была его фехтовальная стойка. Я не знал уж, во сне я
или наяву, увидев перед собой такого противника, но: «Делайте же
выпад,— сказал г-н фон Г.— Попытайтесь, удастся ли вам пронять
его». Чуть придя в себя, я сделал выпад; медведь ответил коротким
движением лапы и парировал удар. Я попытался прибегнуть к
финту, но медведь не тронулся с места. Собрав всю свою ловкость, я
снова сделал выпад, и, будь передо мной человек, удар обязательно
достиг бы цели и пришелся в грудь; но медведь ответил коротким
движением лапы и парировал удар. Теперь уже я оказался почти
что в положении молодого Г. Серьезный вид, с которым медведь
стоял передо мной, способствовал тому, что я стал волноваться,
выпады и финты без конца сменяли друг друга, у меня на лице
выступил пот; но все напрасно. Медведь не только парировал все
мои выпады, как первый фехтовальщик в мире,— на финты он вовсе
не обращал внимания (в чем ему не мог бы подражать ни один
фехтовальщик на свете): он стоял, смотрел мне в глаза, словно читая
в них мои мысли, лапу держал поднятой и, если мои удары не были
серьезно задуманы, то и не трогался с места. Верите ли вы мне?
— О, вполне! — воскликнул я с радостью.— Всем, всем, первому
встречному поверил бы я, таким правдоподобным кажется мне этот
рассказ; насколько же больше верю я вам!
322
— Тогда, мой дорогой друг,— сказал г-н К.,— тогда вы знаете
все, что нужно, чтобы понять меня. Мы видим, что, по мере того
как в органическом мире слабеет и тускнеет разум, все яснее и
значительнее выступает грация. Ибо, подобно тому как пересечение
двух линий по одну сторону точки, если пройти бесконечность,
внезапно обнаруживается по другую ее сторону1; и подобно тому как
изображение в вогнутом зеркале, удаляясь в бесконечность, вдруг
возникает перед самыми глазами, так же вновь обретается и
грация, когда сознание проходит свой бесконечный путь; так что
одновременно она в наиболее чистой форме является в том человеческом
теле, которое вообще не обладает сознанием, и в том, какое обладает
бесконечным сознанием, то есть в манекене и в боге.
— Так что же,— сказал я, погруженный в мысли,— нам нужно
снова отведать плода с древа познания, чтобы обрести невинность?
— Безусловно,— отвечал он,— это последняя глава всемирной
истории.
Н. von Kleist, Gesammelte Werke, Bd. Ill,
hrsg. von H. Deiters, BerL, 1955, S. 384—392.
Перевод Ал. В. Михайлова.
ПИСЬМО ХУДОЖНИКА СВОЕМУ СЫНУ
Ты пишешь, что работаешь над своей «Мадонной» и что всякий
раз, когда ты берешься за кисть, тебе представляется, что душа твоя
охвачена нечистыми мыслями, слишком чувственными, чтобы
завершить такую работу, и что тебе прежде хочется причаститься, чтобы
освятить свой труд. Позволь же старику отцу сказать тебе, что это
ложная восторженность, приставшая к тебе в школе, в духе которой
ты воспитан, и что по примеру достойных наших старых мастеров
более чем довольно той обычной, но, впрочем, благословенной и
честной увлеченности игрой собственной фантазии, для того чтобы
переносить на полотно ее образы. Мир устроен удивительно; самые
незначительные и ничтожные причины имеют божественные
последствия. Человек — чтобы привести тебе совершенно очевидный
пример,— безусловно, возвышенное существо, и, однако, в момент,
когда его делают, не требуется совершать это с особой святостью.
И даже больше того, тот, кто, причастившись, приступит к этому
делу с исключительным намерением реализовать в чувственном мире
1 Клейст, как и выше, имеет в виду гиперболу, пересечение ветви которой
с асимптотой происходит в бесконечности по обе стороны центра. Этот пример
показывает, какой степенью интуитивной убедительности обладали для Клей-
ста некоторые математические абстракции.
823
соответственную свою идею, тот наверняка породит жалкое и
болезненное существо, тот же, кто безмятежной летней ночью целует
деву без всяких иных мыслей, тот, без сомнения, произведет на свет
ребенка, который потом смело и цепко будет карабкаться между
землей и небом и задаст работу философам. Ну, и храни тебя
господь.
Там же, стр. 392.
ПИСЬМО МОЛОДОГО ПОЭТА МОЛОДОМУ ХУДОЖНИКУ
Нам, поэтам, непонятно, как вы, художники, решаетесь на то,
чтобы проводить целые годы, занимаясь только одним:
копированием работ великих мастеров, и это в то время как искусство ваше
есть нечто бесконечное. И учителя, ваши наставники, если верить
вам, не терпят того, чтобы вы прежде времени занялись
воплощением образов своей фантазии. Но окажись мы, поэты, в вашем
положении, я думаю, мы скорее согласились бы подставить свои спины
бесчисленным ударам, нежели последовать такому жестокому
запрету. Фантазии наши неудержимо рвались бы наружу из наших
сердец, и, как только бы мы узнали, какой стороной кисти рисуют, мы,
в пику бессердечным учителям, заперлись бы ночью одни, чтобы
пробовать силы в творчестве, этой игре блаженных. Мне кажется,
что беспредельное это послушание и подчиненность, на которые вы
обрекаете себя, без конца занимаясь копированием в залах и
галереях, должно разрушить и уничтожить вашу фантазию, если она
не чужда вашим юным душам. Мы уж и не знаем, что же еще
нужно, кроме того, чтобы смотреть на картину, которая вас трогает,
с преданным вниманием и любовью — и пусть это длится часы, дни,
недели, месяцы, если вам хочется усвоить все ее совершенство. По
крайней мере мне кажется, что к картине можно подходить двояко:
во-первых, как вы это делаете, то есть стремясь повторить ее черты,
чтобы усвоить навыки письма, во-вторых же, с самого начала
фантазировать и творить в ее духе. Да и навыки эти нужно было бы,
коль скоро это станет возможным, променять на самое искусство,
важной частью которого является ведь творчество (Erfindung) в
соответствии с особыми его законами. Ибо задача, конечно же,
состоит в том, чтобы быть самим собой, выразить себя самого, самое
сокровенное и существенное, рисунком и красками! Как же вы
можете относиться к себе с таким презрением, что почти согласны
совсем исчезнуть с лица земли,— и это в то время как существуют
такие прекрасные души, те самые, которыми вы восхищаетесь, а это
должно было бы, напротив, пробуждать в вас подлинную страсть и
324
придавать вам бодрость и силу быть самими собой? Но вы, вы
воображаете, что должны пройти сквозь Рафаэля и Корреджо и наизусть
знать тех, кого избрали себе образцами, тогда как нужно
повернуться к ним спиной и шагать в диаметрально противоположном
направлении, с тем чтобы найти глазами вершины искусства и
взобраться на них. «Так-так,— скажете вы с удивлением,— вот ведь
какие новости!» — и усмехнетесь, пожав плечами. Ну что же, с
богом, господа! Ведь Коперник уже триста лет назад сказал, что земля
круглая, и мало толку в том, чтобы повторить это еще раз.
Прощайте!
Там же, стр. 393—394.
ПИСЬМО ОДНОГО ПОЭТА ДРУГОМУ
Дорогой друг!
Когда недавно я застал тебя за чтением моих стихов, ты
пространно и необычайно красноречиво рассуждал об их форме и,
отзываясь одобрительно о том направлении, в правилах которого, как
угодно тебе было предположить, был я воспитан, ты хвалил —
причем так, что это легко могло смутить меня,— то целесообразность
избранного размера, то ритм, то благозвучие, то чистоту и
правильность слога и вообще языка. Позволь же сказать тебе, что
взгляд твой задерживался на таких достоинствах, высшая ценность
которых доказывается тем, что они остаются незамеченными. Если
бы я мог, сочиняя стихи, прямо проникнуть в свою душу, извлечь
оттуда мысль и руками же в чистом виде и без добавлений вложить
ее в твое сердце, то правду сказать, это удовлетворило бы мои
внутренние требования. Думаю, что и тебе не пришлось бы желать
большего — ведь жаждущему важна не чаша, а плоды, которые в ней
приносят. Только потому, что мыслям, чтобы явиться, как и
незримым летучим химическим веществам, нужно сочетаться с более
грубой телесной материей, я, желая сообщить тебе мою душу,
прибегаю к помощи речи, как и ты, желая понять меня. Язык, ритм,
благозвучие и т. д., как бы ни были красивы, когда облекают дух,
сами по себе с высшей точки зрения есть настоящее зло, хотя зло
естественное и необходимое, и искусство обращения с ними состоит
только в том, чтобы по возможности заставлять их исчезать перед
мыслью. Чтобы слог свой сделать ясным, стих значительным,
звучание живым и приятным, я призываю на помощь все свои силы —
но только для того, чтобы все это вовсе не замечалось, чтобы
единственно и исключительно явлена была скрытая в них мысль. Всякая
подлинная форма имеет то свойство, что дух непосредственно и
325
мгновенно выступает из нее, тогда как форма несовершенная,
словно плохое зеркало, связывает и удерживает его, напоминая только
о себе самой. И потому, если ты под первым впечатлением хвалишь
форму моих небольших и непритязательных произведений, то это
невольно заставляет меня беспокоиться о том, что в них есть
фальшивые ритмические и просодические красоты и что благозвучие
и стих совершенно отвлекают внимание от того, что мне важно было
сказать. Ибо иначе почему не обратился ты прямо к духу, который
я стремился вместить в рамки речи, и не держал ему ответ -так,
как это бывает в разговоре, когда ты оставляешь без внимания
одеяние мыслей? Но эта невосприимчивость по отношению к самой
сущности и сердцевине поэзии, это болезненно обостренное ощущение
случайного, формы вообще присуще твоей душе, как и той школе,
из которой ты вышел, что, без сомнения, происходит вопреки
истинным намерениям направления, которое само по себе наиболее
духовно из всех бывших у нас, хотя — при смелых парадоксах его
учения — и не совсем без его вины. Ибо я замечал, что, читая совсем
другие — уже не мои — поэтические произведения, ты, как
говорится в пословице, из-за деревьев не видишь леса. Как ничтожно
то, к чему бывает приковано твое внимание, когда мы читаем
Шекспира, по сравнению с тем великим, возвышенным,
общечеловеческим, на что должно откликнуться и твое сердце, как того хотел
великий поэт! Что мне до остроумных рецлик и игры слов, когда
мы на поле битвы в Азенкуре \ или когда Офелия говорит о
Гамлете: «О, что за гордый ум сражен!» 2, или Макдуф о Макбете: «А, он
бездетен!» 3. При чем здесь ямбы, рифмы, ассонансы и все прочее,
на что навострен твой слух, словно других достоинств нет ив
помине? Прощай!
Там же, стр. 394—396.
ИЗ ПИСЕМ МАРИИ ФОН КЛЕЙСТ
Май 1811 года.
В этом искусстве [музыке] я вижу корень или же, чтобы
употребить ученое слово, алгебраическую формулу всех прочих искусств,
и, так же как есть уже у нас один поэт (с ним я, конечно, ни в коей
мере не хочу себя сравнивать), который все свои мысли об искус-
1 «Король Генрих V», акт III, сцена 7.
2 «Гамлет», акт III, сцена 1. Перевод М. Лозинского.
3 «Макбет», акт IV, сцена 3.
326
стве сопоставил с цветом *, так и я с самой юности все то общее,
что думал о поэзии, сопоставлял со звуками. Мне кажется, что
генерал-бас скрывает в себе важнейшие закономерности поэзии.
Июнь 1807 года.
В одной церкви здесь есть картина, скверно, правда,
написанная, но так великолепно задуманная, как только можно себе
представить, а ведь замысел, изобретение — то, что составляет
произведение искусства. Ведь произведение искусства — это не то, что
представляется чувствам, а то, что возбуждается в душе этим восприятием.
Н. von Kleist, Gesammelte Werke, Bd. IV,
BerL, 1955, S. 449, 363. Перевод Ал. В. Михайлова,
ГОФМАН
1766-1822
Известный немецкий писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман является
представителем берлинской группы романтиков. В молодости он слушал лекции на
юридическом факультете Кенигсбергского университета, затем был
капельмейстером в театрах Бамберга, Лейпцига, Дрездена. В гротескно-фантастической
форме изображает Гофман феодально-бюргерский уклад немецкой
действительности. Ему удалось нарисовать зловещие образы, символизирующие власть
денег в буржуазном обществе.
Теоретических работ, посвященных вопросам эстетики, у Гофмана нет.
Для творчества его характерно отсутствие граней между художественными
произведениями в собственном смысле слова и исследованиями теоретического
характера. Эстетические идеи получают у него художественное выражение, а в
художественных произведениях часто разрабатывается сугубо эстетическая
проблематика.
Для многих произведений Гофмана характерна идея о враждебности
эгоистического мира буржуазной прозы искусству и вообще художественному
творчеству. Герои его произведений — «истинные музыканты», «энтузиасты» —
вынуждены жить между двумя мирами: реальным и идеальным, между мечтой
и действительностью. Идеал в действительности неосуществим. «Истинная»
любовь, «истинная» красота, которые открываются для непосредственного
поэтического чувства, оказываются в действительности обманом, иллюзией,
фантомом. Только в эпоху средневековья с его общинным укладом жизни,
нераздельным единством искусства и ремесла, имелись, с точки зрения Гофмана,
реальные условия для развития искусства. Описанию этого идеала Гофман
посвящает новеллы «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья», «Мастер
Иоганнес Вахт».
В произведения Гофмана вкраплены и самостоятельные рассуждения об
1 Клейст имеет в виду Гёте и его учение о цвете.
327
искусстве, главным образом о музыке, о ее назначении, об отношении музыки
к поэзии. Эта тема отражена в таких его произведениях, как «Кавалер Глюк»
(1809), «Музыкальные страдания капельмейстера Иоганна Крейслера» (1810),
«Дон-Жуан» (1813), «Серапионовы братья» (глава «Поэт и композитор»). В этих
произведениях наибольший интерес представляет критика мещанского,
буржуазно-потребительского взгляда на искусство. В иронической главе «Мысли
о высоком значении музыки» из «Фантастических пьес в манере Калло»
Гофман высмеивает взгляд на искусство, согласно которому «цель искусства
вообще — доставлять человеку приятное развлечение и отвращать его от более
серьезных [...] занятий, то есть от таких, которые обеспечивают ему хлеб и
почет в государстве, чтобы он потом с удвоенным вниманием и старательностью
мог вернуться к настоящей цели своего существования—быть хорошим зубчатым
колесом в государственной мельнице и [...] снова начать мотаться и вертеться» К
В противоположность этому воззрению Гофман развивал характерный для
романтиков взгляд на искусство как на единственное средство, соединяющее
человека с природой и идеальным миром духовного. В современной
действительности с ее трагической раздвоенностью чувственного и духовного этому
назначению в наибольшей степени соответствует самый «духовный» и
«романтический» вид искусства — музыка.
Представления Гофмана о современном романтическом искусстве и роли
фантазии в нем, об иронии и т. п. отражены в небольшом очерке, посвященном
французскому художнику Жаку Калло, в творчестве которого Гофман видел
предвосхищение романтического стиля.
Разделяя эстетические взгляды поздних романтиков, Гофман в
своеобразной форме своих литературных произведений находит путь к реализму. О его
взглядах на реалистический метод творчества дает представление новелла
« Угловое окно». Реалистическая основа творчества Гофмана была отмечена уже
Гейне. Сравнивая Гофмана с Новалисом, Гейне отдавал предпочтение первому,
ибо Новалис «со своими идеальными образами постоянно витает в голубом
тумане, тогда как Гофман со своими причудливыми карикатурами всегда и
неизменно держится земной реальности» 2.
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ В МАНЕРЕ КАЛЛО
ЖАК КАЛЛО
Отчего я не могу насмотреться на твои странные фантастические
рисунки, смелый мастер? Отчего не выходят у меня из головы твои
образы, набросанные иногда лишь двумя смелыми штрихами? Когда
я долго смотрю на твои богатые композиции, составленные из раз-
1 Э.-Т.-А. Гофман, Избранные произведения в 3-х томах, т. 3, М., 1962,
стр. 2.
2 Г. Гейне, Собрание сочинений, т. 6, М., 1958, стр. 219.
328
нороднейших элементов, передо мной оживают тысячи и тысячи
образов, и даже на заднем плане, где их сначала трудно было
рассмотреть, они с силой выступают вперед в самых натуральных
блестящих красках.
Ни один мастер не умел лучше Калло изобразить на малом
пространстве такую массу подробностей, которые, не затрудняя глаз,
стоят рядом и входят одна в другую так, что всякая из них имеет
особое значение и вместе с тем принадлежит целому. Быть может,
строгие судьи искусства и упрекнут его в неумении группировать
и распределять свет и тени; но тем не менее его искусство идет
дальше правил живописи, его рисунки, скорее, можно назвать
отражением всех странных фантастических явлений, вызываемых
чарами его живейшей фантазии. Ведь даже в рисунках, взятых из
жизни, в его шествиях, войнах и т. д. есть совершенно своебразная,
полная жизни физиономия, придающая его фигурам и группам, так
сказать, нечто знакомо-чуждое. Даже обыденнейшие вещи из
повседневной жизни, как, например, танец крестьян, где музыканты
играют, сидя на деревьях, как птицы, являются в свете особого
оригинального романтизма, который удивительно много говорит душе,
склонной ко всему фантастическому.
Ирония, осмеивающая человека с его жалкими деяниями, ставя
его в конфликт со зверями, может быть свойственна только
глубокому уму; так и смешные образы Калло, созданные из людей и
животных, открывают серьезному и глубокому наблюдателю
все таинственные намеки, скрытые под покровом комизма. Как
великолепен в этом отношении черт, у которого во время искушения
св. Антония вырастает на месте носа ружье, которым он
беспрестанно целится в божьего человека,— веселый черт, фейерверк и
кларнетист, который употребляет какой-то особый орган для того,
чтобы хорошенько дуть в свой инструмент, также восхитительны
и помещены на том же листе.
Как прекрасно, что Калло был и в жизни так же смел и дерзок,
как в своих сильных и смелых рисунках. Рассказывают, что, когда
Ришелье потребовал от него, чтобы он нарисовал сдачу своего
родного города Иима, он смело объявил, что лучше обрежет себе палец, чем
увековечит своим талантом унижение своего князя и своей родины.
Разве поэт и прозаик, у которого все образы обыденной жизни
проходят через внутренний романтический дух так, что он рисует
их только в том свете, в котором они являются там, как бы одевая
их в какой-то чудный, незнакомый наряд,— не найдет себе
оправдания, говоря, что он хотел бы работать в манере Калло?
Э.-Т.-А. Гофман, Собрание сочинений, т. 1,
Спб., 1896, стр. 5—8.
329
КРЕЙСЛЕРИАНА
3. Мысли о высоком значении музыки
Нельзя отрицать, что в последнее время вкус к музыке, слава
богу, распространяется все больше и больше, так что теперь
считается в некотором роде признаком хорошего воспитания учить детей
музыке; поэтому в каждом мало-мальски приличном доме найдется
фортепьяно или по крайней мере гитара. Кое-где встречаются еще
немногие ненавистники этого, несомненно, прекрасного искусства,
и мое намерение и призвание именно в том и заключается, чтобы
преподать им хороший урок.
Цель искусства вообще — доставлять человеку приятное
развлечение и отвращать его от более серьезных или, вернее, единственно
подобающих ему занятий, то есть от таких, которые обеспечивают
ему хлеб и почет в государстве, чтобы он потом с удвоенным
вниманием и старательностью мог вернуться к настоящей цели своего
существования — быть хорошим зубчатым колесом в
государственной мельнице и (продолжаю свою метафору) снова начать мотаться
и вертеться. И надо сказать, что ни одно искусство не пригодно
для этой цели в большей степени, чем музыка. Чтение романа или
поэтического произведения, даже в том случае, когда выбор его
настолько удачен, что в нем не оказалось ничего фантастически
безвкусного (как часто бывает в новейших книгах) и, стало быть,
фантазия, представляющая, собственно, наихудшую часть нашего
первородного греха, каковую мы всеми силами должны подавлять,
нимало не станет возбуждаться,— такое чтение, говорю я, все-таки
имеет неприятную сторону — оно до некоторой степени заставляет
думать о том, что читаешь; это же явно противоречит
развлекательной цели. То же надо сказать и о чтении вслух, так как, совершенно
отклонив от него свое внимание, легко можно заснуть или
погрузиться в серьезные мысли, от которых, согласно соблюдаемой всеми
порядочными деловыми людьми умственной диете, время от времени
следует давать себе отдых. Рассматривание какой-нибудь картины
может продолжаться лишь очень недолго, ибо интерес к ной
теряется, как только вы угадали, что именно эта картина изображает.
Что же касается музыки, то только неизлечимые ненавистники
этого благородного искусства могут отрицать, что удачная композиция,
то есть такая, которая не переступает надлежащих границ и где
одна приятная мелодия следует за другой, не бушуя и не извиваясь
глупым образом в разного рода контрапунктических ходах и
оборотах,— представляет удивительно спокойное развлечение: оно
совершенно избавляет* от необходимости утруждать себя умственно или
330
по крайней мере не наводит ни на какие серьезные мысли, а только
вызывает веселую череду совсем легких, приятных дум, и человек
даже не успевает осознать, что они собственно в себе заключают.
Но можно пойти еще дальше и задать вопрос: кому запрещается
даже и во время музыки завязать с соседом разговор на какие
угодно темы из области политики и морали и таким приятным образом
достигнуть двойной цели? Наоборот, последнее следует даже
особенно рекомендовать, ибо музыка, как это легко заметить на всех
концертах и музыкальных собраниях, чрезвычайно способствует
беседе. Во время пауз все тихо, но, как только начинается музыка,
сейчас же вскипает поток речей, поднимающийся все выше и выше
вместе с падающими в него звуками. Иная девица, чья речь,
согласно известному изречению, содержит лишь «Да-да!» и «Нет-нет!», во
время музыки находит и прочие слова, которые, следуя тому же
евангельскому тексту, суть зло, но здесь, видимо, служат ко благу,
так как с их помощью в ее сети иногда попадается возлюбленный
или даже законный муж, опьяненный сладостью непривычной речи.
Боже мой, сколь необозримы преимущества прекрасной музыки!
Вас, неисправимых ненавистников благородного искусства, я введу
в семейный круг, где отец, утомленный важными дневными делами,
в халате и туфлях, весело и добродушно покуривает трубочку под
мурлыканье своего старшего сына. Разве не для него благонравная
Резхен разучила Дессауский марш и «Цвети, милая фиалка», и
разве она не играет их так прекрасно, что мать проливает светлые
слезы радости на чулок, который она в это время штопает?
Наконец, разве не показался бы ему тягостным хотя и подающий
надежды, но робкий писк младшего отпрыска, если бы звуки милой
детской музыки не удерживали всего в пределах тона и такта? Но если
тебе ничего не говорит эта семейная идиллия — торжество
простодушия,— то последуй за мной в этот дом с ярко освещенными
зеркальными окнами. Ты входишь в зал; дымящийся самовар — вот тот
фокус, вокруг которого движутся кавалеры и дамы; приготовлены
игорные столы, но вместе с тем поднята и крышка фортепьяно,—
и здесь музыка служит для приятного времяпрепровождения и
развлечения. При хорошем выборе она никому не мешает, так как ее
благосклонно допускают даже карточные игроки, хотя и занятые
более важным делом — выигрышем и проигрышем.
Что же мне сказать, наконец, о больших публичных концертах,
дающих превосходнейший случай поговорить с тем или иным
приятелем под аккомпанемент музыки, или — если человек еще не
вышел из шаловливого возраста — обменяться нежными словами
с той или другой дамой, для чего музыка может дать и
подходящую тему? Эти концерты — самое удобное место для развлечения
331
делового человека и гораздо предпочтительнее театра, где иногда
даются представления, непозволительным образом направляющие ум на
что-нибудь ничтожное и фальшивое, так что человек подвергается
опасности впасть в поэзию, чего, конечно, должен остерегаться всякий,
кому дорога честь бюргера. Одним словом, как я уже сказал в самом
начале, решительным признаком того, как хорошо понято теперь
истинное назначение музыки, служат то усердие и серьезность,
с коими ею занимаются и преподают ее. Разве не целесообразно, что
детей, хотя бы у них не было ни малейшей способности к
искусству — чем, собственно говоря, вовсе не интересуются,— все-таки
обучают музыке? Ведь это делается для того, чтобы они, в случае
если им и не представится возможности выступать публично, по
крайней мере могли содействовать общему удовольствию и
развлечению. Блестящее преимущество музыки перед всяким другим
искусством заключается также и в том, что она в своем чистом виде
(без примеси поэзии) совершенно нравственна и потому ни в коем
случае не может иметь вредного влияния на восприимчивые юные
души. Некий полицмейстер смело выдал изобретателю нового
музыкального инструмента удостоверение в том, что в этом инструменте
не содержится ничего противного государству, религии и добрым
нравам; столь же смело и всякий учитель музыки может заранее
уверить папашу и мамашу, что в новой сонате не содержится ни
единой безнравственной мысли. Когда дети подрастут, тогда, само
собой понятно, их следует отвлекать от занятий искусством, потому
что подобные занятия, конечно, не под стать серьезным мужчинам,
а дамы легко могли бы из-за них пренебречь более высокими
светскими обязанностями и т. д. Таким образом, взрослые лишь
пассивно наслаждаются музыкой, заставляя играть детей или
профессиональных музыкантов. Из правильного понятия о назначении
искусства также само собой следует, что художники, то есть те люди, кои
(довольно-таки глупо!) посвящают всю свою жизнь делу,
служащему только целям удовольствия и развлечения, должны
почитаться низшими существами, и их можно терпеть только потому, что
они вводят обычай miscere utili dulci1. Ни один человек в здравом
уме и с зрелыми понятиями не станет столь же высоко ценить
наилучшего художника, сколь хорошего канцеляриста или даже
ремесленника, набившего подушку, на которой сидит советник в податном
присутствии или купец в конторе, ибо здесь имелось в виду
доставить необходимое, а там — только приятное! Поэтому если мы и
обходимся с художником вежливо и приветливо, то такое обхождение
проистекает лишь из нашей · образованности или из нашего добро-
1 — соединять приятное с полезным (латин.).
332
душного нрава, который побуждает нас ласкать и баловать детей
и других лиц, нас забавляющих. Некоторые из этих несчастных
мечтателей слишком поздно излечиваются от своего заблуждения и
впрямь впадают в своего рода безумие, которое легко можно
усмотреть в их суждениях об искусстве. А именно, они полагают, что
искусство позволяет человеку почувствовать свое высшее назначение
и из их пошлой суеты повседневной жизни ведет его в храм Изиды,
где природа говорит с ним священными, никогда не слыханными,
но тем не менее понятными звуками. О музыке эти безумцы
высказывают удивительнейшее мнение: они называют ее самым
романтическим из всех искусств, так как она имеет своим предметом только
бесконечное; таинственным, выражаемым в звуках праязыком
природы, наполняющим душу человека бесконечным томлением; только
благодаря ей, говорят они, постигает человек песнь песней деревьев,
цветов, животных, камней и вод. Совершенно бесполезные забавы
контрапункта, которые вовсе не веселят слушателя, а стало быть, не
достигают и подлинной цели музыки, они называют устрашающими
таинственными комбинациями и готовы сравнить их с чудно
переплетающимися мхами, травами и цветами. Талант или, говоря
словами этих глупцов, гений музыки горит в душе людей, занимающихся
искусством и лелеющих его в себе, и пожирает их неугасимым
пламенем, когда более низменные начала пытаются загасить или
искусственно отклонить эту искру. Тех же, кто, как я уже показал
вначале, совершенно верно судит об истинном назначении искусства,
и в особенности музыки, они называют дерзкими невеждами, перед
которыми вечно будет закрыто святилище высшего бытия,— и этим
доказывают свою глупость; и я имею право спросить, кто же лучше:
чиновник, купец, живущий на свои деньги, который хорошо ест
и пьет, катается в подобающем экипаже и с которым все
почтительно раскланиваются, или художник, принужденный влачить жалкое
существование в своем фантастическом мире? Правда, эти глупцы
утверждают, что поэтическое парение над повседневностью есть
нечто необыкновенное и что при этом многие лишения обращаются
в радости; но в таком случае и те императоры и короли, что сидят
в сумасшедшем доме с соломенными венцами на головах, также
счастливы! Во всех этих цветах красноречия нет ровно ничего, эти
люди хотят только заглушить упреки совести за то, что сами не
стремились к чему-нибудь солидному, и лучшее тому
доказательство — что почти нет художников, которые сделались таковыми по
свободному выбору; все они выходили и теперь еще выходят из
неимущего класса. Они рождаются у бедных и невежественных
родителей или у таких же художников; нужда, случайность,
невозможность надеяться на удачу среди действительно полезных классов
333
общества делает их тем, чем они становятся. Так оно всегда и
будет — назло этим фантазерам. Если в какой-нибудь достаточной
семье высшего сословия родится ребенок с особенными
способностями к искусству или, по смехотворному выражению этих
сумасшедших, носящий в своей груди ту божественную искру, которая при
противодействии становится разрушительной; если он в самом деле
начнет пускаться в фантазии об искусстве и артистической жизни,
то хороший воспитатель с помощью разумной умственной диеты,
как, например, совершенного устранения всего фантастического и
чрезмерно возбуждающего (стихов, а равно так называемых
сильных композиций вроде Моцарта, Бетховена и т. п.), а также с
помощью усердно повторяемых разъяснений относительно совершенно
подчиненного назначения всякого искусства и зависимого
положения художников, лишенных чинов, титулов и богатства,— очень
легко может вывести заблудшего молодого субъекта на путь истины.
И он почувствует наконец справедливое презрение к искусству и
художникам, которое, служа лучшим лекарством против всякой
эксцентричности, никогда не может быть чрезмерным. А тем бедным
художникам, которые еще не впали в вышеописанное безумие, по
моему мнению, не повредит мой совет — изучить какое-нибудь
легкое ремесло для того, чтобы хоть несколько отклониться от своих
бесцельных стремлений; тогда они, конечно, будут что-то значить
как полезные члены государства. Один знаток сказал мне, что мои
руки весьма пригодны для изготовления туфель, и я вполне склонен,
дабы послужить примером другим, пойти в учение к здешнему
туфельному мастеру Шнаблеру, который к тому же мой крестный
отец.
Перечитывая написанное, я нахожу, что очень метко обрисовал
безумие многих музыкантов, и с тайным ужасом чувствую, что они
мне сродни. Сатана шепчет мне на ухо, что многое, столь
прямодушно мною высказанное, может показаться им нечестивой
иронией; но я еще раз уверяю: против вас, презирающих музыку,
называющих поучительное пение и игру детей ненужным вздором и
желающих слушать только музыку тех, кто достоин ее как
таинственного, высокого искусства,— да, против вас были направлены
мои слова, и с серьезным оружием в руках доказывал я вам, что
музыка есть прекрасное, полезное изобретение пробужденного Ту-
валкаина \ веселящее и развлекающее людей, и что она приятным
и мирным образом способствует семейному счастью, составляющему
самую возвышенную цель всякого образованного человека.
1 Тувалкаин — в Библии — изобретатель ковки орудий из меди и
железа.
334
4, Инструментальная музыка Бетховена
Когда идет речь о музыке как о самостоятельном искусстве, не
следует ли иметь в виду одну только музыку — инструментальную,
которая, отказываясь от всякого содействия или примеси какого-
либо искусства (например, поэзии), выражает в чистом виде
своеобразную, лишь из нее познаваемую сущность свою? Музыка — самое
романтическое из всех искусств, пожалуй, можно даже сказать,
единственное подлинно романтическое, потому что имеет своим
предметом только бесконечное. Лира Орфея отворила врата ада.
Музыка открывает человеку неведомое царство, мир, не имеющий
ничего общего с внешним, чувственным миром, который его
окружает и в котором он оставляет все свои определенные чувства, чтобы
предаться несказанному томлению.
Догадывались ли вы об этой своеобразной сущности музыки, вы,
бедные инструментальные композиторы, мучительно старавшиеся
изображать в звуках определенные ощущения и даже события? Да
ή как могло прийти вам в голову пластически разрабатывать
искусство, прямо противоположное пластике? Ведь ваши восходы солнца,
ваши бури, ваши Batailles des trois Empereurs l и т. д. были,
несомненно, только смешными ошибками — и по заслугам наказаны
полным забвением.
В пении, где поэзия выражает словами определенные аффекты,
волшебная сила музыки действует как чудный философский элек-
сир, его несколько капель делают всякий напиток вкуснее и
приятнее. Каждая страсть — любовь, ненависть, гнев, отчаяние и пр.,—
как ее представляет опера, облекается музыкой в блестящий
романтический пурпур, а даже обычные наши чувствования уводят нас
из действительной жизни в царство бесконечного.
Столь сильно очарование музыки, и, становясь все более и более
могущественным, должно было бы оно разорвать узы всякого иного
искусства.
Конечно, не только улучшение выразительных средств
(усовершенствование инструментов, возрастающая виртуозность
исполнителей) позволило гениальным композиторам поднять
инструментальную музыку до ее нынешней высоты,— причина кроется и в
более глубоком проникновении в своеобразную сущность музыки.
Творцы современной инструментальной музыки, Моцарт и Гайдн,
впервые показывают нам это искусство в полном его блеске; но
кто взглянул на него с безграничной любовью и проник в
глубочайшую его сущность — это Бетховен. Инструментальные творения всех
! — битвы трех императоров (франц.).
335
трех мастеров дышат одинаково романтическим духом, источник
коего — одинаковое понимание своеобразных особенностей
искусства; но произведения их по своему характеру существенно отличны
друг от друга. [.'..]
Гайдн романтически изображает человеческое в обыденной
жизни; он ближе, доступнее большинству.
Моцарта больше занимает сверхчеловеческое, чудесное,
обитающее в глубине нашей души.
Музыка Бетховена движет рычагами страха, трепета, ужаса,
скорби и пробуждает именно то бесконечное томление, в котором
заключается сущность романтизма. Поэтому он чисто
романтический композитор; не оттого ли ему меньше удается вокальная
музыка, которая не допускает неясного томления, а передает лишь
выражаемые словами аффекты, но отнюдь не то, что ощущается в
царстве бесконечного?
Э.-Т.-А. Гофман, Избранные произведения в
3-х томах, т. 3, М., 1962, стр. 21—29. Перевод
П. Морозова.
ЗОЛЬГЕР
1780-1819
Эстетические идеи немецкого романтизма получают систематическое
выражение и развитие в учении Карла Вильгельма Фридриха Зольгера. Зольгер
учился в Галле и Иене, где наряду с изучением права слушал Шеллинга,
изучал античную, итальянскую, испанскую и английскую литературу. В 1803 году
поступает на государственную службу, однако вскоре бросает ее, слушает
лекции Фихте, изучает философию Спинозы, переводит Софокла. С 1811 года
становится профессором философии в Берлинском университете.
Зольгер был близок к иенским романтикам, но не принял их субъективно-
идеалистической философии. В собственной эстетической системе, изложенной
в сочинении «Эрвин. Четыре диалога о прекрасном и искусстве» (1815) и в
изданных посмертно «Лекциях по эстетике» (1824), он приближается, скорее,
к объективному идеализму.
Отвергая определения прекрасного, данные Верком, Баумгартеном,
Кантом, Фихте, Зольгер выдвигает свое понимание красоты, согласно которому
прекрасное представляет собой присутствие идеи в вещах. Прекрасное, по
мнению Зольгера, может выражаться в двух формах: в форме символа и
аллегории. Прекрасное выступает в виде символа, когда образующая его идея
рассматривается в форме объекта. Рассматриваемое как процесс деятельности
прекрасное выступает в виде аллегории. Символ и аллегория отличны друг от
друга. Аллегория изображает «единичное, страстно стремящееся к
божественно?
ному» 1. Символ, напротив, есть абсолютное совпадение идеи и
действительности. Он представляет собой «не подражание какому-нибудь прообразу, а
истинное проявление», «символ, следовательно, сам истинен, а не есть только
изображение чего-то истинного» 2.
Различение Зольгером символа и аллегории имеет нечто общее с
шеллинговской теорией аллегории, символа и схемы, или с учением Гегеля о
символической, классической и романтической форме искусства. Так, по мнению
Зольгера, античное искусство символично, а христианское аллегорично.
Согласно Зольгеру, художественное творчество есть не что иное, как
деятельность фантазии. В отличие от воображения или знаменитого
платоновского «неистовства поэтов», фантазия связана с деятельностью идеи, она есть
«внутреннее действие идеи в духе художника». Зольгер различал три вида
фантазии: «фантазию в узком смысле слова» (деятельность идеи, как таковую),
«чувственность фантазии» (то есть действительность, в которой
осуществляется деятельность идеи) и, наконец, «рассудок фантазии» (то есть взаимный
переход идеи и действительности друг в друга). Чувственному осуществлению
фантазии соответствует в системе Зольгера юмор, а рассудочному — остроумие.
И, наконец, состояние, при .котором идея полностью растворяется в
действительности, Зольгер называет иронией. «Вот этот миг перехода, когда сама идея
необходимо обращается в ничто, должен быть подлинной обителью искусства,
где остроумие и любование в противоположных друг другу устремлениях,
одновременно творящие и уничтожающие, должны стать одним и тем же. Здесь,
следовательно, дух художника должен собрать все направления в один всеози-
рающий взор, и этот над всем парящий, все уничтожающий взор мы называем
иронией» 3.
Несмотря на то, что ирония Зольгера в некоторых чертах напоминает
иронию иенских романтиков, между ними есть существенные отличия. В своем
учении об иронии Зольгер сформулировал целый ряд диалектических
положений. Согласно Зольгеру, всякое художественное творчество, всякое
художественное произведение есть диалектическое единство двух моментов:
вдохновения и иронии. Посредством вдохновения идея раскрывает себя в
действительности. Но вдохновение необходимо связано с иронией, поскольку всякая
действительность является разложением и некоторой гибелью идеи. Посредством
иронии идея гибнет, растворяется в действительности, но так как благодаря
этому впервые возникает сама действительность, то это есть не только гибель,
но и торжество идеи. Гибнущая идея торжествует, а то, что представлялось
низменной действительностью, становится высшим идеалом. В иронии, по
мнению Зольгера, осуществляется диалектический взаимный переход друг в друга
1 К. Solger, Erwin. Vier Gespräche über das Schöne und die Kunst,
T. II, Berl., 1815, S. 49.
2 Τ a m же, стр. 41.
3 Та м же, стр. 277.
12 История эстетики, т. III 337
идеи и действительности, конечного и бесконечного, божественного и
ничтожного, творения и уничтожения, трагического и комического.
Характеризуя исходные принципы своей эстетической системы, Зольгер
писал Людвигу Тику, что он хочет разработать теорию искусства «не
посредством математического метода, не посредством рапсодий, дедукций или
конструкций \ а посредством совершенной, исходящей из образов жизни
диалектики» 2. Этот диалектический момент, содержащийся в эстетике Зольгера, высоко
ценил Гегель. Критикуя субъективизм иронии иенских романтиков, Гегель
указал на то, что Зольгер в своей концепции иронии «натолкнулся на
диалектический момент идеи, [...] на деятельность идеи, состоящую в том, что она
отрицает себя как бесконечную и всеобщую, чтобы перейти в конечность и
собственность, а затем в свою очередь также и снимает эту отрицательность и,
таким образом, снова восстанавливает всеобщее и бесконечное в конечном
и особенном» 3.
Современники не оценили по достоинству действительное значение
эстетической системы Зольгера. Тем не менее с именем Зольгера связано развитие
диалектики, и не только в области эстетики, но и философии вообще.
Характерно, что молодой Маркс внимательно изучал сочинение Зольгера «Эрвин».
ЛЕКЦИИ ПО ЭСТЕТИКЕ
Введение в эстетику
Прекрасное как материя искусства может рассматриваться:
1) как объект сам по себе, 2) как результат деятельности, поскольку
объект должен быть соотнесен с деятельностью в качестве простого
порождения последней. Поскольку прекрасное есть конечное идеи,
завершающий факт, мы его называем символом, и всякое искусство
в этом смысле символично. Символ в этом более широком значении
можно, однако, рассматривать двояко: 1) поскольку он в качестве
объекта заключает в себе идею; в этом значении мы называем его
символом в более узком смысле слова; 2) поскольку художественная
деятельность создает объект, следовательно, в качестве того, что,
взятое как факт, есть порождение деятельности; в этом смысле мы
называем его аллегорией.
Художественная деятельность, с другой стороны, также
двойственна; при этом мы должны принимать во внимание, что как в
1 Намек на Жан-Поля.
2 Solgers Nachgelassene Schriften und Briefwechsel, Bd. I, Lpz., 1828,
S. 401.
3 Гегель, Сочинения, т. XII, M., 1938, стр. 73.
338
прекрасном, взятом в качестве материи, объект становится
абсолютным, так и в духовной деятельности действительность растворяется
и превращается в идею. Духовная деятельность относится,
следовательно, к действительности отрицательно. Но поскольку деятель
ность художника имеет перед собой прекрасное в качестве материи,
она становится положительной. Уже в противоположности
божественного и земного обнаруживалась эта отрицательная
деятельность, поскольку идея в отношении действительности проявляла
себя отрицательно действующей.
Стало быть, направление духовной деятельности двоякое. Одна
сторона ее заключается в том, что идея завладевает чувством
художника и раскрывается через посредство действительности. Это есть
вдохновение, где чувство художника в его деятельности целиком
переполнено идеей, так что он должен поставить идею на место
действительности. Вдохновение создает в нем иллюзию,
заставляющую принимать идею за действительный мир. Однако это является
иллюзией лишь с точки зрения обыденного рассудка, для
художника именно это и есть высшая истина. Без вдохновения немыслим
никакой художник; оно есть своеобразная деятельность гения.
Смысл слова «вдохновение» часто толковали неправильно, мысля
вдохновение исходящим из одного единичного понятия. Разумеется,
бывает состояние, когда человек увлечен определенным
представлением, но отсюда возникает сектантский энтузиазм, обычно
связанный с ограниченностью, односторонностью, тупостью. Подлинное
вдохновение отличается от этого ложного тем, что последнее
побуждает к порывистой, слепо движущейся вперед деятельности,
тогда как первое должно действовать спокойно и осмотрительно.
Идея сама пробивает себе дорогу повсюду, и ей не нужно судорожно
и боязливо сражаться с действительностью. Высшее
художественное вдохновение носит, скорее, характер величайшего спокойствия и
ясности. Состояние неистовства возникает лишь из произвольного,
нарочитого вдохновения, которое толпа обычно смешивает с
подлинным. Настоящее произведение искусства развивается, подобно
растению из своего зерна, в спокойной и тихой деятельности.
Другая сторона духовной деятельности художника — та, где эта
деятельность находит завершение, поскольку в ней растворяется
действительность. Художник должен уничтожать действительный
мир не только в той мере, в какой он является видимостью, но и в
той мере, в какой он сам есть выражение идеи. Это настроение
художника, в котором он полагает действительный мир как нечто
ничтожное, мы называем художественной иронией. Ни одно
произведение искусства не может возникнуть без этой иронии, которая
вместе с вдохновением составляет средоточие художественной
12*
339
деятельности. Это и есть то настроение, которое позволяет нам
заметить, что действительность есть раскрытие идеи, но сама по себе
ничтожна и становится вновь истиной, лишь растворившись в идее
(ср. сказанное выше о противоположности трагического и
комического). Нельзя путать иронию с пошлой издевкой, не составляющей
в человеке ничего благородного. Ирония признает ничтожество не
одиночных характеров, но всей человеческой сущности как раз в ее
высшем и благороднейшем существе; она признает, что нет ничего,
способного устоять перед божественной идеей.
К. S о 1 g е г, Vorlesungen über Aesthetik, hrsg.
von К. Heyse, Lpz., 1829, S. 123—125. Перевод
В. П. Зубова.
О юморе
Между своеобразием впечатлений и всеобщностью ощущения
должна существовать точка зрения, где идея является не только
упраздняющей самое себя, но и принципом существования и где
она упраздняет себя сознательно. Это совершенно универсальная
точка зрения чувственности есть юмор,— слово это появилось
одновременно с этим видом искусства в Англии, во времена Шекспира.
Художник в самом существовании усматривает божественное; идея
для него — начало существования и потому именно растворяется в
существовании, уничтожает себя в нем, однако всегда сознавая, что
она остается.
В юморе идея выступает как просто действенная в многообразии
существования и является поэтому сама как свое собственное
уничтожение. Поэтому чувство ничтожности и незначительности всегда
соединено здесь с чувством положительной ценности раскрытия идеи
в настоящем. Идея воспринимается индивидуально во вполне
определенных условиях; она раскрывается в своеобразном и
действительном; оттого весь мир всегда созерцается лишь по отдельным, но
универсальным направлениям.
Отдельные явления, своеобразные обнаружения имеют здесь
часто весьма высокий смысл; оттого-то долгое время существо юмора
полагали лишь в барочной внешности или совершенно
односторонней форме внешного явления. Так, Бен Джонсон в обоих своих
произведениях «Каждый со своим юмором» и «Каждый без своего
юмора» высказался по поводу тех случаев, где юмор выступает как
чисто случайная направленность чувства.
Однако чувство в таких направлениях не должно проявляться
как индивидуальное; оно должно быть универсальным,
воплощающим идею. Об этом сказал и Жан-Поль в своей «Подготовительной
340
школе эстетики»: он сознает, что идея должна быть перенесена в
действительность, однако понимает юмор односторонне, беря его
чересчур со стороны комического. Большинство толкований
новейших эстетиков весьма поверхностно.
То, что у нас является восприимчивостью, одновременно
рассматривается как начало всего своеобразия. Сознание как чисто
ощущающее тем не менее рассматривается одновременно как сущность
воспринимаемых им впечатлений; идея существует лишь в том виде,
как она расщепляется до бесконечности, однако сопровождает все
особенные явления чем-то существенным, идеей самой по себе. Это
составляет сущность юмора. Состояние, когда идея целиком
растворилась в многообразии явления и тем не менее познается как
сущность, есть универсальность для этой точки зрения. Юмор
представляет само искусство в его высшем значении. Он совершеннее, чем
простое чувственное выражение или передача страсти или
чувствительности вообще.
В многообразии явления мы находим всегда в качестве одного
и того же ту же самую идею и вместе с тем придерживаемся той
точки зрения, где эта простая сущность налична лишь в
бесконечной раздробленности явления. Эту двойственность юмор постигает
в одной мысли. Оттого-то он чувствует себя вполне как дома в
обыденной действительности, в ее индивидуальнейшем облике, а с
другой стороны, всегда должен иметь в качестве цели нечто совершенно
универсальное.
Это противоречие может быть снято только художественным
разумом. Мы должны познать, что в существовании идея гибнет,
и оттого с юмором связано чувство трагического; но в тот же
самый момент мы должны одновременно постичь, что идея повсюду
есть начало единичного и обретается в многообразии, и на этом
основано комическое. Ни то, ни другое не может, следовательно,
находиться здесь в чистом виде: оба должны неразлучно переходить
одно в другое, так как оба начала находятся здесь в точке своего
зарождения. Оттого в подлинно юмористичном ничто не будет
всецело смешным, но все будет связано с известной печалью, и
трагическое в свою очередь всегда будет иметь налет комического.
Сказанное характеризует юмор в его отличии от объективного
безразличия древнего искусства. В юморе идея переходит в
действительность как действительность; оттого и возвышенное будет иметь
здесь налет комического, и равным образом внешнее существование
будет часто иметь вид возвышенного, так как в нем мы познаем
идею как начало. Самое низкое зачастую производит в юморе
возвышенное впечатление, и самые возвышенные идеи исчезают в
незначительном, что порождает трагическое чувство.
341
Взаимное упразднение комического и трагического в юморе еще
находится на полпути, и потому именно, что юмор заключен в этом
моменте перехода идеи в действительность, здесь, как и при первой
точке зрения, все же сохраняется противопоставление идеи как
принципа действительности и идеи как чистой деятельности. Вот
почему юмор всегда является нам как живущий в существовании;
ему противостоит царство чистой идеи как пустое единство, как
голое отрицание, и он кончает чувством пустоты, чувством, которое,
однако, не является чисто отрицательным, но имеет положительную
направленность к вечному, не обнаруживающемуся ни в каком
определенном облике. Чувство такого отсутствия, заключающее в себе
положительное влечение, есть чувство томления. Томление о вечном,
идее должно поэтому всегда сопутствовать юмору. Когда такое
томление проникает юмор повсюду в его многообразии, тогда достигнута
вершина этой точки зрения. Когда томление чересчур обособляется,
противопоставляя себя многообразию явления, тогда легко возникает
чисто формальная рефлексия, а тем самым несовершенный юмор.
Юмор влечет за собой величайшую чувственную наглядность
в изображении единичного, ибо он должен проследить идею во всех
этих подробностях. Фиксирование отдельных описаний, пейзажей
и т. п. вредит юмору. Страсть никогда не должна получать перевес
в юморе; иначе предмет становится серьезным, интересное получает
преобладание и юмор, всецело враждебный интересному, пропадает.
Одна определенная страсть поэтому никогда не может применяться
как средство развить юмор.
В этом отношении кое-где можно быть недовольным Жан-Полем,
поскольку он проявляет слишком много интереса к единичному.
Прекрасное качество Жан-Поля — живописание деталей в их смене,
так, что в каждом из этих настроений мы всегда воспринимаем
нечто высшее. В этом отношении Жан-Поль — мастер своего искусства.
Но в отношении универсальной стороны юмора нельзя назвать его
столь же совершенным. В соотнесении пестрого многообразия с
высшими идеями, посредством которого идея должна уничтожиться
в явлении, Жан-Поль не всегда удовлетворяет. Он часто дает
перевес внешней стороне явления над внутренней. Менее всего он
удовлетворяет там, где дело касается томления, которое должно
сочетаться с юмором. Когда он хочет быть возвышенным, то обычно
философствует совершенно абстрактным образом. Посредством чисто
рефлектирующей абстракции он обособляет многообразие от
чувства томления о вечном, тогда как в художественном сознании то и
другое должно быть единым. Он грезит не при помощи фантазии,
а при помощи обыденного рассудка, становится оттого холодным и
сухим, творит идеалы по образцу пустых понятий и играет ими как
342
бог на душу положит. Поэтому концы его произведений обычно
самые слабые. Это особенно заметно в шедевре «Зибенкэз», где
в конце он впадает в пресное идеализирование.
Среди англичан особенно выделяется своим юмором Стерн,
который, однако, в любовном живописании отдельного явления
никогда не шел так далеко, как Жан-Поль; он как бы дополняет
последнего, будучи наиболее совершенным в передаче чувства,
модифицируемого внешними впечатлениями. Если Жан-Поль чересчур
уносится в своих мечтаниях во всеобщее, то Стерн обращает свою
рефлексию почти лишь на своеобразное. Оттого он всегда бывает
несколько сух, а его презрение к миру и человеку содержит некоторую
горечь.
На примере юмора мы убеждаемся, что и чувственность должна
быть в искусстве всецело универсальной, а идея должна полностью
присутствовать в ней. Юмор представляет собой противоположность
универсальному в искусстве пластической фантазии, а поскольку
он никогда не может отдаться низменной чувственности, он есть
нечто весьма благородное, возвышенное и подлинно
художественное, так же как и универсальность пластической фантазии.
Все прежние точки зрения чувственности суть лишь отдельные
стороны юмора, от него отделившиеся, коль скоро идея целиком
перешла в материю. Тем не менее и эти точки зрения всегда будут
сохранять общее направление. Так, чувственной отделке должна
противостоять общая мысль о чистой законченности, а страсти —
восприимчивость. Более всего в этих прежних точках зрения юмор
проявляется там, где всеобщее предполагается, а единичное
мыслится как его модификация. Здесь единичное может быть
постигнуто как всецело чувственное, если только многообразные
впечатления оказываются ничтожными, противоречащими чистому
безразличию, как, например, у Катулла, где это многообразие материала
всегда одновременно трактуется юмористически. Равным образом
и в случае всеобщей чувствительности новых поэтов, как, например,
у Ариосто, появляется известный юмор. В обоих случаях выступает,
однако, лишь одна сторона юмора.
Там же, стр. 215—220.
ПИСЬМО ФРАУМЕРУ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 1812 ГОДА
{План первых трех диалогов «Эрвина»]
Первый разговор теперь таков, каким, думается мне, он должен
остаться. Несколько лиц разговаривают в нем о сущности и понятии
прекрасного. У каждого своя отправная точка. Прекрасное ищут
343
в действии, которое оно оказывает на чувственное восприятие и на
способность воображения, ищут в гармонии и правильности, которые
находит в нем разум, наконец, в идеях, передаче и отображению
которых оно служит. Исследование этих точек зрения
придерживается исторического развития этой науки, и в особенности Баум-
гартена, Берка, Фихте и новейших авторов. При этом показывается,
каким образом каждое из этих воззрений в своих результатах
правильно понимает действительное явление прекрасного, но вместе
с тем в своих принципах каждое само по себе и все друг в
отношении друга столь противоречивы, что в итоге мы не только ничего
не узнаем о сущности красоты, но с этих сторон она представляется
нам как нечто совершенно невозможное и ничтожное. В таком
состоянии отчаяния завершается диалог. Вы видите, следовательно,
что он всецело диалектичен, тем не менее я стараюсь писать его
возможно популярнее.
Второй диалог начинается своего рода откровением, содержащим
мой принцип сущности красоты; согласно нему сама красота
является в вечном и божественном бытии действительных, наличных
вещей. Отсюда выводится, каким образом она именно потому
необходимо переходит в божественное явление и каким образом здесь
вступают в неразрешимое противоречие то, что в ней божественно,
и то, что в ней преходяще. Из этого противоречия я методически
развиваю все противоположности, на которые прекрасное
раскалывается для нашего теперешнего познания и где предельный раскол
знаменует противоположность комического и трагического,
относительно которых я выдвигаю совершенно своеобразное учение. Из
всего этого затем следует, что хотя прекрасное и заключает в себе
идею, наделенную сущностью, однако в явлении идея приходит в
беспорядок от преломления, которое она должна претерпеть, и тем
самым уничтожается всякий надежный ее критерий, а
следовательно, и она сама.
В третьем разговоре, наконец, открывается, что для такого
выпадения красоты из божественной сущности есть путь искупления,
позволяющий восстановить ее на земле, а именно — искусство.
Чтобы, следовательно, опять провести красоту через все те
противоположности, посредством которых она была раньше уничтожена, и в
них самих очистить и явить ее подлинную сущность, она должна
расколоться по различным направлениям, что дает классификацию
искусств. Затем показывается, что хотя в поэзии идея и остается
не замутненной, но она не может перейти в чувственное явление,
разве лишь посредством драмы в случае предельного своего раскола
на противоположности комического и трагического; далее идет речь
о том, как в телесных искусствах, в живописи и пластике, содер-
844
жится сам действительный мир, но способный принимать в себе
идею лишь по раздельным направлениям; и как, наконец, текучая
жизнь вновь непосредственно возносится до чистой идеи и
пронизывается ею, когда самый материал, подчиненный закону чистых
форм созерцания, пространства и времени, разрешается в
архитектуру и музыку. Эти пять основных искусств только и могут
существовать, и то, что еще может встретиться в виде отдельного
искусства, под них подводится.
Solgers Nachgelassene Schriften und Briefwechsel,
Bd. I, Lpz., 1826, S. 248—250. Перевод
В. П. Зубова.
ЭРВИН. ЧЕТЫРЕ РАЗГОВОРА
О ПРЕКРАСНОМ И ИСКУССТВЕ 1
— В этом смысле, мой Эрвин, я с тобой могу согласиться, что в
совершенном разуме ты обрел сущность искусства, которое должно
было бы быть повсюду тождественным в своем бытии, и этот разум
оказался бы тогда действительностью самой фантазии. Но
удовлетворены ли этим все твои требования и желания?
— Как же не неудовлетворены! Ведь теперь достигнуто то,
к чему я стремился с самого начала,— познать прекрасное целиком
в действительном и настоящем, без далекого неведомого идеала. Ибо
теперь прекрасное есть наличное в настоящем, и если раньше я не
умел еще отличать его достаточно отчетливо от чисто являемого
облика вещей, то лишь потому, что мне недоставало понимания и
сознания того, чем же я всегда действительно наслаждался при виде
прекрасного. Ведь всегда я избегал пустого и невозможного идеала,
который мне хотели навязать в качестве смысла красоты. Но только
теперь я сознаю вполне отчетливо, что этот идеал, рассматриваемый
с обеих сторон, есть пустая игра одного и того же воображения,
лишенного сущности. Ведь когда я слушаю тех, кто посредством так
называемых чувств хочет вобрать в себя всю силу прекрасного, то
теперь это мне представляется не знающим покоя влечением к
несбыточному, обреченному остаться чем-то пустым и
бессодержательным. Проповедники же нравственности вместе с хорошо нам теперь
известными искателями образцов не находят ничего, что обладало
бы большей силой или большим бытием, коль скоро всеобщее в
вещах они хотят наполнить всеобщим же,— бесплодная работа,
1 Трактат написан в форме беседы Адальберга и Эрвина с Ансельмом
и Бернардом.
345
которая изнуряет их еще более, чем бочка Данаид. Напротив,
подлинное искусство повсюду должно быть преисполнено и замкнуто
настоящим; ведь деятельность разума рассматривает все, идею и
явление, как одну и ту же наличную действительность.
— Мне радостно видеть,— воскликнул тогда я,— что ты постиг
все живое мироздание красоты, в котором заключены два фокуса —
фантазия и чувственность, и одна и та же орбита деятельности и
становления их объемлет. Оба фокуса никогда не могут, совпав,
уничтожить друг друга, и ни один из них не может замкнуться
в своем особом круге бытия, который оказался бы не чем иным, как
самим распространившимся вширь средоточием. Но посредством
фигуры, которая наиболее совершенным образом выражает вполне
действительное и тем не менее вечно в себя возвращающееся
бытие,— посредством эллиптической орбиты,— объемлет обе точки
разум, в вечном превращении завершая и заканчивая то, что
излучается из идеи, посредством действительного своеобразия, а то, что
скрывается в единичном образе, посредством совершенства
сущности. Один из этих фокусов — фокус сущности или фантазии —
светит собственным, изначально могучим светом, а потому он один
лишь бывает видим для многих, считающих его единственным
средоточием. Но другой не становится оттого менее действительным —
тот, в котором мы находили чувственность,— и лишь для обыденного,
на темной поверхности обитающего познания кажется он темным,
ибо свет им не только поглощается, но распространяется в виде
многоликой массы. Наконец, заключающая оба фокуса орбита являет
снаружи видимость становления и движения; но то, что
становится,— это всегда лишь к себе самой возвращающаяся общность
обоих, и к ней эта орбита, именно потому, что возвращается к самой
себе, направляет и глаз, наблюдающий извне. Вот почему, Эрвин,
взор твой не обманулся, когда ты уже раньше действительно обрел
наличным в этом становлении все, к чему ты стремился. [...]
К. S о 1 g е г, Erwin. Vier Gespräche über das
Schöne und die Kunst, Berl., 1815, S. 270—272.
Перевод В. П. Зубова.
[Об остроумии]
— Удивляюсь,— сказал на это Эрвин,— ты смело берешься
объяснять, что такое остроумие, эту обычно не поддающуюся
объяснению вещь, почему некоторые даже считают, что в этом именно и
заключается ее сущность. Притом сказанное тобой звучит для меня
очень странно. Если это так, пришлось бы думать, что вещи,
сравниваемые остроумием^ всегда должны совпадать в существенных своих
346
свойствах и признаках; между тем по большей части выделяются
лишь случайные и односторонние, а отсюда правило, что
исследование остроумных сравнений нельзя вести слишком далеко.
— Закон этот,— отвечал я,— может что-нибудь значить лишь
в качестве предупреждения: не принимать остроумие за операцию
обыденного рассудка. Ведь тот, кто займется не имеющим конца
обыденным сопоставлением отдельных представлений и понятий,
тот будет все больше удаляться от понимания остроумия. Без
наличия того созерцания, которое порождается лишь воодушевлением,
без чувства, преисполненного этим созерцанием и существенной его
материей, нет остроумия, есть лишь остроумие мнимое, подобно
тому как существует и мнимое любование. [...] Ты должен только
хорошенько различить путь, который привел нас к комическому,
и тот, который привел нас к остроумию. Комическое появилось
у нас, когда мы рассматривали прекрасное как уже наличное и
разлагали его на составные части, идею и явление. Остроумие же есть
для нас вид деятельности активного художественного разума,
пронизывающей все царство искусства, но в одном определенном
направлении. Следовательно, остроумие отнюдь не может быть
привязано к той области, где единственно находится комическое, оно
может производить и трагическое или возвышенное действие, когда
весь мир явлений, с его всеобщими противоположностями и
противоречиями низвергается им в созерцание идеи. Эта устремленность
к всеобщему и целому, которая, как ты видел, не может ужиться
с чувственным остроумием, коль скоро там целое проступает в
любом единичном, есть отличительная черта всеобщего или, если
угодно, идеального остроумия. Его ты найдешь в некоторых
замечательных творениях нового времени, где блистательный разум отделывает
и украшает действительность на самые разнообразные лады, чтобы
затем, среди всеобщих и всепроникающих противоположностей,
принести ее в жертву над всем господствующей судьбе. Теперь ты по
крайней мере можешь окинуть взором область остроумия,
убедившись, что оно вовсе не есть односторонняя и лишь в своебразном
проявляющаяся способность разума, а есть весь разум,
созерцаемый в определенном облике.
Там m е, стр. 251, 254.
[Об иронии]
[...] Итак, если идея благодаря художественному разуму
переходит в своеобразие, она не просто запечатлевает себя в нем и не
просто являет себя как нечто временное и преходящее, но
становится действительностью, наличной в настоящем и, так как за ее
347
пределами ничего нет, становится самим ничтожеством и самим
уничтожением, как таковым, и безмерная печаль должна охватить
нас при виде того, как высочайшее рассыпается в ничто от своего
неизбежного земного бытия. И все-таки ни на кого мы не можем
возложить за это вину, кроме как на само совершенное в
откровении его временному познанию; ибо чисто земное, воспринимаемое
нами отдельно от всего прочего, держится благодаря воздействию
одного на другое и благодаря никогда не прерывающемуся
возникновению и уничтожению. Вот этот мир перехода, когда сама идея
необходимо обращаться в ничто, должен быть подлинной обителью
искусства, где остроумие и любование в противоположных друг
другу устремлениях, одновременно творящие и уничтожающие,
должны стать одним и тем же. Здесь, следовательно, дух художника
должен собрать все направления в один всепроникающий взор, и
этот над всем парящий, все уничтожающий взор мы называем
иронией.
— Я удивляюсь,— сказал здесь Ансельм,— той смелости, с какой
ты всю сущность искусства сводишь к иронии, что многие могли
бы принять за нечестие.
— Не нападай на меня больше,— возразил я,— в духе той
дряблой и фальшивой религиозности, которую нынешние поэты
подкрепляют своими ими же самими придуманными идеалами, тем самым
сильно помогая довести до пустейшей бессмыслицы столь
распространенное сентиментальничающее, ханженствующее
самообольщение в отношении религии, отечества, искусства. Говорю тебе: у кого
нет мужества постичь сами идеи во всей их преходящести и
ничтожестве, тот потерян по крайней мере для искусства. Впрочем,
существует, конечно, и мнимая ирония, как и мнимое остроумие
и мнимое созерцание, и я должен хорошенько оградить себя, чтобы
ее мне не приписывали. Эта мнимая ирония заключается в том, что
ничтожное наделяют мнимым бытием, чтобы тем легче было потом
его уничтожить,— либо сознательно, и тогда это обычная шутка,
либо бессознательно, и тогда думают, будто нападают на истину,
и в этом случае, конечно, такая ирония может привести к нечестию.
Это так называемая общительная житейская философия, которую
мы находим у старого Лукиана и у некоторых новейших его
подражателей, где мне не хотелось бы ее видеть,— ей удается доказать
на основании обычного хода вещей, что нет добродетели, нет истины,
нет ничего благородного и чистого, доказать даже, что чем с
большими надеждами человек стремится к этому высшему, тем ниже
низвергается он в грязь чувственности и пошлости. Но как удачно
она могла бы это доказать, если бы с подобным занятием не
соединяла болезнь, против которой мы давно боремся, а именно, под-
348
мену истинных идей пустыми идеалами! Ведь эти миражи
мечтательной силы воображения легко разоблачить в их ничтожестве.
И, таким образом, эта ирония, сама того не зная, двойственна в
своем существе, уничтожая лишь то, чему она сама же дала мнимую
жизнь. Но будем держаться подальше от нее! Ибо тому, кто постиг
средоточие нашей иронии, тому откроется в нем здесь на земле
и сущность и божественная идея.
— Мне кажется, я понимаю тебя,— сказал Эрвин,— хотя, быть
может, мне и потребуется длительное упражнение, для того чтобы
навсегда сохранить в себе живым такое понимание. Именно через это
ничтожество идеи как земного явления, думается мне, мы впервые
достигаем познания ее как действительной идеи, а всего нам
являемого — как бытия идеи. Ибо здесь в одном и том же изначальном
единстве пронизывают друг друга сущность и временность, и одна
не может исчезать под влиянием другой без того, чтобы вновь не
быть обретенной благодаря ей же. Одна проникает в другую
благодаря деятельности художественного разума, но обе остаются в
единении с самими собой, хотя между обеими сверкает деятельность
художественного разума, постоянно остающегося в единении с
самим собой и в то же время попеременно озаряющего ту и другую.
— Поистине, дорогой мой Эрвин,— воскликнул я,— ты далеко
превзошел мои надежды. И только теперь я вполне убежден, что не
простая чувственность воодушевляла тебя с самого начала; и твое
настойчивое стремление познать нечто внешнее в действительных
вещах, как таковых, которое, однако, всякий раз являло тебе лишь
распадающийся внешний облик, на самом деле было все-таки зарей
настоящей иронии. Теперь, кажется мне, ты сам счастливо избежал
того, от чего я считал нужным тебя предостеречь. А именно, ты ведь
не думаешь, что земное, со своей стороны, посредством этого
волшебства искусства возвышается до всеобщей законченности и до
неизменно пребывающей сущности?
— Отнюдь нет,— ответил он,— иначе ведь это было бы
неразличимым созерцанием. Наоборот, сущность должна струиться сквозь
все смертное, ибо это ее бытие и есть искусство, а все земное,
преходящее и возникающее, должно стать живой, присутствующей в
настоящем идеей, которая в нем одновременно возникает и
уничтожается. Посредством своего уничтожения как земного, которое
выступает повсюду во всем ее бытии, она замкнута, и в ней
завершается созерцание, а посредством своего постоянно возвращающегося
бытия действительное всегда есть развитие этого созерцания
сущности, наличное в настоящем.
— Итак, искусство, дорогой мой Эрвин,— сказал я
радостно,— всецело есть бытие, присутствие, действительность, это ты
349
понимаешь ясно; но оно есть бытие, присутствие, действительность
вечной сущности всех вещей, а эта сущность существует лишь
благодаря единому, но по разным направлениям действующему разуму.
Итак, нам не нужно уже больше беспокойно искать, каким образом
сущность искусства, невзирая на несовершенство его временного
бытия, может оставаться повсюду одной и той же; ибо теперь мы
знаем, что лишь в этом несовершенстве или, вернее, в ничтожестве
явления действительно есть эта сущность. Поэтому, если мы
рассматриваем все лишь со стороны смертности, нас охватывает скорбь,
и прекрасное предстает нам лишь как покров таинственного высшего
прообраза, и не только как наиболее преходящего, но и как то, что
целиком сводится к чистой преходящести и ничтожности. Однако
если наш взор проникает в сущность, то именно эта временность
станет для нас существенной жизнью и последовательным
откровением живого, всеприсутствующего божества. [...]
Там же, стр. 237—281.
ШОПЕНГАУЭР
1788-1860
Творчество Артура Шопенгауэра началось тогда, когда основные
произведения немецкой классической философии (в том числе и гегелевская
«Феноменология духа», 1807) были уже созданы. Основное сочинение Шопенгауэра
«Мир как воля и представление» появилось в 1819 году (первый том). Вся
деятельность Шопенгауэра впоследствии была посвящена только утверждению
и развитию того, что было высказано в этой книге.
В системе Шопенгауэра можно отыскать чисто художественное углубление
и закрепление той символики, которой пользовались все романтики,—
Шопенгауэр в чем-то даже создает образцовый эталон этой символики, так что из него
могли черпать близкие ему по складу художники и через многие десятилетия.
Как известно, современники Шопенгауэра в пору выхода первого тома «Мира
как воли и представления» почти не заметили его — как метафизическая
система он был им неинтересен, так как не удовлетворял требованиям научной
философии; как соединение романтической символики с философскими
понятиями он был недоступен и далек. Кульминация и центр всей системы
Шопенгауэра — его рассуждения о музыке — представляют собой не в меньшей
степени продукт поэтического воображения, чем сочинения Вакенродера, которые
в целом повлияли на Шопенгауэра и которые не являются философией.
Шопенгауэр интересен для музыкальной эстетики прежде всего как философ,
блестяще владевший художественным стилем (Томас Манн пишет, что
350
изложение Шопенгауэра обладает «такой силой, элегантностью, точностью,
таким страстным умом, такой классической чистотой и великолепно живой
строгостью языкового стиля, какой никогда прежде не замечалось в немецкой
философии» J). Интерес к Шопенгауэру пробуждается тогда, когда в самой
художественной музыкальной практике дело дошло до рефлективного
самопознания—у Рихарда Вагнера («Бетховен», 1871), Ницше («Происхождение
трагедии из духа музыки», 1871), у тех, кто испытал в своем развитии влияние
немецкой романтической музыки, как Томас Манн.
Все романтики задумывались над сущностью музыки и вдохновенно о ней
говорили. Шопенгауэр привел в систему их идеи. Музыка—это средство
познания мира, потому что она его зеркало, его отображение, со всей его
ступенчатой иерархией, и она высшее из искусств: на языке музыки можно понятно
и доступно для человеческой души сказать о непознаваемой и непонятной
сущности мира. Разные искусства соответствуют разным ступеням
объективации воли, этой метафизической первоосновы мира. Музыка же выражает самое
волю, и потому она выше других искусств: для Шопенгауэра «всякое искусство
стремится стать музыкой». Вместе с тем музыка это и язык страстей, как
обычно понимали музыку в· XIX веке: «Невыразимо глубокое в музыке...
основано на том, что она передает все движения нашего самого сокровенного
существа, но вне их реальности и их мучительности» 2. Музыка потому может быть
средством познания действительности, что она ее совершенный аналог. В самом
строении музыки Шопенгауэр усматривает соответствие бытию: четыре
гармонических голоса соответствуют четырем ступеням в мире существ, то есть
царству минералов, растений, животных и человека, и т. д. Числовые пропорции,
заложенные в музыке, своим многообразием делают из музыки гибкий
инструмент речи. Пропорциональность и симметричность заложены в основе всякого
искусства; в архитектуре симметрия выражена в пространстве вне времени,
в музыке — во времени вне пространства.
В целом высказывания Шопенгауэра о музыке благодаря их близости
художественной практике представляют несомненный интерес, несмотря на
пессимистическую и идеалистическую метафизику воли, лежащую в основе его
философии.
МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
§ 41. [...] Называя какой-нибудь предмет прекрасным, мы
выражаем этим, что он объект нашего эстетического созерцания. Это
имеет двойной смысл: во-первых, тот, что зрелище данного предмета
делает нас объективными, что мы, другими словами, созерцая его,
1 Th. Mann, Gesammelte Werke, Bd. X, Berl., 1955, S. 295.
2A. Schopenhauer, Sämtliche Werke. Bd. Τ und II, hrsg. von E. Grise-
bach, Lpz., 1905, S. 354.
351
сознаем себя уже не индивидуумом, а чистым безвольным
субъектом познания; во-вторых, тот, что мы познаем в предмете не
отдельную вещь, а идею,— что возможно лишь постольку, поскольку
наше созерцание предмета не подчинено закону основания, не
следует за отношением предмета к чему-нибудь вне его самого (такое
отношение, в конце концов, всегда связано с отношениями к нашей
воле), а покоится на самом объекте. Ибо идея и чистый субъект
познания, как необходимые коррелаты, всегда вступают в сознание
одновременно, и при этом вступлении сейчас же исчезает и всякое
временное различие, так как и эта идея и этот субъект совершенно
чужды закону основания во всех его видах и лежат вне
устанавливаемых им отношений,— подобно радуге и солнцу, которые
непричастны вечному движению и смене падающих капель. Поэтому если
я смотрю на дерево глазами художника и, следовательно, познаю
не его, а его идею, то безразлично, стоит ли передо мной именно
это дерево или же его за тысячу лет расцветший предок; и так же
безразлично, является ли зритель именно этим или же
каким-нибудь другим, каким-либо и где-либо жившим* индивидуумом: вместе
с законом основания исчезли отдельная вещь и познающий
индивидуум, и не осталось ничего, кроме идеи и чистого субъекта
познания, которые вместе составляют адекватную объективность воли
на данной ступени. И не только от времени, но и от пространства
отрешается идея: ибо не предносящийся мне пространственный
образ, а его выражение, чистый смысл, его сокровенная сущность,
которая раскрывается предо мной и меня пленяет,— вот что,
собственно, есть идея и что может оставаться совершенно тем же, как бы ни
было велико различие пространственных отношений образа.
И вот, так как, с одной стороны, всякая наличная вещь может
быть рассматриваема чисто объективно и вне всяких отношений,
так как, далее, с другой стороны, в каждой вещи проявляется воля
на известной ступени своей объективности и вещь поэтому может
служить выражением идеи, то всякая вещь прекрасна. То, что и
самое незначительное может быть предметом чисто объективного и
безвольного созерцания и тем свидетельствует о своей красоте,
доказывают уже упомянутые в такой связи натюрморты нидерландцев.
Прекраснее же одно другого бывает тем, что облегчает чисто
объективное созерцание, идет ему навстречу, даже как бы принуждает
к нему — и тогда мы называем такую вещь прекрасной в высокой
степени. Эта особая красота предмета состоит отчасти в том, что он,
как отдельная вещь, весьма отчетливым и ясно определенным,
безусловно значительным соотношением своих частей ясно
выражает идею своего рода и соединенной в нем, предмете, полнотой
всех возможных для этого рода проявлений совершенно раскрывает
352
идею последнего, так что крайне облегчает зрителю переход от
отдельной вещи к идее и этим самым легко вызывает состояние
чистой созерцательности; отчасти же преимущество особенной красоты
объекта заключается в том, что самая идея, которая нас пленяет
в нем, служит высокой ступенью объектности воли и потому крайне
выразительна и содержательна. Вот почему человек прекрасен
преимущественно перед всем другим, и раскрытие его существа
составляет высшую цель искусства. Человеческий облик и человеческое
выражение — самый значительный объект изобразительного
искусства, как человеческие действия — самый значительный объект
поэзии.
§ 42. [...] Познание прекрасного всегда предполагает чисто
познающий субъект и познаваемую идею в качестве объекта — вместе
и нераздельно.
§ 48. [...] Великая несправедливость по отношению к
превосходным живописцам нидерландской школы — ценить только их
технические способности, а в остальном смотреть на них свысока на том
основании, что они по большей части изображают предметы
обыденной жизни, между тем как значительными считаются только
события мировой или библейской истории. Следовало бы сначала
подумать о том, что внутренняя значительность какого-нибудь действия
совершенно отлична от внешней и обе часто расходятся между собой.
Внешняя значительность — это важность действия по отношению
к результатам его для реального мира и в мире: то есть
мерилом здесь служит закон основания. Внутренняя значительность —
это глубина прозрения в идею человечества, она раскрывается тем,
что на свет выходят редко проявляющиеся стороны этой идеи, а
последнее происходит благодаря тому, что определенно и ясно
выраженные индивидуальности в силу целесообразного сочетания
обстоятельств развивают свои характерные черты. [...] Какая-нибудь сцена
из повседневной жизни может иметь глубокий внутренний смысл,
если в ней в ярком и полном освещений проявляются в самых
сокровенных изгибах человеческие индивидуумы, человеческие поступки
и желания.
§ 49. [...] Объект искусства, изображение которого есть цель
художника и познание которого должно поэтому предшествовать
творению как его зародыш и источник,— этот объект есть идея
(в смысле Платона) и решительно не что иное: не отдельная вещь,
предмет обычного восприятия, и не понятие, объект разумного
мышления и науки. [...]
Понятие отвлеченно, дискурсивно, внутри своей сферы
совершенно неопределенно, определенно только в своих границах,
доступно и понятно для каждого, кто только обладает разумом, может
353
быть передаваемо словами без дальнейшего посредничества, вполне
исчерпывается своим определением. Напротив, идея, которую можно
вполне определить как адекватную представительницу понятия,
всегда наглядна и, хотя заступает место бесконечного множества
отдельных вещей, безусловно определенна: никогда не познается она
индивидуумом как таковым, а только тем, кто над всяким хотением
и всякой индивидуальностью поднялся до чистого субъекта
познания; таким образом, она доступна только гению и затем тому, что
в подъеме своей чистой познавательной силы, вызываемом большей
частью созданиями гения, сам обрел гениальное настроение духа;
поэтому она непередаваема всецело, а лишь условно, ибо
постигнутая и в художественном творении воспроизведенная идея действует
на каждого только в соответствии с его собственным
интеллектуальным достоинством. [...]
Идея — это благодаря временной и пространственной форме
нашего интуитивного восприятия распавшееся на множественность
единство; наоборот, понятие — это единство, посредством абстракции
нашего разума опять восстановленное из множественности:
последнее может быть названо unitas post rem, между тем как первая —
unitas ante rem 1. Наконец, разницу между понятием и идеей можно
еще выразить сравнением: понятие сходно с безжизненным
футляром, в котором, конечно, друг подле друга лежит то, что в него
вложено, но из которого зато нельзя и вынуть (посредством
аналитических суждений) больше того, что в него вложили (путем
синтетической рефлексии) ; идея же, наоборот, развивает в том, кто ее
воспринял, такие представления, которые сравнительно с
одноименным ей понятием новы: она подобна живому, развивающемуся,
одаренному производительной силой организму, который создал то, что
не лежало в нем готовым.
В силу всего сказанного понятие, как оно ни полезно для жизни
и как оно ни приемлемо, необходимо и плодотворно для науки,
для искусства вовеки бесплодно. Постигнутая идея — вот истинный
и единственный источник всякого настоящего произведения искусства.
В своей могучей первородности она почерпается только из самой
жизни, из природы, из мира, и почерпает ее только истинный гений
или человек, на мгновение вдохновленный до гениальности. Только из
этого непосредственного восприятия рождаются истинные
произведения, носящие в себе бессмертную жизнь. Именно потому, что идея
всегда наглядна, художник не сознает in abstracto своего замысла
и цели своего произведения,— не понятие, а идея предносится
ему; поэтому он не может дать отчета в своих действиях — он
1 — единство после вещи; единство до вещи (латин.).
354
творит, как выражаются люди, одним чувством и бессознательно, даже
инстинктивно.
§ 50. Если, таким образом, целью всякого искусства является
передача постигнутой идеи, которая благодаря этому посредничеству
духа художника, где она очищается и изолируется от всего
чужеродного, становится доступной и тому, кто имеет более слабую
восприимчивость и совсем не одарен продуктивностью; если, далее,
непозволительно исходить в искусстве из понятия, то мы не можем
одобрить того, чтобы произведение искусства намеренно и
сознательно предназначалось для выражения понятия,— а так это бывает
в аллегории. Последняя — художественное произведение, которое
означает нечто иное сравнительно с тем, что оно изображает. Между
тем все наглядное, а следовательно, и идея, выражает себя
непосредственно и сполна и не требует чего-нибудь другого, что бы его
разъясняло. Отсюда то, что требует себе уяснения и представления
в чем-нибудь совершенно другом, будучи не в состоянии само
достигнуть наглядности,— это непременно понятие. Аллегория поэтому
всегда желает выразить понятие, и дух зрителя отвлекается от
изображенного наглядного представления к совершенно иному,
абстрактному, не наглядному, которое лежит вне данного художественного
произведения; здесь, таким образом, картина или статуя должны
выполнить то, что гораздо лучше выполняют буквы.
[...] Но к поэзии аллегория находится совсем в ином отношении,
чем к изобразительному искусству: вполне неуместная в последнем,
она допустима и целесообразна в первой. Ибо в изобразительном
искусстве она ведет от наглядного данного, этого подлинного объекта
всякого искусства, к отвлеченной мысли; в поэзии же отношение
обратное: здесь непосредственно данное в словах — понятие, и
ближайшая цель везде заключается в том, чтобы от него привести
к наглядному образу, который должна начертать себе фантазия
слушателя.
§ 51. [...] Поэт схватывает идею, сущность человечества, вне
всяких отношений, вне всякого времени,— адекватную объективность
вещи в себе на ее высшей ступени. [...] Истинное раскрытие идеи
оказывается гораздо вернее и отчетливее в поэзии, чем в истории,
и потому, как ни парадоксально это звучит, гораздо больше
подлинной, настоящей, внутренней правды следует признать за первой,
чем за последней.
[...] Настоящий поэт в лирической поэзии отражает внутреннюю
сущность всего человечества, и все, что миллионы людей — бывших,
ныне живущих и будущих — чувствовали и будут чувствовать в
одинаковых, ибо всегда возвращающихся ситуациях, все это найдет
в ней соответствующее выражение. Поскольку эти ситуации,
355
постоянно повторяясь, как и самое человечество, оказываются
вечными и всегда вызывают одни и те же чувства, лирические
произведения настоящих поэтов на тысячелетия сохраняют правоту,
действенность и свежесть. Ведь вообще поэт — это человек как таковой:
все, что когда-либо возбуждало человеческое сердце, что раскрывало
человеческую природу в каком бы то ни было положении, что живет
и растет в человеческой груди,— вот в чем его тема и его материал,
как наравне с этим и вся остальная природа. [...] Поэтому никто не
смеет предписывать поэту быть благородным и возвышенным,
нравственным, благочестивым, христианским, быть тем или этим; и еще
менее — упрекать его, что он такой, а не иной. Поэт — зеркало
человечества и в сознание человечества он приводит все то, что
человечество чувствует и делает.
§ 52. [...] Адекватной объективацией воли служат идеи
(платоновские), вызвать познание этих идей путем изображения отдельных
вещей (ибо таковыми все же являются все художественные
произведения, что возможно лишь при соответственной перемене в
познающем субъекте,— вот цель всех других искусств [кроме музыки.—
Прим. перев]. Все они, таким образом, объективируют волю лишь
косвенно, именно при посредстве идей, и так как наш мир не что
иное, как проявление идей во множественности посредством
вступления в principium individuationis (такова форма познания,
возможная для индивидуума, как такового), то музыка, не касаясь идей,
будучи совершенно независима и от мира явлений и вообще
игнорируя его, могла бы до известной степени существовать, даже если бы
мира вовсе не было,— чего о других искусствах сказать нельзя.
Музыка — это столь же непосредственная объективация и отпечаток
всей воли, как и сам мир, как и сами идеи, умноженное проявление
которых составляет мир отдельных вещей. Музыка, следовательно»
в противоположность другим искусствам, вовсе не отпечаток идей,
а отпечаток самой воли, объектностью которой служат и идеи, вот
почему действие музыки настолько мощнее и глубже действия
других искусств: ведь последние говорят только о тени, она же —
о существе.
Музыка никогда не высказывает явление, но только внутреннее
существо всякого явления, его «в себе», самоё волю. Она поэтому не
выражает ту или иную особую и определенную радость, печаль, боль,
ужас, восторг, веселость, спокойствие души, но всегда радость как
таковую, печаль как таковую, боль как таковую, ужас как таковой,
также и восторг, веселость, спокойствие, как бы in abstracto, их
существо без всякой придачи, то есть и без их причин. Тем не менее
мы ее понимаем вполне и в этой отвлеченной квинтэссенции. Оттого
и случается, что наше воображение так легко возбуждается ею
356
я потому стремится оформить этот мир духов, обращающийся к нам,
невидимый и, однако, столь жизненный, одеть его в плоть и кровь,
то есть воплотить его в некоторой аналогии. В этом —
происхождение пения на слова и, наконец, и оперы, текст которой никогда не
должен был бы оставлять подчиненное положение, не превращая
себя в главное, а музыку в средство своего выражения, что является
огромной ошибкой и ужасным извращением. Ибо везде музыка
выражает квинтэссенцию самой жизни и ее процессов, но никогда эти
последние, различия которых потому никак и не воздействуют на
нее. Поэтому как раз та общность, которая свойственна
исключительно ей, сочетаемая с точнейшей определенностью, придает ей ту
высочайшую ценность, которой она обладает, будучи панацеей всех
наших страданий. Поэтому если музыка слишком стремится
примкнуть к словам и приспособиться к ситуациям, то она пытается
говорить на чуждом ей языке. Этого порока никто не избег в такой
степени, как Россини; оттого его музыка столь чисто и ясно говорит
на своем собственном языке, что она вовсе не нуждается в словах и
сохраняет свое действие, и будучи исполнена одними инструментами.
В силу всего этого мир явлений, или природу, и музыку мы
можем рассматривать как два различных выражения одной и той же
вещи, которая сама, таким образом, явится посредствующим звеном
аналогии между ними,— звеном, познание которого необходимо для
того, чтобы усмотреть эту аналогию. Поэтому музыка,
рассматриваемая как выражение мира, представляет собой в высшей степени
общий язык, который даже к общности понятий относится почти
так, как они — к отдельным вещам. Но ее общность вовсе не пустая
общность абстракции, а имеет совершенно иной характер и всегда
связана с ясной определенностью. Она в этом отношении подобна
геометрическим фигурам и числам, которые, как общие формы всех
возможных объектов опыта и ко всем a priori применимые, тем не
менее не абстрактны, а наглядны и всегда определенны. Все
возможные стремления, волнения и проявления воли, все сокровенные
движения человека, которые разум влагает в широкое отрицательное
понятие чувства,— все это поддается выражению в бесконечном
множестве возможных мелодий; но выражается все это непременно
в общности одной только формы, без содержания, непременно как
вещи в себе, а не в явлении,— как бы в сокровенной душе своей, без
тела. Из этого интимного отношения, которое связывает музыку
с истинной сущностью всех вещей, объясняется и тот факт, что если
при какой-нибудь сцене, поступке, событии, известной ситуации
прозвучит соответственная музыка, то она как бы раскрывает нам их
таинственный смысл и является их верным и лучшим комментарием,
и кто всецело отдается впечатлению симфонии, тому кажется, что
357
перед ним проходят всевозможные события жизни и мира,— но,
очнувшись, он не может указать какое бы то ни было сходство между
этой игрой и тем, что ему предносилось в воображении. Ибо музыка,
как сказано, тем отличается от всех прочих искусств, что она не
есть отражение явления или, вернее, адекватной объективности
воли, но есть непосредственно отражение самой воли и,
следовательно, ко всякому физическому в этом мире представляет собой
метафизическое [соответствие], ко всякому явлению — вещь в себе.
Мир можно назвать как воплощенной музыкой, так и воплощенной
волей, этим и объясняется, отчего музыка непосредственно повышает
значение всякого живописного произведения и даже всякой сцены из
действительной жизни и мира,— и, конечно, тем сильнее, чем
большую аналогию ее мелодия составляет с внутренним духом
конкретного явления. В этом причина того, что стихотворение можно
положить на музыку как пение, а изображение жестами как пантомиму
или то и другое как оперу. Такие отдельные картины человеческой
жизни, переложенные на общий язык музыки, никогда не бывают
связаны с ней обязательной необходимостью или соответствием; они
находятся к ней только в отношении произвольно выбранного
примера к общему понятию; они представляют с определенностью,
присущей действительности, то, что музыка выражает в общности
чистой формы, ибо мелодии до известной степени являются, подобно
общим понятиям, абстракцией действительности. Последняя, то есть
мир отдельных вещей, доставляет наглядное, частное и
индивидуальное, отдельный случай и для общности понятий и для общности
мелодий; но эти две общности в известном отношении противоположны
друг другу, потому что понятия содержат в себе только формы,
отвлеченные из предварительного созерцания, как бы снятую внешнюю
оболочку вещей, то есть представляют, собственно, абстракции, тогда
как музыка дает предшествующее всякой форме сокровенное зерно
или сердцевину вещей. Это отношение можно было бы очень хорошо
выразить на языке схоластов: понятия суть universalia post rem,
музыка дает universalia ante геш, а действительность — universalia
in re *. [...] Когда [...] композитор сумел высказать на общем языке
музыки те движения воли, которые составляют зерно данного
события, тогда мелодия песни, музыка оперы очень выразительны. Но
эта найденная композитором аналогия должна вытекать
бессознательно для его разума из непосредственного познания сущности
мира и не должна быть сознательно преднамеренным подражанием
с помощью понятий.
'* — универсалии после вещей; универсалии до вещей; универсалии в
вещах (латин.).
358
[...] Если во всем этом оцисании музыки я старался показать, что
она в высшей степени общим языком выражает внутреннюю
сущность мира, мир «в себе», который мы по самому отчетливому из его
проявлений мыслим в понятии воли, и выражает его в однородном
материале — в одних только звуках, притом с величайшей точностью
и правдой; если, далее, согласно моему взгляду и замыслу,
философия есть не что иное, как полное и верное воспроизведение и
выражение сущности мира в очень общих понятиях, ибо лишь в таких
понятиях возможен всеобъемлющий и всесторонний обзор этой
сущности, то читатель, следивший за мной и разделяющий мой образ
мыслей, не увидит значительного парадокса в следующих словах;
если бы удалось найти совершенно правильное, полное и
простирающееся до мельчайших деталей объяснение музыки, то есть если бы
удалось обстоятельно воспроизвести в понятиях то, что она собой
выражает, то это вместе с тем оказалось бы достаточным
воспроизведением и объяснением мира в понятиях или было бы с последним
вполне согласно, то есть было бы истинной философией; и,
следовательно, приведенное нами выше изречение Лейбница!, в узком
смысле совершенно правильное, мы в духе нашего более глубокого
воззрения на музыку могли бы пародировать так: Musica est exerci-
tium metaphysices occultum nescientis se philosophari animi 2.
А. Шопенгауэр, Мир как воля и
представление, т. I, Перевод Ю. А. Айхенвальда.
Редакция перевода Ал. В. Михайлова по изд.: A.
Schopenhauer, Sämtliche Werke, Bd. I und II,
hrsg. von E. Grisebach, Lpz., 1905.
ВЕБЕР
1786-1826
Романтизм в немецкой музыке находится в сложных отношениях с
литературным романтизмом: они и чисто хронологически и по существу не совсем
совпадают. Гофман, создавший первую романтическую оперу — «Ундину»
(1813), в ней проявил себя совсем иначе, чем автор известных всем
литературных произведений. Романтизм начинает говорить в полную силу в операх
Карла Марии фон Вебера («Прециоза», 1821; «Волшебный стрелок», 1821; «Эв-
рианта», 1823; «Оберон», 1826), то есть тогда, когда романтизм в литературе
1 — скрытое арифметическое упражнение души, не умеющей вычислять
себя (латин.).
2 —музыка есть открытое метафизическое упражнение души, не
умеющей философствовать (латин.).
359
начинает неукоснительно разлагаться. Образы, выцветшие в литературе,
обретают новую жизнь, соединяясь с музыкой; они вместе с тем обретают и
поразительную долговечность — образный стиль веберовского шедевра —
«Волшебного стрелка», углубляясь и утрачивая первоначальную чистоту, живет как
образец почти целый век, переживая Вагнера и захватывая Рихарда Штрауса
и Ганса Пфитцнера. Этот круг образов живет полной жизнью и тогда, когда
в литературе господствуют реализм и натурализм, но только внешне
противоречит им — те проблемы, которые литература ставит более или менее прямо,
находят в немецкой опере символический язык своего выражения. Символы
добра и зла, тьмы и света, непорочности и колдовства, по-разному выявляясь,
вбирают в себя все многообразие современной проблематики, и в этом причина
их долголетия. «Волшебному стрелку» свойственна наименьшая
метафизическая насыщенность и большая близость народным представлениям — здесь Ве-
бер соприкасается с литературным романтизмом, интересовавшимся народной
поэзией и всем народным. Рихард Вагнер в 1841 году пишет из Парижа: «Как
я люблю немецкий народ, который любит «Волшебного стрелка», который еще
теперь верит в чудеса наивнейшей саги, который еще теперь способен
ощутить ту сладостную, таинственную дрожь, что в юности заставляла трепетать
его сердце! О мечты о лесе, сумерках, о звездах, о башенных часах, бьющих
семь!» *
Романтизм в музыке означает новую эпоху в эстетическом восприятии
действительности. Произведение искусства представляется Веберу
индивидуальным и неповторимым целостным единством, где действие продумано и
последовательно развивается, где музыка и слово существуют друг для друга.
Довести до возможных пределов выразительные возможности музыки — задача
всей романтической оперы. Вебер решает эту задачу более реально, чем
Вагнер, без его метафизической отягощенности, выражая с не меньшей силой
идеал синтеза искусства. В тяготении к такому синтезу сказались
объективные тенденции эпохи, но субъективно в основе этого синтеза у Вебера
лежит синэстетическое переживание действительности как произведения
музыкального искусства. Так отрывочные фрагменты романа «Жизнь музыканта»
с их тонкими наблюдениями оказываются прекрасным источником для
понимания эстетических идей того времени.
ИЗ РОМАНА «ЖИЗНЬ МУЗЫКАНТА»
[...] Композитор, который заимствует свой материал у
инструмента, почти всегда нищ духом либо же близок к тому, чтобы
предать свой дух низменному и пошлому. Ибо эти руки, проклятые
пальцы пианиста, приобретшие от вечных упражнений некую само-
1 R. Wagner, Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd. I, Lpz.,
Breitkopf und Härtel, o. J., S. 220.
360
стоятельность и собственное разумие, стали бессознательными
тиранами и тюремщиками творческих сил.
Они не сочиняют ничего нового, все новое неудобно для них.
Тайно и по-воровски, как это положено настоящим подмастерьям,
они из старых и давно удобных и привычных им кусочков
склеивают целые звуковые тела, которые выглядят как новые, а поскольку
эти последние звучат всегда весьма симпатично и приятно, то
подкупленный ими слух, как первая судебная инстанция, принимает
их с похвалой.
Но насколько иначе создает свои творения тот, у кого внутренний
слух является судьей вещей, которые одновременно сочиняются
и оцениваются. Это ухо души обладает чудесной способностью
постигать звуковые образы, оно — божественная тайна, которая,
принадлежа одной музыке, тем самым остается недоступной
непосвященному.
Ибо оно одновременно слышит целые периоды и даже целые
произведения, поначалу не заботясь о мелких неровностях и
пробелах и оставляя их сглаживание и заполнение позднейшим
размышлениям, когда будет время рассмотреть целое во всех его частях и по
необходимости подправить его.
И это ухо требует целого, оно хочет сразу видеть всю звуковую
фигуру, с тем чтобы и другой запомнил потом ее и, однажды увидев,
отыскал среди хаоса. [...]
Чудесным, удивительным образом всегда действует на меня
природа, совсем иначе, чем на других.
То, к чему в их единении склоняются все твои силы — назови
это талантом, гением, призванием,— словно магический круг
охватывает твое созерцание. Не только твоему телесному оку поставлены
пределы, но и духовному взору.
Эти пределы ты можешь изменить, если изменишь точку зрения,
ты можешь раздвинуть их, если будешь идти вперед, но тебе не дано
перейти через них.
Да, не только все тела получают определенный оттенок, невольно
выделяясь на фоне твоей жизни и твоих чувств; а поскольку я
сейчас говорю о звуках, то не скрою, что у меня все приспосабливается
к музыкальным формам.
Созерцание какой-нибудь местности означает для меня
исполнение музыкальной пьесы. Я расслышу целое за деталями, на которых
не останавливаюсь, одним словом, пейзаж предстает предо мной
в движении — во времени, как это ни странно. Он для меня
наслаждение последовательностью. В этом и большое удовольствие и
большое горе. Радость, поскольку мне никогда не бывает известно, где
гора, где дерево, где дом, тем более уж — как называется то или это,
361
так что я каждый раз присутствую при новом исполнении. Но горе,
когда я путешествую. Тогда в моей душе начинается великое
смущение — все скачет и перемешивается перед глазами. Как скользят,
перебиваются и перепутываются в моей душе все идеи и
представления! Если я стою на месте и уверенно смотрю вдаль, то эта
картина всегда вызывает подобный ей музыкальный образ из
родственного мира духов, населяющих мое воображение, такой, что он может
и понравиться мне и я удержу его в памяти, и обработаю. Но, боже,
какими невероятными скачками проносятся мимо меня все траурные
марши, рондо, фуриозо и пасторали, когда природа проезжает мимо
меня. Я все больше затихаю и замолкаю, отгоняя живое трепетание
души. Если я и не отвожу взора от прекрасного блеска и красоты
природы, то все равно мне остается только пестрая игра красок,
мои мысли удаляются прочь от всего, что связано с музыкой,
обычная жизнь с ее повседневными делами выступает вперед, я
вспоминаю о прошлом, мечтаю о будущем,— горе тому, кто, особенно в
первое время поездки, ожидает встретить во мне разговорчивого
соседа; его ожидания будут обмануты и в конце концов и мои
собственные: поскольку мой дух не порождает ничего, кроме мыльных
пузырей, поднимающихся в воздух и тут же лопающихся —
недостойных и того, чтобы вспоминать о них.
* * *
Как трудно творцу оперы бывает доказать, что он действительно
способен был создать такое большое построение, которое мы навеки
заключим в наши сердца, и что оно не составлено из одних только
проблесков гения, где одно нам понравится, а целое забудется.
В опере, как нигде больше, трудно избежать этого недостатка, и
потому в опере он встречается чаще всего. Здесь проходит водораздел
между оперой и драмой. Само собой разумеется, что я говорю об
опере такой, какой она представляется немцу. Художественное
произведение, завершенное в себе самом, где исчезают, растворяясь
друг в друге, доли и части родственных и вообще привлеченных
к действию искусств, где они, в некотором смысле погибая, образуют
новый мир. Обычно немногие понравившиеся места предрешают
успех целого. Редко случается, чтобы отдельные части,
понравившиеся в момент слушания, исчезали перед единым порывом чувства,
как это бывает — и как это должно быть — в финале; ибо сначала
нужно полюбить целое, а затем уже, познакомившись ближе, можно
любоваться красотой отдельных частей, из которых целое состоит.
Самая природа и самая внутренняя сущность оперы, составленной
из целых частей, образующих целое же, порождает эту трудность,
362
преодолеть которую удавалось только героям искусства. Каждое
музыкальное произведение, обладая подобающим ему строением,
благодаря этому предстает самостоятельным, органически
завершенным в себе существом — и, однако, будучи частью строения целого,
оно должно исчезнуть в созерцании целого; при этом оно должно
(особенно ансамбли) одновременно показываться разными сторонами
и так являть лик Януса — многообразный, но легко обозримый. Вот
в этом заключена большая, глубокая тайна музыки, тайна, которую
можно почувствовать, но нелегко выразить. Мерное волнение и
противоборствующие стихии гнева, любви, сладчайшей боли, где в
объятиях сливаются саламандры и сильфы, объединены здесь. Одним
словом, то, чем служит любовь людям, тем же музыка — искусствам
и людям, ибо она поистине сама любовь; самый чистый, самый
прозрачный язык страсти, передающий все ее оттенки всех ее видов
и содержащий только одну истину, понятную сразу тысячам людей,
как ни различны их чувства.
Эта правда музыкальной речи, в какой бы новой и необычной
форме она ни выражалась, в конце концов одерживает верх и
утверждает свои права.
Это достаточно подтверждает судьбы произведений искусств
самых различных эпох и самых различных жанров. Что могло бы
звучать более непривычно, чем творения Глюка в ту пору, когда
сладострастные потоки итальянской музыки наводнили и изнежили
души всех?
Теперь же, хотя и совсем по-другому, мы близки к тому, чтобы
погрязнуть в известных художественных заблуждениях.
Всесильные условия времени отдали нас во власть двух
крайностей — смерти и удовольствия. Подавленные ужасами войн,—
столкнувшись со всевозможной нуждой, люди стали искать
наслаждений в грубом возбуждении. Театр стал волшебным фонарем, где
зрители торопливо следят за беглой сменой сцен, всячески оберегая
себя от прекрасного и радостного беспокойства, приходящего с
подлинным художественным наслаждением, и довольствуются
дразнящими нервы остротами и мелодиями, если их чувства не
ослепляются бесцельными и бестолковыми чудесами сценической техники.
Привыкнув в жизни к ежедневным неожиданностям, и в театре они
поддаются только воздействию неожиданного и поразительного.
Следить за постепенным развитием страсти, за тонко и умело
подготавливаемой кульминацией считается утомительным, скучным, а
вследствие невнимания — непонятным.
Мах Maria von Weber, Carl Maria von
Weber. Ein Lebensbild, Bd. III, Lpz., 1866, S,
245—249; 263—265. Перевод Ал. В. Михайлова.
363
ШУМАН
1810-1856
Роберт Шуман — один из тех многогранно одаренных гениев
романтической эпохи, у которых музыкальный и литературный талант приводил к
обогащению музыки. Происходило это по-разному: или путем приближения к тому
идеалу синтеза искусств в форме музыкальной драмы, который Шумана никак
не затронул, или путем усиления выразительной стороны музыки, к чему
особенно тяготел Шуман. Эпоха Шумана — эпоха творческого эксперимента в
музыке: целью эксперимента было, однако, не обособление музыкального
произведения от произведений других искусств, а, напротив, чрезвычайное
расширение границ музыкального, причем эти границы становятся все менее
четкими. Из всех романтиков Шуман был наиболее склонен поддаться
воодушевляющей силе слова и стоящего за ним образа. Число произведений Шумана,
не связанных с образом, с программой, обозначенным настроением, весьма
незначительно. Это мир уже предначертанных образов, выявленных в сознании
музыканта, но только постоянно переносимых из сферы слова и понятия в
стихию музыки. В слове и в музыкальной интонации для романтика расчленено
нечто единое. Слово вызывает зрительный образ в движении, динамика
движения есть некий жест, требующий интуитивной интерпретации и находящий
выражение и расшифровку в музыкальном жесте-интонации. Эта синэстетиче-
ская связь понятия, зрительного образа и музыкального знака — интонации
есть отличительная черта процесса художественного творчества у романтиков.
Романтическое искусство не знает вполне строгого построения художественного
произведения, оно понимает музыку как изливающийся поток образов, хотя бы
и разумно регулируемый внутри. Музыкальное развитие, согласно Шуману,
походит «на свободное течение ручья, который то бурно бежит, то легко льется,
или на поток, который течет через леса, долины и горы, приветствует
деревни, города, замки, то стремится к свету, то избегает его» 1.
Мир раннего Шумана по преимуществу почерпнут из литературы, из Жан-
Поля, из Гофмана. Ранний Шуман и в музыке и в своих статьях расщепляет
своё «я» на два и даже на три полярных персонажа, вполне достойных фантазии
Жан-Поля (Флорестан, Евсебий, Раро). Литературность мысли Шумана
вызывает некоторую противоречивость его музыки, ищущей опоры вне себя, но и
оказывает на нее благотворное влияние, освобождая ее от груза старых
традиций и стандартов и направляя ее по новым путям. Ранние фортепьянные
циклы Шумана насыщены литературными ассоциациями, выдумками, в шутку
и всерьез, доходящими иной раз до немыслимой тогда условности («Сфинксы»
в «Карнавале»). Вдохновляясь словом, Шуман создает свои циклы песен на
слова Гейне, Эйхендорфа, Шамиссо, достигая в этом жанре синтеза искусств.
1 Цит. по кн.: Д. Житомирский, Роберт Шуман, М., 1964, стр. 262.
364
Новаторство раннего Шумана не знает границ —Шуман даже делит всех
композиторов на романтиков, современных и классиков, что, по его мнению,
соответствует делению политических партий на левые, центр и правые. Это
крайний и непримиримый радикализм. Своей матери Шуман пишет:
«Я считаю музыку облагороженным языком души; другие видят в ней один
шум или арифметический пример и соответственно с этим подходят к ней. Ты
верно пишешь: «Всякий человек должен стремиться к всеобщему, полезному»—
я добавлю еще — не к плоскому. Поднимаясь, можно достичь верхней ступени
лестницы. Мне не хотелось бы даже, чтобы меня понимали все»1. С 1834 по
1844 год Шуман редактирует основанный им музыкальный журнал — «Нейе
цейтшрифт фюр музик», выходящий и поныне,—где борется за новое
искусство. Незадолго до смерти (в 1853 году) Шуман помещает здесь статью, в
которой открывает для мира молодого Брамса, проницательно усматривая
новаторство в его творчестве.
Понимая, что музыка не сводится к литературному образу, Шуман всегда
стремился выяснить, в чем состоит самая сущность музыки. Вопрос о роли
образа, степени его участия в музыке стоит в центре огромного разбора
«Фантастической симфонии» Берлиоза, написанного в 1835 году. Словесный образ
рассматривается здесь как фактор и стимул творческого процесса, а не как
«содержание» музыки.
Ко времени Шумана сфера романтической образности становится
отчетливой: стабилизируются определенные типы ассоциативных связей;
определенные комплексы музыкально-поэтических образов связываются с
определенными музыкальными приемами и тональностями; последние наделяются своим
особым «этосом», который не поддается словесному объяснению, потому что
речь идет о специфических элементах музыкального языка. Рассуждения
Шумана о характере тональностей, относящиеся к 1835 году, интересны тем, что
показывают типичные для романтизма синэстетические представления в их
непосредственном виде.
СИМФОНИЯ БЕРЛИОЗА
Тот многообразный материал, который эта симфония
предоставляет для размышления, может со временем слишком запутаться,
поэтому я предпочитаю разобрать ее по частям (хотя последние
часто нуждаются друг в друге для объяснения), с четырех точек
зрения, с которых можно рассматривать музыкальное произведение,
а именно, со стороны формы (целого, отдельных частей, периода,
фразы), музыкальной композиции (гармония, мелодия,
голосоведение, тематическая разработка, стиль), особой идеи, которую хотел
1 Письмо от 9 августа 1832 года.—Jugendbriefe von R. Schumann, 3. Aufl.,
Lpz., 1898, S. 189.
365
воплотить художник, и духа, который управляет формой,
материалом и идеей.
Форма есть сосуд для духа. Большие объемы требуют для своего
заполнения сильнейшего духа. Словом «симфония» до сих пор в
инструментальной музыке обозначают наибольшие пропорции.
Мы привыкли по имени вещи судить о самой вещи; мы
предъявляем одни требования к «фантазии» и другие к «сонате».
Для второразрядных талантов довольно, если они владеют
традиционной формой; что касается перворазрядных, то мы полагаем
справедливым, если они расширяют ее. Только гений вполне
свободен.
После Девятой симфонии Бетховена, самого крупного
инструментального произведения изо всех существующих, казалось, что
мера возможного исчерпана. Гигантская идея потребовала
гигантского тела, бог — целого мира для деятельности. Но у искусства есть
границы. Аполлон Бельведерский, будь он на несколько вершков
выше, оскорбил бы вкус. Позднейшие сочинители симфоний
заметили это, и некоторые из них даже вернулись к удобным формам
Гайдна и Моцарта. [...]
Берлиоз в первую очередь писал для своих французов, которым
мало импонирует неземная скромность. Я могу вообразить, как они
с программой в руках аплодируют своему соотечественнику,
которому все так хорошо удалось изобразить; музыка сама по себе им
неинтересна. Способна ли она вызвать в душе слушателя,
незнакомого с замыслом композитора, подобные же образы, я не могу
судить, потому что читал программу перед концертом. Если глазу уже
указано его место, то ухо больше не судит самостоятельно. Но если
спросить, способна ли музыка на то, чего от нее требует Берлиоз
в своей симфонии, то можно попробовать подбирать к ней иные
и даже совершенно противоположные образы. В начале программа
отняла у меня всякую способность к наслаждению и лишила всякой
перспективы. Но когда собственная фантазия пробудилась, а
программа отошла на задний план, то я нашел не только все, что было
в ней, но и гораздо больше и почти повсюду жизненность и теплоту.
Что же вообще касается сложного вопроса о том, как далеко может
следовать инструментальная музыка в изображении мыслей и
ситуаций, то здесь многие проявляют чрезмерную робость. Конечно,
ошибаются те, кто думает, будто композитор берется за перо и
бумагу с жалким намерением выразить, нарисовать или описать то
и се. Однако и случайные влияния и внешние впечатления нельзя
оценивать слишком низко. Часто наряду с музыкальной фантазией
бессознательно проявляет себя и идея, наряду с ухом — глаз, и этот
последний, всегда активный орган, среди всех звучаний устанавли-
366
вает определенные очертания, которые по мере сочинения музыки
приобретают ясную форму. Чем больше элементов, родственных
музыке, несут в себе мысли, тем более поэтическое и пластическое
выражение приобретает сочинение, и вообще — чем фантастичнее,
чем острее музыкант видит мир, тем сильнее его произведения будут
воздействовать на нас. Почему не предположить, что мысль о
бессмертии могла посетить Бетховена посреди его мечтаний? Или что
память павшего героя могла воодушевить его на создание нового
произведения? А кого-то другого — воспоминание счастливых дней?
Будем ли мы неблагодарны Шекспиру за то, что он вызвал в душе
юного музыканта произведение, достойное его имени? Будем ли мы
неблагодарны природе, у которой заимствуем красоту и
возвышенность для своих произведений? Италия, Альпы, картина моря,
пробуждение весны — разве музыка не рассказала нам обо всем этом?
И даже более мелкие и детальные образы могут придать музыке
такую определенность, такую увлекательность, что придется
удивиться тому, как она может выразить такие черты. Так, один
композитор рассказал мне, что во время сочинения его беспрестанно
преследовал образ бабочки, плывущей на листочке по ручью,— это
придало его маленькой пьесе нежность и наивность — такую, какая
может быть только у какого-нибудь образа в действительности.
Мастером такого рода тонкой жанровой живописи был, как известно,
Франц Шуберт, и я не могу не вспомнить, как один из моих друзей
после исполнения шубертовского марша на вопрос, не
представлялись ли ему какие-нибудь совсем конкретные образы, ответил:
«Верно, я был в Севилье, но только больше ста лет тому назад, среди
прогуливающихся донов и донн — со шлейфами, в туфлях с
застежками, со шпагами и пр.». Удивительно, что наши представления
совпали вполне, даже что касается города. [...]
Поэтому оставим в стороне вопрос о том, много ли в программе
берлиозовской симфонии поэтических моментов. Главное в том,
представляет ли музыка нечто и без текста и объяснений, и особенно —
присуща ли ей духовность. [...]
Если выступать против всего направления века, который dies irae
терпит в качестве бурлеска, то нужно повторить все, что долгие годы
говорилось и писалось против Байрона, Гейне, Виктора Гюго, Граббе
и им подобных. Поэзия на несколько мгновений вечности
выступила в маске иронии, чтобы не показать свое искаженное болью
лицо; может быть, однажды эту маску снимет дружественная рука
гения. [...]
R. Schumann, Gesammelte Schriften über
Musik und Musiker. Eine Auswahl von H.
Schulze, Lpz., Reclam, (1956), S. 58, 67—70. Перевод
Ал. В. Михайлова.
367
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОНАЛЬНОСТЕЙ
Высказывались и за и против; истина, как всегда,— посередине.
Нельзя сказать и того, что то или иное чувство, если оно должно
быть точно выражено, требует перевода в музыку посредством
именно этой и никакой другой тональности (как если бы, например,
теоретически предписывалось, чтобы гнев выражался в
до-диез-миноре), но нельзя согласиться и с Цельтером, когда он утверждает,
что в каждой тональности можно выразить все. Уже в прошлом
столетии начался анализ — поэт К. Д. Шубарт был тем, кто полагал,
что открыл, как отдельные чувства выражаются определенными
тональностями. Хотя в его характеристике много тонкого и поэтичного,
он, во-первых, не заметил главного признака различия — минора
и мажора, во-вторых же, он пользовался слишком мелкими и
детальными эпитетами, что было бы хорошо, если бы только было верно.
Так, ми-минор он называет девушкой в белом платье с розовым
бантом на груди; в соль-миноре он находит недовольство,
неприятное ощущение, преследование неудачного плана, угрюмое
покусывание губ. А теперь возьмем для примера соль-минорную симфонию
Моцарта, эту словно эллинскую воздушную грацию, или
соль-минорный концерт Мошелеса и сравним! Что транскрипция сочинения
из первоначальной тональности в другую приводит к изменению
впечатления, производимого им, и что отсюда следует различие
характера тональностей,— вне всякого сомнения. Сыграйте «Вальс
томления» г в ля-мажоре или «Хор девушек» 2 в си-мажоре! У новой
тональности будет что-то противное чувству, поскольку ведь обычное
настроение, которое вызывают эти пьесы, вынуждено будет
проявляться как бы в чужой среде. Процесс, приводящий композитора
к выбору той или иной основной тональности для выражения своих
впечатлений, так же необъясним, как и самое творчество гения,
который вместе с мыслью создает и форму — сосуд, ее заключающий.
Композитор совершенно непосредственно находит верное решение,
как и нужные краски,— без долгих размышлений. Но если
представить себе, что в различные эпохи за тональностями закреплялись
определенные стереотипные характеристики, то нужно было бы
сопоставить произведения, написанные в одной и той же тональности
и считающиеся классическими, и сравнить их преимущественное
настроение,— здесь для этого нет места. Различие мажора и минора
нужно признать с самого начала. Первое—это творческий,
мужественный принцип, второе — страдательный, женственный. Простейшие
1 Ф. Шуберта.
2 Из «Волшебного стрелка» Вебера.
368
чувства требуют более простых тональностей; более сложные
отыскивают более редкие, менее привычные для слуха. Поэтому
в замкнутой цепочке квинтового круга лучше всего можно видеть
восхождение и падение. Так называемый тритон, центр пути от
октавы к октаве, то есть фа-диез, кажется высшей точкой, острием,
от которого затем в бемольных тональностях вновь происходит спуск
к простому, неприукрашенному до-мажору.
Там же, стр. 75—77.
БИБЛИОГРАФИЯ
7. Тексты:
Müller Α., Kunstanschauung d. Frühromantik, hrsg. von P. Kluckhohn,
Lpz., Reclam, 1931, 317 S. (Deutsche Literatur. Reihe Romantik. Bd. 3).
Müller Α., Kunstanschauung d. Jüngeren Romantik, hrsg. von P.
Kluckhohn, Lpz., Reclam, 1934, 311 S. (Deutsche Literatur. Reihe Romantik. Bd.
12).
«Литературная теория немецкого романтизма». Документы. Под ред., со
вступит, ст. и коммент. Н. Я. Берковского. Пер. Т. И. Сильман и И. Я. Колу-
бовского, [Л.], Изд-во писателей, [1934], 335 стр.
«Немецкая романтическая повесть». Статья и коммент. Н. Я. Берковскогог
т. 1—2, М.—Л., «Academia», 1935.
Из содержания: т. 1. Шлегель Ф., стр. 421—433; Новалис, стр. 444—446;
Вакенродер, стр. 447—451; Тик, стр. 452—465; т. 2. Арним, стр. 439—446;
Брентано, стр. 447—453; Клейст, стр. 454—472.
II. Общая литература:
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., 1957, стр. 418—434.
Асмус В. Ф., Музыкальная эстетика немецкого романтизма.— «Советская
музыка», 1934, № 1, стр. 52—71.
Берковский Н. Я., Немецкий романтизм.— В кн.: «Немецкая
романтическая повесть», т. 1, М.—Л., 1935, стр. XXIII—XLVIII.
Берковский Н. Я., Эстетические позиции немецкого романтизма.—
В кн.: «Литературная теория немецкого романтизма», Л., 1934, стр. 5—
118.
Браудо Ε. М., Звукосозерцание немецких романтиков.— В кн.:
«Музыкальная летопись», кн. 1, Пг., 1922, стр. 79—88.
Браун Ф. А. и Жирмунский В. М., Немецкий романтизм и наука.—
В кн.: «История западной литературы», т. 3, гл. XII, М., 1914, стр. 478—
496.
Г а й м Р., Романтическая школа. Пер. с нем. В. Неведомского, М., Солда-
тенков, 1891, X, 774, XI стр.
Жирмунский В. М., Немецкий романтизм и современная мистика, Спб.,
Суворин, 1914, 207 стр.
Жирмунский В. М., Религиозное отречение в истории романтизма.
Материалы для характеристики Клеменса Брентано и гейдельбергских
романтиков, М., Сахаров, 1919, 208 стр.
13 История эстетики, т. III
369
A 1 1 e m a η η В., Ironie und Dichtung, Pfullingen, Neske, [1956], 237 S.
Apfelstedt H., Selbsterziehung und Selbstbildung in der deutschen
Frühromantik. F. Schlegel, Novalis, Wackenroder, Tieck, München, 1957, VI, 127 S.
Diss.
А у г а и 11 R., La genèse du romantisme allemand, t. 1—2, P., Aubier, [1961].
Bâta J., Einführung in die romantische Staatswissenschaft, 2. erw. Aufl.,
Jena, Fischer, 1931, XV, 294 S.
В a ta J., Gesellschaft und Staat im Spiegel deutscher Romantik, Jena, Fischer,
1924, VII, 664 S.
Baumgardt D., Franz von Baader und die philosophische Romantik, Halle,
Niemeyer, 1927, VI, 402 S.
Beckers G., Versuche zur dichterischen Schaffensweise deutscher
Romantiker (L. Tieck, F. Schlegel, Gl. Brentano), K0benhavn, Munksgaard, 1961,
48 S.
Béguin Α., L'âme romantique et le rêve. Essai sur le romantisme allemand
et la poésie française, t. 1—2, Marseille, Ed. des Cahiers du Sud, 1937.
Brinkmann H., Die Idee des Lebens in der deutschen Romantik,
Augsburg, Filser, 1926, 87 S.
Buck R., Rousseau und dié deutsche Romantik, Berl., Junker und Dünnhaupt,
1939, 146 S.
С г о с e Ε., Romantici tedeschi ed altri saggi, Napoli, Ed. seientifiche italiane,
1962, VIII, 287 p.
Deutschbein M., Das Wesen des Romantischen, Göthen, Schulze, 1921,
VII, 120 S.
D i 1 t h e y W., Das Erlebnis und die Dichtung, 3. Aufl., Lpz., Teubner, 1910,
VII, 476 S.
Eberhard Ph., Die politischen Anschauungen der christlich-deutschen
Tischgesellschaft. Untersuchungen z. Nationalgefühl Achim v. Arnims,
Baron de la Motte-Fouqués, Heinrichs von Kleist und A. Müllers, Erlangen,
Palm u. Enke, 1937, VIII, 99 S.
Ernst F., Die romantische Ironie, Zürich, 1915, XXVII, 130 S.
Fiese 1 E., Die Sprachphilosophie der deutschen Romantik, Tübingen, Mohr,
1927, 259 S.
Geschwind H., Die ethischen Neuerungen der Frühromantik, Bern, Francke,
1903, 135 S. (Untersuchungen zur neueren Sprach-und Literatur-Geschichte,
H. 2).
Gode von Aesch A. G., Natural science in German romanticism, Ν. Y.,
Columbia univ. press, 1941, XIII, 302 p.
Grimme Α., Vom Wesen der Romantik, Braunschweig, Westermann, 1947,
84 S.
Hartmann N., Die Philosophie des deutschen Idealismus, Bd. I, Berl.,
Greuter, 1923, VIII, 282 S.
Hedderich H. F., Die Gedanken der Romantik über Kirche und Staat,
Gütersloh, Bertelsman, 1941, 172 S.
Horwitz H., Das Ich-Problem der Romantik, München, Duncker und Hum-
blot, 1916, V, 111 S.
Huch R., Blütezeit der Romantik, 4. Aufl., Lpz., Haessel, 1911, VII, 391 S.
Η u с h R., Ausbreitung und Verfall der Romantik, 3. Aufl., Lpz., Haessel, 1912,
V, 369 S.
J о а с h i m i M., Die Weltanschauung der deutschen Romantik, Jena, Diderichs,
1905, VIII, 237 S.
К a in ζ F., Die Sprachaesthetik der jüngeren Romantik.— «Deutsche
Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte», 1938, Bd. 16,
H. 2, S. 219-257.
370
К i г с h θ г Ε., Philosophie der Romantik, Jena, Diderichs, 1906, V, 294 S.
Kluckhohn P., Das Ideengut der deutschen Romantik, 4. Aufl., Tübingen,
Niemeyer, 1961, 198 S.
Kluckhohn P., Persönlichkeit und Gemeinschaft. Studien zur Staatsauf-
faßung der deutschen Romantik, Halle, Niemeyer, 1925, V, 111 S.
Knittelmeyer H., Schelling und die deutsche romantische Schule,
München, Reinhardt, 1929, 482 S.
К о r f f Η. Α., Geist der Goethezeit, Bd. 3—4, Lpz., Koehler und Amelang,
1957.
Markwardt В., Geschichte der deutschen Poetik, Bd. III, Berl., Gruyeter,
1959, VI, 730 S.
Mason Ε. G., Deutsche und englische Romantik, Göttingen, 1959, 102 S.
M e h 1 i s G., Die deutsche Romantik, München, Rösl, 1922, 358 S.
Mittenzwei J., Die Sehnsucht des Romantikers nach Erlösung durch
Musik.— In: «Das Musikalische in der Literatur», Halle, 1962, S. 90—179
(Вакенродер, Тик, Ж.-П. Рихтер, Шлегель, Новалис, Брентано).
Moos Р., Die Philosophie der Musik. Von Kant bis E. von Hartmann, 2. Aufl.,
Stuttgart, Deutsche Verl.-Anstalt, 1922, 666 S.
Petersen J., Die Wesensbestimmung der deutschen Romantik, Lpz., Quelle
und Meyer, 1926, XI, 203 S.
Petruzelis N., L'estetica delPidealismo, 2 ed., Padova, Gedam, 1950,
334 p.
Poetzsch Α., Studien zur frühromantischen Politik und
Geschichtsauffassung, Lpz., Voigtländer, 1907, VIII, 113 S. (Beiträge zur Kultur und Uni-
versal-Geschichte, H. 3).
Pulver M., Romantische Ironie und romantische Komödie, Freiburg i. В.,
1912, 36 S., Diss...
R e i f f P. F., Die Ästhetik der deutschen Frühromantik., Urbana (Illinois),
univ. of Illinois press, 1946, 305 S.
Rose W., Men, myths and movement in German literature, N. Y., Allen a.
Unwin, 1931, 286 p.
Ruprecht Ε., Die romantische Bewegung, Bd. I. Der Aufbruch der
romantischen Bewegung, München, Leibniz-Verl., 1948, 541 S.
Schmitt G., Die politische Romantik, 2. Aufl., München, Duncker und
Humbio t, 1925, 234 S.
Schneider G., Studien zur deutschen Romantik, Lpz., Koehler und
Amelang, 1962, 266 S.
Schultz F., Klassik und Romantik der Deutschen, 3. Aufl., Stuttgart, Melt-
zer, 1952, VIII, 358 S.
S0rensen Β. Α., Symbol und Symbolismus in den ästhetischen Theorien
des 18. Jahrhunderts und der deutschen Romantik, Kopenhagen, Munks-
gaard, [1963], 392 S.
Strich F., Deutsche Klassik und Romantik oder Vollendung und
Unendlichkeit, 5. Aufl., Bern, Francke, 1962, 374 S.
Strohschneider-Kohrs I., Die romantische Ironie in Theorie und
Gestaltung, Tübingen, Nieraeyer, 1960, 446 S.
Τ e с с h i В., Romantici tedeschi, Milano-Napoli, Riccardi, 1959, VIII,
219 p.
Ulimann R. u. Gotthart H., Geschichte des Begriffes «Romantisch»
in Deutschland, Berl., Ebering, 1927, XIII, 378 S.
U η ç e r R., Herder, Novalis und Kleist. Studien über die Entwicklung des
Todesproblems im Denken und Dichten vom Sturm und Drang zur
Romantik, Frankfurt a/M., Diesterweg, 1922, VII, 188 S.
Walzel O., Deutsche Romantik, 5. Aufl., Bd. 1—2, Lpz., Teubner, 1923.
13*
371
Willoughby L. Α., The romantic movement in Germany, Oxford, univ.
press, 1930, 192 p.
Zurlinde.n L., Gedanken Platons in der deutschen Romantik, Lpz., Hae-
ssel, 1910, IX, 292 S. (Untersuchungen zur neueren Sprach- und Literatur-
Geschichte, hrsg. von 0. Walzel, H. 8).
III. Литература к отдельным авторам
Гельдерлин
Сочинения:
Hölderlin F., Sämtliche Werke und Briefe. Kritisch-historische Ausg.
von Franz-Zinker-Hagel, Bd. 1—5, Lpz., Insel-Verl., 1914—1926.
Hölderlin F., Sämtliche Werke, hrsg. von F. Beissner, Bd. 1—6,
Stuttgart, 1946—1961.
Гельдерлин Φ., Смерть Эмпедокла. Трагедия. Предисл. А. В.
Луначарского. Пер. Я. Голосовкера, М.—Л., «Academia», 1931, 134 стр.
Литература:
Берковский Н., Фридрих Гельдерлин.— «Вопросы литературы», 1962,
№ 1, стр. 130—164.
Голосовкер Я. 3., Поэтика и эстетика Гельдерлина.— «Вестник
истории мировой культуры», 1961, № 6, стр. 163—176.
Протасова К. С., «Смерть ампедокла» Ф. Гельдерлина.— «Ученые
записки Моск. гор. пед. ин-та», т. 52, каф. заруб, лит., вып. 2, 1956, стр. 3—31.
Протасова К. С, Фридрих Гельдерлин, его время, жизнь и творчество.—
«Ученые записки Моск. пед. ин-та им. В. И. Ленина», № 180, 1962, стр.
3—227.
D ö h 1 F., Hölderlin und die Musik.— «Neue Zeitschrift für Musik», 1962, № 12,
S. 543—548.
Heidegger M., Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, 2. Aufl.,
Frankfurt a/M., Klostermann, 1951, 144 S.
Hoffmeister I., Hölderlin und die Philosophie, 2. Aufl., Lpz., Meiner,
1944, III, 172 S.
К о h 1 e r M. und К e 1 1 e t a t Α., Hölderlin-Bibliographie. 1938—1950,
Stuttgart, Landes-Bibliothek, 1953, VII, 103 S.
Komma К. M., Hölderlin und die Musik.— In: «Hölderlin-Jahrbuch», 1953.
Seebass F., Hölderlin-Bibliographie, München, Stobbe, 1922, 102 S.
Шлегель Φ.
Сочинения:
Schlegel F., Sämtliche Werke, Neue 2. original-Gesamtausgabe, Bd. 1—
15, Wien, Klang, 1845—1846.
Schlegel F., Prosaische Jugendschriften, hrsg. von J. Minor, Bd. 1—2,
Wien, 1882.
Schlegel F., Kritische Schriften, München, Hanser, [1956], 517 S.
Литература:
Степун Φ., Трагедия творчества (Φ. Шлегель).—«Логос», 1910, кн. 1,
стр. 171—196.
Emmersleben Α., Die Antike in der romantischen Theorie. Die Gebrüder
Schlegel und die Antike, Berl., Ebering, 1937, 156 S.
I m 1 e F., Friedrich von Schlegels Entwicklung von Kant zu Katholizismus,
Padenborn, Schöningh, 1937, VI, 287 S.
372
Körner J., Romantiker und Klassiker. Die Brüder Schlegel in ihrer
Beziehungen zu Schiller und Goethe, Berl., Askanischer Verl., 1924, 239 S.
Mann 0., Der junge F. Schlegel, Berl., Junker und Dünnhaupt, 1932, XII,
204 S.
M e 111 e r W., Der junge F. Schlegel und die griechische Literatur, Zürich,
Atlantis Verl., 1955, 171 S.
Шлегель Α.
Сочинения:
Schlegel Α. W., Sämtliche Werke, hrsg. von E. Böcking, Bd. 1—12, Lpz.,
Weidmann, 1846—1847.
Schlegel Α., Kritische Schriften und Briefe, hrsg. von E. Lohrner,
Stuttgart, Kohlhammer, [1962], 280 S.
Литература:
Besenbeck Α., Kunstanschauung und Kunstlehre A. W. Schlegel, Berl.,
Ebering, 1930, 95 S.
Ρ ich to s Ν., Die Aesthetik Α. W. Schlegels in ihrer geschichtlichen
Entwicklung, Berl., Vogt, 1894, 108 S.
Schwill R., A. W. Schlegel über das Theater der Franzosen, München,
Kastner und Lossen, 1898, 31 S. Diss.
Вакенродер
Сочинения:
Wackenroder W. H., Werke und Briefe, hrsg. von F. v. der Leyen, Bd.
1—2, Jena, Diederichs, 1910.
Вакенродер В. Г., Об искусстве и художниках. Размышления
отшельника, любителя изящного, изд. Л. Тиком, М., Некрасов, 1914, 307, XIII стр.
Литература:
Apfelstedt H., Selbsterziehung und Selbstbildung in der deutschen
Frühromantik, F. Schlegel, Novalis, Wackenroder, Tieck, München, 1958, 127 S.
Diss.
Koldewey P., Wackenroder und sein Einfluß auf Tieck, Lpz., Dieterich,
1904, III, 212 S.
Mittenzwei J., Die Sehnsucht des Romantikers nach Erlösung durch
Musik.— In: «Das Musikalische in der Literatur», Halle, 1962, S. 90—179.
Santo li P., Wackenroder e il misticismo estetico, Rieti, Ribl. ed., 1929,
112 p.
Thornton К., Wackenroder's objective romanticism.— «Germanic review»,
v. 37, 1962, N 3, p. 161—173.
Wiedemann-Lambinus M., Die romantische Kunstschauung Wacken-
roders und Tiecks.— «Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine
Kunstwissenschaft», Bd. 32, 1938.
Тик
Сочинения:
Tieck L., Schriften, Bd. 1—20, Berl., Reimer, 1828—1846.
Tieck L., Schriften. Vollst, auf's neue durchges. Ausg., Bd. 21—28, Berl.,
Reimer, 1853—1854.
Tieck L., Kritische Schriften, Bd. 1—4, Lpz., Brockhaus, 1848—1852.
373
Литература:
Beyer H. G., Ludwig Tiecks Theatersatire. «Der gestiefelte Kater» und ihre
Stellung in der Literatur- und Theatergeschichte, München, 1960, 208 S.
Diss.
В r ü g g e m a η η F., Die Ironie in Tiecks «William Lovell» und seinen
Vorläufern, Lpz., [1909], VIII, 479 S. Diss.
Günther H., Romantische Kritik und Satire bei L. Tieck, Lpz., 1907, 213 S.
Diss.
Hettner H., Ludwig Tieck als Kritiker.— In: H e t t η e r H., Kleine
Schriften, Braunschweig, 1884, S. 513—519.
H i e η g e r J., Romantik und Realismus im Spätwerk L. Tiecks, [Köln], 1955,
232 S. Diss.
L i e s к e R., Tiecks Abwendung von der Romantik, Berl., Ehering, 1933, 150 S.
Minder R., Un poète romantique allemand: Ludwig Tieck (1773—1853), P.,
Les belles Lettres, 1936, VIII, 516 p., bibl. p. 455—495.
S t e i η e r t W., Ludwig Tieck und das Farbenempfinden der romantischen
Dichtung, Dortmund, 1910 (Schriften der literarhistorischen Gesellschaft Bonn).
Ζ e y d e 1 Ε. H., Ludwig Tieck the German romanticist, Oxford, uni v. press,
1936, 16 p.
H о в а л и с
Сочинения:
Novalis, Gesammelte Werke. Mit e. Lebensbericht, hrsg. von G. Seelig, Bd.
1—5, Herrliberg-Zürich, Bühl-Verl., 1945—1946.
Novalis, Werke. Briefe. Dokumente, hrsg. von E. Wasmuth, Bd. 1—4,
Heidelberg, Schneider, 1953—1957.
H о в а л и с, Фрагменты. Пер. Г. Петникова, Харьков, «Лирень», 1914, 33 стр.
Новалис Ф., Генрих фон Офтердинген. Пер. 3. Венгеровой и В. Гиппиуса.
Вступит, ст. 3. Венгеровой, Пб., Госиздат, 1922, 173 стр.
Литература:
Карлейль Т., Новалис. Пер. В. Лазурского, М., тип. Мамонтова,
1901, 76 стр.
Haering Th., Novalis als Philosoph, Stuttgart, Kohlhammer, 1954, 648 S.
Havenstein E., Friedrich von Hardenbergs ästhetische Anschauungen,
Berl., Mayer und Müller, 1909, 114 S.
Haywood В., Novalis: the veil of imagery. A study of poetic works of F. v.
Hardenberg, Gravenhage, Mouton, 1959, 159 p.
Heilborn E., Novalis der Romantiker, Berl., Reimer, 1901, 228 S.
Simon H., Der magische Idealismus. Studien zur Philosophie des Novalis,
Heidelberg, Winter, 1906, XI, 147 S.
Шлейермахер
Сочинения:
Schleiermacher F. D., Sämtliche Werke, hrsg. v. G. Reimer, Bd. 1—31,
Abt. 1—3, Berl., Reimer, 1835—1864.
Шлейермахер Φ. Д., Речи о религии. К образованным людям, ее
презирающим [Монологи]. Пер. С. Л. Франк, М., «Русская мысль», 1911,
LXVI, 390 стр.
Литература:
G г о с е В., L'estetica di F. Schleiermacher.— In: G г о с e В., Saggi filosofico,
t. 7, Bari, Laterza, 1935, p. 161—179.
374
Reble Α., Schleiermachers Kulturphilosophie, Erfurt, Stenger, 1935, VII,
253 S. Diss.
Siegfried Th., Das romantische Prinzip in Schleiermachers Reden über
die Religion, Berl., [Strauss], 1916, 67 S.
Жан-Поль Рихтер
Сочинения:
Richter J. Р., Sämmtliche Werke, 3-te verm. Aufl., Bd. 1—34, Berl,
Reimer, 1860-1862.
Richter J. P., Sämtliche Werke. Hist.-kritische Ausg. Hrsg. von der Deutsch.
Akad.-der Wissenschaften zu Berlin, Abt. 1—3, Berl., Böhlaus Nachf., 1952—
1963. Издание продолжается.
Jean-Paul, Vorschule der Ästhetik. Hrsg. von J. Müller. Mit «Einführung
in Jean Pauls Gedankenwelt» von J. Volkelt, Lpz., Meiner, 1923, XXXII,
562 S.
Рихтер И. П. Φ., Антология из Жана-Поля Рихтера. Пер. и предисл.
Е. Бецкого, Спб., 1844, 179 стр.
Рихтер И.-П. Зибенкэз. Вступит, ст. В. Г. Адмони, Л., Гослитиздат, 1937,
LXII, 574 стр.
Рихтер Ж.-П., Левана, или Учение о воспитании.—В кн.: Хрестоматия
по истории педагогики, т. II, ч. I, М., 1940, стр. 289—316.
Литература:
«К. Маркс и Ф. Энгельс, об искусстве», т. 1, М., 1957, стр. 462.
Адмони В. Г., Ж.-П. Рихтер.— В кн.: «Ранний буржуазный реализм», Л.,
1936, стр. 543—586.
Адмони В. Г., Художественные традиции Жан-Поля Рихтера в творчестве
Гофмана и Гейне. Глава из диссертации.— «Ученые записки 1-го
Ленинград, пед. ин-та иностр. яз.», т. I, 1940, стр. 135—170.
Сретенский Η. Н., Историческое введение в поэтику комического, ч. I.
Учение Жан-Поля о комическом, Ростов-на-Дону, «Трудовой Дон», 1926,
59 стр.
Троцкая М. Л., Жан-Поль Рихтер в России.— В кн.: «Западный сборник» I,
М.—Л., 1937, стр. 257—290, библ. стр. 285—290.
Berend Ε., Jean Pauls Ästhetik. Hrsg. von F. Muncker, Berl.-Schöneberg,
Duncker, 1909, XV, 294 S.
Berend E., Jean-Paul-Bibliographie, Berl., Altmann, 1925, VIII, 153 S.
Berend E., Jean Pauls Persönlichkeit in Berichten der Zeitgenossen, Berl.,
Akad.-Verl., 1956, IX, 484 S.
Bruckner G., Die ästhetische Grundlage von J. Pauls Pädagogik, Erlangen,
1910, 73 S. Diss.
Ε η d r e s E., Jean Paul. Die Struktur seiner Einbildungskraft, Zürich, 1961,
17 S. Diss.
Hoppe W., Das Verhältnis Jean Pauls zur Philosophie seiner Zeit, Lpz., 1901,
83 S. Diss.
Jäger G., Jean Pauls poetischer Generalbass. Bemerkungen zur
musikalischen Struktur seiner Romane.— In: «Festgabe für Eduard Berend», Weimar,
1959, S. 54—73.
К о m m e r e 1 1 M., Jean Pauls Verhältnis zu Rousseau, Marburg, Elwert,
1925, XI, 179 S.
375
Kommerell M., Jean Paul, 3. Aufl., Frankfurt a/M., Klostermann, [1957],
432 S.
Meier W. E., Jean Paul. Das Werden seiner geistigen Gestalt, Zürich, 1926.
Rasch W., Die' Erzählweise Jean Pauls. Metaphernspiele und dissonante
Strukturen, München, Hauser, 1961, 57 S.
fiiegler M., Studien zum Problem der dichterischen Existenz J. Pauls,
München, 1959, 150 S. Diss.
Schneider F. J., Jean Pauls Jugend und erstes Auftreten in der Literatur,
Berl., 1905, IX, 369 S.
Α ρ h и m
Сочинения:
Arnim L. Α., Sämtliche Werke, neue Ausgabe, Bd. 1—21, Berl., Arnim's
Verl., 1857.
Arnims Werke, hrsg. von. A. Schier. Kritisch durchges. u. erl. Ausg., Bd. 1—3,
Lpz. — Wien, Bibliogr. Inst., 1920.
Литература:
Браун Φ. Α., Немецкий романтизм. Гейдельбергский кружок. Берлинский
кружок.— В кн.: «История западной литературы». Под ред. Ф. Батюшкова,
т. И, М., 1913, стр. 211—227.
Жирмунский В. М., Проблема эстетической культуры в произведениях
гейдельбергских романтиков.—В кн.: «Сборник в честь проф. Ф. А.
Брауна», Пг., 1915, стр. 52—75 (Записки неофилологич. об-ва при Петроград,
ун-те, вып. VIII).
L i e d t h e H., Literary criticism and romantic theory in the work of A. von
Arnim, Ν. Y., Columbia univ. press, 1937, 187 p.
Rudolph G., Studien zur dichterischen Welt Achim von Arnims, Berl.,
Gruyeter, 1958, 171 S.
Steig R., Achim von Arnim und Clemens Brentano, Stuttgart, Cotta, 1894,
IX, 376 S.
К л e й с τ
Сочинения:
Kleist Η., Werke, hrsg. von E. Schmidt. Kritisch durchgeseh. und erl. Ge-
samtausg., Bd. 1—5, Lpz., Bibliogr. Institut, 1904—1905.
Kleist H., Gesammelte Werke, hrsg. und eingel. von H. Deiters, Bd. 1—4,
Berl., Aufbau-Verl., 1955,
К л e й с τ Г., Собр. соч. под общ. ред. [и с предисл.] В. А. Зоргенфрея, т. 1—2,
М., Госиздат, 1923.
К л е й с τ Г., Пьесы. [Вступит, статья А. Дейча. Примеч. А. Левинтона], М.,
«Искусство», 1962, 639 стр.
Литература:
Арагон Л., «Михаель Кольхаас» Генриха фон Клейста.— В кн.:
Арагон Л., Собр. соч., т. 10, М., 1961, стр. 334—347.
Берковский Н., Клейст.— В кн.: «Немецкая романтическая повесть»,
т. 2, М..—Л., 1935, стр. 454-472.
Жирмунский В., Генрих фон Клейст.— «Русская мысль», 1914, № 8—9,
отд. 2, стр. 1—11.
Орлов М., Генрих Клейст. 1811—1911.—«Русская мысль», 1911, №12,
отд. 2, стр. 37—43.
376
β θ г g e 1 К., Ri Ike's Fourth Durelegy und Kleist's Essay über das
Marionettentheater.— «Modern language notes», 1945, v. 60, № 2, p. 73—78.
ß г a i g. F., Heinrich von Kleist, München, Beck, 1925, XI, 637 S.
G a s s i r e r E., Heinrich von Kleist und die Kantische Philosophie, Berl.,
Reuther und Reichard, 1919, 56 S.
F r i с к e G., Gefühl und Schicksal bei Heinrich von Kleist, Berl., Junker und
Dünnhaupt, 1929, VII, 214 S.
Kleist H. v., Vier Reden zu seinem Gedächtnis, Berl., Schmidt, [1962], 74 S.
Koch F., H. v. Kleist. Bewußtsein und Wirklichkeit, Stuttgart, Metzler, 1958,
364 S.
Mann Th., Heinrich von Kleist und seine Erzählungen.— In: Mann Th.,
Gesammelte Werke, Bd. 11, Berl., 1955, S. 637—658.
Müller-Seidel W., Versehen und Erkennen. Eine Studie über Heinrich
von Kleist, Köln-Graz, Böhlau, 1961, VII, 230 S.
Muth L., Kleist und Kant, Köln, Kölner Univ. Verl., 1954, 83 S. Diss.
Ρ 1 ü g g e H., Grazie und Anmut. Ein biologischer Exkurs über das
Marionettentheater von H. von Kleist. Analyse. Text, Hamburg, Classen Verl., 1947,
53 S.
Reusner E. v., Satz-Gestalt-Schicksal. Untersuchungen über die Struktur
in der Dichtung Kleists, Berl., Gruyeter, 1961, 136 S.
U η g e г R., Herder, Novalis und Kleist. Studien über die Entwicklung des
Todesproblems im Denken- und Dichten vom Sturm und Drang zur
Romantik, Frankfurt a/M., Diesterweg, 1922, VII, 188 S.
Wentscher D., Heinrich von Kleist. Die Geschichte seines Schaffens, Bern,
Francke, 11954], 332 S.
X y I a η d e r О., Ritter von Kleist und J. J. Rousseau, Berl., Ebing, 1937,
389 S. Diss.
Гофман
Сочинения:
Hoffmann Ε. Τ. Α., Sämtliche Werke, hrsg. von E. Grisebach, Bd. 1—15,
Lpz., Hesse, 1900.
Hoffmann Ε. Τ. Α., Werke. Hrsg. von V. Schweizer u. P. Zaunert.
Kritisch durchges. u. erläuterte Ausgabe, Bd. 1—4, Lpz., Bibliogr. Inst., o. J.
(Meyers Klassiker-Ausg.).
Ho ff mann Ε. Τ. Α., Poetische Werke, Bd. 1—6, Berl., Aufbau-Verl., 1958.
Hoffmann Ε. Τ. Α., Musikalische Novellen und Schriften nebst Briefen
und Tagebuchaufzeichnungen. Ausgew., eingel. u. mit Anm. vers. V. R. Münnich,
Weimar,^ 1961, 318 S.
Гофман Э.-Т.-А., Собр. соч. Под общ. ред. и с предисл. П. С. Когана, т. 1—7,
М., «Недра», 1929—1930.
Гофман Э.-Т.-А., Избранные произведения в трех томах [вступит, статья
и прим. И. Миримского], М., Гослитиздат, 1962.
Литература:
Берковский Н. Я., Э.-Т.-А. Гофман.—В кн.: Гофман Э.-Т.-А.,
Новеллы и повести, Л., 1936, стр. 3—97.
Берновская Э. М., Немецкий романтизм и творчество Э.-Т.-А. Гофмана.—
«Вестник истории мировой культуры», 1961, № 4, стр. 124—134.
377
Герцен А. И., Гофман.— В кн.: Г е ρ ц е н А. И., Собр. соч. в 30-ти томах,
т. 1, М., Изд-во Акад. наук СССР, 1954, стр. 62—80.
Игнатов С. С., 9.-Т.-А. Гофман. Личность и творчество, М., тип.
О. Л. Соковой, 1914. [4], IV, 196 стр.
Лаврентьева И., Гофман — музыкальный критик.— В кн.:
Гофман 9.-Т.-Α., Избранные произведения, т. 3, М., 1962, стр. 491—494.
Миримский И., 9.-Т.-А. Гофман.—В кн.: Гофман 9.-Т.-А.,
Избранные произведения, т. 1, М., 1962, стр. 5—42.
Ε hinge г Η., Ε.T.A. Hoffmann als Musiker und Musikschriftsteller, Olten-
Köln, Walter, [1954], 280 S.
Greef f P., Ε.T. A. Hoffmann als Musiker und Musikschriftsteller, Köln,
Staufen Verl., 1948, 261 S.
Kroll Ε., Ε. T. A. Hoffmanns musikalische Anschauungen, Königsberg, 1909,
125 S. Diss.
M ü h 1 e г R., Die Einheit der Künste und das Orphische bei E. T. A.
Hoffmann.— In: «Stoffe. Formen. Strukturen. Studien von deutschen Literatur»,
hrsg. von A. Fuchs und H. Motekat, München, [1962], S. 345—360.
Schaeffer K., Die Bedeutung des musikalischen und akustischen in E. T. A.
Hoffmanns literarischen Schaffen, Marburg, Elwert, 1909, VIII, 238 S.
3 ольгер
Сочинения:
S о 1 g e г К. W., Nachgelassene Schriften und Briefwechsel, hrsg. von L. Tieck
und Fr. V. Raumer, Bd. 1—2, Lpz., Brockhaus, 1826.
Solger K. W., Vorlesungen über Aesthetik, hrsg. von R. W. L. Hetse, Bd.
1—31, Lpz., Brockhaus, 1829.
Литература:
Давыдов И. И., Разбор сочинений Сольгера: Ервин, или Четыре
разговора об изящном и искусствах.— «Вестник Европы», 1822, июль, № 13—
14, стр. 3—23. Подп.: Мемнон.
Boucher М., К. W. F. Solger. Esthétique et philosophie de la présence, P.,
[1935], 299 p.
Heller J. E., Solgers Philosophie der ironischen Dialektik, Berl., Reuther
und Reichard, 1928, VIII, 212 S.
Шопенгауэр
Сочинения:
Schopenhauer Α., Sämtliche Werke, hrsg. von A. Hübscher, Bd. 1—7,
Lpz., Brockhaus, 1937—1939.
«Schopenhauer-Brevier», hrsg. von R. Schmidt, Lpz., Dietrich, 1938, XXXIV,
437 S.
«Arthur Schopenhauer», hrsg. von W. Harich, Berl., Aufbau-Verl., 1955,
270 S.
Шопенгауэр Α., Полное собрание сочинений. В пер. и под ред. Ю. И. Ай-
хенвальда, т. 1—4, М., «Книжное дело», 1901—1910.
Шопенгауэр Α., Статьи эстетические, философские и афоризмы, изд. 3.
Пер. Р. Кресин, Харьков, 1888, 307 стр.
Шопенгауэр Α., О сущности музыки. Выдержки из соч. Шопенгауэра
под ред. историко-эстетической секции и со вступит, статьей К. Эйгеса,
Пг.—М., Госмузиздат, 1919, XV, 42 стр.
378
Литература:.
Фолькельт Α., Шопенгауэр. Его личность и учение, Спб.,
«Образование», 1902, 418 стр.
Цертелев Д. М., астетика Шопенгауэра, изд. 2, Спб., Стасюлевич, 1890,
48 стр.
Boni G., L'arte musicale nel pensiero di Schopenhauer.— In: «Manifestazioni
di attivita culturali», v. 1, Roma, 1954, 72 p. (Accad. nazionale di Santa
Cecilia).
Fauconnet Α., L'esthétique de Schopenhauer, P., Alcan, 1913, XXII,
462 p.
Hasse H., Schopenhauer, München, Reinhardt, 1926, 516 S.
Mann T., Schopenhauer, Stockholm, Bermann-Fischer, 1938, 83 S.
Mayer Ε., Schopenhauers Aesthetik und ihre Verhältnis zu den ästhetischen
Lehren Kants und Schellings, Halle, Niemeyer, 1897, 82 S. (Abhandlungen
zur Philosophie und ihre Geschichte, Bd. VII).
Mittenzwei J., Die Metaphysik der Musik in Schopenhauers «Welt als
Wille und Vorstellung».— In: «Das musikalische in der Literatur», Halle,
1962, S. 252—256.
Roth W., Neues zu Schopenhauers Musik-Ästhetik.— In:
«Schopenhauer-Jahrbuch», Bd. 35, Frankfurt a/M., 1953—1954, S. 60—66.
Sandre Ε., Schopenhauers Aesthetik, Czernowitz, Pardini, 1892, 8 S.
S e y d e 1 Μ. Α., Schopenhauers Metaphysik der Musik, Lpz., Breitkopf u.
Härter, 1895, VII, 123 S.
Stern LP., The aesthetic reinterpretation Schopenhauer.— In: «Re-interpreta-
tions. Seven studies in nineteenth-century German literature», Lond., Thames
a. Hudson, [1964], p. 156—207.
Töpfer Η., Deutung und Wertung der Kunst bei Schopenhauer und
Nietzsche, Dresden, Risse-Verl., 1933, 59 S. Diss.
Wolff H. M., Arthur Schopenhauer. Hundert Jahre später, Bern-München,
Francke, 1960, 107 S.
Ζ о с с о I i E. T., L'estetica di Schopenhauer; propedeutica alPestetica Wagne-
riana, Milano, Agnelli, 1901, 85 p.
P. Шуман
Сочинения:
Schumann R., Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, 5. Aufl.,
hrsg. von M. Kreisig, Bd. 1—2, Lpz., 1914.
Schumann R., Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. Eine
Auswahl, hrsg. von H. Schulze, Lpz., [1956], 303 S. (Reclams Universal-Biblio-
thek. N 2471-2473a).
Schumann R., Aus Robert Schummans Briefen und Schriften. Ausgew.,
eingeleitet und mit Anmerk. versehen von R. Münnich, Weimar, Kiepenheuer,
1956, 370 S.
«Der junge Schumann. Dichtungen und Briefe», hrsg. von A. Schumann, Lpz.,
1910, XVI, 289 S.
Шуман Р., Избранные статьи о музыке. [Пер., ред., вступит, ст. и примеч.
Д. В. Житомирского], М., Музгиз, 1956, 400 стр.
Литература:
Асмус В., Музыкальная эстетика Шумана.— «Советская музыка», 1940,
№ 2, стр. 52—60.
379
Житомирский Д., Роберт Шуман. Очерк жизни и творчества, М.,
«Музыка», 1964, 880 стр.
Eismann G., Robert Schumann. Ein Quellenwerk über sein Leben und
Schaffen, Bd. 1—2, Lpz., 1956.
К a t ζ M., Die Schilderung des musikalischen Eindrucks bei Schumann,
Hoffmann und Tieck, Lpz., Hirsch, 1910, 55 S.
К ö t ζ Η., Der Einfluß Jean Pauls auf Robert Schumann, Weimar, Böblau,
1933, 106 S.
Kretzschmar H., R. Schumann als Ästhetiker.— In: «Jahrbuch der
Musikbibliothek Peters», Lpz., 1906.
Lippman Ε. Α., Theory and practice in Schumann's aesthetics.— «Journal
of American musicological society», v. XVII, 1964, N 3, p. 310—345.
N i η с k M., Schumann und die Romantik in der Musik, Heidelberg,
Kampmann, 1929, 112 S.
Schmitz Α., Die ästhetischen Anschauungen Robert Schumanns in ihren
Beziehungen zur romantischen Literatur.— «Zeitschrift für
Musikwissenschaft», III, 1920, H. 2, S. 111—118.
Schulze H., Zur Frage der ästhetischen Anschauungen Robert Schumanns,
Dresden, Verl. der Kunst, 1954, 98 S.
Вебер
Сочинения:
Weber G. M. v., Sämtliche Schriften. Kritische Ausg. von G. Kaiser, Berl.
u. Lpz., Schuster u. Loeffler, 1908, GXXIX, 585 S.
«Carl Maria von Weber in Briefen und Schriften». Auswahl und Komment, von
E. Margenburg, [Heidenau, Mitteldeutsche Kunstanstalt, 1956], 92 S.
Литература:
Бронфин Ε., Карл Мария Вебер — музыкальный критик. — «Советская
музыка», 1962, № 4, стр. 66—72.
«Carl Maria von Weber. Ein Gedenkschrift». Hrsg. von G. Hanswald, Dresden,
Dresdner Verl., 1951, 316 S.
Kroll E., Carl Maria von Weber, Potsdam, Athenaion, [1934], 160 S.
Moser H. J., Carl Maria von Weber. Leben und Werke, 2. Aufl., Lpz.,
Breitkopf u. Härtel, 1955, 106 S.
Richter E., Dichtung und Dramaturgie der Opern Webers, Bonn, 1933. Diss.
Weber M. M. v., Carl Maria v. Weber. Ein Lebensbild, Berl., Grote, 1912,
XVI, 524 S.
HEME Ц КАЯ
Ё> С Τ Ε Τ ΚΚΑ
1830-1850 гг.
Три десятилетия (1830—1860), прошедшие в
ожесточенной борьбе реакции и прогресса (революция
1830 года во Франции с ее отголосками в
Германии, революция 1848—1849 годов в самой
Германии), носят переходный характер в развитии
немецкого искусства и эстетики. Многообразие
политических и социальных устремлений этого периода
породило разнообразие художественных
направлений и соответствовавших им эстетических
установок. В искусстве 30—50-х годов было много противоречий и
незаконченности: не все тенденции находили для себя совершенную
художественную форму, не все даже передовые течения в силу этого
могли сыграть достойную роль в развитии искусства. Бурное время
несло новую постановку традиционных проблем эстетики, но оно
не всегда находило объективное и продуманное решение. Имел
381
отрицательное значение и своеобразный отрыв от традиций,
произошедший в самом начале 30-х годов 1.
Новый характер общественных и эстетических идеалов сказался
прежде всего в творчестве Г. Гейне и Л. Берне, которые в эти годы
возглавили борьбу за передовую демократическую эстетику. Именно
Гейне, рецензируя в 1828 году книгу В. Менцеля «Немецкая
литература», ввел понятие «период искусства» («Kunstperiode») для
обозначения предшествующих десятилетий в развитии искусства, когда
животрепещущие социальные и политические проблемы находили
в литературе только опосредствованное отражение. Целью
блестящего эссе Гейне о «Романтической школе» (1834) было подвести
итог предшествующему художественному развитию и открыть путь
для искусства тенденциозного, демократического, открыто
провозглашающего свою связь с освободительной борьбой эпохи. Сам Гейне
в своем творчестве воплощал эти эстетические принципы, в то же
время сохраняя и преобразуя творческие завоевания романтизма2,
о чем свидетельствует, в частности, его политическая лирика.
Выступая против консервативного искусства и реакционной эстетики
своего времени (в частности, против эпигонской эстетики
романтизма), Гейне, как правило, не допускал недооценки поэтического
«видения» мира и «прозаизации» литературы.
Несколько иначе к проблеме нового искусства подходил Людвиг
Берне. Его эстетические позиции были прямо связаны с его
мелкобуржуазными политическими взглядами. Будучи блестящим
публицистом и искренним революционером, Берне разделял многие анар-
хо-сектантские предрассудки, связанные с неверным пониманием
политического положения в Германии. Сектантская узость и
радикальная фраза, всегда сопутствовавшие Берне-мыслителю, сказалась
отрицательным образом и на его эстетических взглядах. Резко
выступая против Гёте (как Иммерман, Гуцков, Гауф, Лаубе и многие
другие), Берне полагал, например, что «сдержанность» и
«замкнутость» Гёте были актом «свободного выбора», что стоило только
Гёте пожелать, и он мог бы сыграть некую революционную роль в
политике. В вопросах искусства Берне был склонен к утилитаризму, он
1 Две потери были особенно ощутимы для искусства и для эстетики —
смерть Гегеля в 1831 году и смерть Гёте в 1832 году. Современники остро
переживали пустоту, образовавшуюся в общественной жизни Германии со
смертью этих выдающихся деятелей немецкой культуры. Прогрессивный
немецкий публицист К. Фарнгаген фон Энзе писал после смерти Гегеля:
«Образовалась ужасная пустота! Пропасть становится все шире, чем дольше на нее
смотришь» (цит. по кн.: W. D i е t ζ е, Junges Deutschland und deutsche Klassik,
Berl., 1957, S. 133).
2 Так, принцип романтической иронии Гейне часто использует как
средство всестороннего изображения действительности.
382
прямолинейно связывал литературу с политикой и этим породил
в 30—40-е годы традицию патетического фразерства и политического
лозунга, не находившего адекватного поэтического выражения.
Правда, утилитаризм в эстетике и искусстве появился и помимо
Берне — в 30-е годы была весьма распространена теория, согласно
которой поэтические формы утратили свое значение в современной
политической борьбе и должны уступить место прозе, в основном
публицистической. Заблуждение Берне состояло не в призыве к
публицистике и связи литературы и искусства с запросами времени
и даже дня, а в недооценке поэтического обобщения
действительности, в мысли, будто содержание и лозунг сами по себе способны
глубоко воздействовать на читателя. Это заблуждение разделяли
многие немецкие писатели, даже какое-то время Гейне, хотя он
и был далек от утилитарных концепций искусства и в резко
полемической и парадоксальной форме протестовал против них, утверждая в
предисловии к поэме «Атта Троль» (1841), что он создал
«надпартийное произведение» «чистого искусства». Гейне этими словами бросал
вызов тем, кто обвинял его, как это делал прежде Берне, в
«эстетстве» \ и выступал здесь тем самым против беспредметного
риторического пафоса — распространенного недостатка тогдашней поэзии.
Эти недостатки — утилитаризм в трактовке отношения искусства
к действительности, мелкая тенденциозность, лишенная глубокой
идейности, пренебрежение художественной формой — в полной мере
сказались в творчестве и эстетике писателей группы «Молодая
Германия», которые до известной степени эволюционировали в сторону
реализма и находились под влиянием Берне и современного
французского романа. Но реализм у представителей «Молодой Германии»
(даже у наиболее одаренного из них — Карла Гуцкова) оказался
крайне обедненным, для них был характерен постоянный отрыв
формы от содержания, идеи от материала. Важнейшая причина
этого заключалась в незрелости и противоречивости
мировоззрения этих писателей. Первая группа политически активных писателей
в Германии оказалась, таким образом, не на высоте своего
исторического призвания. Справедливую оценку их деятельности дали К. Маркс
и Ф. Энгельс в работе «Революция и контрреволюция в Германии»:
«На германской литературе тоже отразилось политическое
возбуждение, в которое события 1830 года ввергли всю Европу. Наивный
конституционализм или еще более наивный республиканизм пропо-
1 Эти обвинения содержатся и в «Письмах из Парижа» (1830—1833),
лучшем сочинении Берне, написанном под воздействием Июльской революции
в Париже.
383
ведовались почти всеми писателями того времени. Все более и более
входило в привычку, особенно у литераторов нашего разбора,
пополнять недостаток литературного искусства в их произведениях
политическими намеками, которыми обеспечивался успех у публики.
Стихотворения, повести, рецензии, драмы, всякие литературные
произведения были преисполнены так называемой «тенденции», то есть
более или менее робких выражений противоправительственного духа.
В довершение путаницы понятий, царившей после 1830 года в
Германии, к этим элементам политической оппозиции примешивались
плохо переваренные университетские воспоминания немецкой
философии и непонятые крохи французского социализма, особенно
сенсимонизма. И клика писателей, преподносивших публике эту
мешанину, кичливо называла себя «Молодой Германией» или «Новой
школой». Позднее они раскаялись в своих юношеских грехах, но
манера их писания не улучшилась от этого» 1.
Из всей группы «Молодая Германия» наиболее
последовательным в утверждении связи литературы с жизнью был Лудольф Вин-
барг. В лекциях, изданных под заглавием «Эстетические походы»
(1834), он настойчиво выражал свое убеждение в общественной
миссии искусства. «Писательство — это не игра прекраснодушных
личностей, не невинное развлечение, не легкое занятие фантазии, но
дух времени, невидимо управляющий всеми, водит его (писателя)
рукою и железным грифелем истории пишет в книге жизни: поэты
и эстетические прозаики... служат отечеству, они союзники всех
мощных устремлений времени» 2.
В целом группа «Молодая Германия» не представляла единства,
не имела общей программы действий и распалась вскоре после того,
как бундестаг в 1835 году запретил сочинения Гейне, Гуцкова,
Винбарга и Мундта. Молодой Энгельс в рецензии на книгу А. Юнга
«Лекции о современной литературе немцев» (1842) подчеркивал
неспособность писателей этого направления к ясному пониманию
тогдашней немецкой действительности: «Молодая Германия» вырвалась
из неясности неспокойного времени, но сама еще оставалась в плену
этой неясности. Мысли, бродившие тогда в головах в смутной и
неразвитой форме и осознанные позже лишь с помощью философии,
были использованы «Молодой Германией» для игры фантазии. Этим
объясняется неопределенность, путаница понятий, господствовавшие
среди самих младогерманцев. Гуцков и Винбарг лучше других знали,
чего они хотят, Лаубе — меньше всех. Мундт гонялся за
социальными фантасмагориями; Кюне, в котором проглядывало кое-что от
1 «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, стр. 13.
2 L. W i е η b а г g, Ästhetische Feldzüge, Berl. — Weimar, 1964, S. 5.
384
Гегеля, схематизировал и классифицировал. Но при всеобщей
неясности мысли не могло получиться ничего путного. Мысль о
полноправности чувственного начала понималась, по примеру Гейне,
грубо и плоско; либеральные политические принципы были
различны у разных лиц, и положение женщины давало повод к самым
бесплодным и путаным дискуссиям. Никто не знал, чего ему ждать
от другого. Всеобщей неурядице того времени следует приписать
и меры, принятые различными правительствами против этих людей.
Фантастическая форма, в которой пропагандировались эти
воззрения, могла лишь способствовать усилению путаницы» {.
Единственным последовательным реалистом в немецкой
литературе 30-х годов был Георг Бюхнер, гениальный писатель, умерший
в возрасте 24-х лет. Участник революционных выступлений в земле
Гессен, Бюхнер сочетал тонкий ум политика-революционера и
ученого, трезво оценивавшего политическую ситуацию в Германии,
уверенный взгляд на вещи писателя-реалиста с широтой и точностью
эстетических оценок. В своих драмах Бюхнер стремился к той
полноте изображения характеров и исторической обстановки, которую
позже Маркс и Энгельс рекомендовали Ф. Лассалю как
«шекспировский» подход к действительности. Бюхнер критиковал как
литературу социального бездействия, так и бессодержательный
«активизм» ряда левых писателей. В своих эстетических взглядах
и творчестве Бюхнер еще более последовательно и убежденно, чем
Гейне, защищал принципы реализма. Немногочисленные
высказывания Бюхнера с предельной четкостью характеризуют его
эстетическую платформу. Бюхнер писал о необходимости изображать мир
«таким, каков он есть», понимая под этим изображение типических
обстоятельств истории и людей «из плоти и крови, радости и горести
которых вызывали бы... сочувствие и поступки которых вызывали бы
отвращение или восхищение»2. Отрицая свою принадлежность
к «Молодой Германии», Бюхнер объяснял это несогласием с ее
эстетическими установками: с одной стороны, Бюхнер хорошо понимал
специфику поэтического языка и потому не соглашался с подменой
поэзии журналистикой, с другой стороны, Бюхнер не был согласен
и с переоценкой возможностей литературы, с помощью которой
нельзя произвести «полной реформы наших религиозных и
общественных идей» 3. Бюхнер писал, что он идет «своим путем» и создает
своих героев «согласно с природой и историей» 4.
1 «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 2, стр. 531.
2 G. Büchner, Werke und Briefe, hrsg. von F. Bergemann.
3 Τ a m же, стр. 408; ср. также стр. 411—412.
4 Τ а м ж е.
385
Реализм Бюхнера в 30—40-е годы не был продолжен никем из
немецких писателей — ни на практике, ни в теории. Правда,
реалистические тенденции сказались по-своему в творчестве большинства
крупных писателей и поэтов того времени, таких, как Эдуард Мё-
рике или Фридрих Геббель в Германии, Франц Грильпарцер
и Адальберг Штифтер в Австрии, но это были только тенденции, не
приведшие к созданию всестороннего и последовательного
реалистического метода.
Предреволюционная обстановка 40-х годов способствовала
определенному расцвету демократической поэзии (Г. Гервег, Ф. Фрей-
лиграт, А. Штродтман, Г. Кинкель, Г. фон Фаллерслебен, К. Бек
и другие), в которой снова проявились слабые стороны радикальной
литературы предыдущего десятилетия. Во всей предреволюционной
поэзии сказался тот же незрелый характер мелкобуржуазной
революционности, которую критиковал Энгельс, показавший, как близки
в поэтическом творчестве так называемых «истинных социалистов»
революционность и филистерство, риторика и сентиментальность:
«Истинный социализм» не мог успокоиться, пока наряду с
бюргерской идиллией не была реабилитирована и крестьянская идиллия,
наряду с лафонтеновскими 1 романами — геснеровские пастушьи
сцены» 2. Отмечая непонимание «истинными социалистами» законов
исторического развития, Энгельс писал, что «нигде революции не
совершаются с большей веселостью и непринужденностью, чем в
голове нашего Фрейлиграта» 3.
Из всех демократических поэтов 40-х годов выделялся Георг
Веерт 4, настоящий поэт, творчество которого противостояло поэзии
«истинного социализма». По словам Энгельса, Веерт был «первым
и самым значительным поэтом немецкого пролетариата» 5.
Характерно, что Энгельс специально отметил полноту эстетического
отражения действительности в поэзии Веерта, указав как на важный для
1 Имеется· в виду Август Лафонтен — малоодаренный немецкий романист
конца XVIII — первой половины XIX века.
2 «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 2, стр. 131. Интересно, что те же
явления отметил и Ф. Геббель, который остроумно заметил, что «и пошлая
лирика настроения и пошлая лирика мысли в равной мере дают нуль» и что
идея о «древе» «человечества», на котором «под солнечным поцелуем» «весны
народов» распускаются «цветы свободы», говорит не больше, чем филистерское
описание сентиментальных чувств. См.: F. Hebbel, Vorwort zur «Maria
Magdalene» (1844).— «Meisterwerke deutscher Literaturkritik», hrsg. von H. Mayer. BM
1956, Bd. II, S. 418.
3 «К. Маркс и Φ. Энгельс об искусстве», т. 2, стр. 133.
4 Г. Веерт был членом «Союза коммунистов», в 1847 г. сопровождал
К. Маркса на Лондонский конгресс, с 1 июня 1848 г. был одним из редакторов
«Новой рейнской газеты».
5 «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 2, стр. 360.
386
революционного поэта факт, что Веерт был непревзойден (и уступал
только Гёте) в «выражении естественной, здоровой чувственности
и плотской страсти» 1.
Поражение революции 1848—1849 годов имело тяжелые
последствия для большинства прогрессивных писателей 40-х годов. Для
многих из них наступила пора разочарования в революционных
идеалах и полоса пессимизма. Характерна эволюция таких поэтов,
как Гервег или Фрейлиграт. Особенно показательным было
послереволюционное развитие Рихарда Вагнера, который принимал
активное участие в революции 1849 года в Дрездене. На
протяжении 40-х годов у Вагнера вырабатывается эстетическая теория,
своеобразно сочетавшая в себе элементы реализма и романтизма.
Вагнер тяготел к созданию музыкальной драмы как универсального
искусства, способствующего революционному преобразованию мира.
Он стремился обосновать искусство огромного эмоционального
воздействия, привлекающее к себе народные массы, воплощающее в
символической форме основные противоречия эпохи. В 1849 году
Вагнер пишет статью «Революция», в которой в восторженной
форме приветствует революцию-освободительницу2. Через несколько
лет после революции Вагнер совершенно отходит от радикальных
идей и наиболее созвучной ему оказывается пессимистическая
философия Шопенгауэра. Вагнер не оставил романтической критики
капитализма, но теперь она стала носить консервативный характер.
В своих произведениях Вагнер создает аллегорические картины,
весьма далекие от реальности, и в этом отношении его искусство,
как и в 1849 году, продолжает оставаться риторическим, однако
акценты этой тонкой и сублимированной риторики смещаются:
позднее искусство Вагнера идейно связано с декадентским
символизмом «конца века», отличавшимся в Германии аллегоризмом и
риторикой.
Подобную же эволюцию, только в смягченной форме, пережил
и Ф. Геббель, другой консервативный критик капитализма. Геббель
был выдающимся драматургом, близким в своих концепциях
Вагнеру. Как и Вагнер, Геббель стремится обобщать действительность
в отвлеченных формах мифа и далекой истории. Геббель хорошо
сознавал необходимость для искусства строить целостный образ
действительности, не ограничиваясь внешней «тенденцией» и яркой
деталью. Он писал: «Поэт не может — как того требуют неглубокий
вкус и неполноценное и скороспелое понимание прекрасного,
1 «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 2, стр. 360.
2 См. эту статью в книге: Р. Вагнер, Избранные статьи, М., 1935, или
в сборнике «Золото Рейна», Л., 1933. Здесь Вагнер весьма близок идеям и
стилю «истинных социалистов».
387
которые ради собственного удобства и быстроты не осмеливаются
вобрать в себя истину — ограничиться тем, чтобы давать картину
мира и одновременно исключать самые строптивые его элементы, но
должен удовлетворить все справедливые требования, указывая
всякому элементу его место, а подчиненные элементы, словно
поперечные нервы и сосуды организма, показывать лишь настолько,
насколько нужно, чтобы они служили пищей высшим» г.
Эти верные и прогрессивные мысли Геббеля, говорящие о
необходимости адекватно и полно отражать действительность в
искусстве, испытывали поправку со стороны его консервативных
убеждений, которые проявились не только в политике, но и в искусстве.
В отличие, например, от Бюхнера, Геббель не пытался создать
принципиально новый тип драмы, соответствующий изменившемуся
времени, но только совершенствовал и перестраивал прежний, идущий
от Шиллера. Это вело к тому, что новое содержание жизни
подвергалось стилизации старыми средствами. Геббель как бы смотрит
на действительность через очки прежнего жанра, а потому его
отражение действительности в чем-то становится- формальным,
априорно-заданным. Художественные средства и поэтические приемы
традиционной драмы встают между писателем и миром, а проблемы
эстетики на практике сводятся к проблемам жанра. У современника
Геббеля — О. Людвига расхождение между осознаваемыми им
требованиями реализма и безжизненной эстетикой жанра достигает
крайних пределов, о чем прекрасно свидетельствует описание
Людвигом своего творческого процесса.
Но среди писателей, разделявших в основном консервативные
общественные убеждения, были и такие, которые сыграли
значительную и притом положительную роль в истории искусства и
эстетики. Они выступали как последователи и продолжатели Гёте и в
новых условиях стремились сохранить веру в торжество гуманных
идеалов. К этим писателям относится Э. Мёрике в Германии,
А. Штифтер в Австрии, Г. Келлер и Я. Буркхардт в Швейцарии2,
что не означает их близости по своим идейным позициям,
творческим приемам, стилю. Эстетическое у них часто выступает на
первый план, сближаясь с этическим; «красота» становится
универсальной оценкой предметов и явлений. Сохранение идеалов
классического периода заключается в первую очередь в вере в
достоинство человеческой личности, о чем весьма проникновенно писал
Штифтер: «...есть закон, который желает, чтобы каждый существо-
1 «Meisterwerke deutscher Literaturkritik», Bd. Il, S. 421.
2 Мы выходим здесь за пределы Германии, поскольку речь идет о
писателях, которых сближает именно эстетическое отношение к действительности.
388
вал и был уважаемым и чтимым и жил без страха и опасности
рядом с другими, чтобы он мог идти своим высшим человеческим
путем, чтобы он заслуживал любовь и восхищение своих близких,
чтобы он был храним как сокровище, ибо всякий человек есть
сокровище для других» 1.
Ни один из последователей классического гуманизма не мог,
однако, сохранить то богатство эстетического миросозерцания,
которое было у Гёте. Гуманистическое наследие немецкой классики
утрачивает свою действенность, активное стремление к воплощению
идеала, и возрастает тенденция изнутри гармонизовать отношения
человека к действительности. Искусство осознается как вторая
действительность, катартическая сила, уравновешивающая и
очищающая человека. Мёрике говорит об искусстве как об очищении и
восстановлении целостности человеческой личности. Подобно этому
Грильпарцер пишет о поэзии «как снятии противоречий жизни» 2.
И чрезвычайно характерным является суждение Я. Буркхардта:
«У поэзии есть свои кульминационные моменты, когда она...
изымает из жизненного потока случайного и посредственного —
всеобще-человеческое в его самых возвышенных проявлениях и
концентрирует его в идеальных построениях и человеческую страсть
изображает не как погрязшую в случайности, а в чистом и
самодовлеющем виде...» 3. Но этическое обновление человека через
искусство оказывается возможным только тогда, когда искусство
выступает свободным от внешних целей, не связанных с задачей
внутреннего изменения человека; специфичность искусства эти писатели
усматривают в том, что оно как бы накапливает, конденсирует
в себе прекрасное, взятое из действительности.
В целом, несмотря на отвлеченный характер своей эстетики,
писатели-гуманисты 40—-50-х годов продолжали отстаивать высокие
нравственно-эстетические идеалы и сумели выразить их в
прекрасной художественной форме своих во многом реалистических
произведений.
Наконец, в искусстве и эстетике Германии было и
формалистическое направление, связанное прежде всего с творчеством
мюнхенской группы поэтов. Э. Гейбель, Э. Курциус, М. Штрахвиц и другие
занимались совершенствованием форм, выработанных искусством
прошлого, видя в виртуозной законченности произведения высшую
цель искусства. Характерно, что писал Э. Гейбель в одном из
1 Stifters Werke, hrsg. von G. Wilhelm, BerL— Lpz.— Wien, o. J., Bd. IV,
S. 44.
2 Grillparzers Werke in sechs Bänden, Lpz., Reclam, o. J., Bd. VI, S. 142.
3 Цит. по ст.: W. R e h m, Jakob Burckhardt und das Dichterische, «Eupho-
rion», Bd. 27, 1928, S. 89.
389
стихотворений: «Цель? У произведения искусства есть только одна
цель — покоиться в собственном блеске; но одним своим явлением
красота способна совершать чудеса» 1.
Характерной чертой развития эстетических идей в эти
десятилетия является то, что теоретическая (систематическая) эстетика,
понимающая эстетику как часть философии и облекающая
эстетические идеи и представления в научную форму, занимает
сравнительно небольшое место в общем развитии эстетической мысли: ее
творческий вклад в развитие эстетики невелик.
Большинство эстетиков-ученых в эти годы так или иначе
связано со школой Гегеля. Собственно, и сам курс эстетики Гегеля стал
фактором общественного значения только в 30-е годы (первая часть
«Лекций по эстетике» была издана в 1835 году). В сочинениях
эпигонов Гегеля (А. Руге, К. Розенкранца и наиболее известного из
них — Ф.-Т. Фишера) выхолащивается реальное содержание
гегелевского диалектического метода и обнаруживается типичное для
большинства систематических изложений эстетики этого периода
противоречие — с одной стороны, имеется понятийная схема, в
которой получают свое место разные явления искусства, с другой
стороны, многообразное богатство художественной практики
оказывается необъясненным в самом своем существе. Это в полной мере
относится к шеститомной «Эстетике, или Науке прекрасного»
(1847-1857) Ф.-Т. Фишера2.
В сочинениях Фишера гегелевская диалектика переживает свое
разложение, превращаясь в метафизику с некоторым позитивистским
уклоном3. Гегелевская «идея» вновь оказывается у него
иррациональной первоосновой мира. Правда, Фишер внимателен к развитию
искусства своего времени — он подмечает реалистические тенденции
современной ему немецкой литературы и, в отличие от Гегеля, не
склонен завершать эволюцию искусства современностью. Идеалом
художественного творчества в будущем ему представляется «стиль
Шекспира, очищенный благодаря истинному и свободному толкова-
1 Даем прозаический перевод, так как важен буквальный смысл.— Цит. по
кн.: F. Martini, Deutsche Literaturgeschichte, München, 1955, S. 401.
2 Фишера часто цитирует Н. Г. Чернышевский в своих «Эстетических
отношениях искусства к действительности», но в данном случае Фишер был
важен не сам по себе, а как представитель критикуемого Чернышевским
идеалистического направления в немецкой эстетике.
3 Особенно в последней работе под названием «Символ».— См.,
Philosophische Aufsätze, Eduard Zeller [...] gewidmet, Berl., 1887 [Neudruck—in Leipzig,
1962], S. 151-193.
390
нию античности» '. В курсе эстетики Фишера присутствуют обе
стороны его метода: есть абстрактная схема и есть тонкие наблюдения
над искусством, помещенные в сносках. Этот разрыв между
схематичностью целого и необобщенными частными замечаниями
сознавал и сам Фишер, который рекомендовал своим друзьям-писателям
обращаться именно к сноскам.
Отмечая неудовлетворительность спекулятивного объяснения
прекрасного и искусства, Герман Лотце находил выход в
исследовании логической стороны восприятия прекрасного 2. Г. Лотце,
признавая одновременно и субъективную и объективную природу
прекрасного, считал, что прекрасное существует в чувстве наслаждения,
причина которого заключена в закономерностях объекта. Обратив
внимание на физиологические и психологические элементы
эстетического наслаждения, Г. Лотце связал традицию идеалистической
«эстетики сверху» с началами той психологической
«экспериментальной эстетики», расцвет которой (особенно в деятельности
Г. Фехнера) приходится на более поздний период. В целом эстетика
Лотце, эклектичная и противоречивая, как и вся его философия, не
могла внести живой струи в развитие систематической эстетики.
Формалистическая эстетика нашла свое обоснование в трудах
И.-Ф. Гербарта (1776—1841) и его учеников. Работы Гербарта были
созданы до 1830 года. К периоду 30—60-х годов относится
деятельность ученика Гербарта А. Цейзинга (прошедшего и школу Гегеля),
видевшего в идее так называемого «золотого сечения» ключ к
загадке прекрасного, и Р. Циммермана, давшего систематизацию
взглядов школы.
Таким образом, развитие абстрактно-теоретической
академической эстетики этого периода, аполитичной и хранящей мнимую
чистоту науки, не было связано с живым развитием искусства и
общества и было оторвано от эстетической проблематики, выдвинутой
в эти годы писателями и художниками.
Фактом исключительной важности для последующего развития
эстетики как в Германии, так и в других странах является то, что
в 40—50-е годы в работах К. Маркса и Ф. Энгельса закладываются
основы марксистской эстетики. К концу 50-х годов относится
известная переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с Ф. Лассалем (1859) по
поводу трагедии Ф. Лассаля «Франц фон Зикинген» 3, где классики
марксизма решают проблему реализма в искусстве и подробно
1 F. Τ h. V i s с h е г, Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen, Bd. VI, 1857,
S. 311 (§ 908).
2 См. «Микрокосмос» (три тома, 1856—1864; рус. пер., M., 1866—1867 под
названием «Микрркозм»).
3 См. «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, стр. 15—52.
391
останавливаются на категории типического. Только учитывая
значение идей марксистской философии, можно правильно понять
направленность противоречивого развития немецкой эстетики 1830—
1850-х годов.
АЛ. В. МИХАЙЛОВ
ГЕЙНЕ
1797-1856
Великий немецкий поэт и публицист Генрих Гейне является также
автором философских и эстетических работ. Наиболее значительные из них —
«К истории религии и философии в Германии» (1833) и «Романтическая
школа» (1834), содержащие глубокую критику немецкой романтической
литературы и идеалистической философии.
В 1831 году Гейне был вынужден эмигрировать во Францию. В Париже он
знакомится с Марксом, духовным влиянием которого отмечено его творчество
накануне революции 1848 года. В этом отношении особенно характерны его
«Современные стихотворения» и поэма «Германия. Зимняя сказка» (1844).
После поражения революции выходит сборник стихотворений «Романцеро»
(1851) — своеобразный реквием «побежденным героям», построенный на
материале разных эпох и разных народов. Основным героем этого сборника
является сам поэт, которого болезнь на долгие годы, до самой смерти, приковала
к «матрацной могиле». Но даже на смертном одре Гейне продолжал считать
себя «часовым свободы», не желающим покинуть свой пост.
Гейне не создал самостоятельной философской системы, но в его
произведениях рассыпано много глубочайших философских мыслей, в частности по
вопросам искусства и литературы.
По своим политическим убеждениям Гейне был революционным
демократом. Более того, в условиях, когда немецкая буржуазная революция могла
стать прологом пролетарской революции, Гейне приближался к пониманию
исторической миссии пролетариата и идей социализма. Правда, ему был ближе
утопический социализм Сен-Симона, чем научный коммунизм Маркса и
Энгельса, но Гейне проницательно оценил будущую роль коммунистов, считал
справедливой их борьбу, хотя сам он не был коммунистом и даже неправильно
представлял себе коммунизм как господство «всеобщего уравнительства».
В области эстетики Гейне выступал против романтического бегства от
действительности. Он считал, что поэт должен находиться в гуще политической
борьбы, должен быть «барабанщиком революции» и ее активным деятелем
Согласно Гейне, содержание и форма художественного творчества определяются
условиями эпохи. В частности, буржуазный Париж даже в религиозной
живописи создает образы, напоминающие биржевых дельцов, тогда как все
средневековое искусство было пронизано спиритуализмом и как бы стремилось уле-
392
теть прочь от земли. Ренессанс Гейне рассматривает как возврат искусства
к живому человеку, как реабилитацию плоти, и утверждает, что бедра
Тициановой Венеры подорвали католицизм в большей степени, чем 97 тезисов
Лютера, прибитые к дверям Виттенбергского собора.
Гейне высоко оценивал роль художника в обществе и считал, что терцины
поэта могут осуществить над тираном казнь, более страшную, чем
пресловутый суд божий. Однако эта позиция, отстаивавшая достоинство поэта в
столкновениях с большими и малыми тиранами, иногда переходила у Гейне в
романтическую теорию об особой пророческой миссии гениального художника,
о том, что он независимо, подобно богу, силой своего гения творит целый мир.
Но эта теория Гейне отличалась от субъективного идеализма романтиков.
Гейне был материалистом, хотя и не всегда последовательным, однако считал
в то же время, что наряду с ощущением художник познает мир и с помощью
врожденного знания какого-то «зеркального подобия» природы, которое он
носит в душе со дня рождения и которое помогает правильному осмыслению
мира в процессе творчества. «Гений носит в душе отображение природы и
благодаря напоминаниям производит на свет это отображение; талант подражает
природе и творит аналитически то, что гений создает синтетически» 1.
Художник не просто отражает в своем произведении воспринимаемые извне
впечатления, как полагали вульгарные материалисты. Природа дает поэту лишь
случайный материал, единичные наблюдения, и только сознание поэта вносит
в этот материал закономерный порядок, превращает хаос неорганизованных
впечатлений в художественное целое. Эта верная и глубокая мысль, однако,
превращается у Гейне в уступку идеализму, когда он относит подмеченную им
способность художественного отбора и творческого преобразования единичных
впечатлений не за счет предварительного опыта и научного проникновения
в сущность вещей, а за счет врожденного «отпечатка природы», с которым поэт
сообразует свой гениальный синтез и из которого черпает уверенность в
правильности своих творческих усилий. Такого рода уступка идеализму не
случайна у Гейне. Однако его непоследовательность не должна заслонять от нас
общий прогрессивный характер его эстетических воззрений, их
материалистическую основу и революционный пафос.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
[...] Искусство есть только зеркало жизни, и, померкнув в жизни,
католичество отзвучало и выцвело также в искусстве. В период
Реформации постепенно стала исчезать в Европе католическая поэзия,
и мы видим, как, заступая ее место, вновь оживает давно умершая
греческая поэзия. Это, конечно, была лишь искусственная весна,
1 Г. Гейне, Собрание сочинений в 10-ти томах, т. 9, М., 1959, стр. 157.
393
создание садовника, а не солнца, и деревья и цветы сидели в тесных
кадках, и стеклянное небо охраняло их от холода и северного ветра.
Не всякое событие во всемирной истории есть непосредственный
результат другого; скорее, все события связаны взаимной
обусловленностью. Любовь к Греции и стремление подражать ей
распространились у нас отнюдь не исключительно благодаря греческим
ученым, переселившимся к нам после падения Византии;
одновременно с этим уже зашевелился дух протеста как в области
искусства, так и в жизни. Лев X, пышный Медичи, был таким же
ревностным протестантом, как и Лютер; и, как в Виттенберге
протестовали латинской прозой, так в Риме языком протеста были камень,
краска и ottave rime 1. Разве могучие мраморные изваяния Микел-
анджело, смеющиеся лица нимф Джулио Романо и упоенное
жизнью веселье в стихах маэстро Лодовико не являются протестующей
противоположностью старчески угрюмому, изможденному
католичеству? Итальянские художники полемизировали с поповством,
пожалуй, гораздо успешнее, чем саксонские теологи. Цветущее тело
на картинах Тициана — ведь это сплошное протестантство. Бедра его
Венеры — это тезисы, гораздо более убедительные, чем те, которые
были прибиты немецким монахом на дверях виттенбергской церкви.
Казалось, люди почувствовали себя вдруг освобожденными от
тысячелетних оков; в особенности свободно вздохнули художники, когда
как бы рассеялся душивший их христианский кошмар; с
энтузиазмом ринулись они в море греческой жизнерадостности, из пены
которого вновь подымались пред ними богини красоты; живописцы
вновь рисовали благовонную радость Олимпа; со старым увлечением
скульпторы вновь высекали из мраморных глыб героев древности;
поэты вновь воспевали дом Атрея и Лая; начался период
неоклассической поэзии.
Подобно тому как современная жизнь приняла наиболее
завершенную форму во Франции при Людовике XIV, так и
неоклассическая поэзия получила именно здесь полную законченность,
пожалуй, даже самобытную оригинальность. Благодаря политическому
влиянию великого короля эта неоклассическая поэзия
распространилась по остальной Европе; в Италии, в которой она уже издавна
чувствовала себя дома, она получила французскую окраску; с
Анжуйской династией прибыли в Испанию и герои французской трагедии;
они перебрались в Англию с мадам Генриеттой, и мы, немцы, само
собой разумеется, также воздвигли наши неуклюжие храмы во
славу напудренного версальского Олимпа. Знаменитейшим
верховным жрецом в них был Готшед, пресловутый великий парик
1 — октавы (итал.).
394
с косицей, так превосходно изображенный нашим дорогим Гёте в его
воспоминаниях.
Лессинг был литературным Арминием, освободившим наш театр
от этого господства иноземцев. Он раскрыл нам все ничтожество,
смехотворность, безвкусицу этих подражаний французской драме,
которая, в свою очередь, как будто и сама была подражанием
греческой. Однако не только его критика, но и его собственные
художественные произведения сделали Лессинга основателем новой,
самобытной немецкой литературы. Ко всем направлениям духа, ко
всем сторонам жизни приглядывался этот человек воодушевленно
и бескорыстно. Искусством, богословием, археологией, поэзией,
театральной критикой, историей — всем занимался он с равным пылом
и во имя той же цели. Во всех его произведениях живет все та же
великая социальная идея, тот же прогресс гуманности, та же
религия разума, Иоанном Предтечей которой он был, и Мессию которой
мы все еще ожидаем.
[...] Несмотря, однаког на то, что Лессинг мощным напором
разрушил подражание французскому лжеэллинству, сам он все же
именно своим указанием на подлинные художественные создания
эллинской древности дал некоторым образом толчок новому виду
нелепых подражаний. Своими выступлениями против религиозного
суеверия он даже содействовал той трезвенной мании просветитель-
ства, которая получила широкое распространение в Берлине и
имела главного своего выразителя в покойном Николаи, а свой
арсенал — во «Всеобщей немецкой библиотеке». Ничтожнейшая посреди
ственность стала тут заявлять о себе еще отвратительнее, чем когда-
либо, и все нелепое и пустое надулось, как лягушка в басне.
Чрезвычайно ошибочным было бы мнение, будто Гёте, уже
появившийся в то время, сразу же получил всеобщее признание. Его
«Гец фон Берлихинген» и «Вертер» были приняты с восторгом, но
такой же прием встречали сочинения зауряднейших кропателей,
и Гёте была отведена в храме литературы лишь небольшая ниша.
Только «Гец» и «Вертер», как я сказал, были приняты публикой
с восторгом, но скорее из-за сюжета, чем из-за их художественных
достоинств, оценить которые не сумел почти никто. «Гец» был
драматизированным рыцарским романом, какие пользовались успехом
в те времена. В «Вертере» видели только обработку действительного
происшествия, а именно истории молодого Ерузалема, юноши,
покончившего с собой из-за любви, что в тогдашнем глубоком затишье
наделало много шума; проливая слезы, читали его трогательные
письма; проницательно замечали, что манера, с которою Вертер был
удален из дворянского общества, усилила его отвращение к жизни;
вопрос о самоубийстве усугубил толки по поводу книги; нескольким
395
дуракам явилась мысль заодно пустить и себе пулю в голову. Книга
своим сюжетом произвела впечатление взрыва. Но романы Августа
Лафонтена читались с такою же охотой, и так как он писал
безостановочно, то прославился больше, чем Вольфганг Гёте.
Великим поэтом того времени был Виланд, соперничать с которым в
поэзии мог разве лишь берлинский одописец г. Рамлер. Виланда чтили
благоговейно более, чем когда-либо Гёте. В театральной области
царил Ифланд со своими слезливо-мещанскими драмами и Коцебу со
своими пошлоостроумными фарсами.
Против этой-то литературы и поднялась в последние годы
прошлого столетия в Германии школа, которую мы назвали
романтической и в качестве руководителей которой представились нам г-да
Август-Вильгельм и Фридрих Шлегели. Иена, где временами
проживали оба брата совместно со многими единомышленниками, была
средоточием, откуда распространялась новая эстетическая доктрина.
Я говорю «доктрина», потому что школа эта начала с оценки худо-
жественых произведений прошлого и с рецепта изготовления
художественных произведений будущего. В обоих этих направлениях
шлегелевская школа может похвалиться большими заслугами в
области эстетической критики. При оценке уже существующих
художественных произведений либо раскрывались их недостатки и
погрешности, либо освещались их достоинства и красоты. В полемике,
в этом выяснении недостатков и погрешностей в искусстве, где
Шлегели были целиком подражателями старика Лессинга, они завладели
его большим боевым мечом, с той лишь разницей, что рука г.
Августа-Вильгельма Шлегеля была слишком изнеженно-бессильна, а глаз
его брата Фридриха слишком мистически-затуманен, чтобы один мог
разить столь же мощно, а другой столь же метко, как Лессинг. Но
в положительной критике художественных произведений, наглядно
выявляющей их красоты, где важна тонкость чутья, схватывающая
их и это своеобразие разъясняющая,— г-да Шлегели решительно
выше старого Лессинга. Но что мне сказать об их рецептах
изготовления совершенных произведений искусства? Тут г-да Шлегели
обнаружили бессилие, которое, пожалуй, встречается и у Лессинга.
Насколько Лессинг силен в отрицании, настолько же он слаб в
утверждении, редко умея установить основной принцип и еще реже —
принцип правильный. Ему недостает твердой почвы определенной
философской школы, недостает философской системы. У г-д Шле-
гелей это проявляется в еще более безнадежной степени. Болтают
разное о влиянии фихтевского идеализма и Шеллинговой
натурфилософии на романтическую школу, которую даже целиком
пытаются вывести из них. Но я нахожу здесь разве лишь влияние
некоторых обрывков мыслей Фихте и Шеллинга, а никак пе влияние
396
какой-либо философии. Однако г. Шеллинг, преподававший тогда
философию в Иене, конечно, оказал большое личное влияние на
романтическую школу; ведь он, что неизвестно во Франции, в
некоторой степени также поэт и, говорят, еще колеблется, не
опубликовать ли ему все свое философское учение в поэтическом и даже
в стихотворном виде. Такие колебания характеризуют этого человека.
Если, однако, г-да Шлегели, давая поэтам своей школы заказ на
создание шедевров, не могли для этого предложить никакой
определенной теории, то они восполняли этот пробел, восхваляя в
качестве образца и делая доступными своим ученикам лучшие
произведения искусства прошлого. Это были главным образом создания
христианско-католического искусства средних веков. [„J
Поэзия наша дряхла, говорили г-да Шлегели; наша муза —
старуха с прялкой, наш Амур не светлокудрый мальчуган, а
морщинистый, седой карлик, наши чувства исчахли, фантазия высохла:
нам необходимо освежиться, необходимо вновь отыскать засыпанные
родники наивной, простодушной поэзии средневековья; отсюда
брызжет нам навстречу напиток молодости. И сухая, трезвая публика не
потребовала повторения этих слов; особенно злосчастные обладатели
пересохших глоток, сидевшие в бранденбургских песках, вздумали
вновь расцвести и помолодеть, и они ринулись к этим
чудодейственным источникам, и пили, и хлебали, и глотали с беспредельной
жадностью. Но с ними случилось то же, что со старой камеристкой,
о которой рассказывают следующее: она заметила, что у ее хозяйки
есть чудотворный эликсир, возвращающий молодость; в отсутствие
дамы она взяла с ее туалетного стола флакон с этим напитком, но
вместо того, чтобы принять несколько капель, она сделала такой
основательный глоток, что от чрезмерной волшебной силы
омолаживающего напитка не только просто помолодела, но превратилась
в маленького ребенка. Поистине, как раз то же самое произошло
с нашим превосходным г-ном Тиком, одним из лучших поэтов
школы; он так наглотался народных книг и стихотворений
средневековья, что почти впал в детство и дошел до той лепечущей
наивности, которой с такими усилиями восхищалась г-жа де Сталь. Она
сама признается, что ей кажется курьезным, когда действующее
лицо открывает драму монологом, который начинается словами:
«Я — достопочтенный Бонифаций, и я пришел сказать вам» —
и т. д.
Г. Людвиг Тик в романе «Странствия Штернбальда» и в
изданных им «Сердечных излияниях монаха, любителя изящного»,
написанных некиим Вакенродером, рекомендовал грубые, наивные
начатки искусства в качестве образцов также и мастерам
изобразительного искусства. Он советовал подражать благочестивое™
397
и детскому простодушию этих произведений, проявляющимся в
технической беспомощности. Рафаэль был совершенно отвергнут, его
учителя Перуджино едва признавали. Последнего ценили несколько
выше, так как у него находили остатки тех красот, которым
благоговейно изумлялись в бессмертных творениях фра Джованни-Андже-
лико да-Фиезоле. Чтобы составить себе понятие о вкусе тогдашних
энтузиастов искусства, надо побывать в Лувре, где висят еще
лучшие картины мастеров, окруженных в ту пору безусловным
преклонением; а чтобы составить себе понятие о великом множестве
поэтов, подражавших во всевозможных стихотворных размерах
произведениям средневековой поэзии, надо побывать в сумасшедшем
доме в Шарантояе. [...]
Политическое положение Германии особенно благоприятствовало
этому христианско-старонемецкому направлению. «Нужда научает
молиться» — говорит пословица,— и в самом деле, никогда нужда
в Германии не была сильнее, и потому никогда народ не был более
восприимчив к молитве, религии, христианству. Нет народа, более
приверженного своим государям, чем немецкий, и немцев невыно-
симейшим образом удручало не столько печальное положение
страны вследствие войны и чужеземного господства, сколько горестное
зрелище их побежденных государей, пресмыкающихся у ног
Наполеона; весь народ напоминал тех старых верных слуг в барских
домах, которых унижения, выпавшие на долю их господ, удручают
еще сильнее, чем самих господ, и которые втайне проливают
горчайшие слезы по поводу, например, распродажи хозяйского серебра
и даже — как это достаточно трогательно изображается в старинных
драмах — потихоньку тратят свои жалкие сбережения для того,
чтобы на барском столе горели не мещанские сальные, а дворянские
восковые свечи. Всеобщее уныние находило утешение в религии,
и так зародилось поэтическое упование на волю божью, от которой
только и оставалось ждать спасения. И в самом деле, от Наполеона
не мог спасти решительно никто, кроме самого господа бога. На
земное воинство рассчитывать уже было нечего,— оставалось с
надеждой возводить очи к небесам.
Мы самым спокойным образом снесли бы и Наполеона. Но наши
государи, лелея надежду, что бог избавит их от него, все же
допускали и такую мысль, что объединенные силы их народов могли бы
быть очень полезны в этом деле; с этой целью старались пробудить
в немцах чувство единства, и даже высочайшие особы заговорили
теперь о германском народном духе, об общем германском
отечестве, об объединении христианско-германских племен, о единстве
Германии. Нам был предписан патриотизм, и мы. стали патриотами,
ибо мы делаем все, что нам приказывают наши государи. Под этим
398
патриотизмом, однако, не надо понимать чувство, носящее это имя
здесь, во Франции. Патриотизм француза заключается в том, что
сердце его согревается от этого нагревания, расширяется,
раскрывается, так что своей любовью оно охватывает уже не только
ближайших родичей, но всю Францию, всю цивилизованную страну;
патриотизм немца заключается, наоборот, в том, что сердце его
сужается, что оно стягивается, как кожа на морозе, что он начинает
ненавидеть все чужеземное, и уже не хочет быть ни гражданином
мира, ни европейцем, а только ограниченным немцем. Тут и узрели
мы идеальную грубость, приведенную в систему г. Яном; началась
жалкая, неуклюжая, грязная оппозиция против мировоззрения,
представляющего собой высочайшее и святейшее из всего, что было
порождено Германией, а именно — против той гуманности, против
того всеобщего братства людей, против того космополитизма,
поборниками которого всегда были наши великие умы — Лессинг, Гер-
дер, Шиллер, Гёте, Жан-Поль, все образованные люди Германии.
Что последовало затем в Германии, известно вам слишком
хорошо. Когда бог, снег и казаки уничтожили лучшие войска
Наполеона, то мы, немцы, получили высочайший приказ освободиться от
чужеземного ига,— и мы воспылали мужественным гневом против
нашего долготерпения и рабства и воодушевились под влиянием
прекрасных мелодий и плохих стихов кернеровских песен,— и мы
завоевали свободу; ибо мы делаем все, что приказывают нам наши
государи.
В эпоху, когда подготовлялась эта борьба, школу, враждебно
настроенную против всего французского и прославлявшую все
национальное в искусстве и жизни, ждал самый пышный расцвет.
Романтическая школа шла в ту пору рука об руку со стремлениями
правительств и тайных обществ, и г. А.-В. Шлегель конспирировал
против Расина в тех же целях, что и министр Штейн против
Наполеона. Школа плыла по течению времени, и по тому именно
течению, которое возвращалось к своему истоку. Когда наконец
немецкий патриотизм и немецкая национальность одержали полную
победу, восторжествовала окончательно и народно-германско-хри-
стианско-романтическая школа, «новонемецкое
религиозно-патриотическое искусство». Пал Наполеон, великий классик, столь же
классический, как Александр и Цезарь, и г-да Август-Вильгельм и
Фридрих Шлегели, маленькие романтики, столь же романтические, как
«Мальчик-с-лальчик» и «Кот в сапогах», победоносно подняли
голову. [...]
Г. Гейне, Собрание сочинений в 10-ти томах,
т. 6, М., 1958. Перевод А. Горнфельда, стр. 154—
163.
399
Оппозиция против Гёте начинается, собственно, с появления так
называемых «поддельных годов странствия», под заглавием «Годы
странствий Вильгельма Мейстера», изданных Готфридом Бассе в
Кведлинбурге-в 1821 году [...]. Под этим именно заглавием Гёте
анонсировал выход в свет продолжения «Годов учения Вильгельма
Мейстера», и, по странному стечению обстоятельств, продолжение это
появилось одновременно с этим литературным двойником, где не
только перенята была манера Гёте, но в качестве действующего
лица выступал герой гётевского романа. Это подражание
свидетельствовало не столько о великом уме, сколько о великой ловкости,
и любопытство публики было еще искусственно усилено тем, что
автор на некоторое время сумел сохранить свое имя в тайне, и все
старания дознаться, кто он, были напрасны. Наконец выяснилось,
что сочинителем является доселе неизвестный деревенский пастор
по фамилии Пусткухен, что по-французски значит omelette
soufflée l — имя, определяющее и все его существо. Эта книга
представляла собой не что иное, как старое пиетистское кислое тесто,
эстетически раздувшееся. Здесь Гёте предъявлялись обвинения в том,
что его произведениям чужды моральные цели; что он способен
создавать не благородные образы, но лишь вульгарные фигуры; что,
наоборот, Шиллер изображает идеально-благороднейшие характеры
и потому он как поэт выше Гёте.
Последнее, а именно то, что Шиллер выше Гёте, и было главным
предметом спора, вызванного этой книгой. Всех обуяла мания
сравнивать создания обоих поэтов, и мнения разделились. Сторонники
Шиллера выдвигали нравственную привлекательность таких
образов, как Макс Пикколомини, Текла, маркиз Поза и прочие герои
шиллеровского театра, объявляя, напротив, таких героинь Гёте, как
Филина, Гретхен, Клерхен и подобные прелестные создания,
безнравственными особами. Сторонники Гёте с улыбкой замечали, что
в этих женщинах, равно как в героях Гёте, едва ли можно видеть
воплощение морали, но что укрепление нравственности, которого
требуют от произведений Гёте, ни в коем случае не является целью
искусства: ибо искусство не имеет никаких целей, подобно самому
мирозданию, в которое лишь человеческая мысль вкладывает
понятия «цель и средства»; искусство, подобно вселенной, существует
ради самого себя, и как вселенная остается вечно неизменной, хотя
в суждениях о ней воззрения людей беспрестанно меняются, так и
искусство должно оставаться независимым от преходящих взглядов
людей; поэтому искусство должно оставаться особенно независимым
от морали, которая всегда меняется на земле, меняется всякий раз,
1 —взбитая яичница (франц.).
400
когда возникает новая религия и вытесняет старую. В самом деле,
поскольку всякий раз по прошествии ряда столетий неизменно
возникает новая религия и вследствие ее внедрения в нравы
устанавливается новая мораль, постольку каждая эпоха должна была бы
объявить еретически-безнравственными художественные произведения
прошлого, если бы они оценивались по масштабу морали данного
времени. Действительно, как приходилось уже нам видеть, добрые
христиане, осуждающие плоть как нечто дьявольское, всегда
возмущались видом изваяний греческих богов; целомудренные монахи
подвязывали античной Венере передничек, даже в наше время
прикрывают смехотворным фиговым листочком наготу статуй; один
благочестивый квакер пожертвовал все свое состояние на то, чтобы
скупать и сжигать прекраснейшие мифологические картины Джулио
Романо — поистине, он заслуживает быть вознесенным за это на
небо и подвергаться там ежедневному сечению розгами! Если бы
возникла религия, полагающая бога исключительно в материи и
потому обожествляющая только плоть, то, перейдя в нравы, она
породила бы мораль, одобрения которой удостаивались бы лишь те
художественные произведения, в которых возвеличивается плоть,
и, наоборот, создания христианского искусства, изображающие лишь
ничтожество плоти, должны были подвергнуться осуждению как
безнравственные. Да, художественные произведения, считающиеся
в одной стране нравственными, рассматриваются как
безнравственные в другой стране, где в нравах укоренилась другая религия; так,
например, наши изобразительные искусства вызывают отвращение
в правоверном мусульманине, и, наоборот, некоторые искусства,
считающиеся совершенно невинными в восточном гареме, ужасают
христианина. Так как нравы индусов не видят в промысле баядерки
ничего позорящего, то драма «Васантасена», героиня которой —
продажная жрица любви, совершенно не считается безнравственной
в Индии; а между тем, если бы эту пьесу осмелились поставить
в «Théâtre frainçais», весь партер закричал бы о безнравственности,
тот самый партер, который ежедневно с удовольствием смотрит
запутанные пьесы, где героинями выступают молодые вдовы, в
финале весело выходящие. замуж, вместо того чтобы, согласно
требованию индусской морали, быть сожженными вместе со своими
умершими мужьями.
Исходя из такого взгляда, гётеанцы рассматривают искусство
как независимый второй мир, который они ставят так высоко, что
вся деятельность людей, их мораль, их религия, в своей смене и
неустойчивости проходят под ним. Я не могу, однако, безусловно
принять этот взгляд; он привел гётеанцев к тому, что они,
провозгласив самое искусство наивысшим началом, отвергают требования
14 История эстетики, т. III
401
того первого, действительного мира, которому все-таки принадлежит
первенство.
Шиллер стал на сторону этого первого мира с гораздо большей
определенностью, чем Гёте, и в этом отношении мы должны воздать
ему хвалу. Дух времени со всей живостью захватил Фридриха
Шиллера, он боролся с ним, он был им побежден, он пошел за ним
в бой, он нес его знамя, и знамя это было то самое, под которым
с таким воодушевлением сражались и по ту сторону Рейна и за
которое мы по-прежнему готовы проливать нашу лучшую кровь.
Шиллер писал во имя великих идей революции, он разрушал
Бастилии мысли, он участвовал в сооружении храма свободы — того
величественного храма, который, как единая братская община,
должен охватить все народы; он был космополит. Он начал с той
ненависти к прошлому, какую мы видим в «Разбойниках», где он похож
на маленького титана, который, убежав из школы и хлебнув водки,
бьет стекла у Юпитера; он кончил той любовью к будущему,
которая, подобно целому лесу цветов, распускается уже в «Дон Карло-
се», и сам он — маркиз Поза, одновременно- пророк и солдат, всегда
готовый сразиться за то, что сам проповедует, и прячущий под
испанским плащом самое прекрасное сердце, какое когда-либо
любило и страдало в Германии.
Поэт, этот творец в малом, подобен господу богу и в том, что
своих героев он творит по образу своему и подобию. Если поэтому
Карл Моор и маркиз Поза — это сам Шиллер, то Гёте подобен
своему Вертеру, своему Вильгельму Мейстеру и своему Фаусту, по
которым можно изучать фазы его духовного развития. Если Шиллер
целиком уходит в историю, восхищен общественными завоеваниями
человечества и воспевает всемирную историю, то Гёте погружается
больше в индивидуальные чувства или в искусство или в природу.
В конце концов, естественная история должна была сделаться
главным предметом занятий пантеиста Гёте, и результат своих
изысканий он представил не только в поэтических произведениях, но
и в научных трудах. Его индифферентизм есть также результат его
пантеистического мировоззрения.
Увы, это верно,— мы должны сознаться, что пантеизм нередко
делал людей индифферентными. Они полагали: если все есть бог, то
безразлично, чем заниматься — облаками или античными геммами,
народными песнями или костями обезьян, людьми или
комедиантами. Но в том-то ошибка: не все есть бог, а бог есть все; бог не в
равной степени проявляется во всех вещах; напротив, он в различной
степени проявляется в различных вещах, и каждая из них стремится
подняться на более высокую ступень божественности, и это есть
великий закон прогресса в природе. Открытие этого закона, с наи-
402
большей глубиной выраженного сен-симонистами, делает теперь
пантеизм мировоззрением, ведущим никак не к индифферентизму, но
к самоотверженнейшему стремлению вперед. Нет, бог не
проявляется во всех вещах в равной степени, как полагал Вольфганг Гёте,
которого это и сделало совершенным индифферентистом, занятым
не высшими интересами человечества, а только игрушками
искусства, анатомией, теорией красок, ботаникой и наблюдениями над
облаками: бог проявляется в вещах в большей или меньшей
степени, он живет в этом непрестанном проявлении, бог есть в
движении, в действии, во времени, его священное дыхание проносится по
страницам истории; она и есть подлинная книга божья; и это
ощущал и предчувствовал Фридрих Шиллер, и он стал «пророком,
обращенным к прошлому», и написал «Отпадение Нидерландов»,
«Тридцатилетнюю войну», «Орлеанскую деву» и «Телля».
Правда, и Гёте воспел несколько великих историй освобождения,
но он воспевал их как художник. Так как он досадливо отвергал
опостылевший ему христианский энтузиазм, а философского
энтузиазма нашего времени не понимал или не хотел понять — из
опасения, как бы это не вывело его из его душевного спокойствия,—
то он вообще трактовал энтузиазм чисто исторически как нечто
данное, как сюжет, подлежащий обработке; дух под его руками
становился материей, и он облекал его в прекрасную,
привлекательную форму. Так стал он величайшим художником в нашей
литературе, и все написанное им сделалось завершенным художественным
созданием.
Пример учителя увлек последователей, и таким образом в
Германии возник литературный период, некогда мною названный
«эстетическим периодом», причем я показал его вредное влияние на
политическое развитие немецкого народа. Нимало, однако, не
отрицал я при этом самостоятельной ценности шедевров Гёте. Они
украшают наше дорогое отечество, как прекрасные статуи украшают сад,
и все же это статуи. В них можно влюбиться, но они бесплодны:
поэзия Гёте не порождает действия, как создания Шиллера. Дело
есть дитя слова, а прекрасные слова Гёте бездетны. Это проклятие
лежит на всем, что порождено только искусством. Статуя,
изваянная Пигмалионом, была красавицей, сам художник влюбился в нее,
она ожила под его поцелуями, но, насколько нам известно, у нее
никогда не было детей. [...]
Эти немногие замечания объясняют раздражение различных
партий, выступивших в Германии против Гёте. Правоверные были
возмущены великим язычником, как принято называть Гёте в
Германии; они боялись его влияния на народ, которому он внушал свое
мировоззрение через свою улыбчивую поэзию, через самые непри-
14*
403
тязательные из своих песенок; они видели в нем опаснейшего врага
креста, который, по его же словам, был ему противен так же, как
клопы, чеснок и табачный дым; приблизительно то же самое
говорится в эпиграмме, которую Гёте осмелился напечатать в самой
Германии, где повсюду царит священный союз этой дряни —
чеснока, табака и креста. Разумеется, вовсе не это было для нас,
сторонников движения, неприемлемым в Гёте. Как уже упомянуто,
мы порицали бесплодность его слова, эстетизм, по его вине
водворившийся в Германии, воспитавший молодежь в духе квиэтизма,
столь пагубного для политического возрождения нашей родины.
Индифферентный пантеист сделался поэтому предметом нападок с про-
тивоположнейших сторон; выражаясь по-французски, против него
заключили союз крайняя правая и крайняя левая; и в то время как
черный поп колотил его распятием, неистовый санкюлот лез на
него с пикой. [...]
Нет ничего глупее недооценки Гёте в пользу Шиллера, к
которому совсем не относились искренне, всегда прославляя его для
того, чтобы принизить Гёте. Разве в самом "деле было неизвестно,
что изготовить эти высокопрославленные, высокоидеальные
образы, эти священные изваяния добродетели и нравственности,
созданные Шиллером, гораздо легче, чем те греховные, мелко житейские,
порочные существа, которых Гёте выводит в своих произведениях?
Разве неизвестно было, что посредственные живописцы в
большинстве случаев мажут на холсте святых угодников в натуральную
величину, но требуется уже большой мастер, для того чтобы с
жизненной правдивостью и техническим совершенством изобразить этого
испанского нищего-мальчишку, ищущего вшей, нидерландского
мужика, которого рвет или которому выдергивают зуб, или уродливых
старух, каких мы видим на превосходных маленьких голландских
картинках? Большое и страшное гораздо легче изображать в
искусстве, чем мелкое и забавное. Египетские чародеи могли
воспроизвести вслед за Моисеем многие его кунштюки, а именно — змей,
кровь, даже жаб, но когда он сотворил с виду гораздо более легкие
чудеса, например мошек, то они признали свое бессилие, не смогли
сделать маленьких мошек и сказали: «Это — перст божий».
Обличайте сколько угодно грубости в «Фаусте» — в сценах на Брокене
или в погребке Ауэрбаха,— обличайте непристойности в «Мейсте-
ре»,— ничего такого вы все же создать не сумеете. Это — перст
Гёте. Но вы и не собираетесь создавать что-либо подобное, и я
слышу, как вы с отвращением заявляете: «Мы не волшебники, мы
добрые христиане». Что вы не волшебники, это мне известно.
Величайшая заслуга Гёте заключается именно в совершенстве
всего, что он изображает. Здесь нет частей более сильных, в то
404
время как другие слабы, здесь нет того, что одна сторона
выписана до конца, а другая едва намечена, здесь нет неудач, нет обычного
литературного балласта, нет пристрастия к разрозненным
подробностям. Всякое действующее лицо его романов и драм, когда бы оно
ни выступало, он разрабатывает так, как будто это главный герой.
То же самое у Гомера, то же у Шекспира. В созданиях всех великих
поэтов, в сущности, нет второстепенных персонажей, каждое
действующее лицо есть на своем месте главный герой. Такие поэты
подобны самодержавным государям, которые не признают в людях
никакой самостоятельной ценности, но по собственному усмотрению
жалуют их высшим достоинством. [...]
Я не был бы немцем, если бы при упоминании о «Фаусте» не
высказал некоторых пояснительных мыслей об этом предмете. Ибо
от величайшего мыслителя до незаметнейшего маркера, от
философа до — по нисходящей — доктора философии всякий испытывает
свое остроумие на этой книге. Но, поистине, она так же
всеобъемлюща, как Библия и, подобно последней, охватывает небо и землю
вместе с человеком и его истолкованиями. И здесь снова главной
причиной такой популярности «Фауста» является сюжет; а то, что
Гёте выискал этот сюжет в народных сказаниях, свидетельствует
именно о его бессознательном глубокомыслии, о его гении, всегда
умевшем брать самое непосредственное и нужное. Я вправе
предположить знакомство с содержанием «Фауста», ибо книга эта
сделалась в последние годы знаменитой и во Франции. Но я не знаю,
известно ли здесь и само старинное народное сказание, продается
ли и здесь на ярмарках серая, скверно напечатанная на оберточной
бумаге и украшенная лубочными картинками книжка, где
обстоятельно рассказано, как великий чародей Иоганнес Фаустус, ученый
доктор, изучив все науки, в конце концов выбросил все свои книги
и заключил с чертом договор, по которому он может наслаждаться
всеми плотскими утехами на земле, но при этом предает адской
погибели свою душу. В средние века народ, видя где-либо большую
умственную мощь, всегда приписывал ее союзу с дьяволом, и
Альберт Великий, Раймунд Луллий, Теофраст Парацельс, Агриппа
Неттесгеймский и в Англии Роджер Бэкон слыли чародеями,
чернокнижниками и заклинателями дьявола. Но гораздо более
необычайные вещи распевают и рассказывают о докторе Фаустусе,
потребовавшем от дьявола не только познания вещей, но и реальнейших
наслаждений, и это тот самый Фауст, который изобрел
книгопечатание и жил во времена, когда начали восставать против строгого
авторитета церкви и исследовать вещи самостоятельно,— так что с
Фаустом заканчивается средневековая эпоха веры и начинается
современная научно-критическая эпоха. Чрезвычайно показательно,
405
в самом деле, что как раз в это время, когда, по народному
убеждению, жил Фауст, начинается Реформация и что именно ему
приписывается изобретение искусства, принесшего знанию победу над
верой, а именно — изобретение книгопечатания, искусства,
лишившего нас, однако, католической душевной безмятежности и
повергшего нас в сомнения и революции,— другой на моем месте сказал
бы — искусства, отдавшего нас в конце концов во власть дьявола.
Но нет, знание, познание вещей посредством разума, наука дает нам,
наконец, те наслаждения, которых так долго обманом лишала нас
религия, католическое христианство; мы начинаем сознавать, что
люди призваны не к одному небесному, но и к земному равенству;
политическое братство, проповедуемое нам философией,
благодетельнее для нас, чем чисто духовное братство, каким одарило нас
христианство; и знание становится словом, и слово становится делом;
и мы можем еще при жизни обрести блаженство на этой земле,—
а если потом, после смерти, мы обретем вдобавок еще и небесное
блаженство, столь определенно обещанное нам христианством, то
это совсем прекрасно.
Давно уже немецкий народ глубокомысленно предчувствовал это,
ибо немецкий народ сам есть этот ученый доктор Фауст, этот
спиритуалист, духом уразумевший наконец недостаточность духа,
требующий материальных наслаждений и возвращающий плоти ее
права,— однако не сбросив еще оков символики католической поэзии,
где бог есть представитель духа, а дьявол — представитель плоти,—
уже в одном оправдании плоти люди видели отречение от бога, союз
с дьяволом.
Но пройдет еще время, прежде чем осуществится в немецком
народе то, о чем он с таким глубокомыслием пророчествовал в этой
поэме, а именно —- прежде чем путем духа осознает он узурпацию
духа и потребует прав для плоти. Тогда это будет революция,
великая дочь Реформации.
Там же, стр. 173—184.
БЕРНЕ
1786-1837
Людвиг Берне был блестящим журналистом, идеи и творчество которого
подготовили общественно-политические и эстетические установки 30-х годов.
Когда молодой Энгельс писал (в письме от 8 марта 1839 года): «Если
соединить цветистость Жан-Поля с точностью Берне, то получатся основные черты
406
современного стиля» \ он был совершенно прав. Проза Жан-Поля в эпоху
классики и романтизма была тем стилем, который допускал больше всего
возможностей варьировать его и, следовательно, подражать ему и учиться у него.
Берне, произнесший в 1825 году замечательную речь в память Жан-Поля,
соединил взятую у Жан-Поля способность легко и быстро выразить свою мысль
с умением опытного журналиста найти нужное слово и этим создал меткий и
стремительный язык политической публицистики. Это и был «современный
стиль», которому по-настоящему не научился у Берне ни один из его
последователей из «Молодой Германии». От Берне к ним перешла тенденциозность
и узость мелкобуржуазного политика, а также враждебность по отношению
к Гёте, которого Берне однообразно упрекал в сервилизме. Ограниченность
общественных и эстетических позиций Берне проявилась в его непонимании
специфики искусства и вульгарном истолковании связи между жизнью и
литературой. Берне видел в Гейне эстета; он ожидал от него прямолинейных и
однозначных суждений и, не находя их, винил Гейне в двусмысленности оценок.
Между тем Гейне была ясна противоречивость тогдашней мелкобуржуазной
революционности, и, в отличие от Берне, он видел общественные проблемы в их
подлинном виде. Однако при всех своих слабостях Берне оставался блестящим
полемистом и мастерским наблюдателем действительности (особенно в
«Письмах из Парижа», 1832), автором увлекающих своей яркостью и резкостью
суждений.
ПИСЬМА ИЗ ПАРИЖА
Одиннадцатое письмо.
[...] Я с большим удовольствием прочитал «Эрнани» Виктора
Гюго. Верно, что такого рода произведение, написанное
французским поэтом, я оцениваю с иных позиций, чем написанное немецким
поэтом. Меня при этом мало беспокоит вещь в себе; но я просто
рассматриваю произведение в его связи, то есть что касается
романтической поэзии, в его противоположности духу французской нации.
Итак, чем безумнее, тем лучше; ибо романтическая поэзия
целительна французам не благодаря своему созидательному принципу,
а благодаря разрушительному. Приятно видеть, как трудолюбивые
романтики все поджигают и все ломают и увозят с места пожара
огромные тачки, груженные правилами и классическим мусором.
Тупые головы либералов, для которых было бы полезнее
способствовать разрушению, сопротивляются ему, и это их поведение остается
для меня загадкой, которую я безуспешно стараюсь разрешить
вот уже десять лет. Бедных романтиков их противники осмеивают
1 «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 2, М., 1957, стр. 476.
407
и преследуют, так что жалко смотреть на них, и их душераздирающие
жалобы невозможно читать без слез. Но отчего эти жалобы?
Почему они не идут просто своим путем, не заботясь о том, хвалят их
или ругают? Да, в этом дело. Они недостаточно романтичны;
романтизм только в их головах, а не в сердце; они полагают, что
произведение искусства должно иметь общепризнанную ценность, как
монета, и потому со вздохом мечтают о всеобщем одобрении. [...]
Каким требовательным делает человека счастье! Эти молодые
люди рыдают и проклинают свою жизнь потому, что несколько
поэтических абсолютистов не желают, чтобы они были романтиками,
а эти абсолютисты не имеют никакого оружия, кроме пера и
насмешек, против которых можно выставить то же оружие,— нас же,
несчастных немцев, от мала до велика, как только на мгновение мы
перестаем быть романтиками и начинаем думать о
действительности, ругают, как школьников, и треплют, как собак, а мы при этом
не смеем пикнуть, стоя как по струнке. [...]
L. Börne, Gesammelte Schriften, hrsg. von
Α. Ksaar, Lpz., o. J., Bd. V, S. 42—44. Перевод
Ал. В. Михайлова.
Сто девятое письмо.
[...] Гейне — художник, поэт, и, чтобы быть всеми признанным,
ему не хватает одного — быть признанным самим собою. Поскольку
часто ему хочется быть чем-то, кроме поэта, он часто теряет из
виду себя. Для кого, как для него, форма — высшая ценность, для
того она необходимо остается единственной ценностью; ибо как
только он переходит через край, он разливается в безграничности,
и его поглощает песок. Кто искусство почитает как божество, но,
смотря по настроению, обращает свои молитвы и к природе, тот
одновременно совершает грех против искусства и природы. Гейне
вымаливает у природы нектар и цветочную пыльцу и из податливого
воска искусства строит свои соты. Но он строит соты не для того,
чтобы сохранить в них мед, а собирает мед для того, чтобы
заполнить им соты. Поэтому он никого и не трогает, когда плачет; ибо
всем известно, что слезами он только поливает грядки с фиалками.
Потому он никого и не убеждает, когда говорит правду; ибо все
знают, что в природе он любит только прекрасное. Но истина не
всегда прекрасна, не всегда бывает таковой. Долго приходится
ждать, пока она расцветет, но прежде чем завяжутся плоды, она
засыхает. Гейне преклонился бы перед немецкой свободой, если бы
она стояла в цвету; но поскольку из-за сердитой зимы ее укрыли
навозом, он знать не хочет и презирает ее. С каким воодушевлением
говорил он о борьбе республиканцев в церкви Сен-Мери и об их
408
героической смерти! 1 Это было счастливое сражение, им было дано
оказать сопротивление врагу и умереть прекрасной смертью за
свободу. Не будь борьба прекрасной, а для этого довольно было бы
другого места действия, где республиканцев могли бы разогнать и
изловить,— и Гейне потешался бы над ними. Поступок Брута Гейне
охотно воспел бы — прекрасно, как только возможно, но если бы
портной извлек кровавый клинок из груди обесчещенной юной швеи,
имя которой к тому же Бербельхен, и тем самым побудил
неподвижных мещан собственными силами добиваться освобождения,— он
посмеялся бы над ними. [...]
Гейне в моих глазах имеет такую цену, что ему не всегда
удается переоценить себя. Следовательно, не в том, что он
переоценивает себя, я упрекаю его, а в том, что он вообще переоценивает
эффективность деятельности отдельного человека, хотя в своей же
книге так ясно показал, что даже Вольтер и Руссо не имели бы
никакого значения теперь, когда действуют хоры, а действующие лица
говорят. Чем являемся мы, если нас много? Ничем, кроме как
глашатаями народа. Когда мы прорицаем — громким и ясным голосом —
то, что нам поручено — каждому его партией, нас хвалят и
награждают, если же мы говорим невнятно или даже предательски
сообщаем ложные вести, нас порицают и наказывают. [...]
L. Börne, Gesammelte Schriften, Bd. VI, S. 287—
289. Перевод Ал. В. Михайлова.
ФРАГМЕНТ 118
Искусство древних придавало плоть духовному, новое обращает
в дух телесное. И там и тут оно является тем, чем там и тут
является религия. Языческое искусство было чувственной силой,
настоящим моментом, наслаждением, христианское —
сверхчувственным отречением, грядущим, надеждой. Искусство — порождение
умения, творение творческой силы, и поскольку христианское
искусство изображает терпение и бессилие, оно не искусство. Жертвуя
форму материи, материю — первоматерии и последнюю — пустоте,
краски — свету, время — вечности, мысли — мышлению,
христианское искусство есть противорождение человеческого бытия, когда
сын становится родителем отца — оно не искусство, потому что не
созидает, а разлагает. Как поэзия Кальдерона не настоящее
драматическое искусство, так и христианская живопись не настоящее
1 Попытка восстания, руководимая «Обществом друзей народа» 5 и б июня
1832 года в Париже.
409
изобразительное искусство. У древних вперед выступает скульптура,
у новых — живопись. Там — очертания и видение, здесь —
перспектива и расчет. Значение картины не в том, что дано, а в том, что
скрывается позади. Поэтому республики, свобода совести (боги по
выбору, многобожие), протестантизм, мужчины, разум — более
склонны к скульптуре; монархии, единая религия (католицизм),
женщины, чувство — больше любят живопись. Пластическое начало
в старонемецкой живописной школе, потом в голландской, менее
во французской, совсем отсутствует в итальянской; постепенно
понижаясь, оно доказывает силу протестантского принципа
в государственной и личной жизни тех народов. Я узнал, что Дан-
некер работает сейчас над Христом, и, по заверениям знатоков, этот
образ будет высшим достижением нового искусства.
Удовлетворительно ли решит этот большой немецкий художник свою
таинственную задачу, этого всякий будет ждать, справедливо сомневаясь.
Как можно пластически изобразить Христа, трудно понять. При
этом должно исчезнуть или искусство образа или божественность
прообраза. Образы греческих богов были очеловеченными богами,
и небесный свет вбирала в себя масса глины, а богочеловек
христиан был божественным человеком, итак, свет должен одержать
верх над материей — одержать верх, что может произойти только
в живописи.
L. Börne, Gesammelte Schriften, Bd. IV, S. 168.
Перевод Ал. В. Михайлова.
БЮХНЕР
1813-1837
Георг Бюхнер — необыкновенная фигура в духовной жизни Германии
первой половины XIX века. Он был одарен редкой способностью понимать
подлинный, реальный смысл происходящих событий; в отличие от большинства
своих современников он не был отягощен грузом романтической или
философской традиции, которая невольно заставляла видеть действительность в
предвзятых тонах, в окраске романтической мечтательности или в формах
устоявшихся символов. Это позволило ему осознать слабые стороны в
мировоззрении Гуцкова и «Молодой Германии» и реально понять всю сложность
социальных проблем Германии. «Я полагаю, что в социальных вещах нужно исходить
из абсолютного принципа права: стремиться к образованию новой духовной
жизни в народе и послать отжившее современное общества к черту»,— писал
Бюхнер Гуцкову в 1836 году *.
1 G. Büchner, Werke und Briefe, Wiesbaden, 1958, S. 412.
410
Стремясь преодолеть разрыв между отвлеченным, условным характером
литературы и немецкой политической и общественной действительностью 30-х
и 40-х годов, представители «Молодой Германии» часто нарушали при этом
границу, отделяющую литературу и поэзию от журналистики и потребности
дня от потребностей эпохи. Бюхнер был единственным, кто сумел преодолеть
этот разрыв, сохранив в новых условиях все богатство поэтического отражения
действительности и глубокую многозначность художественных образов.
Произведения Бюхнера — драма «Смерть Дантона» (1835), драма «Войцек», новелла
«Ленц» — были бескомпромиссными реалистическими произведениями, а их
высокий художественный уровень и оригинальность поставили их наряду
с лучшими созданиями реалистического искусства других стран. Все они были
созданы за те немногие годы его творческой деятельности, когда Бюхнер
принял активнейшее участие в революционных выступлениях в земле Гессен
в 1835 году (он написал, в частности, листовку «Гессенский вестник»), окончил
университет, где занимался практической медициной, естествознанием, теорией
познания и метафизикой (на освоение одной науки ему хватало нескольких
месяцев), защитил в Цюрихе выдающуюся докторскую диссертацию о «нервной
системе усачей», после чего был принят в члены-корреспонденты Цюрихского
общества естественной истории.
Приводимые ниже отрывки из новеллы «Ленц» — высокопоэтического
реалистического произведения, где душевная жизнь немецкого поэта выявляется
через наполненную символическим значением предметность, более широко
характеризует эстетические взгляды Бюхнера, чем «Смерть Дантона» и письма,
в которых выявляется основная направленность эстетики Бюхнера,
определяющая общий характер его мировоззрения и творчества.
ИЗ ПИСЕМ СЕМЬЕ
Страсбург, 28 июля 1835 года
[...] Что же касается пресловутой безнравственности моей книги,
то на это я могу ответить следующим образом: драматический поэт
в моих глазах не что иное, как историк, но он стоит выше последнего
благодаря тому, что вторично творит историю и сразу же, вместо
того чтобы давать сухое изложение, переносит нас в жизнь эпохи,
вместо характеристик создает характеры, а вместо описаний —
личности. Высшая его задача состоит в том, чтобы по возможности
приблизиться к истории такой, какой она была на самом деле. Его
книга не может быть ни нравственнее, ни безнравственнее, чем сама
история, но история господом богом создана не для чтения юных
девушек, и потому нельзя винить меня в том, что моя драма столь же
мало годится для этой цели. Ведь из Дантона и разбойников
революции я не могу сделать рыцарей добродетели! Если мне нужно было
описать их распутство, то они должны вести себя, как распутники,
411
а если я хотел показать их безбожие, то они должны говорить, как
атеисты. Если встречаются неприличные выражения, то стоит
вспомнить всему миру известную непристойность языка того времени,
причем то, что у меня говорится в пьесе, только бледный его
силуэт. Меня можно еще упрекнуть в выборе такого материала. Но
такое возражение давно опровергнуто. Если считать, что оно
заслуживает внимания, то придется осудить величайшие шедевры поэзии.
Поэт не проповедник морали, он сочиняет и творит фигуры, он
заставляет ожить эпохи прошлого, и это уже может быть поучительно
для людей, так же как изучение истории и наблюдение за тем, что
происходит в жизни людей вокруг. Если так ставить вопрос, то
нельзя изучать историю, в которой говорится так много о
безнравственных вещах, и пришлось бы ходить по улице с завязанными
глазами, боясь увидеть непристойности и кричать караул по адресу
бога, создавшего мир, где так много распутства. Если же мне в
довершение всего скажут, что поэт должен показывать мир не таким,
каков он есть, а каким он должен быть, я отвечу, что не стремлюсь
к лучшему, чем господь бог, который, верно, сделал мир таким,
каким он должен быть. Что же касается так называемых идеальных
поэтов, то я нахожу, что они не создали почти ничего, кроме
марионеток с небесно-голубыми носами [глазами?] и подчеркнутым
пафосом, но не людей из плоти и крови, радости и горести которых
вызывали бы у меня сочувствие и поступки которых вызывали бы
отвращение или восхищение. Одним словом, я высоко ценю Гёте
и Шекспира, но мало — Шиллера 1 [...]
Страсбург, 1 января 1836 года
[...] Вообще же, что касается меня, то я никоим образом не
принадлежу к так называемой «Молодой Германии», литературной
партии Гуцкова и Гейне. Только полное непонимание наших
общественных отношений может позволить этим людям думать о возможности
полной реформы наших религиозных и общественных идей
посредством журналистики (Tagesliteratur). [...] Я иду своим путем,
оставаясь в области драмы, которая не имеет ничего общего со всеми
этими разногласиями; я создаю своих героев сообразно с природой
и историей и смеюсь над теми, кому хочется, чтобы я был в ответе
за их нравственность или безнравственность. У меня свои мысли на
этот счет. [...]
С. Büchner, Werke und Briefe, hrsg. von F.
Bergemann, Wiesbaden, 1958, S. 399—400, 408.
Перевод Ал. В. Михайлова.
1 Такая оценка Гёте и Шиллера является обратной той, которая была, как
правило, принята писателями «Молодой Германии», и весьма характерна для
существа расхождений Бюхнера с этим направлением.
412
ЛЕНЦ1
[...] Оберлин говорил еще о людях в горах, о девушках,
чувствующих воду и металл под землей, о мужчинах, которые на вершинах
гор были схвачены духом и боролись с ним; он рассказал, что
однажды в горах, глядя в прозрачную глубину горных вод, он был
перенесен в какое-то сомнамбулическое состояние. Ленц сказал, что
дух вод нашел на него, чтобы он лучше мог почувствовать свое
собственное бытие. Он продолжал: самые простые чистые души
ближе всего к природе стихий; чем более утонченной духовной
жизнью живет человек, тем больше притупляется это чувство стихии;
хотя он его и не считает высоким состоянием души, для этого оно
слишком лишено самостоятельности, но он думает, что бесконечное
блаженство заключается в том, чтобы ощущать прикосновение
жизни в каждой ее форме, чувствовать минералы, металлы, воды и
растения и, как во сне, принимать в себя всякое существо, как цветы —
воздух вместе с ростом и убыванием месяца.
Он продолжал высказывать свои мысли: что во всем заключена
несказанная гармония, звук, блаженство, у высших форм она
находит больше средств выразиться, прозвучать и зато глубже
воспринимается; в низших формах все сдержаннее, ограниченнее, зато
больше покоя в себе. Он продолжал эту мысль. Оберлин прервал
его [...].
За столом Ленц был снова в хорошем настроении: разговор
зашел о литературе, это было близко ему. Тогда начался
идеалистический период, Кауфман был его приверженцем, Ленц резко
возражал ему. Он сказал: поэты, о которых говорят, будто они
передают действительность, не имеют о ней ни малейшего
представления, но их легче вынести, чем тех, которые стремятся ее преобразить.
Он сказал: «Бог, верно, создал мир, каким он должен быть, и нам
вряд ли удастся смастерить что-нибудь получше; единственно к чему
мы можем стремиться, это немного подражать ему. Я требую во
всем — жизни, возможности бытия, и тогда бывает хорошо; нам
тогда не приходится спрашивать о красоте и безобразии. Чувство,
что у творения есть жизнь, выше этого, и в делах искусства оно —
единственный критерий. Но, впрочем, оно редко встречается: мы
находим его у Шекспира, оно в полную силу звучит в народных
песнях и часто у Гёте; все остальное можно бросить в огонь. И эти
1 Ленц Якоб (1751—1792) —немецкий писатель периода «Бури и натиска»
(см. 2-й том настоящего издания, стр. 575—583). В обстоятельствах жизни
Ленца Бюхнер находил соответствие своему бурному жизненному пути.
413
люди не умеют нарисовать даже собачьей конуры. Тут захотели
идеалистических героев — сколько я их ни видел, все это были
деревянные куклы. Этот идеализм — позорнейшее презрение
человеческой природы. Нужно попытаться погрузиться в бытие самого
малого мира сего и воспроизвести жизнь его во всех ее движениях и
побуждениях, со всеми тонкими, едва заметными изменениями в
выражении лица, он стремился к этому в «Наставнике» и в «Солдатах».
Это самые прозаические люди на земле, но источник чувства почти
у всех одинаков, только его оболочка, сквозь которую оно должно
прорваться, бывает более или менее плотная. Нужно только
смотреть и слышать. Вчера, идя вверх по долине, я увидел двух девушек,
сидящих на камне; одна заплетала волосы, другая ей помогала;
золотистые волосы падали вниз, бледное, серьезное, такое юное лицо,
темное платье, а вторая так заботилась о ней. Самые прекрасные,
самые сосредоточенные картины старонемецкой школы едва ли
дают об этом представление. Иногда хочется стать головой Медузы,
чтобы превратить такую композицию в камень и позвать людей.
Они встали, и прекрасная композиция была нарушена; но когда они
шли, спускаясь между камней, это была уже новая картина.
Самые прекрасные образы, самые животрепещущие звуки
расходятся в ничто. Остается одно: бесконечная красота, переходящая
из одной формы в другую, всегда в цветении, в изменении. И не
всегда можно удержать ее, выставить в музее и перевести в ноты,
а потом призвать всех, чтобы стар и млад предавались своим
вздорным речам и восхищению. Нужно любить человечество, чтобы
проникать в своеобразие каждого существа; тогда нет ни слишком
малого, ни слишком безобразного, тогда можно их понять; самое
незначительное лицо может произвести более сильное
впечатление, чем одно только восприятие прекрасного, и можно выводить и
воплощать образы, не передавая в них никаких внешних черт, в
которых нет трепета жизни, не наливаются мускулы, не бьется
пульс.
Кауфман возразил ему, говоря, что в действительности нет
образцов для Аполлона Бельведерского или Мадонны Рафаэля. Что же,
ответил он, признаюсь, меня подавляет их вид. Если я буду
заставлять себя, то смогу почувствовать что-то, но это уже будет мое.
Тот поэт и живописец наиболее привлекателен для меня, кто
наиболее реально передает природу, так что его образ вызывает
чувство. Я больше люблю голландских художников, чем итальянских,
потому что они единственно понятны. [...]
Там же, стр. 93—96. Перевод Ал. В. Михайлова.
414
ВИНБАРГ
1802-1872
Жизнь и творчество Лудольфа Винбарга тесно связаны с деятельностью
«Молодой Германии». К годам расцвета «Молодой Германии» относится самое
известное сочинение Винбарга — «Эстетические походы» (1834) —двадцать
четыре лекции по эстетике, прочитанные им в Кильском университете в 1833
году. Они вызвали резонанс в Германии и стали известны за рубежом, даже
в Америке. Как политическое выступление, отмеченное смелостью и даже
дерзостью, лекции Винбарга сыграли выдающуюся роль. Они не излагают
системы эстетики, а пропагандируют радикальные политические и
эстетические взгляды вне системы и особого плана. Ради достижения своих целей
Винбарг не останавливается даже перед заимствованием длинных пассажей
из Шеллинга и других авторов (иногда в несколько страниц), которые
помещаются в его книге без кавычек. Собственная эстетика Винбарга эклектична.
Идеи, которые он пропагандирует, отражают мировоззрение «Молодой
Германии» во всей его противоречивости. С одной стороны, это верные мысли об
общественной роли литературы, об ответственности писателя, с другой —
типичное непонимание глубокого значения и подлинно политической роли
творчества немецких классиков, пренебрежение спецификой искусства. Для
взглядов Винбарга характерен и тот внешний, философски неглубокий
иррационализм, который вообще начал распространяться в это время и затронул даже
таких не похожих на Винбарга писателей, как Ф. Геббель: во взглядах на
историю, на жизнь, в противопоставлении искусства и науки. Винбарг
вырабатывает не очень ясное и поверхностное эстетическое понимание «истории»,
выраженное с помощью довольно безвкусных и плоских образов («исторический
концертный зал») : «История — не результат ученых изысканий, она, нагая
и прекрасная, как Афродита, выходит из пены волн...» *. Понятие истории
подчиняется иррациональному понятию «жизни», а историческая правда
рассматривается как результат непосредственной и мгновенной интуиции. Эти
иррациональные представления занимают большое место в мировоззрении
Винбарга, и когда в конце «Эстетических походов» он выражает в уверенных и
четких словах основную тенденцию своей книги, то здесь сильные и слабые
стороны его идей уравновешивают друг друга: «Писательство — это не игра
прекраснодушных личностей, не невинное развлечение, не легкое занятие
фантазии, но дух времени, невидимо управляющий всеми, водит его (писателя)
рукой и железным грифелем истории пишет в книге жизни, поэты и прозаики...
служат отечеству, они союзники всех мощных устремлений времени» 2.
Представление о «духе времени» наполнено для Винбарга иррационалистическим
содержанием, а сам ход мысли очень близок Геббелю («Мое слово о драме»).
1 L. W i е η b а г g, Ästhetische Feldzüge, hrsg. von W. Dietze, Berl.—*
Weimar, 1964, S. 31.
2 Τ a m же, стр. 188.
415
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ
Девятая лекция
Великие поэты мертвы, и мы не очень печалимся по этому
поводу, мы вообще стали более равнодушными к искусству и поэзии
в том смысле, как ими занимались до сих пор, и я тоже считаю
хорошим признаком, что так называемая проза, «несвязанная» речь,
начинает литься действительно более свободным и поэтическим
потоком, чем до сих пор, когда проза представляла собой Самсона,
связанного филистимлянами, а так называемая «связанная» речь,
поэзия, пребывала вне всяких рамок.
Наши поэты стали прозаичнее, а прозаики поэтичнее, и это
значительное изменение, изменение, которое принадлежит к самым
радостным чертам и явлениям эпохи, потому что проза — это наш
обыкновенный язык и как бы наш насущный хлеб, наши сословия
говорят прозой, и мы лучше можем защищать свою личность и права
в прозе, чем в стихах.
Но эстетику от всего этого не много пользы: мертвенная
неподвижность жизни еще повсюду берет верх, и зеленоватая, мутная
водица не годна даже для осла мельника, не говоря уж о крылатом
коне, который стремится утолить свою жажду в прозрачном
источнике Иппокрены. [...]
Десятая лекция
[...] Что такое прекрасное? Что теперь в унисон называют
прекрасным деянием? Вспомните восстание поляков! Что много
столетий перед тем швейцарцы отделились от Австрии, Телль убил Гес-
слера, что Винкельрид был столпом свободы 1 и направил в свою
грудь копья врагов, мы это в унисон находим прекрасным,
и всякому немцу как полицией, так и эстетикой разрешается
пылать энтузиазмом по этому поводу. Однако когда позорно
поделенный на части и угнетенный народ на наших глазах взрывает
ледяной покров тирании так, что однажды была ночь, когда мы
спокойно спали в своих постелях и бог знает какую оперу видели
во сне, ночь, когда горстка смелых юношей штурмовала дворец в
Варшаве и приветствовала утреннюю зарю, освещавшую — после
того как несколько мерзавцев были убиты и бежали — лопнувшие
цепи великой и благородной нации, это событие и все те славные
подвиги и жертвы, которые оно повлекло за собой,— все это нашло
такой всеобщий отклик, так повсеместно и истинно захватило все
1 Имеются в виду события освободительной борьбы швейцарцев с
Австрией в конце XIV века.
416
сердца, что разве кто-нибудь не слышал, что там, где собиралось
двенадцать человек, один говорил об этом с презрением, другой
с восторгом, а десять били в ладоши, будто присутствовали в театре
мира при исполнении прекрасной пьесы.
Этот трагический и такой близкий нам пример я привожу, чтобы
показать, как обстоит дело с нашими эстетическими чувствами,
когда самая зажигательная красота подвига раскрывается перед
нашими глазами. Вот перед вами деяния, красотой которых нужно
проникнуться, если есть еще капля римской крови и в душе частица
души Тимолеона, если не все ложь и школьная болтовня, чем
славна древняя история, вот деяния, которые вы видите, что
оцениваются контрастно — в крайних формах восхищения и отвращения,
а у толпы — или тупое удивление, глупая радость или нечто вроде
драматически-театрального удовольствия. [...]
Пусть теперь гений вроде Шекспира выведет на театральных
подмостках польскую революцию, борьбу и падение свободы — в
величественных поэтических образах, на театральных подмостках,
которые, как говорит Шиллер, «не сам мир, но означают мир», тогда
вы услышите, как совпадают все оценки, как аплодирует партер,
как фенрихи бьют себя в грудь, как критики протирают свои очки,
каким энтузиазмом полны ложи, и, может быть, увидите, как в
конце пьесы — и свободы — проливает слезы замершее лицо чиновника
и министра, а на его щеках пропадает последний остаток жалости
и сочувствия. [...]
Драматическая поэзия не была бы поэзией без поэзии деяния,
поэт — не бог, который благодаря прирожденной способности может
творить новые миры, он и не фокусник, который может возбуждать
в душе слушателей всякие видения радости и боли, страха и
вдохновения посредством рифм, ассонансов и ритмической смены шести
метрических стоп; поэт заимствует материал и вдохновение из
деяния, и ему будет принадлежать пальма первенства, если красота
деяния, пересаженная им из жизни в другой мир, в мир искусства,
своим светом будет проникать всю его поэму и от поэмы в свою
очередь получит новый блеск, как драгоценность в оправе. Так
прекрасное проходит двойной круг и вызывает двойное действие — одно в
жизни, нравственное, поэтическое, историческое, общественное,
другой раз — в поэзии — художественное, драматическое, эпическое.
В том и другом случае оно возбуждает эстетическое чувство, но в
первом более деятельное, во втором более пассивное, в первом более
непосредственно, во втором — осуществляя более опосредованное
обратное воздействие. [...]
Что касается прекрасного в искусстве и поэзии, здесь, как
правило, приходят к сносному согласию, и при виде прекрасных картин
417
и стихов у нас всех приблизительно одно впечатление; но в
области фактов мнения и чувства расходятся, здесь, где прекрасное
имеет источник и бьет ключом, где еще ощутим теплый след
божественного дыхания, именно здесь оно многих никак не трогает. [...]
Одиннадцатая лекция
Восприятие прекрасного, само прекрасное мы вполне отнесли
к кругу исторически-субъективного. Однако мы не должны
останавливаться на этом; и доброе и истинное относятся к той же области.
Кто отрицает это, тот не понимает истории и внутренней связи
доброго, прекрасного и истинного, как она раскрывается
исторически. [...]
Только немецкая присяжная мораль способна была на такое
полное непонимание закона прекрасного, что попыталась всю
нравственную жизнь вогнать в круг своих сухих формул. Пусть ее
кодекс положат на могилу ее сочинителей и составителей. [...]
Жалкие моралисты, которые выступают, чтобы обвинять
искусство в легкомыслии, которое в наше время будто бы все больше
внедряется и распространяется, отойдите со стыдом и замолкните;
ибо где в современности проблескивает еще прекраснейшая искра
природы, свободы и истины, ее скорее можно увидеть в пении и
поэзии, чем в жизни, где под пустой, бессмысленной и легковесной
поверхностью могут показываться только едва заметные огоньки.
Не искусство губит жизнь, а жизнь губит искусство,— всегда и
везде, даже в самые худшие времена Нерона искусство было все
же лучше и священнее жизни.
Только немногие рождаются, чтобы стать художниками: но все,
чтобы стать художниками для самих себя, чтобы образовывать свою
собственную личность; именно это, всеобщность и неизбежность
требования, отличает искусство жизни, мораль от всех других
искусств, которые и в этом отношении можно назвать свободными,
так как занятия ими основаны на таланте и желании, в то время
как каждому нужно приписать желание, за каждым признать
талант заниматься собственным моральным воспитанием. [...]
Девятнадцатая лекция
Многообразны речи, языки и характеры на земле, которые не
понимают друг друга; но поэзия — огненный язык, который от
сердца говорит сердцу и каждого человека движет сладостной
понятностью. Поэзия — это природа, первоначальное человечество,
которое соединяется с каждым особым явлением человечества на поле
истории и потому своеобразно принадлежит всякому особому
человечеству, любой эпохе, тогда как ее источник — вообще человече-
418
ское. Поэтому по праву можно говорить о католической, о
греческой поэзии, о романтической и классической, только нужно
остерегаться переносить противоположность на самое существо поэзии,
ибо поэзия одна у всех народов и состояний, во все времена, но
луч этого единого солнца тысячекратно преломляется в духовной
атмосфере и порождает этим пеструю игру красок — мировую
поэзию, понимание которой, по выражению Рюккерта, одно привело бы
ко всемирному примирению.
[...] Под словами: современная лирика революционна — я
понимаю следующее: всякий большой поэт, который выступит в наше
время, должен будет выразить ту борьбу и то потрясение, которые
переживаются эпохой и его собственной душой. Поэт был бы
слепцом, холодным, бесчувственным человеком или лицемером и вообще
не великим поэтом, если бы он за своей лирой забыл о том
огромном разрыве, который отделяет современность от прошлого, он не
был бы толкователем природы и человечества, если бы не понимал,
не чувствовал стремлений и горестей человечества и уносился бы
прочь на волнах поэзии. Байрон был великим поэтом, и потому его
лирика, только слегка набросившая эпическое одеяние, была
насквозь революционной. [...]
Двадцать третья лекция
Выставив в качестве всеобщего закона то, что любая литература
в определенную эпоху выражает и формулирует соответствующее
общественное состояние этой эпохи, мы уже в области драмы и
лирики подтвердили его примером Гёте и Байрона — в той мере, в
какой обоих можно считать блистательными герольдами своего времени,
независимо от их индивидуального характера, который отличал их
от большинства современников. И именно так мы должны
представлять себе, как эпоха находит своих выразителей в поэтах и
писателях,— они заимствуют у эпохи рисунок и цвет, но в своих картинах
они проявляют самостоятельность и творчество и обнаруживают им
присущий стиль. Так, о Байроне мы сказали, что его лира
вдохновлялась взмахами крыл новой эпохи более, чем какого бы то ни было
другого поэта, но при этом мы заметили, что он в своих стихах не
забыл о лорде и, воспламеняясь борьбой за права человечества и
угнетенных народов, восторженно вдохновляясь свободой и чистой
гуманностью греческой древности, с гордостью видел в себе
потомка древнего феодального рода Англии и так заявлял о себе. [...]
Байрон, каким бы великим он ни казался среди поэтов
новейшего времени, был только предтечей гения, который, не будучи
связан предрассудками рождения и воспитания, воспоет грядущую
мессиаду человечества.
419
В прозе или в стихах — безразлично. Поэзия — это все, что
исходит из глубины души человечества; кажется, что наиболее
крупные поэты современной Германии числятся среди прозаиков. По
крайней мере вывод о поэтическом содержании всей нашей
литературы в целом, если исходить из поэтического содержания наших
драматических поэтов, наших лирических и эпических поэтов, дал
бы жалкий итог. И Платен, Иммерман, Раупах как представители
немецкой поэзии не могли бы дать солидное представление о ней.
Скорее, мы склонны приветствовать Гейне в качестве такого поэта
и то не ради его стихов, неудачных драм и легкомысленных песен,
а ради прозы, которой он написал свои «Путевые очерки».
Двадцать четвертая лекция
[...] Какой признак отличает эстетику новейшей литературы,
прозу Гейне, Берне, Менцеля, Лаубе от более ранней прозы? Я хочу
назвать это одним словом, сказав, что этот признак —
самоудовлетворенность, которая ясно выражается в гётевской и жан-полевской
прозе и отсутствует в новейшей. Эти прежние деятели нашей
литературы жили в сфере, отгороженной от мира, в удобстве и холе
зачарованного идеального света и словно смертные боги взирали вниз
на радости и печали настоящего мира, питаясь жертвенным духом
чувств и пожеланий своей публики. Новейшие писатели спустились
с этих удобных высот, они составляют часть публики, они
соприкасаются с толпой, они горячатся, радуются, любят и гневаются,
как всякий другой, с той только разницей, что плывут впереди
других, и — все равно, сохраняя ли элегантность, как Гейне, на
спине дельфина или в воде и пене, как Берне,— они плывут к
брегам грядущего, которые наша эпоха считает «садами Гесперид на
счастливых островах».
L. Wienbarg, Ästhetische Feldzüge, hrsg. von
W. Dietze, Berl.—Weimar, 1964, S. 85—88,
91—94, 96, 99, 107, 112, 151, 157, 175, 177, 179,
187—188. Перевод Ал. В. Михайлова.
МЁРИКЕ
1804-1875
Эдуард Мёрике был одним из самых замечательных лирических поэтов
XIX века. Помимо тончайшей лирики, которая по своей глубине и
оригинальности не может быть сравнима с поэзией ни одного из его современников
в Германии, Мёрике создал роман «Художник Нольтен» (1832), оказавший,
420
хотя далеко не сразу, значительное влияние на развитие немецкой
литературы (например, на творчество Германа Гессе (1877—1962), и несколько новелл,
одна из которых— «Моцарт на пути в Прагу» (1855) принесла поэту
заслуженную известность и за пределами Германии.
Мёрике был одним из немногих деятелей культуры, которые в середине
века стремились сохранить в нерушимости традиции немецкого классического
гуманизма эпохи Гёте и Гумбольдта, испытывавшие все большее давление со
стороны неприглядной действительности. Сохранение этих традиций стало
возможным для Мёрике только ценой исключения из искусства весьма
значительных областей действительности, связанных прежде всего с безобразной
и антигуманной реальностью человеческих отношений,— всего того, что в это
время стало предметом изображения реалистического романа в Англии,
Франции и России. Действительность преломляется в творчестве Мёрике с точки
зрения взаимоотношения художника и общества. Как и сам Мёрике, его герои
не попадают еще в неразрешимый и смертельный для них конфликт с
обществом, как это было потом у Гессе и Томаса Манна,— они в состоянии еще
разрешить этот конфликт восхождением к классической целостности и
гармонии в искусстве. Характерна, эволюция героя романа Мёрике: «Наш художник,
возможно, и страдал от некоторой односторонности, но его нравственный
характер был тверд, и своевременно сказалось тяготение к полному духовному
здоровью в направлении его искусства, все более восходящего ко всеобщему,
причем с этим соединялось и то, что еще оставалось в нем от фантастического
периода развития» *. Для такого человека искусство становится второй
действительностью, в которой находит свое завершение реальный мир. Один из
героев романа Мёрике рассуждает так: «В первую очередь большие потери
напоминают человеку о высших целях его существования, они учат его ценить
и познавать то, что обеспечивает мир в его душе. Я утратил многое, я
чувствую себя несказанно бедным, и в этой своей бедности я чувствую бесконечное
богатство. У меня ничего не осталось, кроме искусства, и теперь я познаю
святое его значение» 2. Внутренний опыт художника, нравственная
определенность и устойчивость его мировоззрения должны торжествовать над
случайностью явлений внешнего мира и хаосом жизненного материала.
Необычайная пластичность миросозерцания Мёрике выражается в том,
что красота мира запечатлевается у него в прекрасных вещах, которые
становятся символами прекрасного и его хранителями — они «светятся изнутри»,
как говорит поэт в стихотворении «К лампе». Здесь Мёрике наиболее близко
соприкасается с античной поэзией, которую он хорошо знал и переводил. Эта
особенность миросозерцания, когда конкретная вещь «вбирает в себя»,
концентрирует и «излучает» прекрасное как некий доступный чувствам глубокий
смысл бытия, является поэтическим отражением того довольно прозаического
1 Ε. M ö г i k е, Werke und Briefe in zwei Bänden, hrsg. von H.-H. Reuter,
Lpz., [1957], Bd. II, S. 211.
* Там же, стр. 271.
421
культа изящных предметов, который стал стилем и модой в бытовом обиходе
20—40-х годов и был бессознательно использован Мёрике как повод к
созданию поэтических символов в своем творчестве.
Для Мёрике характерно отношение к произведению искусства как к
совершенной, законченной форме, причем под формой он понимает здесь
неразложимое единство формы и содержания: «Форма в своем самом глубоком
значении совершенно неотрывна от содержания, она в своих началах
совершенно едина с ним, и у нее вполне духовная и в высшей степени деликатная
природа. Я не спрашиваю о школьных правилах, если вижу прекрасное.
Прекрасная мысль, прекрасное чувство поэтически могут явиться только в
прекрасной форме; без нее, с художественной точки зрения, прекрасная мысль,
прекрасная фантазия не имеют собственно никакой ценности. Поэтому она
должна быть по возможности совершенной. И она, утверждаю я, и предрешает
счастье, я имею в виду успех поэта. По праву. Ибо хорошие мысли, интересные
образы, идеи и т. д. могут быть и у других; но воспроизвести все это в
гармонической, раз навсегда завершенной форме, приятно действующей на нас,—
это преимущество поэта, которое существенно определяет его характер и его
ценность на все времена» К
Мёрике создавал свои произведения тогда, когда противоположность
классического и романтического направлений в литературе стала стираться.
Формально он принадлежал к швабской школе романтиков, но имел мало общего
с нею. Романтизм Мёрике сказывается в создании им поэтического мифа о
земле Орплид, таинственном острове мечты, со своими богами и своей историей.
В целом творчество Мёрике служит тем мостом, который соединяет эпоху
классики и романтики с позднейшей гуманистической немецкой литературой,
и прежде всего с творчеством Г. Гессе.
ПИСЬМО ЛУИЗЕ РАУ
Лето 1830 года
[...] Разумеется, что универсальный писатель или даже только
поэтический гражданин мира, если бы ему пришлось выбирать между
Лондоном и швабской деревней, предпочел бы первое; но очень
можно усомниться в том, что место библиотекаря и секретаря у
такого князя, как Таксис, даст больший толчок нашему творчеству,
чем горизонт швабского церковного прихода. Если мне потребуется
проветрить свою черепную коробку, то поездка в более или менее
значительный город даст мне больше — и больше обогатит мое
поэтическое меню,— чем избалованному горожанину, который живет на
1 Цит. по статье: M. Colleville, La conception de la poésie et du poète
chez Mörike.— «Les langues modernes», v. 43, 1949, No. 5-A, p. 280.
422
самой арене, богатой красками и образами жизни; именно редкость
пикантных явлений обостряет взор, который их схватывает и
усиливает. Немногие, но сильные внешние впечатления — а их обработка
должна происходить в тихом и скромном уголке; на спокойном фоне
их колорит прояснится, а главное должно прийти из глубин
собственного существа; внешние впечатления — это частью побуждения,
частью же это обрывочные характерные линии, рассыпанные
черточки и т. п. Кто к своему двадцать шестому году успел
познакомиться с самыми разными, обыкновенными и необыкновенными,
людьми и знает все поверхностные и более глубоко лежащие
течения жизни, тот в остальном спокойно может черпать из источника
своей фантазии и полагаться на свой глазомер, что касается
правильности рисунка. Вообще же я живу в твердом убеждении, что
у писателя, чуть-чуть более одаренного, чем, например, Вильгельм
Гауф (безотносительно к нам), необходимость внешнего побуждения
(и живого материала дня) к условию собственного идейного запаса
относится как четыре к восьми. Кто уверен в последней сумме, тот
первое найдет и как деревенский пастор, а если ему удастся из
бумажных продуктов добывать и немножко больше кислорода, то
есть денег, то он может — для удовольствия своей жены и себя
самого — четыре довести до вполне излишних десяти. У кого нет
восьми, тот вынужден восполнять их из других сумм и заимствовать
копии у чайных кружков, обществ, изучать светский тон, играть
роль сатира для каждого франта с его галстуком и все это печатать
как поэзию. Он может стать весьма развлекательным, хорошим
писателем, а не поэтом; но именно потому он будет иметь больше успеха
у публики. Если поэзия не всегда вырастает на современной почве
(а это ее преимущество, если она не всегда это делает), то
лондонские кафе и площади Мерлена 1 требуются еще меньше — «Ифиге-
нию» можно написать и без них, только прежде нужно быть
Иоганном Вольфгангом фон Гёте, но — покорный слуга! — еще легче
прежде этого стать министром. [...]
ПИСЬМО ИОГАННЕСУ МЕРЛЕНУ
27 сентября 1830 года
[...] В целом поэзия никогда не допустит, чтобы у нее отняли ее
божественное предопределение — доставлять удовольствие, тем более
что, каков бы ни был гений поэта, он легко соединяется со
служением другим целям. [...]
1 Иоганнес Мерлен — друг Мёрике.
423
ПИСЬМО ЛУИЗЕ РАУ
10 декабря 1831 года
[...] Перед сном я сейчас перечитываю «Вильгельма Мейстера».
Эта книга на самом деле неисчерпаема и, что касается
художественной композиции, бесконечно поучительна. Сколько бы ни
перечитывал я одну страницу, в моей душе разливается сияние солнца,
я чувствую расположенность ко всему прекрасному. Я чувствую
гармонию с миром, с самим собою, со всем бытием. Вот в чем, как
мне кажется, самый подлинный критерий произведения искусства
вообще. То же производит Гомер и любая античная скульптура. [...]
Ε. M ö г i k е, Werke und Briefe, hrsg. von H.-H.
Reuter, Lpz., [1957], Bd. II, S. 670—672, 673, 700.
Перевод Ал. В. Михайлова.
ИЗ РОМАНА «ХУДОЖНИК НОЛЬТЕН»
[...] Когда я вижу счастливое созвучие твоих способностей и вижу,
с какой готовностью твоя натура смягчила все острые противоречия
твоей души, когда я думаю о том неоценимом и исключительном
счастье, которое выпало на твою долю,— о том, что искусство
досталось тебе как зрелый плод — дар благосклонных богов,— скажи же
мне, разве это не обидит меня, разве от этого не может разлиться
у меня желчь, если ты насильно хочешь заставить себя быть
односторонним — там, где нет и не может быть односторонности! Я
говорю не о твоем отношении к миру, об этом, как сказано, мы не
будем больше спорить, но то, что ты хочешь отказаться от радостных
сторон жизни, как бы умереть для них, и хочешь отказаться от
счастья... вот что возмущает меня. [...]
Ты боишься боли, которую причиняет страсть, и восторгов,
которые приносят ее радости. Но что же думать о художнике,
который слишком робок, чтобы принять на себя то и другое в полной
мере? Как! Ты, художник, который хочет представить мир во всех
его радостях и горестях, ты нарочно ставишь себе границы в
страдании и сорадовании? [...]
Как ты преувеличиваешь, возражал Нольтен, как ты
несправедлив! Как будто я выдумал диэтетику энтузиазма, как будто
я делю напополам художника и человека! Последний, хочет он того
или нет, принужден бывает к лишениям, но без этого — кто бы
обратился к искусству? Разве искусство что-либо иное, нежели
попытка заменить и восполнить то, в чем отказывает нам природа,
и по крайней мере вдвойне и в чистом виде насладиться тем, что
424
действительность дает реально. Если томление — стихия художника,
то почему нужно упрекать меня в том, что я собираюсь сохранить
это чувство в чистоте и свежести добровольным отказом еще прежде
потери, прежде чем низкий опыт дважды и трижды растопчет мой
цветущий идеал. [...]
Там же, стр. 277—27S.
ГЕТНЕР
1821-1882
Г. Гетнер сыграл заметную роль в истории передовой немецкой
буржуазно-демократической эстетики 1840-х годов. В статье «Против спекулятивной
эстетики» (1845) Гетнер подверг резкой критике идеалистическую философию
искусства Гегеля и его школы с позиций антропологического материализма
Л. Фейербаха. Вслед за Фейербахом Гетнер утверждал здесь, что чувственный
мир является не «инобытием» абсолютной идеи, но единственной подлинной
реальностью: человек осваивает его не только с помощью отвлеченного
мышления, но и посредством чувств. Чувственный, образный характер искусства
не является его недостатком: он соответствует чувственной стороне той
предметной реальности, которую отражает наше сознание. Поэтому искусство
так же необходимо человеку, как наука: только из их взаимодействия
складывается в сознании человека полная картина реальной действительности.
История искусства и поэзии — по Гетнеру — связана с развитием человеческой
фантазии, языком которой является искусство; развитие это имеет
закономерный характер, так как оно обусловлено общими законами исторического
развития культуры.
В конце 1840—начале 1850-х годов Гетнер выступил также с рядом
других работ, посвященных актуальным проблемам немецкой эстетики,
истории литературы и театра,— «Романтическая школа в ее отношении к Гёте и
Шиллеру», 1850, «Искусство и его будущее», 1850 (о сочинении Р. Вагнера
«Художественное произведение будущего»), «Современная драма», 1852.
Насыщенные отзвуками материалистической и демократической мысли, эти
работы были направлены против литературной и общественно-политической
реакции и отличались большой смелостью мысли. Многие проблемы, лежащие
в основе этих работ, Гетнер обсуждал совместно со своими друзьями — Ф. Геб-
белем и молодым Г. Келлером, дружбу с которым он сохранил на всю жизнь.
Гетнер не смог подняться до последовательного, развитого материализма.
Итогом его деятельности явилась «История литературы XVIII века» (1856—
1870), прославившая его как одного из видных представителей позитивизма
в исторической и литературной науке. Тем не менее Гетнер сохранил до конца
верность многим прогрессивным идеям своей молодости. В своем труде
425
о литературе XVIII века он защищал живое значение передовых философских
и литературных традиций буржуазного Просвещения XVIII века для своего
времени, хотя ему и не удалось показать объективный революционный смысл
борьбы просветителей с абсолютизмом.
ПРОТИВ СПЕКУЛЯТИВНОЙ ЭСТЕТИКИ (1845)
[...] Пришло время, когда критика гегелевской эстетики может
сделать новый шаг вперед. Недостатки «Эстетики» Гегеля и
отдельные недочеты ее систематического построения устранены учениками
философа, и все стороны прекрасного и искусства развиты на ее
основе так глубоко, как это вообще допускает гегелевский принцип
и метод. Поэтому везде, где они оказываются слишком тесны для
научного исследования искусства и его живой жизни, теперь встает
принципиальный вопрос: способен ли вообще спекулятивный
принцип познать искусство вплоть до его тончайших волокон и овладеть
его тайнами?
[...] Учение о развитии искусства, поставленное твердо на почву
антропологии, должно исходить из того, что искусство — создание,
а тем самым — выражение и утверждение человеческого духа.
Человеческий дух есть самосознание природы. Практически он
утверждает себя в этом последнем качестве в жизни и в ее высшей
форме — истории; теоретически он постигает тайны вселенной, то есть
природы и самого себя, воспринимает их в себя и наслаждается
при этом всем своим существом. Спекулятивная философия считает
единственным всеобъемлющим видом познания природы и духа
науку. Так как, с ее точки зрения, природа и дух являются
тождественными, то природа неспособна оказывать духу сопротивление.
Сферой науки является мышление в форме понятийного мышления,
непосредственным выражением которого является язык. Однако
между языком и живой, чувственной действительностью существует
разрыв; стихия языка — стихия всеобщего, все действительное же
всегда чувственно и существует лишь в виде единичного. Указанное
противоречие между языком и индивидуальным существованием
признает и спекулятивная философия, но она разрешает его всецело
в пользу языка. На ту чувственную реальность, которую я
обозначаю как «это», «теперь» и «здесь», я могу только указать рукой, но
не могу выразить ее с помощью слов, так, чтобы при этом передать
в них ее неповторимые черты. Поэтому я с равным правом
обозначаю словами «это», «теперь» и «здесь» любые реальные явления,
и в тот момент, когда их так называю, слова эти принимают форму
общих определений. Из этого сторонники спекулятивной эстетики
426
делают вывод, что язык является чем-то более истинным, чем
реальность. Он ниспровергает ту грубую единичность, которая присуща
жизни и вообще чувственному существованию, и, облагораживая
ее, возвышает ее до всеобщности. Или, как формулирует эту мысль
Гегель: что не выразимо словами, то неразумно.
Для понимания искусства этот момент особенно важен, и потому
мы должны рассмотреть его более тщательно.
Л. Фейербах в своей «Критике философии Гегеля» \ в
«Философии будущего» и в «Предварительных тезисах к реформе
философии» уделил особое внимание критике первой главы
«Феноменологии духа» Гегеля, посвященной проблеме чувственной
достоверности, или «этому» и мнению. Он указывает, что те определения:
«теперь», «здесь», «это», о которых говорит Гегель и которые, будучи
произнесенными, приобретают всеобщее значение, уже с самого
начала имели характер лишь логической, но не действительной
реальности. Это не указательные «hic», «haec», «hoc», а всего лишь
схоластическое «haecceitas», не реальный чувственный внешний мир,
но всего лишь мысль об инобытии идеи, а следовательно, идея уже
с самого начала уверена здесь в своей победе над противником. Из
того, что я могу лишь указать на единичное, но не могу высказать
его, еще вовсе не следует, что оно представляет собой что-то
ничтожное, неистинное. Реальное бытие, в отличие от логического, не
является чистой мыслью.
[...] Фейербах превосходно доказывает, что еда и питье не только
не представляет собой, как полагал Гегель, опровержения истины
чувственного, единичного бытия, но что они делают, напротив,
особенно ощутимой его реальную истинность. Я питаюсь не тем
логическим хлебом, хлебом in abstracto, который является предметом
языка, но единичным, чувственно указуемым, хотя и невыразимым,
несказанным. «Поэтому, если невыразимость есть неразумность,
всякое бытие есть неразумность, потому что оно повсюду только
это бытие. Но это не так. Бытие само по себе обладает смыслом
и разумом, даже не будучи высказываемо» 2.
[...] Опровергая достоверность чувственного, Габлер3 ссылается
на живописующие описания природы и другие поэтические кар-
1 «Галлесские ежегодники немецкой науки и искусства», т. II, Лейпциг,
1839, № 208—216, стр. 1675—1725.— Прим. нем. изд. (Л. Фейербах,
Избранные философские произведения, т. 1, М., 1955, стр. 53—96).
2 Л. Фейербах, Основные положения философии будущего, § 28.—
Прим. Гетнера (Л. Фейербах, Избранные философские произведения, т. 1,
стр. 175).
3 Г. Габлер, Система творческой философии, т. 1. Пропедевтика
философии, Эрланген, 1827, стр. 140.— Прим. нем. изд.
427
тины, к которым часто прибегают в поисках успеха плохие поэты
и прозаики. Но бледность и тривиальность подобных картин,
которые свидетельствуют о невозможности словами описать предмет, ни
в коей мере не являются доказательством их бессмысленности; не
означает, что то, чего нельзя передать с помощью слова, ничтожно
и малозначительно. Они указывают лишь на границы речи. То, что
недоступно поэтическому описанию природы, доступно живописи,
и это-то как раз составляет специфическое отличие последней от
других искусств. Указанное положение признает также и Гегель К
Если придать ему более общую форму, оно учит нас, что молчаливые
черты, свежая полнота, чувственное очарование индивидуального,
которые (хотя они и недоступны слову) являются предметом
нашего созерцания, ощущения и любви, должны быть и постигнуты
нами также чувственно-индивидуально. Подобным
чувственно-индивидуальным способом дух, не способный удовлетвориться бесцветной
и бессердечной абстракцией, стремится заполнить пропасть между
всеобщим и индивидуальным. Он мыслит не только с помощью
безобразного, отвлеченного языка, но и как целостный, то есть
чувственно-духовный человек, всем своим существом, своим сердцем
и своими чувствами, и выражает подобные мысли, созерцания и
чувства таким способом, при котором чувственно-свежая полнота
индивидуального не улетучивается бесследно (как это имеет место
в языке), но вся целиком предстает перед нашим взором.
Указанным видом мышления и изображения и является искусство. Как
духовная деятельность, как вид мышления, оно по самому своему
существу содержит в себе элемент всеобщего и является, так же
как наука, познанием всеобщего — того, что принято называть
вечным, идеей,— но не абстрактным, лишенным красок и образов, а
проникнутым и напоепным индивидуальной свежестью жизни. Средством
выражения поэзии, так же как и науки, является язык. Но слово,
бледное само по себе, оживотворено в ней пульсирующей кровью
конкретного образа; не отдельные слова, но образ, характеры
составляют ее язык. Искусство и является языком — не чем иным, как
языком! — но иным, чем язык понятий, и в этом своем
специфическом качестве — существенным и необходимым дополнением
научного мышления. Только наука и искусство, взятые вместе, являются
целостным и полным проявлением теоретического духа.
Этим, правда, понятие об искусстве не исчерпывается. Но мы
можем покамест удовлетвориться вышесказанным, так как речь
здесь идет не столько о тайне искусства, сколько о путях построе-
1 Гегель, Сочинения, т. XIV, Лекции по эстетике, кн. Ill, М., 1958,
стр. 64—65.
428
ния эстетики как науки. Поэтому для нас было важным в первую
очередь остановиться на всеобще-антропологическом, а не
эстетическом в собственном смысле слова понятии об искусстве. Для того
чтобы осветить последнее, нам нужно было бы дополнительно
разъяснить, почему не всякий вид индивидуально-чувственного
созерцания, с каким мы встречаемся в жизни, является искусством и в
чем состоит тот загадочный процесс, посредством которого подобное
созерцание кристаллизуется в специфически художественное
созерцание. Но это относится к дальнейшему развитию эстетики, а не
к ее пролегоменам.
Из этого понятия мы должны, таким образом, вывести отдельные
искусства и их виды. Однако прежде еще несколько замечаний
общего порядка.
Румор такой глубокий знаток искусства, и его способ постижения
искусства столь подлинно художествен, что следовало бы чаще, чем
это обычно делается, возвращаться к нему при обсуждении
теоретических вопросов. В своем рассуждении об основных элементах
художественного творчества он усматривает специфическую
особенность искусства в способности постигать и изображать вещи, в
отличие от рассудка, не исходя из изучения отдельных частей и свойств,
но целостно, и притом не постепенно одну за другой, а мгновенно 1.
И далее он продолжает таким образом: «Есть люди, которые, за
исключением понятия и логических выводов из него, не могут
представить себе иной духовной жизни и которым никогда не приходило
в голову, что и в основе самого абстрактного мышления, если только
оно — от чего избави нас, боже! — не вращается, подобно школьным
алгебраическим упражнениям, в кругу никак не связанных с жизнью,
бессодержательных форм, в основе самого абстрактного мышления,
повторяю я (если только оно вообще обладает каким-нибудь
содержанием и глубиной), непременно должно лежать нечто наглядное.
Подобным людям может показаться, что если принять
вышеприведенное объяснение, то искусство окажется униженным,
погруженным в сферу внешнего и материального, в то время как мы,
напротив, твердо убеждены, что нам удалось надежнее, чем кому-
нибудь до нас, перенести искусство в самое средоточие святилища
духовной жизни и творчества» 2. Да, в самое средоточие! Ибо только
определенное таким образом искусство получает гарантию вечности.
Только теперь мы можем понять до конца, почему истинное
]К.-Ф. фон Румор, Итальянские исследования, т. 1, Берлин и Штеттин,
1827, стр. 7.— Прим. нем. изд.
2 Τ а м же, стр. 7—8,— Прим. нем. изд.
429
произведение искусства является всегда чем-то таинственным,
непостижимым и несказанным для одного отвлеченного мышления.
Наслаждение искусством — наслаждение, испытываемое всем моим
существом, которое одновременно чувственно и духовно, или свободная
гармоническая игра всех душевных сил, как выражаются кантианцы.
Совершенно ясно, что только благодаря такому определению
искусство отделяется от непосредственной практической деятельности.
И наоборот: точка зрения спекулятивной эстетики имеет на деле
практический характер. Искусство существует для нее лишь потому,
что красота природы нас не удовлетворяет, Капитолийская и Меди-
цейская Венера являются соответственно идеалами женской
красоты, а художник-пейзажист очищает природу от всего случайного.
Между тем в действительности искусство далеко от того, чтобы
обладать силой побеждать природу. Оно везде уступает ей в свежести
и полноте жизни. Именно в этом смысл замечания Гёте, сказавшего,
что ко всем художественным формам, даже самым
прочувствованным, примешивается какая-то доля лжи. Пусть читатель спросит
себя, разве мы не испытываем удовольствия, когда во
флорентийской Трибуне 1 наш глаз переносится на минуту с Венеры Меди-
цейской на свежие, живые телесные очертания и сладкие,
застенчивые улыбки глядящих на нее прекрасных девушек, или (если это
звучит слишком греховно для иных ханжей) разве Неаполитанский
залив с его реальной гармонической красотой не родит в нашем
сердце несравненно более свежего и гармонического отзвука, чем
самый прекрасный пейзаж? Подобное неравное соревнование с
природой никак не является целью художественного творчества.
Искусство — язык, не что иное, как язык, то есть чувственное выражение
наших чувственных идей, чувств и созерцаний. И только потому,
что это индивидуально-чувственное содержание не может быть
выражено иначе, как с помощью чувственных же форм природы
и жизни, оно пользуется ими, как своим языком.
H. H е 11 η е г, Schriften zur Literatur, Aufbau-
Verl., Bert, 1959, S. 17—18, 29—33. Перевод
Γ. M. Фридлендера.
ИСКУССТВО И ЕГО БУДУЩЕЕ (1850)
Искусство — дитя народа. Оно может жить только там, где есть
счастье и свобода. Пусть князья и господа милостиво оказывают ему
покровительство, искусство, которое не вырастает из народа непо-
1 Зал в музее Уффици во Флоренции.
430
средственно, не имеет цены, не способно ни к долгой жизни, ни
к прочному влиянию. Нет ничего более близорукого и более
безнравственного, чем сервилизм ученого или художника.
Не может быть сомнения в том, что кризис, начало которого мы
переживаем сейчас, приведет к возрождению человечества, а с новым
человечеством возникнет и новое искусство. [...] Социализм не
означает поэтому, как охотно утонченно софистически утверждают наши
испуганные буржуа, смерть культуры, но представляет
единственный возможный праздник ее воскресения; он является
освобождением от лжи и испорченности, от злосчастного состояния нашей
современности.
Там же, стр. 288—289.
ВАГНЕР
1813-1883
Рихард Вагнер — выдающийся немецкий композитор, автор опер «Летучий
голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Мейстерзингеры», «Тристан и Изольда»,
оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга» и др. Им написано также большое
количество публицистических и теоретических работ, занимающих видное
место в эстетике.
На формирование мировоззрения Вагнера значительное воздействие
оказали идеи «истинного социализма», анархизма и философии Фейербаха. Под
влиянием этих идей он участвовал в дрезденском революционном восстании
1849 года, после разгрома которого бежал за границу.
В прямой связи с революционными событиями 1848—1849 годов Вагнер
пишет свои первые эстетические сочинения: статьи «Революция» (1849),
«Искусство и революция» (1849), «Художественное произведение будущего» (1850).
В них Вагнер подвергает критике современное ему общество, констатируя
враждебность капитализма искусству. Подлинное искусство, согласно его
взглядам, может возникнуть лишь на почве единства индивида и
общественного целого, где сливаются их интересы и человек является прекрасным,
свободным и цельным. В противоположность античной Греции, которую Вагнер
идеализирует, современное общество распалось на обособленных, эгоистически
действующих, враждебных друг другу индивидов. Ущербность современного
человека, а также подчинение художественного творчества промышленности,
коммерции, денежным интересам — таковы причины упадка искусства.
Спасти его может лишь социальная революция, создающая новый, свободный мир,
который Вагнеру представлялся в духе учений утопических социалистов.
Искусство, по Вагнеру, призвано удовлетворять потребности развитой
человеческой чувственности, выражать и формировать всестороннюю и гармо-
431
ничную личность. Вагнер считал, что эту роль выполняла древнегреческая
трагедия, объединявшая все искусства своего времени. В буржуазном обществе
искусство распалось на систему отдельных видов, эстетически неполноценных
и ограниченных. С победой социальной революции, с возникновением нового
общества и иного типа личности искусство вновь станет синтетическим и
сольется с самой жизнью. Художественное произведение будущего, по Вагнеру,
это синтез всех искусств в особого типа музыкальной драме и, с другой
стороны, это сама жизнь, вновь обретающая эстетический смысл и поднятая до
значения мифа. С этих позиций Вагнер в книгах «Опера и драма» (1851) и
«Обращение к друзьям» (1852) критикует современное ему оперное искусство
и обосновывает оперную реформу, осуществить которую он стремился в своей
творческой практике.
После поражения буржуазно-демократических революций в Европе Вагнер
эволюционирует вправо. От Фейербаха он переходит к Шопенгауэру, от
утопического социализма к монархизму, от интернационализма к шовинизму, от
революции к реакции. Реакционные идеи Вагнера нашли выражение в
сочинениях «Иудейство в музыке», «Искусство и религия», «Немецкое искусство
и немецкая политика».
В историю эстетической мысли Вагнер вошел как пламенный
революционер-романтик, страстный критик положения искусства в буржуазном обществе,
проповедник искусства, ведущего к счастливому будущему человечества,
создатель учения о синтезе искусств.
ИСКУССТВО И РЕВОЛЮЦИЯ
Мы вовсе не станем заниматься здесь абстрактными
дефинициями искусства, но ставим себе иную, на наш взгляд, вполне
естественную, задачу: обосновать значение искусства как функции
общественной жизни, политического устройства; установить, что
искусство — продукт социальной жизни. Беглый обзор разных эпох
в истории искусства в Европе окажет нам в этом отношении
большую услугу и поможет нам осветить надлежащим образом тот
бесспорно важный вопрос, который мы себе задали.
Мы не можем сделать и шага в исследовании развития нашего
искусства без того, чтобы не заметить его непосредственной связи
с искусством греков. Действительно, наше современное искусство
является лишь звеном в художественной эволюции всей Европы,
а эта эволюция началом своим обязана Греции.
Когда греческий дух в эпоху своего расцвета в политическом
и художественном отношении одержал верх над грубой, азиатской
религией природы и положил в основу своего религиозного сознания
культ прекрасного и сильного свободного человека, он нашел свое
432
лучшее выражение в Аполлоне, ставшем действительно верховным
и национальным божеством эллинов. [...]
Распадение афинского государства вызвало в то же время и
упадок трагедии. Вместе с появлением тысячи эгоистических
стремлений взамен единого духа коллективизма произошло и распадение
великого достижения объединенного искусства — трагедии — на
элементы, ее составляющие. [...]
Философии, а не искусству принадлежат те две тысячи лет,
которые истекли с момента смерти греческой трагедии до наших
дней. [...]
Иногда искусство служило одной из тех идей или тех фантазий,
которые то мягче, то более сурово угнетали страдающее
человечество и сковывали свободу как отдельного человека, так и всего
общества. Но никогда искусство не являлось свободным выражением
свободного общества, ибо истинное искусство есть высшая свобода,
и оно может провозглашаться только высшей свободой; оно
несовместимо ни с какой властью, ни с каким авторитетом, одним словом,
ни с какой антихудожественной целью. [...]
Свободный грек, который считал себя высшим творением
природы, мог в состоянии радостного упоения бытием создать
искусство. Христианин же, одинаково отрицавший и природу и самого
себя, мог приносить жертвы своему богу только на алтаре
отречения, но не мог приносить ему в дар плоды своих трудов; наоборот,
он думал быть ему угодным, отказываясь от всяческого личного,
смелого творчества. Искусство — это высшее проявление гармоничной,
в полном соответствии с природой развивающейся, чувственно
прекрасной личности. Только испытывая высшую радость перед реально
ощутимым физическим миром, человек может использовать его
в качестве материала для искусства; только благодаря физическому
миру, раскрывающему себя органам чувств человека, у него может
возникнуть воля к созданию художественных произведений. [...]
Разве истинное и искреннее искусство могло существовать там,
где оно не вытекало из жизни, как проявление свободного,
сознательного общественного самосознания, но было в услужении у сил,
враждебных свободному развитию общества и, следовательно,
должно было быть искусственно пересажено из чуждых стран?
Конечно, нет. И все-таки мы увидим, что искусство, вместо того чтобы
освободиться от якобы просвещенных властителей, какими
являлись духовная власть, «богатые духом» и просвещенные князья,
продалось душой и телом гораздо худшему хозяину: Индустрии. [...]
Вот каково искусство, которое в настоящее время заполняет весь
цивилизованный мир. Его истинная сущность — индустрия, его
эстетический предлог — развлечение для скучающих. Из сердца
15 История эстетики, т. III 433
нашего современного общества, из его кровеносного центра,
спекуляции на большую ногу, берет наше искусство свои питательные соки,
оно заимствует бездушную грацию у безжизненных остатков
рыцарской средневековой условности и благоволит спускаться с напускным
видом христианской благотворительности, которая не брезгает даже
лептой бедняка, до самых глубин пролетариата, нервируя,
деморализуя, лишая человеческого облика все, что только поражено ядом
его соков. [...]
Но этот видимый расцвет есть пустоцвет гнилого общественного
строя, пустого, бездушного и противоестественного. [...]
Имеется немало художников, пользующихся славой, которые
прямо заявляют, что их единственное стремление — удовлетворить
вкус этих ограниченных зрителей. Они рассуждают вполне
правильно: когда какой-нибудь принц после обильного обеда, банкир
после расслабляющих спекуляций, рабочий после утомительного
рабочего дня являются в театр,— все они желают лишь отдохнуть,
развлечься, позабавиться, а не напрягать и снова возбуждать себя.
Этот довод так разительно верен, что мы можем возразить лишь
следующее: для достижения вышесказанной цели следует
употреблять какие угодно средства, только не искусство. Но на это нам
отвечают, что если отказаться применять искусство для этих целей,
то оно должно будет прекратить свое существование, и его нельзя
будет никаким образом поставить в соприкосновение с общественной
жизнью, то есть, другими словами, художник лишится всяких
средств существования. [...]
Вот единственный интерес, который государство питает к театру!
Оно видит в нем прежде всего промышленное заведение и, в
частности, находит в нем средство, которое отвлекает, расслабляя ум,
поглощает энергию и может служить против угрожающей агитации
воспламененной человеческой мысли, в состоянии самой глубокой
печали хранящей в себе средства, при помощи которых
обесчещенная человеческая природа станет сама собой, хотя бы пришлось
пожертвовать существованием наших театральных заведений, так
хорошо приспособленных к их цели! [...]
Общественное искусство греков было действительно искусством,
наше же является лишь художественным ремеслом. Художник,
независимо от цели его труда, находит удовольствие уже в самом
процессе творческого труда, процессе овладения материалом своего
оформления, словом — самый процесс творчества является для него
деятельностью, которая рассматривается им как наслаждение и
удовлетворение, а не как труд. Ремесленник же интересуется лишь
целью своих трудов, тем заработком, который его труд ему
приносит; его деятельность не доставляет ему никакого удовольствия и,
434
напротив, является ему в тягость, как неизбежная необходимость;
он от всего сердца свалил бы всю эту работу на машину: только
необходимость приковывает его к труду, его мысли не связаны с
существом творчества, но устремляются к той цели, которой он
хотел бы достигнуть кратчайшим путем. Если непосредственной целью
рабочего является удовлетворение какой-нибудь личной
потребности, например, устройство собственного жилища, изготовление своих
собственных орудий, своего платья и т. д., то удовольствие, которое
ему доставят полезные вещи, оставшиеся в его владении, вызовет
в нем наклонность обрабатывать материю сообразно со своим
личным вкусом; когда он обеспечит себя всем необходимым, то его
деятельность, направленная в сторону удовлетворения менее
неотложных потребностей, сама собой возвысится до уровня искусства. Но
если продукт труда ему не принадлежит, если у него остается лишь
абстрактная денежная стоимость продукта, тогда немыслимо, чтобы
его деятельность когда-нибудь поднялась выше машинной работы;
она для него лишь труд, печальный, горький труд. Такова судьба
раба индустрии; наши современные фабрики являют нам жалкую
картину самой глубокой деградации человека: труд беспрерывный,
убивающий душу и тело, без любви, без радости, часто даже почти
без цели. [...]
У греков искусство было в общественном сознании, тогда как
теперь оно существует лишь в сознании отдельных индивидов
наряду с общественной бессознательностью в этом отношении. В эпоху
своего расцвета искусство у греков было консервативным, потому
что оно представлялось народному сознанию как вполне ему
соответствующее: у него же истинное искусство революционно, потому
что оно может существовать, только находясь в оппозиции к общему
уровню. [...]
Только великая Революция всего человечества, начало которой
некогда разрушило греческую трагедию, может нам снова подарить
это истинное искусство; ибо только Революция может из своей
глубины вызвать к жизни снова, но еще более прекрасным,
благородным и всеобъемлющим, то, что она вырвала и поглотила у
консервативного духа предшествовавшего периода красивой, но
ограниченной культуры. Только Революция, а не Реставрация, может дать
нам вновь такое величайшее произведение искусства. [...]
Нет, мы не хотим вновь сделаться греками, ибо то, чего греки не
знали и что должно было привести их к гибели, мы это знаем. Само
их падение, причину которого после долгих и тяжких перипетий мы
открываем в глубинах всеобщего страдания, указывает нам, к чему
мы должны стремиться: оно говорит нам, что мы должны любить
всех людей, чтобы быть в состоянии вновь полюбить самих себя
15*
435
и вновь обрести жизнерадостность. Мы хотим сбросить с себя
унизительное иго рабства всеобщего ремесленничества душ, плененных
бледным металлом, и подняться на высоту свободного
артистического человечества, воплощающего мировые чаяния подлинной
человечности; из наемников Индустрии, отягченных работой, мы
хотим стать прекрасными, сильными людьми, которым
принадлежал бы весь мир, как вечный, неистощимый источник самых
высоких художественных наслаждений.
Чтобы достигнуть этой цели, нам нужна сила всемогущей
Революции: ибо только эта наша революционная сила ведет прямо
к цели; к цели, которой только она и в состоянии достигнуть уже
потому, что первым ее актом было разложение греческой трагедии
и разрушение Афинского государства. [...]
Задача искусства именно и состоит в том, чтобы указать этому
социальному движению его настоящую дорогу. Истинное искусство
может подняться из своего состояния цивилизованного варварства
на достойную его высоту лишь на плечах нашего великого
социального движения; у него с ним общая цель, и они могут ее достигнуть
лишь при условии, что оба признают ее. Эта цель — человек
прекрасный и сильный: пусть Революция даст ему Силу, Искусство —
Красоту.
Рихард Вагнер, Избранные статьи, М.,
1935, стр. 52—70. Перевод И. Каценеленбогена.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Если мы неизбежно признаем народ художником будущего, то
это открытие породит презрительное недоумение со стороны
современной эгоистической художественной интеллигенции. Между тем
во времена национально-родовой всеобщности, которые
предшествовали возведению абсолютного эгоизма личности в религию и
которые нашими историками считаются сказочными и
мифическими, народ действительно был единственным творцом-художником.
Содержание и формы, рожденные здоровой жизнью, следует
заимствовать у художественно деятельного народа. Современник же,
наоборот, представляет себе народ лишь в том виде,, в каком он
существует сейчас, взирая на него сквозь культурные очки. С
возвышенной точки своего собственного положения он понимает под народом
лишь нечто противоположное себе, то есть грубую пошлую толпу.
Он замечает лишь запах пива и сивухи, исходящий от плебея и
ударяющий ему в нос. Он тянется за надушенным платком и спраши-
436
вает с возмущением, подобающим цивилизованному человеку: «Как?
Чернь должна заменить нас в искусстве? Та чернь, которая
совершенно не понимает нас, творящих художественные произведения?
Как? Образы красоты и искусства должны возникнуть из
продымленного кабака, из полей, удобренных навозом?»
Совершенно верно! Художественное произведение будущего
должно возникнуть не из грязных основ вашей нынешней культуры,
не на отвратительной почве вашего современного утонченного
образования, не из элементов, на которых единственно и основывается
ваша современная цивилизация. Но подумайте о том, что нынешняя
чернь представляет собой не нормальный продукт истинной
человеческой природы, а, скорее, искусственный плод вашей
неестественной культуры; что все пороки и недостатки, которые вас так в ней
возмущают, суть приемы отчаянной борьбы, которую ведет истинная
человеческая природа с ее ужасным тираном — современной
цивилизацией — и что отвратительное в этих приемах выражает не
подлинную природу человека, а, скорее, отражает лицемерную
физиономию вашей государственной и криминальной культуры. [...]
Под народом мы понимаем не вас и не современную чернь. Мы
можем допустить самый факт существования народа, лишь когда
не будет ни вас, ни ее. И теперь уже народ существует всюду, где
нет ни вас, ни черни, то есть он живет среди вас обоих, но так, что
вы об этом не подозреваете. Если бы вы знали об этом, вы были бы
уже также народ, ибо нельзя знать о полноте сущности народа,
чтобы не составить его части. К народу принадлежат теперь в
равной мере высокообразованный и лишенный всякого образования,
высоко и низко поставленный, выросший среди роскоши и
выкарабкавшийся из грязного гнезда нищеты, воспитанный в ученом
бессердечии и развившийся среди порока и грубости — все они
принадлежат народу, если отказываются от трусливого наслаждения нашим
преступным общественным строем и бегут из-под его власти; если
чувствуют отвращение к нашей бесчеловечной культуре или
ненависть к тому духу полезности, который на деле приносит пользу
лишь лишенному потребностей, а не ощущающему жгучую
потребность; если презирают самодовольных рабов (эгоистов в самом
отвратительном смысле) или полны гнева против тех, кто
высокомерно попирает человеческую природу. Принадлежащие к народу
не питаются соками нынешнего строя высокомерия и трусости,
бесстыдства и унижения,— строя, столь поощряемого нашим
государственным правом,— но черпают из глубин истинной, чистой
человеческой природы и неувядаемого права ее абсолютной потребности
силу для сопротивления, возмущения, мести угнетателям
человеческой природы. Они чувствуют себя обязанными сопротивляться
437
возмущаться и нападать и готовы перенести любое страдание ради
этого или даже, если потребуется, пожертвовать своею жизнью. Вот
кто теперь принадлежит народу, ибо все они чувствуют одну общую
нужду. Эта нужда даст народу господство над жизнью, она
возвысит его до единственного творца жизни.
R. W a g η е г, Gesammelte Schriften in 10 Bänden,
hrsg. von W. Goltur (Goldene
Klassiker-Bibliothek), Bd. III, S. 172—175. Перевод В. В. Ван-
слова.
ГЕББЕЛЬ
1813-1865
Теоретические работы Фридриха Геббеля — самого видного немецкого
драматурга середины XIX века — посвящены обоснованию его понимания
искусства как высшей формы познания мира и драмы как высшего жанра
искусства. Все мировоззрение Геббеля драматично: история представляется ему
гигантским трагическим столкновением противоборствующих сил; идея,
заложенная в основе мира, приходит в столкновение с индивидуальной волей
человека и ломает последнюю. Геббель низко ценит внешнюю сторону
исторического процесса, ему важно его содержание, понимаемое им как всё новые
варианты одних и тех же трагических коллизий. Поэзию Геббель ставит выше
историографии и вообще науки и потому, что поэзия способна сразу вскрыть
самую сущность исторического процесса, и цртому, что поэзия передает
историю на обобщенном языке типов. Искусство и жизнь (а жизнь для Геббеля
это и есть история) понимаются Геббелем как два противоположных начала.
Жизнь — это лишенный оформленности поток, текущий в бесконечность,
искусство — это замкнутая форма, которая накладывается на действительность
с тем, чтобы познать ее. Понятие «жизни» у Геббеля носит иррациональный
характер и играет у него такую же роль, как понятие «бесконечности» у Но-
валиса или Клейста; позже это понятие становится одним из основных в
философии Ницше и целого направления «философии жизни».
Геббель отстаивает драму, в которой проблемы современности получают
отвлеченное символическое выражение на материале мифа и истории. Такая
драма, по замыслу Геббеля, должна быть одновременно и социальной
(отражать проблемы современности), и исторической (по материалу), и
философской (обобщать вечный трагизм человеческого бытия). Отвечая на письмо
своего друга Зигмунда Энглендера о социальной трагедии, Геббель писал:
«Развитие вашего понятия социальной трагедии весьма заинтересовало
меняно я не могу оставить свою эстетическую точку зрения. Я знаю ту ужасную
438
пропасть, которую вы открываете передо мной, я знаю, какую бездну
человеческого горя она скрывает в себе. И я не смотрю на нее с птичьего полета,
я с детства знаком с нею... Но это—то несчастье, которое пришло на свет вместе
с человеком, а не вызвано, например, кривым ходом истории, а потому оно
так же мало допускает постановку вопроса о вине и искуплении, как смерть,
второе всеобщее, слепое зло, и потому также не ведет к трагедии. Индийские
касты, римская борьба рабов во главе со Спартаком, немецкие крестьянские
волнения и т. д., что вы мне называете, могут стать трагедиями только с
христианской или коммунистической точки зрения, ибо религиозная точка зрения
знает вину всего человеческого рода, за которую расплачивается индивид,
а коммунистическая верит в уравнивание. Я не знаю первой и не верю во
второе» К
Как бы художественно убедительно ни воплощал Геббель свои идеи
(а у него идея часто предшествует творчеству и предопределяет его — хотя бы
в общих чертах), его замыслы заключают в себе известный консерватизм.
Геббель придерживается сложившегося типа исторической драмы с ее
обязательным конфликтом человека и судьбы тогда, когда Бюхнер уже дал пример
обновления драмы, образец создания глубоко содержательных и конкретных
образов на материале самой непосредственной окружающей действительности.
Геббель же, оставаясь в прежних рамках истории и мифологии, был вынужден
довольствоваться уже исчерпанной в значительной степени символикой. Это
было кризисом самого жанра исторической трагедии, идущей от Шиллера.
МОЕ СЛОВО О ДРАМЕ
Искусство имеет дело с жизнью — внутренней и внешней, и
вполне можно сказать, что оно воспроизводит как самую чистую ее
форму, так и самое высокое ее содержание. Основные роды
искусства с их законами непосредственно следуют из различия тех
элементов, которые выбираются в жизни и затем перерабатываются
в искусстве. Но жизнь является в двух образах — как бытие и как
становление, и искусство тогда решает свои задачи наиболее
совершенно, когда сохраняет равновесие между обоими. Только так оно
обеспечивает себе настоящее и будущее, что для него одинаково
важно, и только так оно может стать тем, чем должно быть,—
жизнью в самой жизни: ибо стоячее и замкнутое в себе подавляет
творческое дыхание, без которого искусство лишено эффекта, а
спонтанно-вспыхивающее исключает форму.
Драма изображает жизненный процесс как таковой. И при этом
не только в том смысле, что представляет жизнь во всей ее широте,
1 Hebbels Werke, Bd. I, Lpz., [1957], S. 16—17.
439
как это дозволяется и эпическому искусству, но и в том, что
непосредственно показывает нам то проблематическое состояние, в
котором находится-отрешенный от своих первоначальных связей
индивид в своем противостоянии целому, частью которого он, несмотря
на свою непостижимую свободу, все еще остается. И потому драма,
как это подобает высшей форме искусства, равным образом
обращена к сущему и к становящемуся — к сущему потому, что
неустанно повторяет вечную истину о жизни, которая, взятая в своей
чуждой меры отдельности, не просто случайно, но закономерно
и существенно включает в себя и порождает вину; к
становящемуся же потому, что должна, имея перед собой все новый и новый
материал, доставляемый течением времени и историей как его
осадком, показать постоянность природы и судеб человека,
независимых от изменений вещей вокруг. При этом нельзя не заметить,
что драматическая вина, в отличие от христианского первородного
греха, не причиняется только самой направленностью человеческой
воли, но проистекает непосредственно из самой воли, из
неумолимого и своенравного распространения «я», и потому для драмы
совершенно безразлично, что приводит героя к поражению —
стремление прекрасное или стремление жалкое и достойное презрения.
Материал драмы образуется фабулой и характерами. От первого
мы отвлекаемся здесь, поскольку фабула, по крайней мере у
драматургов нового времени, стала подчиненным моментом, что сможет
ясно представить себе каждый сомневающийся в этом, если возьмет
в руки одну из пьес Шекспира и спросит себя, что же вдохновило
поэта — история или люди, которых он выводит на сцене. Напротив
того, чрезвычайно важной оказывается обработка характеров.
Последние ни в коем случае не должны являться уже готовыми — так,
чтобы им ничего не оставалось, кроме как пройти через перипетии
судьбы, внешне что-то теряя или приобретая, но никак не меняясь
во внутреннем своем существе. Это было бы смертью драмы, смертью
еще прежде рождения. Только благодаря тому, что драма
непосредственно показывает нам, как формируется, обретая для себя
внутренний центр тяжести, индивид,— в борьбе между личной и
всеобщей мировой волей, видоизменяющей и преобразующей всякий
поступок (служащий выражением свободы) посредством
(объективно) происходящего (служащего выражением необходимости),
только благодаря тому, что драма истолковывает нам природу всех
человеческих поступков, которые постоянно, как только стремятся
реализовать свое внутреннее побуждение, этим высвобождают
некоторое внешнее, направленное на восстановление равновесия,—
только благодаря этому драма становится жизнеспособной. И хотя
положенная в основу идея, от которой зависит достоинство и цен-
440
ность драмы, здесь предполагаемые, служит кольцом, внутри
которого все движется и вращается по своей орбите, поэт обязан
заботиться — положенным образом и не нарушая подлинного единства —
об умножении интереса, или, вернее, о показе жизни и мира во
всем их объеме, избегая того, однако, чтобы все его персонажи, как
это часто бывает в так называемых лирических пьесах, стояли
слишком близко к центру. Самая совершенная картина жизни
возникает тогда, когда главный персонаж для второстепенных и для
своих протагонистов становится тем же, чем судьба, с которой он
борется, является для него самого, вследствие чего все, кончая
самыми низшими ступенями, развивается во взаимной связи,
отражении и обусловленности.
Теперь спрашивается: в каком отношении находится драма к
истории, в какой мере должна она быть исторической? Я думаю —
в той, в какой она уже сама по себе является таковой, и в той,
в какой искусство уже может считаться высшей формой
историографии, поскольку самые величественные и самые значительные
процессы жизни оно представляет так, что при этом обязательно
изображаются и становятся зримыми решающие исторические
кризисы, их вызывающие и обусловливающие, разложение или
постепенное складывание религиозных и политических форм мира —
проводников и носителей всякого образования, одним словом, вся
атмосфера эпохи. Материальная история, которую уже Наполеон назвал
условной басней1, эти огромные пестрящие вороха сомнительных
фактов и односторонне или вообще никак не обрисованных
личностей, рано или поздно превзойдет возможности человеческой памяти,
и новая драма, особенно шекспировская, и не только собственно
называемая исторической, для отдаленных поколений может стать
тем же, чем для нас является античная. Тогда — и, верно, не
раньше — перестанут интересоваться низким и плоским тождеством
искусства и истории, кропотливо и робко сопоставляя друг с другом
исторические и переработанные искусством ситуации и личности;
ибо к тому времени станет ясно, что так можно установить одно
лишь пустое совпадение первого и второго изображений, но не
образа с самой истиной вообще, тогда поймут, что драма символична
и символична не только как целое, но и в каждом своем элементе
следует ее так рассматривать,— как и художник, чтобы получить
краски, которыми он рисует розовые щеки и голубые глаза на своих
портретах, не нуждается в настоящей человеческой крови, а
спокойно пользуется индиго и киноварью.
1 Высказывание о том, что «вся древняя история...— это условная басня»,
на самом деле принадлежит Вольтеру.
441
Однако содержание жизни неисчерпаемо, а искусство
ограничено. Жизнь не знает завершения, нить, на которой развиваются
ее явления, продолжается в бесконечность, искусство же, напротив,
должно завершать, должно так или иначе соединять в кольцо эту
нить — это обстоятельство имел в врвду Гёте, говоря, что всем
формам искусства присуще нечто неистинное. Это неистинное можно,
правда, показать уже в самой жизни, ибо и жизнь не создала таких
форм, где бы равномерно сочетались все ее элементы; она не может
создать совершенного мужчину, не лишив его достоинств
совершенной женщины, и те два ведра в колодце, из которых полным может
быть всегда только одно, послужат самым характерным символом
всего творения. Но этот основной порок еще сильнее и с
последствиями худшими, нежели в жизни, где целое возмещает и искупает
единичное, сказывается в искусстве, потому что здесь недостаток
в одном об!язательно должен покрываться другим.
Я поясню свою мысль, применив ее к драме. Самые превосходные
драмы всех литератур показывают, что поэт часто только благодаря
тому мог соединить концы невидимого круга,, внутри которого
движется созданный им образ жизни, что главного или нескольких
основных своих героев наделял таким осознанием мира и самих себя,
какое далеко превосходило меру действительного. Я не стану
приводить в пример древних, ибо они совсем иначе обрабатывали свои
характеры, я напомню только о Шекспире и — обходя слишком
показательного Гамлета — монологи в «Макбете» и в «Ричарде»,
а также внебрачного сына из «Короля Иоанна». Между прочим,
в этом очевидном несовершенстве иногда уже находили достоинство
и особую добродетель (даже Гегель в «Эстетике»), вместо того
чтобы удовлетвориться доказательством того, что причины кроются
не в поэте, а в самом искусстве. Но что в согласии с этим
прослеживается как общая черта героев у самых великих драматургов, то
часто встречается в отдельные кульминационные моменты, когда
слово сопровождает действие или даже спешит предупредить его;
именно то — чтобы сделать этот важнейший вывод — отличает
сознательное изображение в искусстве от бессознательного явления
жизни, что первое, если не хочет лишиться эффекта, всему должно
придавать четкие и ясные очертания, в то время как последняя, не
нуждаясь в удостоверении и равнодушная к тому, будет ли понята,
может удовлетвориться отрывочными силуэтами, одним восклицанием,
одним взглядом или жестом. Высказывание Гёте,
осмелившегося коснуться самой опасной тайны искусства, часто повторяли,
но большей частью относили только к тому, что называют формой.
В самом глубокомысленном библейском стихе ребенок узнает своих
друзей — двадцать четыре буквы, которыми этот стих выражен.
442
Немецкая драма переживает, как кажется, новый взлет. Какие же
задачи стоят перед ней? Этот вопрос может показаться странным,
потому что очевидным представляется такой ответ: те же, что и во
все времена. Но можно спросить далее: должна ли драма
затрагивать современность? Следует ли ей обращаться к прошлому?
Или же она не должна заботиться ни о том, ни о другом? То есть —
станет ли она социальной, исторической или философской?
Достойные таланты уже идут по этим трем путям. Социальную тему взял
Гуцков. [...] Другие обратились к исторической драме. Я полагаю,
как изложил это выше, что подлинный исторический характер драмы
никогда не заключается в материале и что чистый продукт
фантазии, даже любовная сцена, вполне может быть историческим, если
в нем ощущается дыхание жизни и если он сохранит свою свежесть
до будущих поколений, которым не важно знать, как отразились
в наших головах наши предки, но важно — каковы были мы сами.
Этим я не хочу сказать, что поэты должны черпать свои
драматические произведения из небытия, напротив, если история или сага
предоставляет им точку опоры, они не должны пренебрегать ею
в смехотворном сочинительском самомнении, но обязаны с
благодарностью воспользоваться ею. Я оспариваю только широко распростра-
ненноэ неверное мнение, будто поэт может дать что-либо, кроме себя
самого, кроме процесса своей собственной жизни; он этого не может
и этого от него не требуется, ибо если он живет правдиво, если он
не уходит с робостью и упрямством в свое тесное и жалкое «я», но
пронизывается весь невидимыми элементами, вечно текущими
и вечно ведущими с собой новые формы и образы, то он может
спокойно следовать влечению своего духа, будучи уверен, что в его
потребностях выразятся потребности мира и в его фантазиях —
картины будущего, с чем, впрочем, очень легко совмещается
личное невмешательство в уличные столкновения данной минуты.
История для поэта — средство воплощения его воззрений и идей,
но не поэт — ангел воскресения для истории; что же специально
касается немецкой истории, то Винбарг в своей превосходной статье
об Уланде с полным основанием усомнился даже и в том, что она
может быть таким средством1. Кто понял меня, тот увидит, что
Шекспир и Эсхил скорее подтверждают, чем опровергают мои взгля-
1 Сам Геббель неоднократно развивал мысль о непригодности немецкой
истории для драмы, поскольку эта история не имела результатов и протекала,
скорее, не как история жизни, а как история болезни. Геббель осуждал
действительно часто служившее реакционным. целям увлечение некоторых
драматургов сюжетами из истории немецких династий (см. высказывания Геббеля
в книге: «Meisterwerke deutscher Literaturkritik», hrsg. von H. Mayer, Bd. II, IL
Teil, Berl., 1956, S. 145—146).
443
ды. Пишутся теперь и философские драмы. В этом случае главное
заключается в том, чтобы метафизика в них выходила из самой
жизни, а не жизнь — из метафизики. В первом случае результат
будет вполне здравым, хотя жанр и не нов, во втором случае
возникнет чудовище.
Возможно, наконец, и четвертое — драма, соединяющая в себе
все охарактеризованные здесь направления и не дающая перевеса
ни одному из них. Эта драма — цель моих собственных исканий,
и если мои опыты — «Юдифь» и «Геяовева», которая вскоре
выходит в свет,— не будут в состоянии пояснить сказанное мною,
то еще более нелепо прибегать к помощи абстрактных
рассуждений.
Hebbels Werke, hrsg. von G. Fricke, Bd. IV,
Lpz., Reclam, [1957], S. 263—269. Перевод
Ал. В. Михайлова.
ПРЕДИСЛОВИЕ К «МАРИИ МАГДАЛИНЕ»
касательно отношения драматического искусства
к современности и других родственных проблем
[...] Драма, как вершина всего искусства, должна в очевидной
форме являть нам соответствующее состояние мира и человечества
в его отношении к идее, то есть в данном случае к тому
нравственному центру, который все обусловливает и который мы должны
признавать существующим в мировом организме уже ради
самосохранения последнего. Драма в ее наиболее высокой, создающей
эпоху форме — ибо есть еще второй и третий ее вид — более узко
национальная и субъективно-личная драма, к первой относящаяся
как отдельные сцены и персонажи к целой пьесе, но замещающая
эту первую форму, пока не явится всеобъемлющий дух, и встающая
на ее место, если этого совсем не случается, в качестве disj ecti
membra poetae *,— драма возможна лишь тогда, когда с этим
состоянием происходят решительные изменения, она поэтому в полной
мере продукт эпохи, но, правда, только в том смысле, в каком сама
эпоха есть продукт предшествующих эпох, соединительное звено
в цепи столетий — завершающихся и грядущих.
До сих пор история пережила только два кризиса, когда была
возможность для появления высшей формы драмы, и согласно
с этим она и появлялась только дважды: в первый раз у древних,
1 ■— «разъятого члены поэта» (Гораций).
444
когда под влиянием момента рефлексии стала разлагаться и затем
распалась первоначальная наивность античного миросозерцания, во
второй раз — в новое время, когда христианское мировоззрение
внутренне начало переживать подобное же раздвоение. [...]
Поэтому Гёте, чтобы воспользоваться его собственным
выражением, получил великое наследие эпохи, но не воспользовался им
до конца, он хорошо понял, что человеческое сознание готовится
к тому, чтобы выйти за свои пределы, преодолев еще один
сдерживающий его круг, но он не мог слепо верить в историю, и, не
умея разрешить диссонансов, производимых тем переходным
состоянием, в которое он был насильно вовлечен в годы юности, он
решительно, с пеприязнью и даже с омерзением отвернулся от них.
Но это переходное состояние не было оттого устранено, оно
продолжает существовать вплоть до настоящего времени, при этом
в еще возросшей степени, все колебания и противоречия нашей
общественной и личной жизни можно свести к нему, и при этом
оно вовсе не так неестественно и не так опасно, как любят его
изображать, поскольку человек в наш век вовсе не хочет — в чем
его обвиняют — каких-то новых, неслыханных учреждений, он
только хочет подвести более прочный фундамент под уже
существующие, которые должны основываться только на нравственности
и необходимости, тождественных друг другу, и заменить внешние
зацепы, на которых они иногда до сих пор укреплены, внутренним
центром тяжести, из которого они выводились бы без остатка. Вот
в чем, согласно моим убеждениям, состоит всемирно-исторический
процесс, происходящий в наши дни; его подготовила философия,
внося внутренне разлагающий элемент, начиная с Канта или даже
собственно со Спинозы, и драматическое искусство должно
способствовать его завершению,— если предположить, что оно вообще
что-то должно, ибо круг времен замкнулся, копии наличествуют
в избытке и никак не годятся для литературного хозяйства,— оно
должно показать, как в эпоху подобного же кризиса Эсхил, Софоклт
Еврипид и Аристофан, выступившие друг за другом в короткий
промежуток времени, но совсем не случайно и не благодаря особой
благосклонности судьбы к афинскому театру, показать в мощных,
величественных образах, как те элементы, что до сих пор
составляли холодное безжизненное тело вместо того, чтобы насытить плоть
живого организма, и ныне наконец разбужены последними
великими событиями истории, как эти элементы, сливаясь и
противоборствуя, порождают новую форму человечества, где все вновь вернется
на свое место, где женщина будет противостоять мужчине, как
последний — обществу и как общество — идее. С этим, правда,
неминуемо связано зло, а именно то, что драматическое искусство
445
вынуждено обращаться к сомнительным и самым рискованным
темам, поскольку разрушение бытия мира может выразиться только
в надломленности личных судеб и поскольку землетрясение
не может проявиться иначе, чем в разрушении храмов и
зданий и в неукротимом стремлении морских потоков. Правда, нужно
сказать, что я называю это злом, только имея в виду те невинные
души, которые трагическую и карточную игру бессознательно
сводят к одной и той же цели, которым становится страшно, если
пиковый туз 1 перестает быть тузом,— им хочется новых комбинаций
в игре, но не новых правил, они проклинают колдуна,
навязывающего им последние или показывающего их возможность, и
ожидают, что папаша, знающий толк в ремесле, перемешает карты и,
может быть, даже назовет новый козырь — ведь разнообразие
должно быть,— но в остальном будет почитать старинные изобретения
прапрадедов словно самый закон природы. Здесь было бы уместно
оставить шутливый тон и перейти ко всей горечи серьезной
проблемы, ведь невероятно, до какой степени критика, частично
находящаяся на детском уровне и не отвечающая за свои поступки, но
частично вероломная, приспособляясь к жалким театральным
условиям наших дней и ограниченности толпы, затуманивает и
запутывает самые основные понятия драматического искусства,
относительно которых можно было бы думать, что они, сохранив свою
силу и истину на протяжении четырех тысячелетий, так же
неприкасаемы, как таблица умножения. Художнику, благодарение богу,
еще не приходится оправдываться в том, что он рисует на холсте,
из которого ведь можно сделать и сито, его еще не подвергают
осмеянию, когда видят, что он затрачивает усилия, создавая
композицию своей картины, и что краски, которые и сами по себе
приятны для глаз, он относит к изображаемым фигурам, а последние
в свою очередь соотносит с внутренним центром картины, не
существующим для зевак,— вместо того чтобы выдавать за картину
свою палитру с растертыми на ней желтой, красной и голубой
красками или же пеструю смесь образов и фигур. Но то искусство,
которое, как и все самое высокое, только тогда становится чем-то, когда
оно вполне есть то, чем должно быть, оно — словно за какие-то
чудачества — должно терпеть брань за то, что сохраняет в виду
свою единственную, свою первую и последнюю цель, вместо того
чтобы ради собственного удобства карбункул подменять галькой,
а глубокомысленный и неисчерпаемый символ жизни — пустой
жизненной загадкой, которая, как только напряжение спало,
лопается и превращается в ничто, не будучи в состоянии на миг на-
1 Основной козырь при игре в ломбер.
446
сытить даже самую бедную и жалкую душу и возбудить в ней что-
либо, кроме ненасытного требования: еще нового! еще нового!
Говорю вам, вам, что называете себя драматическими поэтами,— если
вы удовлетворитесь тем, что будете изображать на сцене анекдоты,
исторические или любые другие, или, в лучшем случае, займетесь
разложением психологического механизма своего героя, то как бы
ни раздражали вы слезные железы, как бы ни сотрясали мускулы
лица, вы не окажетесь выше всем известного Феспидова1 брата,
в чьем балагане танцуют куклы. Только там, где есть проблема,
там есть дело для вашего искусства, но там, где вы заметите ее,
где жизнь предстанет вам в своей надломленности и одновременно,
ибо то и другое должно совпасть, в вашей душе возбудится момент
идеи, в которой жизнь обретает утраченное единство, тогда смело
беритесь за дело, не заботясь о том, что эстетическая чернь всегда
хочет, чтобы и в самой болезни ей показывали здоровье, так как
вы можете только вскрыть переход к здоровью и, с другой стороны,
не можете вылечить болезнь, не связываясь с самой болезнью,
поскольку эта чернь, что привлекает вас к ответу за изображенные
пароксизмы, словно они — ваши собственные, эта чернь, обладай
она последовательностью, стала бы осыпать упреками и судью,
допрашивающего преступника, чтобы установить его ответственность
перед законом, и даже священника, выслушивающего исповедь,—
за то, что они касаются грязи, а вы, вы не несете ответственности
ни за что, ни за что — кроме как за ту — свободную — обработку
предмета, которая должна продемонстрировать, что вы не зависите
от него и не сливаетесь с ним, и за тот окончательный результат,
который, если и должен быть высшей точкой вашего произведения,
однако, не то же самое, что острие копья, и который с тем же
правом может быть и исходной точкой создания характера и исходным
моментом всей драмы в целом, хотя в последнем случае драма
претендует на еще более высокую степень завершенности. Когда
человек вынужден говорить о вещах, вполне понятных только при
наличии собственного внутреннего опыта, он должен особенно быть
обеспокоенным тем, чтобы его поняли правильно, поэтому я
подчеркиваю, что речь идет не об аллегорическом приукрашивании
идеи, вообще не о философской, а о непосредственно заключенной
в самой жизни диалектике, и что поэт (кто считает себя таковым,
пусть здесь себя проверит) — если вообще можно говорить о
предшествовании и последовании в применении к такому процессу, где,
как в процессе творческом, все элементы равно необходимо предпот
лагают и обусловливают друг друга,— прежде должен осознавать
1 Феспид — легендарный основатель греческого театра.
447
образы, нежели идею, или, вернее, прежде всего отношение образов
к идее. Но, как сказано, весь тот ход мыслей недопустим, хотя
еще и очень распространен, если даже весьма рассудительные люди
не перестают спорить с поэтами о выборе материала, как они
называют это, показывая этим, что творчество, первая стадия
которого — стадия восприятия — гораздо глубже сознания и иногда
относится к самым туманным временам раннего детства, они все еще
понимают как некоторое, пусть облагороженное, «делание», и что
акты духа они наделяют такой степенью произвола, какую они
безусловно не приписали бы телесным актам, где связь с природой,
правда, больше бросается в глаза. Тому же папаше, знающему толк
в ремесле, которого я помянул выше, можно, конечно, выговаривать,
если он принесет не то, что угодно его многоголовому милостивому
господину, ибо бравый муж сей может выполнить и один и другой
заказ и, выбирая свой анекдот, просто-напросто просчитаться, а за
ошибки при счете всякий в ответе; но поэту нужно простить, если
он не попадет в точку, ведь у него нет выбора, у него нет даже
выбора в том, хотеть или не хотеть своего произведения, ведь
однажды ставшее живым не способно вновь разойтись в теле и
превратиться снова в кровь, но должно отделиться, а подавленное или
ставшее невозможным духовное восприятие, как и телесное, может
вызвать уничтожение — в смерти или сумасшествии. Вспомним
спутника юности Гёте — Ленца,— Гельдерлина, Граббе.
Я сказал: драматическое искусство должно способствовать
завершению того всемирно-исторического процесса, происходящего
в наши дни, который стремится не ниспровергнуть, но глубже
обосновать существующие учреждения человеческого рода —
политические, религиозные, нравственные, следовательно, охранить их от
ниспровержения. В этом смысле оно должно быть современным, как
и всякая поэзия, не ограничивающаяся излишествами и арабесками,
и именно в этом, и ни в каком другом смысле, современна всякая
настоящая поэзия, и в этом смысле в предисловии к «Геновеве» я
свои драмы назвал жертвенным даром искусства — духу време-
ни ι. [...]
«Meisterwerke deutscher Literaturkritik», hrsg. von
H. Mayer, Bd. II, I. Teil, Berl., Rütten und Loe-
ning, 1956, S. 409—410, 412—416, 418—419, 422-
424. Перевод Ал. В. Михайлова.
1 В предисловии к трагедии «Геновева» (1843) Геббель писал: «Всякая
драма жизнеспособна в той степени, в какой она служит выражением своей
эпохи, ее самых высоких и подлинных интересов, и я надеюсь, что в
«Геновеве», как и в «Юдифи», хотя их материал заимствован из мифов и саг, я
принес жертвенный дар искусства — духу времени» («Meisterwerke deutscher
Literaturkritik», hrsg. von H. Mayer, Bd. II, Berl., 1956, S. 138).
448
ЛЮДВИГ
1813-1865
Otto Людвиг, после Φ. Геббеля крупнейший немецкий драматург середины
века, был завершителем той традиции высокой поэтической трагедии, которая
шла от Шиллера. Эта трагедия на протяжении ряда десятилетий сохраняла
в незыблемости основные свои черты как в отношении поэтической формы
(пятистопный ямб), так и содержания: человек в его зависимости от судьбы
обязательно оказывается в центре трагедии. Людвиг и завершил^ту традицию,
несмотря на то, что после его лучшей трагедии «Маккавеи» (1852) создал ряд
важных произведений и Геббель: у Людвига яснее всего выразился
кризис этого жанра, абстрактность и обобщенность которого все более и более
приходила в противоречие с тенденциями литературы к отражению
индивидуальной психологии и реалистическому бытописанию. Старый жанр
разлагался внутренне, уступая место другим (Людвиг пишет драму в прозе на
современную тему, предвосхищая натурализм и его идею судьбы,—
«Наследственный лесничий», 1850), а отработанные и застывшие приемы и формулы
этого жанра не были больше пригодны. Отсюда непродуктивность Людвига
как поэта, его погружение в анализ (многолетние «Шекспировские штудии»),
не дающий на практике плодотворных результатов.
В одной заметке, не опубликованной при жизни, Людвиг описывает свой
творческий процесс, который на первый взгляд кажется весьма оригинальным.
В действительности это полное, хотя и неосознанное, подчинение языку
застывших формул (ситуаций, сцен, образов), присущих традиционной
поэтической трагедии: под эти формулы подводится тот ассоциативный поток
представлений, которому предается поэт. Мастерски описанные синэстетические
переживания раскрывают романтическую подоснову творчества Людвига и его
современников, близких ему по направлению. Это интуитивное творчество
поэта, видящего наяву сны, проходит затем, как описывает сам Людвиг,
несколько ступеней проверки чисто рациональным, рассудочным методом.
Замечательна для позднего этапа развития традиционного жанра уже та
тщательность, с которой разделены эти разные ступени. Цель поэта — достигнуть
естественности, то есть уравновесить единичное и типическое,
непосредственное и преднамеренное, рациональное и чувственное. Естественность — это
идеал эпохи реализма, и весьма показателен тот искусственный путь,
которым — поневоле и вопреки самим законам жанра — достигает его поэт. «Пьеса
должна выглядеть, как если бы она была плодом одной интуиции,—пишет
Людвиг, но мы уже успели убедиться, что интуиция совсем не приводит к
естественности, что ей нельзя доверять. Это противоречие свидетельствует об
отчужденности поэта от мира, и тогда творческий процесс Людвига, его
обращение к сложному и изжившему себя жанру, можно понять как субъективное
стремление поэта эстетически преодолеть эту отчужденпость.
449
МЕТОД ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Процесс творчества у меня происходит так: всему предшествует
настроение, музыкальное, становящееся цветом, потом я вижу фигуры —одну или
несколько — в разных позах, с разными телодвижениями, по отдельности или
вместе, и все это в виде гравюры на бумаге именно такого цвета или, точнее,
в виде мраморной статуи или скульптурной группы, на которую свет падает
через шторы такого цвета. Это цветовое явление бывает и тогда, когда я
читаю поэтическое произведение, захватившее меня; если у меня настроение
как при чтении стихов Гёте, то это насыщенный желтый цвет с золотистым
оттенком, переходящий в такой же коричневый; с Шиллером связан
блестящий кармин; у Шекспира каждая сцена окрашена оттенком того цвета,
который есть у всей пьесы.
Удивительно, что тот образ или группа обычно не представляют момента
кульминации, часто только какую-нибудь характерную фигуру в патетической
позе, но к ней примыкает сразу же целый ряд, и я первым делом узнаю не
сюжет, не новеллистическое содержание пьесы, но первоначальная ситуация
постепенно обрастает с обеих сторон все новыми пластическими и
мимическими фигурами и группами, пока не появляется целая пьеса со всеми
своими сценами; все это происходит весьма стремительно, причем мое сознание
пребывает в пассивности и что-то вроде физического испуга держит меня
в оцепенении. После этого я могу уже сознательно, воспроизвести содержание
отдельных сцен в любом порядке, но изложить новеллистическое содержание
в коротком рассказе было бы для меня невозможно. Наконец, к жестам
добавляется речь. Я записываю все, что успеваю, но, когда настроение оставляет
меня, все записанное кажется мне мертвой буквой. Затем я начинаю
заполнять пробелы в диалогах. Для этого я должен критически посмотреть на
все записи. Я ищу идею, знаменатель всех этих деталей, или, лучше сказать,
я ищу ту идею, которая независимо от моего сознания была стимулом и
связью всех явлений; потом я также отыскиваю звенья действия, чтобы
уяснить себе узел причинных связей, а также психологические законы
отдельных моментов, полное содержание всех ситуаций, я вношу порядок
в хаос и тогда составляю план, в котором ничто больше не принадлежит
одной интуиции, все есть намерение и расчет, как в целом, так и в каждом
отдельном слове. Это выглядит примерно так, как пьеса Геббеля, все
высказано абстрактно, каждое изменение ситуации, всякое развитие характера —
нечто вроде психологического муляжа, диалог — не действительный
разговор, а цепочка психологических и характерных черт, прагматических и
высших побуждений. Так бы я и мог все оставить, и перед судом рассудка это
было бы лучше. Нет недостатка и в намеках на современность, что могло бы
понравиться публике. Но, что же поделать, это не художественное
произведение, и пьесы Геббеля мне кажутся только необработанным материалом для
произведения искусства, а не самим произведением. Это еще не человек,
а скелет, едва покрытый плотью, где заметны состав и природа
полупереработанных веществ, где психологическое навязывает себя как
психологическое, и во всем видно намерение.
Тогда я приступаю к исполнению. Пьеса должна выглядеть, как если бы
она была плодом одной интуиции. Психологические черты, все абстрактное
преобразуется в конкретное. Действующие лица больше не делают
абстрактных замечаний о ступенях своего развития, из каких у Геббеля часто состоит
весь диалог,— как, например, Антонио в «Юлии», говоря в сторону,
высказывает все моменты своего впечатления от рассказа о смерти Юлии, к примеру:
«Наверное, ты хотел бы, чтобы она погибла, страдая из-за тебя» — и т. п.
В самих движениях речи, если можно так сказать, должно быть видно то, что
450
происходит в душе героя, но он не должен выражать это сухими словами,
ибо кто в подобном состоянии способен делать такие замечания о себе? Тогда
уже говорит марионетка, фигура, произносящая то, чего хочет поэт, а не она
сама.
Это, конечно, трудно, потому что при этом переформировании
приходится все время держать в памяти два ряда мыслей: во-первых, речи,
пристойные действующему лицу и имеющие сами по себе связь и
содержание, во-вторых, просвечивающие сквозь них моменты психологического
развития, что происходит помимо воли героя, даже вопреки его желаниям.
Технически это не только трудно, но для этого по меньшей мере вначале
требуется одержать верх над тщеславием, ибо сверкающие нити сырого мате-
риала разрываются, внезапные находки теряют пикантность, и даже самые
утонченные моменты выглядят совсем обычно. Труднее всего этого достичь
в случае более простых психологических моментов, при зарождении
внутренних состояний души, которые, только постоянно усиливаясь, становятся
ясными герою или совсем не становятся ясными ему и которые только
незаметно могут затрагивать внешнюю сторону речей, как тихий ветерок
незримо вызывает рябь волн. Так и с любой характеристикой персонажей —
у Геббеля они передают черты своего характера в коротких рассказиках
и сами прекрасно сознают все своеобразие своих натур, в то время как, по
моему мнению, характер лица должен являться помимо его воли, даже
против его желания, герои обычно не знают себя и, желая обрисовать тот
характер, который в себе предполагают, обрисовывают свой настоящий.
Кому, кто знает людей, кто знает человека, не покажется смешным это
преднамеренное и абстрактное докапывание до всем известных черт
психологии и характера? Если героев считать людьми, то они должны вести себя
как люди. Если судьба должна произвести на нас впечатление, то она не
может быть театральным фатумом. Есть такие люди, которые любят
наблюдать за собой и своим развитием. Почему бы поэту и не изобразить такой
характер? Но пусть он не забывает, что такое самонаблюдение —
индивидуальная черта характера, а не всеобщая, которую можно приписывать
всем. Дело философа, ученого — выискивать закон в полноте явлений. Дело
поэта — скрывать закон за его явлением.
Так думал я в своем одиночестве. Своих поэтических героев я творил
согласно с тем, какими я узнал людей, но при этом я, может быть наполо^
вину сознательно, не думал уже о том, что публика состоит из таких же
людей, что взгляд наблюдателя, с легкостью проникающий во все вольные
и невольные переодевания души, больше следящий за движением речи, чем
за смыслом слов, как фехтовальщик больше следит за глазами противника,
чем за его рукой, что этот взгляд наблюдателя — благотворный дар —
нельзя приобрести, но можно только воспитать в себе.
Ludwigs Werke, hrsg. von V. Schweizer, Bd. III,
Lpz.—Wien, [1898], S. 370—373. Перевод
Ал. В. Михайлова.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. О б щ а я литература
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 2, М., 1957, стр. 281—369.
Б ρ а и д е с Г., Молодая Германия, т. 1—2, Спб., «Просвещение», [1908—
1909]. (Б ранд ее Г., Собр. соч., т. 11—12).
451
Гиждеу СП., Немецкая литература 30—40-х годов XIX века.—В кн.:
«История зарубежной литературы XIX века», М., 1964, стр. 365—
410.
Коган П. С, .Очерки по истории западноевропейской литературы, т. 2,
изд. 10. Под ред. Я. Металлова, М., «Советская наука», 1941, стр. 194—
228.
M е ρ и н г Ф., Социалистическая лирика. Г. Гервег.— Ф. Фрейлиграт.—
Г. Гейне.— В кн.: M е ρ и н г Ф., Литературно-критические статьи, М.—Л.,
1964, стр. 251—276.
Николаева Т. С, Поэзия немецкой революции 1848 года, Саратов, Изд-во
Саратовского ун-та, 1961, 164 стр.
Шмулович М. И., Из истории немецкой литературной критики 1830-х
годов. Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук, Рига,
1958, 19 стр. (Ленингр. ун-т).
Brandes G., Das junge Deutschland. 2. Aufl., Lpz., Barsdorff, 1896, 422 S.
С y s а г ζ Η., Von Schiller zu Nietzsche. Hauptfragen der Dichtungs- und
Bildungsgeschichte des jüngsten Jahrhunderts, Halle (Salle ) Niemeyer, 1928,
405 S.
D i e t ζ e W., Junges Deutschland und deutsche Klassik. Zur Ästhetik und
Literaturtheorie des Vormärz. 3. Aufl., Berl., Rütten und Loening, 1962, 395 S.
Draeger O., Theodor Mundt und seine Beziehungen zum Jungen
Deutschland, Marburg, Elwert, 1909, 179 S.
Η о u b e η Η. Η., Jungdeutscher Sturm und Drang. Erlebnise und Studien,
Lpz., Brockhaus, 1911, 704 S.
К i 11 y W., Wirklichkeit und Kunstcharakter, München, Beck, 1963, 237 S.
Kleinmayr H. v., Welt- und Kunstauffassung des Jungen Deutschland,
Wien—Lpz., 1930, 328 S.
Kluckhohn P., Biedermaier als literarische Epochenbezeichnung.—
«Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte»,
1935, Bd. 13, H. 1, S. 1-43.
Koch F., Idee und Wirklichkeit. Deutsche Dichtung zwischen Romantik und
Naturalismus. Bd. 1—2, Düsseldorf, Ehlermann, 1956.
Lotze H., Geschichte der Ästhetik in Deutschland, München, Cotta, 1868,
VIII, 672 S.
Lukâcs G., Deutsche Realisten des XIX. Jahrhunderts, Berlin, Aufbau-
Verl.,,1956, 315 S.
Machâckova V., Der junge Engels und die Literatur (1838—1844), Berl,
Dietz, 1961, 325 S.
Martini F., Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus, 1848—1898,
Stuttgart, Metzler, 1962, XVI, 908 S.
Pro eis s J., Das junge Deutschland. Ein Buch deutscher Geistesgeschichte,
Stuttgart, Cotta, 1892, VI, 804 S.
Quadfasel H., Mundts literarische Kritik und die Prinzipien seiner
Ästhetik, Heidelberg, 1932. Diss.
Storch W., Die ästhetischen Theorien des jungdeutschen Sturm und Drang,
Bonn, 1926. Diss.
We hl T., Das junge Deutschland. Ein kleiner Beitrag zur Literaturgeschichte
unserer Zeit. Mit einem Anhang seiner noch un veröffentlicher Briefe v. Th.
Mundt, H. Laube und K. Gutzkow, Hamburg, Richter, 1886, VII, 269 S.
Wiese K.-H., Robert E. Prutz' Ästhetik und Literaturkritik, Halle, 1934,
134 S. Diss.
Ziemann E., Heinrich Laube als Theaterkritiker, Emsdetten, Lechte, 1934,
140 S.
452
II, Литература к отдельным авторам
Гейне
Сочинения:
Heine Η., Sämtliche Werke. Mitwirk. ν. J. Fränkel, L. Krähe, A. Leitz·
mann u. J. Petersen. Hrsg. von 0. Walzel. Bd. 1—10, Lpz., Insel-Verl.,
1910—1915.
Heine H., Werke und Briefe in 10 Bd. Hrsg. von H. Kaufmann, Berl., Auf-
bau-Verl., 1961—1962.
Гейне Г., Собр. соч. в 10-ти томах. Под общ. ред. Н. Я. Берковского,
В. М. Жирмунского, Я. М. Металлова. [Вступит, статья Д. Заславского],
т. 1—5, М., Гослитиздат, 1956—1957.
«Гейне и театр». [Вступит, статья, ред. и коммент. А. Дейча], М., «Искусство»,
1956, 423 стр.
Литература:
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 2, М., 1957, стр. 283—294.
Банникова Н. П., Гейне о творчестве Лессинга и немецкой литературе
конца XVIII века.— «Ученые записки Моск. гор. пед. ин-та», т. 52, каф.
заруб, лит., вып. 2, 1956, стр. 79—108.
Дейч А. И., Поэтический мир Г. Гейне, М., Госполитиздат, 1963, 447 стр.
Жирмунский В., Гейне и романтизм.— «Русская мысль», 1914, № 5,
стр. 90—116.
Левинтон А. Г., Генрих Гейне. Библиография русских переводов и
критической литературы на русском языке, М., Всесоюз. книжн. палата,
1958, 717 стр. (Всесоюз. гос. б-ка иностр. лит-ры).
Луначарский А. В., Гейне-мыслитель.— В кн.: Луначарский
А. В., Статьи о литературе, М., 1957, стр. 589—603.
Писарев Д. И., Генрих Гейне.—В кн.: Писарев Д. И., Соч. в 4-х
томах. Вступит, ст. и примеч. Ю. С. Сорокина, т. 4, М., 1956, стр. 195—
243.
Хавтаси Г., Теория искусства Генриха Гейне. Автореферат дисс. на соиск.
учен. степ. докт. филол. наук, Тбилиси, 1949, 37 стр. (Тбилисский ун-т).
Хавтаси Г., Теория искусства Генриха Гейне, Тбилиси, изд. Тбил. ун-та,
1956, 479 стр. (На грузин, яз.).
Шиллер Ф. П., Генрих Гейне. Вступит, статья А. Аникста, М.,
Гослитиздат, 1962, 367 стр.
Юрьев Г. Ю., Гейне и Берне, М.—Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1936, 215 стр.
Α η d I е г С, La poésie de Heine, Lyon—P., I AC, [1948], VIII, 191 p.
В ö 1 s с h e W., Heinrich Heine. Versuch einer ästhetisch-kritischen Analyse
seiner Werke und seiner Weltanschauung, Lpz., Dürselen, 1888, VI, 196 S.
Lichtenberger H., Heinrich Heine als Denker, Dresden, Reissner, 1921,
VIII, 312 S.
Pfeiffer H., Begriff und Bild, Heines philosophische und ästhetische
Ansichten, Rudolfstadt, Greifenverl., 1958, 92 S.
Prawer S. S., Heine, the tragic satirist. A study of the later poetry 1827—
1856, Cambridge, univ. press, 1961, X, 314 p.
Victor W., Marx und Heine, 3. Aufl., Berl., Henschel, 1953, 159 S.
Wilhelm G., Heine-Bibliographie, Bd. 1—2, Weimar, «Arion», 1960.
453
Сочинения:
Берне
Börne L., Gesammelte Schriften, Bd. 1—12, Wien, 1868.
Börne L., Werke. Ausg. u. eingel. von H. Bock u. W. Dietze, Bd. 1—2,
Weimar, Volksverl., 1959.
Берне Л., Поли. собр. соч. Пер. под ред. А. Трачевского и М.
Филиппова, т. 1—3, Спб., Сойкин, 1900.
Берне Л., Из дневника Берне, с прилож. его статьи о «Гамлете» Шекспира,
Спб., Берман и Войтинский, [1886], 143 стр. (Европейская б-ка).
Берне Л., Парижские письма.—Менцель-французоед. Пер. А. Ромма и
П. Вейнберга. Предисл. Ф. П. Шиллера, М., Гослитиздат, 1938, 772 стр.
Литература:
Сосинский Е. Ю., Эстетические воззрения и литературная критика
Людвига Берне. Автореферат дисс. на соиск. учен, степени канд. филол. наук,
Л., 1955, 12 стр.
Юрьев Г. Ю., Гейне и Берне, М,—Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1936, 214 стр.
Воск Н., Ludwig Börne, BerL, Rütten u. Loening, 1962, 500 S.
Brandes G., Ludwig Börne und Heinrich Heine, 2. Aufl., Loz., Barsdorf,
1898, 190 S.
J ä η s с h W., Der Theaterkritiker Ludwig Börne und das Drama, Breslau,
1930. Diss.
Rose eu R., Ludwig Börne als Kunstkritiker, Greifswald, 1910, 86 S. Diss.
Stadtländer W., Ludwig Börne und sein Verhältnis zu Goethe und Jean
Paul, BerL, Junker u. Dünnhaupt, 1933, 159 S.
Бюхнер
Сочинения:
Büchner G., Werke und Briefe, Gesamtausgabe, hrsg. von F. Bergemann,
Wiesbaden, Insel·Verl., 1958, 682 S.
Büchner G., Georg Büchners ästhetische Anschauungen. Ausgewählt u.
eingel. von H. Nahke u. der Red. [Dresden, Verl. der Kunst, 1955], 88 S.
Бюхнер Г., Сочинения. Пер. Ε. Т. Рудневой. Статья А. К. Дживелегова.
Коммент. А. И. Рубина, М.—Л., «Academia», 1935, 394 стр.
Литература:
Дворкина Ю.А., Драматургия Георга Бюхнера — «Ученые записки Минск,
ун-та», 1940, вып. 2, стр. 147—174.
Дживелегов Α., Георг Бюхнер.—В кн.: Бюхнер Г., Сочинения,
М.—Л., 1935, ,стр. 9—36.
Дымшиц Α., Эстетические взгляды Георга Бюхнера.— «Известия Акад.
наук СССР. Отделение литературы и языка», т. 19, 1960, № 6, стр. 479—
491.
Жуховицкая М. Г., Философские и социальные взгляды Георга
Бюхнера.— «Ученые записки Таллинск. пед. ин-та», т. 1, вып. 1, 1956, стр. 87—
103.
Шмулович В., Мировоззрение Георга Бюхнера и его эстетические
взгляды,— «Ученые записки Латв. ун-та», т. 45, филол. науки. Очерки по
вопросам иностр. яз., вып. 3, 1963, стр. 115—143.
Brinkmann D., Georg Büchner als Philosoph, Viernheim—Zürich, [1960],
38 S.
454
Knight Α. Η. J., Georg Büchner, Oxford, Blackwell, 1951, VII, 181 p.
Mayer H., Georg Büchner und seine Zeit, Berl., Auf bau-Verl., 1960, 507 S.
Oppel H.t Die tragische Dichtung Georg Büchners, Stuttgart, Hempe, 1951,
46 S.
S с h m i d P., Georg Büchner, Versuch über die tragische Existenz, Bern,
Haupt, 1940, 124 S.
Vie to г К., Georg Büchner, Politik, Dichtung, Wissenschaft, Bern, Francke,
1949, 303 S.
В и h б a ρ г
Сочинения:
Wienbarg L., Ästhetische Feldzüge. Hrsg. von W. Dietze, Berl.—Weimar,
Aufbau-Verl., 1964, LX, 413 S.
Литература:
Burckhardt G., Ludolf Wienbarg als Ästhetiker und Kritiker. Seine
Entwicklung und geistesgeschichtliche Stellung, Hamburg, 1956. Diss. м
Graf Α., Freiheit und Schönheit bei Ludolf Wienbarg. Ein Beitrag zur
Ästhetik des Jungen Deutschland, Bonn, 1952. Diss.
Kayser R., Ludolf Wienbarg und der Kampf um den
Historismus.—«German quarterly», 1956, march, v. XXIX, Ν 2, p. 71—74.
Schweizer V., Ludolf WiBnbarg. Beiträge zu einer jungdeutschen Ästhetik,
Lpz., Wild, 1897, 156 S.
M ё p и к е
Сочинения:
M ö г i к е Е., Werke und Briefen in zwei Bänden [Hrsg. u. eingel. von H.-H.
Reuter], Lpz., Dieterich, [1957].
M ë ρ и κ e 9., Моцарт на пути в Прагу. Пер. В. Княжнина, [Л.], «Прибой»,
1928, 132 стр.
Литература:
Golleville M., La conception de la poésie et du poète chez Mörike.—
«Langues modernes», 1949, sept.-oct., t. 43, N 5 a, p. 265—281.
F a r r e 1 1 R. В., Mörike: Mozart auf der Reise nach Prag, Lond., Arnold, [1960],
62 p.
Laserstein K., Die Gestalt des bildenden Künstlers in der Dichtung, Berl.,
Gruyeter, 1931, 80 S.
M a y η e Η., Eduard Mörike. Sein Leben und Dichten, 4. Aufl., Stuttgart, Cotta,
1927, XIII, 478 S.
Meyer H., Eduard Mörike, Stuttgart, 1961, 63 S. (Sammlung Metzler).
Müller В., Eduard Mörike. Grundriß seines Dichtertums, Winterthur,
Keller, 1955, 69 S.
Peterli G., Zerfall und Nachklang. Studien zur deutschen Spätromantik,
Zürich, «Atlantic», 1958, 127 S.
Reinhardt H., Mörike und sein Roman «MalerNolten», Zürich, Verl. d.
Münster-Presse, 1930, 126 S.
S t a i g e г Ε., Ein Briefwechsel mit Martin Heidegger.— In: S t a i g e r E.,
Die Kunst der Interpretation, Zürich, [1955], S. 34—49.
W a 1 d e r H., Mörikes Weltanschauung, Zürich, Rascher, 1922, 166 S.
Wiese B. v., Eduard Mörike, Tübingen, Wunderlich, 1950, 304 S.
455
Williams W. D., Day and night symbolism.— In: «The era Goethe»,
Oxford, 1959, p. 163—178.
Гетτ h ер
Сочинения:
Геттнер Г., История всеобщей литературы XVIII века, т. I—III. Пер.
А. Н. Пыпина и А. Н. Плещеева, Спб., 1863—1875, (2 изд., т. 1—2, Спб.,
1896-1897).
Hettner H., Kleine Schriften, Braunschweig, 1884, VIII, 563 S.
H e 11 η e r H., Schriften zur Literatur, Berl., Aufbau-Verl., 1959, XLVI, 389 S.
Der Briefwechsel zwischen Gottfried Keller u. Hermann Hettner, Berl.—Weimar,
Aufbau-Verl., 1964, XXXVIII, 350 S.
Литература:
Пыпин Α. Η., Герман Геттнер.— В кн.: Геттнер Г., История
всеобщей литературы XVIII века, т. И, Спб., 1897, стр. I—XLVIII.
Л у к а ч Г., Герман Геттнер.— В кн.: Л у к а ч Г., Литературные теории
XIX века и марксизм, М., Гослитиздат, 1937, стр. 13—22.
Ε г 1 е г G., Einführung zu Η. Hettner. Geschichte der deutschen Literatur in
XVIII Jahrhundert, Bd. I, Berl., 1961, S. XI—LXXIII.
Jahn J., Einleitung zu H. Hettner. Schriften zur Literatur, Berl., Aufbau-
Verl., 1959, S. V—XLIII.
Wegner M., N. G. Öernysewskij und Hermann Hettner.— «Zeitschrift zur
Slawistik», 1963, Bd. VIII, H. 5, S. 709—723.
Вагнер
Сочинения:
Wagner R., Sämtliche Schriften und Dichtungen, Bd. 1—16, Lpz.,
Breitkopf und Härtel, 1912—1914.
Wagner R., Mein Leben. Erste authentische Veröffentlichung. Einmalige
Jubiläumsausgabe, München, List, 1963, 945 S.
Вагнер Р., Избранные статьи, M., Музгиз, 1935, 196 стр.
Вагнер Р., Моя жизнь. Мемуары. Письма. Дневники, т. 1—4, Спб.,
«Грядущий день», 1911—1912.
Литература:
Грубер Р., Рихард Вагнер, М., Музгиз, 1934, 143 стр. Библиографический
указатель произведений Р. Вагнера и лит-ры о нем, стр. 127—132.
Друскин М., Вагнер, изд. 2, М., Музгиз, 1963, 95 стр.
Лиштанберже Α., Рихард Вагнер, как поэт и мыслитель, М.,
«Творческая мысль», 1905, 367 стр.
Финдейзен Н., Рихард Вагнер. Его жизнь и музыкальное творчество,
ч. 1—2, Спб., изд. «Русской музыкальной газеты», 1911, 68 стр.
Хвостенко Дл., «Вагнериана». Материалы к библиографическому
указателю литературы на русском языке о Рихарде Вагнере.— «Советская
музыка», 1934, № ц, стр. 85—95.
Armando W. О., Richard Wagner. Eine Biographie, Hamburg, Rütten und
Loening, 1962, 381 S.
Barth H., Internationale Wagner-Bibliographie. Hrsg. von H. Barth,
Bayreuth, «Musica», 1961, 142 S.
В 1 ü m e r H., Über den Tonarten Charakter bei R. Wagner, München, 1958,
255 S. Diss.
456
Bourgeois I., Richard Wagner, P., Pion, 1959, 237 p.
Dinger H., Richard Wagners geistige Entwickelung, Lpz., Futzsh, 1892,
XXIV, 411 S.
Ernst Α., L'Art de R. Wagner, P., Pion, Nourrit, 1893, IV, 544 p.
Fries О., Richard Wagner und die deutsche Romantik, Zürich, «Atlantic»,
1952, 224 S.
F r о m m e 1 G., Der Geist der Antike bei R. Wagner. In selbstzeugnissen dar-
gest. m. e. von V. Gerth Frommel, Berl., «Die Runde», 1933, 131 S.
G la se na pp G. F., Das Leben Richard Wagners, Bd. 1—6, 4. Aufl., Lpz.,
Breitkopf und Härtel, 1905—1911.
Guichard L., La musique et les lettres en France au temps du wagnérisme,
P., Presses univ. de France, 1963, 354 p. Bibl. p. 325—346.
Jacobs R. L., Wagner, N. Y., Collier, 1962, 253 p. Bibl. p. 217—255.
Knopf К., Die romantische Struktur der Denkens Richard Wagners, Jena,
1932, 66 S. Diss.
К u r t h Ε., Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners «Tristan», Berl.,
Hesse, 1923, XII, 573 S.
Leprince G., Présence de Wagner, P., «La Colombe», [1963], 481 p.
Lichtenberger H., R. Wagner, poète et penseur. Nouv. ed. aug., P.,
Alcan, 1931, 450 p.
Louis R., Die Weltanschauung R. Wagners, Lpz., Breitkopf und Härtel,
1898, VII, 193 S.
Luc к R., Richard Wagner und Ludwig Feuerbach, Breslau, 1905, 44 S. Diss.
Marcuse L., Das denkwürdige Leben des R. Wagner, München, Szczesny,
[1963], 312 S.
M i s 11 e r L, A Bayreuth avec Richard Wagner, P., Hachette, 1960, 251 p.
Moos P., Richard Wagner als Aesthetiker, Berl., Schuster und Loffer, 1906,
476 S.
Newman Ε., Wagner als man and artist, Ν. Y., Random, 1960, XVII, 440 p.
Stein H., Dichtung und Musik im Werk R. Wagners, Berl., Gruyeter,
1962, 322 S.
Stein I. M., R. Wagner and the Synthesis of the arts, Detroit, Wayne state
univ. press, 1960, 229 p.
Westernhagen C, R. Wagner. Sein Werk, sein Wesen, seine Welt,
Zürich, Atlantis-VerL, 1956, 559 S. Bibl. S. 542—550.
Геббель
Сочинения:
Hebbel F., Werke, in 4 Haupt- und 3 Erg.-Bd. Hrsg. von G. Fricke. Auf einem
Lebensbild und Einl. von S. Streller, Bd. 1—7, Lpz., Reclam, [1957].
Hebbel F., Neue Hebbel-Briefe. Hrsg. von A. Meetz, Neumünster, Wach-
holtz, 1963, 236 S.
Геббель Φ., Мысли об искусстве. Избранные места из дневника и
переписки. Пер. С. Франка.— «Русская мысль», 1913, № 12, стр. 82—129.
Геббель Ф., Трагедии. Пер. В. А. Зоргенфрея и Н. А. Холодковского.
Ред., вступит, ст. и коммент. С. А. Адрианова, М.—Л., «Academia», 1934,
669 стр.
Литература:
Altherr Ε., Komik und Humor bei Friedrich Hebbel, Lpz., Huber, 1935,
159 S.
457
Augstein К., Hebbel als Denker, В erl., Miner va-Verl., 1947, 162 S.
F 1 y g t S. G., Friedrich Hebbel's conception of movement in the absolute and
in history, Chapel Hill, Univ. of North Carolina, 1952, 100 p.
Franz H. R., Selbsterkenntnis, Selbsterziehung und Selbstbildung bei Fr.
Hebbel, München, 1957, IV, 141 S. Diss.
Koch F., Welt und Ich. Das Grundproblem von Hebbels Theorie des Dramas,
Beri., Verl. der Akad. der Wiss., 1940, 17 S.
Kutscher Α., Hebbel und Grabbe, München, 1913, VII, 160 S.
Levy Ε., Die Gestalt des Künstlers im deutschen Drama, Berl., Ebering, 1929,
155 S.
Liefe W., Beiträge zur Literatur - und Geistes-Geschichte, Neumünster,
Wachholz, 1963, S. 158-398.
Loose Ε., Friedrich Hebbels Anschauungen über die deutsche Literatur bis
zum Ausgang der Klassiker, Berl.— Lpz., 1918, 248 S.
Müller J., Das Weltbild Fr. Hebbels, Halle (Salle), Niemeyer, 1955, 254 S.
Ρ i η к u s H., Hebbels und Wagners Theorien vom dramatischen Kunstwerk
im Zusammenhange mit ihren Weltanschauungen, Marburg, 1935, 101 S.
Diss.
Scheunert Α., Der Pantragismus, Ästhetik Friedrich Hebbels, Hamburg,
Voss, 1903, XVI, 330 S.
Schwerin R. v., Hebbels tragische Theorie I. Das Wesen des Dramas,
Rostock, 1903, 129 S. Diss.
Vogeler F., Friedrich Hebbels Kunstethik, Dortmund, Ruhfus, о. J., XII, 52,
21 S.
Wütschke H., Friedrich Hebbel und das Tragische.— «Zeitschrift für
Ästhetik u. allgem. Kunstwissenschaft», 1908, Bd. III, H. 1, S. 47—71.
Людвиг
Сочинения:
Ludwig О., Sämtliche Werke. Kritische Ausg. Hrsg. von P. Merker, Bd. 1—18,
München, 1912—1927 (вышло 6 томов).
Ludwig О., Werke. Hrsg. von V. Schweizer, Bd. 1—3, Lpz.—Wien, Bibl.
Inst., [1925]. (Meyers Klassiker-Ausg.).
Литература:
Meyer Α., Die ästhetischen Anschauungen Otto Ludwigs, Winterthür, Keller,
1957, 188 S. Diss.
Raphaël G., Otto Ludwig: ses théories et ses œuvres romanesques, P., 1919,
496 p.
Schöneweg H., Otto Ludwigs Kunstschaffen und Kunstdenken, Jena, Diede-
richs, 1941, 131 S.
S i 1 ζ W., Otto Ludwig and the process of poetic creation.— «PMLA», 1945,
sept., v. 60, N 3, p. 860—878.
Steiner Η., Der Begriff der Idee im Schaffen Otto Ludwigs, Lpz., Huber,
1942, 279 S.
Stern Α., Otto Ludwig. Ein Dichterleben. 2. Aufl., Lpz., Grunow, 1906, IX,
398 S.
W а с h 1 e r Ε., Über Otto Ludwigs ästhetische Grundsätze, Berl., Ebering,
1897, 36 S. Diss.
АВСТРИЯ
ГРИЛЬПАРЦЕР
1791-1872
Развитие литературы в Австрии шло совершенно своеобразными путями,
не сравнимыми с историей литературы Германии. Несмотря на общность
языка, между этими литературами существовала граница, и только Гёте мог иметь
влияние на австрийских писателей. В высшей степени показательно то, что
в 1838 году писал великий австрийский драматург Франц Грильпарцер: «Спор
о преимуществах классического и романтического походит на то, как если бы
хозяин за обеденным столом стал спрашивать гостей, желают ли они есть или
пить?, Разумный сказал бы —того и другого»1. И хотя Грильпарцер хорошо
понимал и чувствовал суть этих явлений, они для него были не двумя разными
типами отношения к действительности, а только двумя сторонами искусства,
причем обязательными и даже неизбежными. Такие взгляды немыслимы ни
для одного немецкого писателя в эпоху Грильпарцера, но австрийская
литература совсем не знала контроверз классического и романтического искусства,
так же как она не знала резких перебоев и сдвигов, и вершины этой
литературы легко соединяются непрерывной линией развития. Если все же говорить
1 Grillparzers Werke in sechs Bänden, Lpz., Reclam, o. J., Bd. VI, S. 150.
4SI
о «романтизме» и «классике» применительно к Грильпарцеру, то его драмы
кажутся их синтезом.
Творчество крупнейших писателей и поэтов Австрии — от Франца
Грильпарцера и Адальберта Штифтера до Гуго фон Гофмансталя и Роберта Му-
зиля — отличается несколькими особенностями, которые постоянно
воспроизводятся вновь и вновь. Если прибавить сюда еще и творчество австрийских
композиторов, начиная от Франца Шуберта и Антона Брукнера, то еще яснее
и с еще более удивительной отчетливостью предстанет общая нравственная
основа их искусства, его этос. Цель своего искусства они видят не только в том,
чтобы изобразить человека, каким он должен быть, но и пробудить его в
читателе и слушателе. Сущность такого человека — в гармонии его сил и
способностей. Эти утопические мечты австрийские поэты и музыканты меньше
всего пытались выразить с помощью нравственной проповеди или
философской теории: обращаясь к искусству, они надеются сказать его языком все, что
нужно. Искусство раскрывается ими как средство уравновешивания
внутреннего мира человека,— то, что древние выражали понятием «очищение»,
«катарсис»,— уравновешивания не в смысле устранения конфликтов и
противоречий, чего искусство не в состоянии сделать, а как адекватного осознания
жизненных противоречий и устранения всяких фантомов и иллюзий,
благодаря чему возрастает ценность и практических действий человека. Такое
понимание искусства и его роли в социальной жизни, в обществе свойственно —
сознательно или бессознательно — всей названной традиции австрийского
искусства. От предисловия к «Пестрым камешкам» А. Штифтера и до
прочитанного в 1935 году доклада австрийского дирижера Бруно Вальтера,
говорившего о «внутреннем стремлении и глубоком желании гармонии — гармонии
в сверхмузыкальном трансцендентальном значении слова» и о «радостной
вести», которую несет искусство «этической части нашего существа» \— одна
непрерывная линия утверждения идеалов гуманизма. Но «этическая часть»
человека — это на самом деле весь человек: поэтому австрийские поэты и
музыканты с заботой относятся к своему искусству — они ясно и наглядно
представляют себе, как искусство, вливаясь в человека, обретает смысл и
очеловечивается в нем, перестраивая его. Результат перестройки небезразличен —
вот почему парадоксальная и неразрешенная нравственная проблематика
искусства Ф. Геббеля не встречается в зрелом искусстве Австрии, вот почему
скорбная торжественность музыки Брукнера никогда не позволяет себе
патетического жеста Вагнера или Листа. Какими бы кричащими ни были
отражаемые искусством противоречия действительности, цель искусства —
сохранить сдержанное спокойствие перед их лицом и этим свершить над ними суд.
Сдержанность — это черта искусства Грильпарцера, Шуберта, Брукнера,
Штифтера, находящая выражение в непоколебимом чувстве порядка, строгой, гео-
1 Bruno Walter, Von den moralischen Kräften der Musik, Wien
—Leipzig — Zürich, 1935, S. 12.
462
метрической размеренности: даже в пору расцвета романтизма австрийская
музыка сохраняет и подчеркивает строгую расчлененность своих построений.
Чувство порядка — не педантическое пристрастие, это выражение торжества
гуманных идеалов в искусстве над противоречиями действительности, победа
должного над тем, что есть 1.
Философская сложность шедевров Грильпарцера, Штифтера и Брукнера
затрудняет доступ к ним. Искусство Австрии, особенно музыка, оказалось
способным очень тонко и адекватно выразить внутренний мир человека, и эта
способность все более совершенствовалась. Но это означало усложнение языка
искусства, создание новых средств выражения, что затрудняло контакт с
читателем или слушателем и могло быть усвоено только со временем. В Австрии
достаточно рано выявилась внутренняя проблематичность искусства,
приведшая к конфликту искусства и общества2.
* * *
Жизнь Франца Грильпарцера протекала в традиционных для
австрийского писателя рамках — между обязанностями чиновника и обязанностями
поэта. Для Грильпарцера они были внутренне несоединимы. Прижизненная
известность и слава поэта контрастировала с неизвестностью его произведений.
Его самая тонкая трагедия «Волны моря и любви» (1831) была непонята,
а после 1838 года поэт не предлагает своих новых произведений театру (среди
них были «Либуша», «Братские распри в Габсбурге», «Еврейка из Толедо»).
Ранние драмы Грильпарцера были более удачливы. Его первая драма —
«Прародительница» (1816), переведенная А. Блоком, формально напоминает
типичный для того времени замысел «трагедии рока» с ее фетишизацией судьбы,
но корнями уходит глубоко в венский народный театр, а поэтическую технику
1 Характером развития австрийской музыки, а также — косвенно — и
литературы вполне объясняется тот факт, что в Австрии был сделан первый
опыт подхода к произведению искусства как структуре, построенной но
своим внутренним законам, Эдуардом Гансликом в трактате «О музыкально-
прекрасном» (1854).
2 Не кто иной, как Грильпарцер, отметил это тяготение австрийского
искусства к чисто индивидуальным построениям, когда язык искусства
перестает быть понятным. Вот описание импровизации нищего старика-скрипача
из рассказа «Бедный музыкант» (1848): «Я остановился. Тихий, но уверенно
взятый звук постепенно становился резким, стал затихать, замер, но тут же
напрягся до оглушительного свиста — все тот же звук, словно наслаждение
было в том, чтобы все повторять и повторять его. Наконец, интервал. Это была
кварта. Если прежде музыкант упивался звучанием одного только тона, то
теперь еще сильнее ощущалось наслаждение этим гармоническим отношением...
Вот что старик называл фантазией! Хотя, впрочем, это и была фантазия —
для исполнителя, но не для слушателя!» (Grillparzers Werke, Bd. V, S. 44).
463
заимствует у Кальдерона. Начиная с «Сафо» (1818), Грильпарцер обращается
к психологической драме. В ней поэт, опираясь на исторические или
мифологические сюжеты, очень тонко и сдержанно анализирует современную ему
действительность: Не внешние события эпохи интересуют его, а ее человеческое
содержание, которое в свою очередь является в конкретных и наглядных
действиях. Действие трилогии «Золотое руно» (1821) лишено всякого нарочитого
аллегоризма и символики, но связь с современностью ненавязчиво и почти
незаметно образуется через знак «золотого руна» — это, по словам Грильпар-
цера, «знак вожделенного, искомого со страстью, несправедливо добытого» \
«нечто вроде клада Нибелунгов» 2. Драмы Грильпарцера с трудом поддаются
интерпретации: для этого поэт слишком доверяет средствам искусства и
поэтическому смыслу своих драм, доступному интуиции. Эта уверенность в языке
искусства как подлинном языке бытия, где разорванность и фрагментарность
внешнего мира получает связь и смысл,— одно из основных эстетических
убеждений Грильпарцера. В дневнике за 1827 год он писал: «Для меня не
существовало иной правды, кроме поэзии. В ней я не позволил себе ни малейшего
обмана, ни малейшей отвлеченности от материала. Она была моей
философией, моей физикой, историей и правом, любовью и склонностью, мыслью и
чувством. Напротив того, вещи действительной жизни, ее правда и идея были для
меня чем-то случайным, бессвязным, подобным тени, что только в руках
поэзии становилось для меня необходимостью. С того момента, как материал
воодушевил меня, в моих представлениях образовывался порядок, я знал все,
понимал все, помнил все, я радовался, я был человеком. Как только это
состояние проходило, возвращался прежний хаос» 3.
ИЗ «ЭСТЕТИЧЕСКИХ ШТУДИЙ»
Когда произносят слово «эстетика», то при этом имеют в виду
одно из двух — эстетику как часть философии или эстетику
искусствознания. В первом смысле человек должен думать обо всем, не
прекращая своих опытов и считаясь с риском никогда не достичь
своей цели. Ведь думает же он об устройстве мира, хотя можно
поставить тысячу против одного, что он никогда не поймет этого
устройства. Но здесь и сказывается большое различие: действительный
мир существует независимо от того, понимаем ли мы его; мир
прекрасного в искусстве еще только должен быть создан, и здесь
ложное понимание легко приведет к самым дурным последствиям.
1 Grillparzers Werke, Bd. VI, S. 258.
2 Grillparzers Werke, Bd. I, S. 42.
3 Τ а м же, стр. 18 и ел.
464
К счастью, природа уже заранее пришла на помощь ограниченности
человеческого духа. Можно правильно мыслить, не зная логики,
поступать справедливо, не зная морали, и можно чувствовать
прекрасное, даже создавать его, не будучи знакомым с эстетикой. Без
всякого сомнения, наука обостряет, совершенствует, даже
исправляет наши от природы данные способности, но важность всех тех
теорий меньше заключается в полезности истинных, чем в
абсолютном вреде, который приносят ложные. Часто говорилось и
повторялось, что самые превосходные поэтические произведения возникли
прежде, чем появилось понятие о правилах, а противоположное
явление, когда в новое время реальная поэзия становится все более
бледной и пустой, кажется, как и первое, не очень свидетельствует
в пользу такой науки. Без сомнения, верная эстетика была бы
большим выигрышем для искусства. Она не исключила бы
специфическую одаренность или талант, но она оберегла бы нас от всего того
извращенного и абсурдного, что в наше время стало играть такую
роль, не говоря уж о факте постоянной смены вкуса, что так
разочаровывает и что, кажется, нашло себе убежище в первую
очередь в нашей Германии. (1821—1822).
Grillparzers Werke in sechs Bänden, Lpz., Rec-
lam, [1957], S. 112—113. Перевод Ал. В. Михайлова.
Говорят: цель прекрасного — удовольствие! Во-первых, что
значит «цель прекрасного»? Цель истинного есть истинное, и цель
прекрасного — прекрасное, ибо, если уж говорить о практическом
действии прекрасного, кто назовет одно только удовольствие, которое
вызывается и приятным, а прекрасным лишь в той мере, в какой
оно является и приятным, что случается далеко не всегда ( № —
это справедливо только по отношению к удовольствию в обыденном
смысле, в высшем смысле оно всегда вызывается прекрасным).
Разве можно ставить ни во что возвышение духа, восхищение всего
нашего бытия, возбуждение чувств, которые иначе не были бы
затронуты в течение всей жизни? А взгляд на целое жизни, познание
собственной души, механизма чужих и своих собственных страстей?
А поддержание всякого энтузиазма, который в узости мещанских
отношений так легко погружается в сон? Разве все это — ничто и
разве требуется выставлять удовольствие как единственную цель
искусства и тем самым ставить в один ряд художника и
фокусника? (1829-1830).
Там же, стр. 114—115.
16 История эстетики, т. III
465
A priori совершенно невозможно вывести чувство прекрасного.
Хотя заранее очевидно, что то, что вносит строй и гармонию в наши
представления, облегчая восприятие, именно благодаря этому
вызывает некоторое удовольствие, это ощущение приятного так далеко
от эстетического чувства, как исчисление квинты от ее звучания.
Но, если судить a priori, то систематическое построение научной
дисциплины должно было бы вызывать такое же удовольствие, как
и самое прекрасное произведение искусства. (1819—1820).
Чувство прекрасного бесконечно, поэтому к самым
характерным его признакам относится то, что действие далеко превосходит
непосредственную причину. Что такое заключено в материале или
даже в самих пропорциях благоупорядоченной колоннады, что так
внезапно возвышает все твое существо, влечет, захватывает тебя,
восхищает до слез, пробуждает в душе все то великое и прекрасное,
что ты видел, слышал, читал, воспринимал, что разливается волнами
тепла по вдруг расширившимся сосудам? Почему в момент
созерцания и пока в твоей душе не остынет впечатление, ты лучше,
снисходительнее, добрее, мужественнее? Почему в этом состоянии
сама природа восхищает тебя так, что и травы и насекомые
приобретают для тебя значение? В этом состоянии — можешь ли ты
ненавидеть, гневаться, завидовать и лгать? Вечное противоречие
чувственной и нравственной природы, желания и долга не кажется
ли тебе преодоленным в этот миг? Все ли тебе непонятен бог и
неясно бытие? Разве не чувствуешь ты родства с теми существами,
что ниже тебя, и с тем, что выше тебя? Не кажется ли тебе, что
невидимые нити протягиваются из твоей души, нежданными
связями соединяя все в мире? И всему этому причиной — жалкая
колоннада из твердого известняка, следующая определенному
порядку? Или, может быть, это чувство целостности; когда вдруг
прерывается то разобщение, в которое погружает нас жизнь; может
быть, причиной всему чувство единения всего конечного в
бесконечном?
И, наконец, в доказательство того, что не одно только
воображение возвышается за счет остальных способностей,— тебе и
думать легче в этом состоянии; все истины — кроме, может быть,
математических, которые потому и требуют строжайшего
разграничения,— становятся тебе яснее, даже философские абстракции
постигаются скорее, в доказательство того, что возвышение,
производимое прекрасным, действует не на часть, а на все внутренние
силы кашей души. (1819—1820).
Там же, стр. 115—116.
466
Частое восприятие разнообразных индивидов, образующих один
род, бесспорно, внушает воображению определенный отвлеченный
образ — тип этого рода, который составляет основу для
формирования понятий. Это подтверждает простая внимательность к
мыслительным операциям. В тот момент, когда я мыслю, например,
понятие «цвет», почти одновременно в моей душе на миг возникает
неопределенный образ того, что, не будучи определенным цветом,
больше всего на свете все же похоже на цвет,— этот
неопределенный образ, это неразличимое сочетание частных образов
одновременно с мыслью словно молния пронизывает душу, придавая форме
понятия его содержание. Этот образ фантазии лежит в основе
самых абстрактных понятий и идей, таких, как «время», «вечность»,
«бог» и т. п., иначе они немыслимы. Этот тип воображения, будучи
прослежен в деталях и яснее осознан, создает основу для
художественного идеала. (1819—1820).
Там же, стр. 116—117.
Подражание природе считается высшим законом искусства. Но
спросим: возможно ли подражать природе? — Искусство скульптора
создает формы, но они лишены высшего интереса, движения, цвета.
Живопись изображает пейзажи, но высшее, чего она может
достичь,— это изобразить в обманчивом подобии внешний вид дерева,
растений, облаков; но передаст ли она, как шумят деревья,
волнуются травы, плывут облака, то, что придает подлинный интерес
настоящему пейзажу? Где пение птиц, журчание ручейка, звон
колоколов? Описание же пейзажа, которое может, пусть бледно, передать
движение, по наглядности своей не выдерживает сравнения с
настоящим пейзажем. И, однако, монотонная природа, изображенная
и описанная искусством, воздействует на таких людей, которых
настоящий пейзаж оставляет равнодушными. Как случается, что
бледное отражение больше притягивает к себе, чем живительный
прообраз? Ибо ведь техническое совершенство подражания не
способно трогать нас, оно в лучшем случае вызовет изумление, как
трюкачество циркового силача и бесчисленные лица на вишневых
косточках наших кунсткамер. Далее — верно ли, что природа на
нас непосредственно действует (там, где она не выступает как
средство удовлетворения наших потребностей), и почему она не
действует на животных, почему не на всех людей одинаково? Что так
трогает нас в розоватой окраске облаков, в затухании света и
наступлении тьмы при заходе солнца, что у меня на глазах
выступают слезы? Почему я прохожу мимо цветущих зеленых деревьев
и останавливаюсь перед пораженным молнией, смотрю на него,
16*
467
погружаюсь в мысли и, наконец, со вздохом отхожу прочь? Над
чем вздыхаю я? Над деревом? Но оно не чувствует боли. Или я, не
сознавая того, оплакиваю падение всего великого, засыхание
всех цветов — «жребий прекрасного на земле»? Переношу ли я
свое чувство на дерево и оно — только образ моих мыслей? Если
это так, то становится понятным, почему природа воздействует
только на думающих и тоньше чувствующих людей, в то время как
другие, отвлеченные неважным и незначительным, не осознают
подлинно существенного. Но если тот, кто способен к восприятию
и воссозданию того, что в самой природе действует на душу,
возьмется за воплощение своего чувства и, устранив моменты,
безразличные и портящие впечатление, передаст то в объекте своего
наблюдения, что затронуло его душу, это и более поверхностного
зрителя побудит к вниманию и, поскольку все безразличные детали
изъяты, приведет его к самому существу дела, прояснит ему то
содержание, которое прежде прошло мимо него, и он в
произведении искусства почувствует то, чего он не увидел в действительном
предмете и чего он никогда бы не заметил, не будь художника,
поскольку это чувство скорее сообщено наблюдателем предмету,
чем предметом — наблюдателю. Он поймет тогда идею художника,
и подражание предмету окажется только средством
взаимопонимания. (1819—1820).
Там же, стр. 118—119.
Художник, у которого оригинальность считается характерной
особенностью, уже потому является художником второго ранга,
поскольку первостепенные умы характеризуются чувством
естественного. Они делают все как другие, только бесконечно лучше. (1845).
Там же, стр. 126—127.
Так называемый моральный взгляд — худший враг подлинного
искусства, поскольку одно из главных достоинств последнего
заключается как раз в том, что посредством искусства можно
наслаждаться теми сторонами человеческой природы, которые
нравственный закон по праву удалил из действительной жизни. (1829).
Художественное произведение должно быть подобно природе,
просветленным отражением которой оно является,— быть не совсем
объяснимым и для глубокого исследователя и быть чем-то уже для
простого созерцания, а именно — быть значительным. Если кто-ни-
468
будь создает то, что для обычного человеческого понимания — ничто
и превращается в нечто только усилием глубокомысленной
рефлексии, тот, возможно, решил философскую проблему в поэтическом
обрамлении, но художественного произведения он не создал. (1822).
Там же, стр. 127—128.
Неожиданное может и должно встречаться в искусстве, но на
своем месте оно должно воздействовать как необходимое и
заключающее в самом себе свое оправдание. (1845).
Там же, стр. 133.
Что такое вдохновение, которое считается необходимым для
художественного творчества? Это не то возбуждение сил души
и ума, которое обычно обозначают этим словом и которое
сопровождается и поддерживается подобным же физическим состоянием.
Это вдохновение частью внешнее явление, а частью следствие иной
предшествовавшей причины. Иначе произведения искусства были бы
порождениями болезненного состояния, чего-то вроде опьянения
души и тела. Собственное вдохновение есть направленность всех
сил и способностей на одну цель, которая на этот момент должна
не столько вобрать в себя целый мир, сколько представлять его
собою. Возбуждение души возникает благодаря тому, что отдельные
силы, рассеянные по всему свету, собираются и направляются в
узкие рамки отдельного предмета, соприкасаются друг с другом, друг
друга поддерживают, возвышают и дополняют. Этой изоляцией
предмет словно изымается из плоскости своего окружения; свет
падает не только на его поверхность, но со всех сторон освещает
и пронизывает его; он становится телом, движется, живет. Но для
этого нужна концентрация всех сил. Только если произведение
стало целым миром для художника, оно может стать целым миром
и для зрителя. Но в наше время силы слишком рассредоточиваются.
Пространство произведения искусства кажется художнику слишком
узким, ему хочется сразу еще и другого и третьего, и так как у него
не возникает чувства необходимости творимого, то так же бывает
и у зрителя.
Самая новейшая эпоха тем отличается от предшествующих ей,
что она полагает, будто во всем нашла новые пути, хотя все
нововведения, если присмотреться, представляют собой только
подражание, перемену местами и перелицовывание явлений
стародавних, общих или частных. [...]
Все они [изящные искусства] в последнее время расширили свою
сферу, частью потому, что зашли в соседние области, частью в прозу,
469
и считают себя разбогатевшими оттого, что у них больше денег
в кассе, хотя бы и полученных взаймы. [...]
Немецкая- музыка, не говоря об отсутствии талантов,
постепенно становится хуже, потому что из своей собственной области
она направилась в область поэзии.
Поэтому прежде всего нужно определить границы различных
искусств. [...] (1838).
Там же, стр. 133—135.
[...] Поэзия есть снятие ограничений жизни. [...] (1833).
Там же, стр. 142.
Сила образного, то есть несобственного, выражения в поэзии
проистекает от того, что мы давно привыкли ничего не думать и не
представлять в случае собственного выражения. Образ или, далее,
сравнение вырывает нас из этого тупого обыкновения, и
несоответствующее обозначение действует сильнее, чем вполне
подходящее. (1849).
Там же, стр. 144.
Неотвратимо стремление человека к гармонии с миром. Где это
не удается, там философия стремится усовершенствовать человека,
а поэзия поступает наоборот и изменяет мир. (1834).
Проза новейшего времени состоит в том, что она не признает
символического в поэтической истине и не допускает ничего, кроме
реальности [...] (1836).
Там же, стр. 145.
Правильность восприятия, самое первое и самое существенное
свойство поэта, не то же, что правдивость чувства. Последнее
относится к человеку и определяет его ценность, но не ценность
стихотворения. Правильность восприятия состоит в умении путем
сосредоточения переноситься в положение правдиво чувствующего.
При этом рассудок и фантазия играют такую же роль, что и
чувство. (1836).
Содержание! Содержание! Может ли поэт дать такое
содержание, чтобы думающий и чувствующий читатель не превзошел
его? Но форма божественна. Она способна к завершению как при-
470
рода и действительность. Никто со здоровой организацией не
выйдет за пределы истинно существующего. Посредством формы
искусство успокаивает и превосходит всякое знание. (1836).
Там же, стр. 147, 148.
ШТИФТЕР
1805-1868
Адальберт Штифтер, один из самых оригинальных писателей Австрии,
с полным правом может представлять эстетику этой страны, поскольку целый
ряд общих черт эстетического отношения к действительности, свойственного
австрийским писателям, художникам и музыкантам XIX, да и не только XIX
века, нашли у него чрезвычайно обостренное и иногда даже крайнее
выражение,— это относится не только к прямым высказываниям Штифтера об
эстетическом, об искусстве, о прекрасном, но и к его творчеству в целом.
Сложность творчества Штифтера очень затрудняет к нему подход со
стороны, читателю приходится отказаться от многих своих привычных
представлений о литературе середины XIX века — о выборе материала, о построении
сюжета, о психологическом подходе к человеку; приходится привыкнуть к
новому ритму повествования, которое, кажется, стоит на месте без движения,
пока читатель не узнает, что, по сути дела, должно двигаться,— не сюжетная
линия, не диалог, а те вещи (предметы, природа), которые, сменяя друг друга
в авторском описании, выступают необычайно осязаемыми и конкретными.
Эти вещи — для Штифтера зеркало, в котором отражается человек. Штифтер —
художник предельно сдержанный: заниматься психологией своих героев для
него так же невозможно, как входить в душу живого человека; это запретная
зона для чужих прикосновений, где всякое движение может оказаться слишком
грубым и неделикатным. Штифтер предполагает, что его читатели будут
достаточно проницательными, чтобы разгадать внутреннюю жизнь его героев,
и ограничивается изображением общих, повторяющихся, немногочисленных
ситуаций человеческих отношений, где нужно устранить все случайное,
частное, чтобы выделить постоянное, закономерное: то, что возвращает человека
к его сущности, дает ему ощущение его человечности. Но что такое
человечность? Это знание меры вещей, способность осознать себя и смотреть на себя
как на объект. Все остальное совершается по строгим законам природы, только
человек с его свободой имеет выбор разрушать и созидать. Он может нарушить
естественный и разумный порядок природы и противопоставить себя ей. Но
цель человека — завершить организованность природы и, в частности,
организовать себя. Человек борется с хаосом в себе и, побеждая его, создает разме-
471
ренное целое, отличающееся гармоничной простотой, сдержанностью,
самоограничением. Этический и эстетический идеал у Штифтера, таким образом,
совершенно слит воедино. При этом его идеал лишен всякого индивидуализма —
ведь сама гармония может быть осуществлена только в деятельных
отношениях человека с людьми и в деятельных отношениях его к вещам; это,
собственно, не гармония внутри человека — внутри человека вырабатываются только
условия для гармонии человеческих отношений. Штифтер видит, что
стремления его современников далеки от целей его идеала, но в своей вере в идеал
он часто стирает границу идеала и действительности, хотя в его произведениях
она вновь резко восстанавливается: не достигпше, но стремящиеся к идеалу
простоты герои Штифтера кажутся странными, попадая в отношения с людьми,
не знающими этой простоты.
Идеал Штифтера мог быть высказан только в эпоху, которая поставила
на первый план коллективные отношения людей и на деле организовала их
как совершенно неестественные, извращенные, отчужденные. Хотя Штифтер
и не изображал конкретных форм организации коллективных отношений в
свою эпоху, в каждом отдельном герое Штифтера вполне отражается его
эпоха: в той борьбе, которую они ведут с разобщающими людей тенденциями
и в которой они часто одерживают победу — «в своем кругу», как говорил
Штифтер,— преодолевая отчуждение и создавая простую и естественную
общность людей. Каждое произведение Штифтера — это прекрасный символ
будущей победы человека над хаосом в своей душе и победы людей над
неестественностью своих отношений.
Штифтер сам сознавал педагогическую направленность своих
произведений, в которых положительный идеал выражен с редкостной для писателя
XIX века ясностью. Этот идеал, указывающий в будущее и не теряющий
актуальности и сейчас, Штифтер выражает тем языком, который дала ему эпоха.
Это — типичное для австрийской культуры сочетание религиозности (которая
у Штифтера выступает как переживание прекрасной гармонии бытия,
природы) и глубокой веры в науку и технику, в которых Штифтер видит не
только доказательство силы человеческого ума и величия природы, но и новое
средство для организации человеческого мира в соответствии со своим идеалом.
Исторически идеал Штифтера имеет корни в эпохе немецкой классики:
у Гердера, Вильгельма Гумбольдта и прежде всего у Гёте. Все творчество
Штифтера с художественной и идейной стороны предвосхищено самым
совершенным и самым глубоким романом Гёте — «Родственными натурами»
(1809). Творческая жизнь Штифтера включала четыре основных этапа,
отмеченных выходом в свет сборников рассказов «Штудии» (шесть томов, 1844—
1850), «Пестрые камешки» (два тома, 1852), романа «Бабье лето» (1857) и
исторического романа «Витико» (1865—1867), где эстетический и этический
идеал Штифтера выражался со все большей настойчивостью. Художественный
стиль так называемого «бидермайера», распространенный в 30—40-е годы, с его
тяготением к мелкому, анекдотическому материалу, к деталировке, доходящей
472
до натурализма, наложил, конечно, отпечаток на творчество Штифтера, но в
целом Штифтер далеко перерастает рамки этого стиля, становясь
продолжателем идей немецкой классики и развивая их в ту эпоху, которая была
чрезвычайно враждебна ее идеалам.
ПРЕДИСЛОВИЕ К «ПЕСТРЫМ КАМЕШКАМ»
Однажды было замечено обо мне, что я всегда занят малым
и что мои герои только обыкновенные люди. Если это справедливо,
то сейчас я в состоянии предложить читателям нечто еще меньшее
и менее значительное, а именно — всякого рода забавы для юных
сердец. В них не предполагается даже проповедовать добродетель
и нравы, как это принято, но они должны действовать только
посредством того, чем они являются. Если во мне есть что-либо
благородное и доброе, то это само собой будет в моих сочинениях; но
если этого нет в моей душе, то я напрасно буду стараться
представить высокое и прекрасное,— низменное и неблагородное все равно
будет просвечивать. Быть занятым малым или великим никогда не
было мыслью в моих сочинениях, мною руководили совсем иные
законы. Искусство для меня так высоко и возвышенно, оно для
меня, как я уже однажды сказал в другом месте, после религии
самое высокое на свете, так что я никогда не считал свои сочинения
поэзией и никогда не был столь дерзок считать их поэзией. Есть
очень мало поэтов в этом мире, они первосвященники, они
благодетели человеческого рода; есть также много лжепророков. Но если
не все сказанные слова способны быть поэзией, они могут быть
и чем-то иным, и поэтому не совсем лишаются права
существования. Дружественным единомышленникам уготовать недолгое
удовольствие, им всем, знакомым и незнакомым, послать привет и
принести крупицу добра в строение вечности, вот что было целью моих
сочинений и что останется их целью. Я был бы счастлив, если бы
я с уверенностью знал, что достиг этой цели. Но, поскольку мы
уже говорим сейчас о великом и малом, я изложу свои суждения,
которые будут, скорее всего, отличаться от суждений многих других
людей. Веяние ветра, журчание ручья, рост посевов, волнение моря,
зелень земли, блеск неба, мерцание звезд я считаю великим:
величественно надвигающуюся грозу, молнию, раскалывающую дома, бурю,
гонящую волну прибоя, огнедышащую гору, землетрясение,
погребающее страны, я не считаю более великим, чем названные выше явления,
и я их считаю менее великими, поскольку они только действия
высших законов. Они происходят в отдельных местах, и они — след-
473
ствия односторонних причин. Сила, которая заставляет подниматься
и переливаться через край молоко в горшке бедной женщины, та
же, которая гонит вверх лаву в огнедышащей горе и изливает ее
по склонам гор. Только эти явления больше бросаются в глаза
и больше влекут к себе взгляды невнимательного и несведущего,
тогда как мысль исследователя направляется особенно на целое
и всеобщее и только в нем способна познать великолепие, поскольку
только оно есть вседержащее. Отдельное проходит, и его действие
через немного времени едва зримо. Мы поясним сказанное
примером. Если бы один человек на протяжении лет изо дня в день в
твердо установленные часы наблюдал за стрелкой магнита, один
конец которой всегда указывает на север, и записывал в книгу
отклонения, с которыми стрелка более или менее ясно указывает
на север, то несведущий, верно, стал бы смотреть на это начинание
как на мелкое и как на забаву: но какое преклонение вызывает это
малое и какое воодушевление пробуждает эта забава, когда мы
узнаём, что такие наблюдения действительно устраиваются по всей
земле и что из составленных по ним таблиц можно видеть, что
некоторые небольшие отклонения магнитной стрелки часто
происходят на земле повсеместно, одновременно и в равной степени, что,
следовательно, магнитная буря проходит по всей земле, что вся
земная поверхность одновременно словно испытывает магнитный
ужас. Если бы мы, так же как мы уже имеем для света глаз,
владели орудием чувства для электричества и происходящего от него
магнетизма, какой обширный мир, какое обилие неизмеримых
явлений открылось бы нам. Но если у нас нет такого телесного ока, то
взамен мы имеем духовное око науки, и оно нас учит, что
электрическая и магнитная сила действует на колоссальной сцене, что она
распространена на всей земле и на всем небе, что она все обтекает
и воплощает себя тем, что рождает жизнь, образует и меняет кротко
и беспрестанно. Молния только очень малое проявление этой силы,
а сама она есть великое в природе. Но как наука добывает только
крупицу за крупицей, делает только наблюдение за наблюдением,
всеобщее составляет только из отдельного, и как, наконец,
множество явлений и поле данного бесконечно велико, и бог,
следовательно, создал неисчерпаемыми радость и блаженство исследования, и
мы в наших мастерских можем воплотить всегда только отдельное
и никогда всеобщее, ибо это было бы творением, так и история
великого в природе состояла в постоянном изменении воззрений на
это великое. Но когда люди пребывали в детстве, а их духовного
взора не коснулась еще наука, они бывали впечатлены
близлежащим и бросающимся в глаза и охвачены порывом страха и
изумления: но когда их разум открылся и взор направился к связям
474
целого, тогда отдельные явления стали опускаться все ниже и закон
стал подниматься все выше в их глазах, чудеса кончились, но чудо
выросло.
Так же, как во внешней природе, все происходит и во
внутренней, в природе человеческого рода. Жизнь, исполненная
справедливости, простоты, сдерживания самого себя, разумности, деятельности
в кругу своего, любви к прекрасному в соединении со спокойной
и светлой смертью, это я считаю великим: мощные порывы души,
страшно разгорающийся гнев, жажду мести, возбужденный дух,
стремящийся к деятельности, все ниспровергающий, изменяющий
и разрушающий, я не считаю более великим, но, напротив, менее
великим, поскольку все это такие же проявления отдельных и
односторонних сил, как бури, огнедышащие горы, землетрясения.
Постараемся увидеть кроткий закон, которым руководится
человеческий род. Есть силы, направленные на существование отдельного.
Они берут и употребляют то, что нужно для существования
отдельного и его развития. Они сохраняют суть одного и тем самым всего.
Но когда кто-нибудь безусловно захватывает для себя всякую вещь,
которая требуется его существом, когда он разрушает условия
бытия другого, то в нас возмущается некая высшая сила, мы помогаем
слабому и угнетенному, мы восстанавливаем старое состояние,
чтобы он, такой же человек, как и другие, существовал и мог идти
дальше своим путем человека, и когда мы сделали так, мы чувствуем
себя выше и глубже, чем мы чувствуем себя по отдельности, мы
чувствуем себя как все человечество. Поэтому есть силы, которые
способствуют существованию целого человечества, которые не
должны ограничиваться отдельными силами и которые, напротив,
должны воздействовать на них, ограничивая их. Закон этих сил есть
закон справедливости, есть закон добрых нравов, есть закон,
который желает, чтобы каждый существовал и был уважаемым и
чтимым и жил без страха и без ущерба рядом с другим, чтобы он мог
идти своим высшим путем человека, чтобы он заслуживал любовь
и восхищение своих ближних, чтобы он был храним как сокровище,
ибо всякий человек есть сокровище для других. Этот закон есть
повсюду, где люди живут рядом с людьми, и он является всюду,
где люди стремятся к пользе людей. Он есть во взаимной любви
супругов, в любви родителей к детям, детей к родителям, во
взаимной любви братьев и сестер, любви друзей, в прекрасной взаимной
склонности обоих полов, в трудолюбии, которым мы
поддерживаем себя, в деятельности, когда мы приносим пользу своему
окружению, далекому, будущему, человечеству и, наконец, в том
строе и порядке, которыми целые общества и государства окружают
свое существование и вносят в него завершенность. Поэтому древние
475
и новые поэты часто использовали эти предметы, чтобы свои
сочинения вручить отзывчивому чувству ближайших и отдаленных
поколений. И потому знаток человеческой души, куда бы ни
направил он свои стопы, повсюду видит один только этот закон,
единый всеобщий, единый вседержащий и не ведающий конца. Он
видит его и в самой низенькой хижине и в самом высоком дворце,
он видит его в преданности бедной женщины и в спокойном
презрении к смерти того, кто жертвует жизнью для отчизны и
человечества. В человеческом роде бывали такие движения, посредством
которых умы и души направлялись к единой цели, посредством
чего целые эпохи на долгое время обретали иной облик. Если в
этих движениях можно узнать закон справедливости и
нравственности, если они начинались и продолжались под его воздействием,
то мы чувствуем, что мы возвышены до всего человечества, мы
чувствуем, что мы возведены ко всеобще-человеческому, мы
ощущаем возвышенное, как оно повсюду нисходит на душу, где
безмерно великие силы, действуя во времени или в пространстве,
совместно созидают стройное, стойкое, соразмерное разуму целое.
Но если в этих движениях невозможно узреть закон права и
нравственности, если они стремятся к односторонним целям самолюбия,
тогда, какими бы мощными и ужасными они ни были, знаток
человеческой души с отвращением оставит их и станет рассматривать
их как малое, как недостойное человека. Так велика власть этого
справедливого нравственного закона, что повсюду, где стремились
побороть его, он в конце все равно выходил победителем и со
славой. Даже если отдельные и целые поколения погибали за
справедливость и нравственность, мы не чувствуем, что они побеждены,
мы видим их триумф, и к нашему состраданию примешивается
восторг и восхищение, ибо целое больше, чем часть, ибо доброе выше,
чем смерть, мы переживаем трагическое и, пораженные ужасом,
возносимся в чистый воздушный мир нравственного закона. Если
мы видим, что человечество в своей истории как спокойный
серебристый поток течет к великой вечной цели, тогда мы переживаем
возвышенное, эпическое по преимуществу. Но какими бы мощными
и великими порывами ни проявлялось действие трагического и
эпического, какими бы отличными орудиями ни были они для
искусства, все же главным образом и всегда обыкновенные,
повседневные, без числа повторенные поступки людей наиболее прочно
хранят в себе закон как центр тяжести, ибо такие поступки длительны
и основательны, как миллионы волокон от корня древа жизни.
Как в природе всеобщие законы действуют незаметно и непрестанно
и бросающееся в глаза есть только отрывочное выражение этих
законов, так и нравственный закон действует незаметно и живо-
476
творно в бесконечных связях людей, и мгновенные чудеса
совершившихся деяний — только малые признаки этой всеобщей силы.
И потому этот закон держит человечество, как закон природы есть
закон вседержащий.
В естественной истории воззрения на великое постоянно
изменялись, так же было и в нравственной истории людей. Поначалу
близлежащее коснулось людей, и прославлялась телесная сила и ее
победы в борьбе, затем пришли доблесть и мужество воина,
направленные на то, чтобы выразить словом и делом чувства вражды и
ненависти к противным ордам и союзам, затем воспевалось высокое
происхождение и власть правящего рода, а также превозносилась
красота и любовь, дружба и самопожертвование, затем был обретен
более широкий взгляд: человеческие роды и отношения получили
тогда свой строй, право целого было тогда связано с правом части,
и славным почиталось великодушие к врагу, подавление чувств
вражды и ненависти во славу справедливости, как и в древности
умерение страстей считалось первейшей доблестью мужа, и,
наконец, начали видеть желательность связи, соединяющей воедино все
народы, такой связи, когда все народы обмениваются своими
дарами, поощряется наука, и ее сокровища раскрываются всем
людям, связи, в искусстве и религии ведущей к высокой простоте
и божественному.
Как с восхождением человеческого рода, так происходит все и с
его нисхождением. У гибнущих народов сначала исчезает мера.
Они стремятся к отдельному, они без долгих размышлений
предпочитают ограниченное и незначительное, они условное ставят выше
всеобщего; затем они стремятся к наслаждению и к чувственному,
они стремятся удовлетворить свой гнев и зависть к ближнему, в их
искусстве воплощается одностороннее, значимое только с одной
точки зрения, затем растерзанное, нестройное, странное и
фантастическое, наконец, возбуждающее и растравляющее чувства, и в
заключение безнравственное и порок, в религии сущность опускается
до одной видимости и пышным цветом расцветающей
мечтательности, различение добра и зла пропадает, отдельное презирает
целое, ища своего удовольствия и своей гибели, и так народ
становится жертвой внутреннего разлада или добычей внешнего, более
дикого, но более сильного противника.
Поскольку в этом предисловии я уже так далеко зашел в
изложении своих взглядов на великое и малое, то мне будет позволено
сказать, что, изучая историю человеческого рода, я стремился
накопить опыт, и этот опыт послужил основой для проб поэтического
творчества; но только что изложенные суждения и переживания
последних лет научили меня не доверять своим силам, и потому
477
пусть эти пробы останутся до тех времен, когда они или дождутся
лучшего исполнения или будут уничтожены как незначительные.
Те же, кто следовал за мной в этом предисловии, совсем не
подходящем для юных слушателей, пусть не пренебрегут удовольствием
от этих творений более скромных сил и перейдут со мной к
следующим невинным вещам.
Stifters Werke, hrsg. von G. Wilhelm,
Berlin—Leipzig—Wien (Bongs Goldene Klassiker-Bibliothek),
o. J., Bd. IV, S. 41—46. Перевод Ал. В. Михайлова.
БИБЛИОГРАФИЯ
Грильпарцер
Сочинения:
Grillparzer F., Sämtliche Werke, Bd. 1—42, Berl., 1909—1948.
Grillparzer F., Werke in 6 Bd., mit einer Einführung von G.
Träger, Bd. 1—6, Lpz., Reclam, [1957].
Грильпарцер Φ., Пьесы. Вступит, статья, примеч. и ред. пер. Е. Эт-
кинда, М.—Л., «Искусство», 1961, 764 стр.
Литература:
Варнеке Б. В., Романтизм и классицизм. Фр. Грильпарцер.—«Наук.
зап. Одес. держ. пед. ш-та», т. VI, 1941, стр. 7—27.
Baumann G., Fr. Grillparzer. Sein Werk und das österreichische Wesen,
Freiburg — Wien, Herder, 1954, 241 S.
G e i ß 1 e r H., Grillparzer und Schopenhauer, München, 1915, VIII, 101 S. Diss.
Milch W., Grillparzers literarische Kritik.— In: Milch W., Kleine
Schriften zur Literatur- und Geistesgeschichte, Heidelberg, 1957, S. 38—46.
Müller J., Grillparzers Menschenauffassung, Weimar, Böhlau, 1934, IX,
156 S.
Munch I., Die Tragik in Drama und Persönlichkeit Franz Grillparzers, Berl.,
Junker u. Dünnhaupt, 1931, 174 S.
Orel Α., Beethoven und Grillparzer. Die Grundlinien ihrer geistigen
Beziehungen.— «Euphorion», Bd. 27, 1928, S. 273—286.
Orel Α., Grillparzers Verhältnis zur Tonkunst.— In: «Grillparzerstudien», hrsg.
von 0. Kataun, Wien, 1923.
Schmidt Α., Dichtung und Dichter Österreichs im 19. und 20. Jahrhundert,
Bd., 1—2, Salzburg —Stuttgart, 1964.
S t ö г i F., Grillparzer und Kant, Frauenfeld, Huber, 1935, 208 S. Diss.
Щтифтер
Сочинения:
Stifter Α., Sämtliche Werke, hrsg. von A. Sauer, 2. Aufl., von Pouzar u. G.
Wilhelm, Bd. 1—24, Reichenberg, Kraus, 1908—1960.
Stifter Α., Gesammelte Werke, hrsg. von M. Stefl, Bd. 1—6, Wiesbaden,
Insel-Verl., [1959].
478
Stifter Α., Werke, in 4 Bd., [Ausgew. u. Eing. von J. Müller], 2. Aufl.r
Berl.—Weimar, Aufbau-Verl., 1964.
Stifter Α., Jugendbriefe (1822—1839), hrsg., erg. u. mit einer Einl. versehen
von M. Enzinger, Graz, Stiasny, 1954, 124 S.
Штифтер Α., Старая печать. Пер. Η. Аверьяновой.— Гранит. Пер. А.
Авербаха.—В кн. : «Австрийская новелла XIX века», М., 1959, стр. 165—231.
Литература:
Augustin H., Adalbert Stifter und das christliche Weltbild, Basel —
Stuttgart, Schwabe, 1959, 537 S.
Bertram E., Studien zu Adalbert Stifters Novellentechnik, Dortmund, Ruhfus,
1907, 160 S. (наиболее глубокая и полная характеристика Штифтера).
Blackall Ε. Α., Adalbert Stifter. A critical study, Cambridge, univ. press,
1948, X, 432 p.
Bucker E., A. Stifters «Witiko». Ein Vortrag, München, 1959.
Grolman A. v., Adalberts Stifters Romane, Halle (Saale), Niemeyer, 1926,
112 S.
Hahn K. J., Adalbert Stifter. Religiöses Bewußtsein und dichterisches Werk,
Halle, 1938.
Hein A. R., Adalbert Stifter. Sein Leben und seine Werke, Bd. 1—2,
Neuauflage, Wien, Krieg, 1952.
Η oho ff K., Adalbert Stifter, Düsseldorf, Schwann, 1949, 231 S.
H ü 1 1 e г F., Adalbert Stifters «Witiko». Eine Deutung, 2. Aufl., Graz— Wien,
Stiasny, 1953, 119 S.
К о s с h W., Adalbert Stifter und die Romantik, Praha, 1905.
К r ö k e 1 F., Nietzsches Verhältnis zu Stifter.— «Adalberts Stifter-Institut-
Viertel Jahresschrift», Bd. 9, 1960, S. 106—120.
Kuhn J., Die Kunst Adalbert Stifters, 2. Aufl., Berl., 1943.
Kunisch H., Adalbert Stifter. Mensch und Wirklichkeit, Berl., 1950.
Lunding E., Adalbert Stifter. Mit einem Anhang über Kierkegaard und die
existentielle Literaturwissenschaft, KQbenhavn, 1946.
Müller J., Adalbert Stifter. Weltbild und Dichtung, Halle (Saale), Niemeyer,
1956, VIII, 210 S.
Ρ о u ζ a r О., Ideen und Probleme in Adalbert Stifters Dichtungen,
Reichenberg, Kraus, 1928, X, 138 S.
S t a i g e r E., Adalbert Stifter als Dichter der Ehrfurcht, Zürich, Verl. d. Arche,
1952, 64 S.
Steffen K., Adalbert Stifter und der Aufbau seiner Weltanschauung, Hor-
gen — Zürich, Münster Presse, 1931, 113 S.
Steffen K., Adalbert Stifter. Deutungen, Basel — Stuttgart, Birkhäuser,
1955, 272 S.
Stern LP., Propitiations. Α. Stifter.— In: «Re-Interpretations. Seven studies
in nineteenth-century German literature», Lond., 1964, p. 239—300.
Schaf f rake F. Α., Stifters Verhältnis zur Tonkunst.— «Adalbert Stif-
ter-Institut-Vierteljahresschrift», Bd. 9, 1960, S. 49—54.
Thuruhe.r E., Eichendorff und Stifter. Zur Frage der christlichen und
autonomen Ästhetik, Wien, 1961, 28 S.
ДАНИЯ
КЬЕРКЕГОР
1813—1855
Философия Серена Кьеркегора, при жизни и в ближайшие годы после
его смерти известная лишь узким кругам его почитателей в Дании, получила
широкую известность начиная с 20-х годов XX века, когда он был признан одним
из родоначальников экзистенциальной философии. Первые сочинения
Кьеркегора, начиная с книги, посвященной критическому разбору романа X. Г.
Андерсена (1837), и с докторской диссертации «О понятии иронии,
рассматриваемом главным образом по отношению к Сократу» (1841), в значительной
степени посвящены эстетическим проблемам. Кьеркегор рассматривает их, исходя
из последовательного противопоставления эстетического и этического начал
в человеческой деятельности. Наиболее полно диалектика эстетического и
этического обсуждается в двухтомном сочинении Кьеркегора «Или — или» (1843),
первый том которого написан от лица представителя эстетического взгляда
на жизнь, тогда как второй том написан от лица поборника этической точки
зрения, убеждающего автора первого тома в его неправоте. По мысли автора
второго тома «Или — или», эстетический образ жизни, предполагающий отдачу
себя только одному мгновению, отсутствие решения при выборе и наличие
483
некоторой искомой цели вне личности, никогда не может привести к счастью
и в конечных своих следствиях может превратить человека в подобие
римского императора Нерона, которого он приводит в качестве примера личности,
вставшей целиком на эстетический путь (в более позднем сочинении «Стадии
жизненного пути», написанном в 1845 году, сходные мысли развиваются на
примере «Поэзии и правды» Гёте). В первый том «Или —или>> включены
фрагменты и целые статьи, целиком посвященные эстетическим проблемам, в
частности анализу «Дон Жуана» Моцарта и сравнению античной трагедии с
современной. В этих статьях эстетические проблемы рассматриваются в связи
с волновавшими Кьеркегора вопросами передачи некоторого содержания (идеи)
различными средствами. В выделении роли содержания в произведении
искусства Кьеркегор видел заслугу Гегеля, хотя система Гегеля в целом
подвергалась в его сочинениях острой критике. Особый интерес представляют мысли
Кьеркегора, касающиеся соотношения конкретной и абстрактной формы и
соответствующих идей в различных видах искусства. Соотношение музыки и
языка Кьеркегор связывает с диалектикой эстетического и этического, так
как музыку он считает наиболее адекватным средством выражения
эстетического начала, тогда как язык, который представляется ему прежде всего как
воплощение духовного начала и рассуждения, Кьеркегор связывает с
этическим. Эти идеи Кьеркегор демонстрирует на примере «Дон Жуана» Моцарта
в сравнении с чисто словесными произведениями на ту же тему (Мольера
и других писателей). Непосредственный характер чувства, передаваемого
музыкой Моцарта, по мнению Кьеркегора, не может быть выражен чисто
словесными средствами. Из этого основного различия Кьеркегор выводит и
некоторые другие различия между драмой и оперой, музыкальную и
содержательную структуру которой он подробно анализирует (проблематика современного
Кьеркегору датского и немецкого театра широко освещается и в некоторых
других статьях и письмах Кьеркегора). Другая эстетическая работа
Кьеркегора, входящая в первый том «Или — или», посвящена анализу черт,
отличающих античную трагедию от современной. Главное различие между этими
двумя видами трагедии Кьеркегор объясняет особенностями современного ему
общества с характерной для него изоляцией личности от целого, с которым
личность была неразрывно связана в древнем мире.
Критика философии Гегеля у Кьеркегора была критикой
рационалистической философии вообще: по мнению Кьеркегора, философ должен не столько
построить, сколько пережить свою философию и воплотить ее в своих
действиях. «Безличной» и «объективной» гегелевской диалектике Кьеркегор
противопоставляет свою «субъективную» диалектику, являющуюся выражением
личного переживания, которое, согласно Кьеркегору, проходит три стадии:
эстетическую, этическую и религиозную. Кьеркегор настаивает на абсолютной
алогичности и глубоко личном характере религиозного переживания,
высмеивая все попытки рационализации веры в гегелевской философии или в практике
либерального протестантского богословия. Осознание человеком религиозного
484
значения своей личности, согласно Кьеркегору, неминуемо приводит его к
конфликту с общественной рутиной. Острая и язвительная критика современного
общества, намеченная еще в ранних работах Кьеркегора, была позднее
развита им в серии философских сочинений, которые привели его к резкому
конфликту с окружающей средой и официальной церковью и к травле
Кьеркегора. Государство Кьеркегор считал основанным на угнетении человека,
противном тем заповедям, которые проповедуются в церкви. Однако во власти
народа и в социализме Кьеркегор видел угрозу нивелирования личности;
единственный выход он усматривал в этическом пути отдельного человека (в этом
отношении его взгляды можно сравнивать с философией позднего Толстого,
также порвавшего с государственной церковью).
ИЛИ - или
Непосредственные воплощения1 любовного
начала или музыкальное любовное начало
С того мгновения, когда музыка Моцарта впервые наполнила
мою душу изумлением и я со смиренным восхищением склонился
перед ней, милым моему сердцу и благодарным занятием стало
размышление о том, как счастливое понимание мира у греков,
называвших его космосом, потому что он представлялся гармоническим
целым, ясным и приятным для чувств украшением Духа,
творившего в нем и благодаря ему,— как это счастливое понимание
находит приложение и по отношению к еще более возвышенной
области, к миру идеалов, где также обнаруживается царствующая
надо всем мудрость, которой особенно можно восхищаться, видя,
как сочетается именно то, что предназначено к такому сочетанию:
Аксель и Вальборг, Гомер и Троянская война, Рафаэль и
католичество, Моцарт и Дон Жуан. [..J Счастливое свойство каждого
классического произведения, то именно, что делает его классическим
и бессмертным, заключается в полной гармонии двух сил — формы
и содержания. Это согласие настолько совершенно, что рассудочный
ум последующих поколений едва способен различить, даже лишь
в качестве умственного опыта, две составляющие, которые здесь
столь близко соединились, что попытка их разъединить может
сопровождаться непониманием или вести к нему. Так, когда мы
говорим, что удачей Гомера был найденный им предмет эпического
повествования, самый значительный из всех, какие можно себе во-
1 Буквально «стадии»; однако Кьеркегор сам указывает, что речь здесь
идет не о хронологии и что в том же значении можно было бы употребить
слово «метаморфоза».
485
образить, мы можем забыть при этом, что мы всегда видим этот
эпический материал глазами Гомера и что если он кажется нам
самым совершенным предметом рассказа, то это стало нам ясно
лишь благодаря его преображению, которым мы обязаны Гомеру.
Но если, с другой стороны, мы подчеркиваем поэтическую силу,
вложенную Гомером в переработку этого материала, то мы легко
можем подвергнуться риску забыть, что поэма никогда не стала бы
тем, что она собой представляет, если бы мысль, которой ее окрасил
Гомер, не принадлежала бы именно этой поэме, если бы ее форма
не подходила именно к ней. Поэт испытывает влечение к своей
теме; но когда мы говорим, что желание — это еще не искусство, то
это может быть с полным правом и истинностью повторено и по
отношению ко многим бессильным поэтическим желаниям. С
другой стороны, испытывать верные влечения — это большое искусство
или, скорее, это дар. Необъяснима и таинственная способность
гения, состоящая в том, что, подобно волшебному тростнику,
служащему для угадывания, он испытывает желание только тогда, когда
предмет, ему желанный, уже существует. Здесь желание
приобретает более глубокое значение, чем обычно, и для отвлеченного
разума это может даже показаться смешным, потому, что обычно мы
думаем о желании только по отношению к тому, чего нет, а не
по отношению к тому, что уже есть.
Известная школа в эстетике, односторонне преувеличивавшая
значение формы, виновна в том, что она вызвала и соответствующее
противоположное заблуждение. Мне часто казалось странным, что
представителит этих эстетических взглядов безоговорочно связывали
себя с гегелевской философией: ведь общее знакомство с
философией Гегеля, так же как и специальное изучение его эстетики,
делает очевидным, что по отношению к эстетике он всячески
подчеркивает значение содержания. Обе стороны произведения искусства
неразрывно спаяны друг с другом, и одного только довода
достаточно для доказательства этого; ведь если бы это не было так, то
невероятно было бы следующее явление. Обычно только одно
произведение или только один ряд произведений делает личность,
занимающуюся искусством, классическим поэтом, художником и так
далее. Та же личность может создать очень много других
произведений, которые не имеют никакого отношения к классике. [...]
Объяснять это незначительностью темы было бы глупо, потому что
классическое произведение характеризуется полным равновесием
темы и формы. Если бы все, что определяет произведение
искусства как классическое, заключалось бы лишь в самом художнике —
его творце, тогда бы все, что он создал, должно было бы быть
классическим, подобно тому как пчелы всегда создают ячейки одно-
486
го и того же вида, хотя здесь идет речь о явлении более высокого
порядка. Объяснять это, говоря, что он был более удачлив в
одном случае, чем в другом, означало бы не объяснить совершенно
ничего.
[...] Все классические произведения стоят одинаково высоко,
потому что каждое из них занимает бесконечно высокое положение.
Если, несмотря на это, попытаться расположить в каком-то порядке
произведения, образующие классическую процессию, то, очевидно,
нужно выбрать в качестве основания для их разграничения какое-
либо свойство, не являющееся главным, потому что, если бы само
это основание оказалось главным, то и соответствующие различия
между произведениями оказались бы основополагающими; а из
этого бы, в свою очередь, следовало, что слово «классический» ошибочно
отнесено в качестве определения ко всей совокупности
произведений. Классификация, опирающаяся на различия в теме, неизбежно
привела бы к недоразумению, которое в конечном счете могло бы
полностью уничтожить самое понятие классического. Тема важна
как одна из составляющих сил, но ее значение не может быть
самодовлеющим, потому что это лишь одна из составляющих. Мы
могли бы заметить, например, что некоторые виды классических
произведений в некотором смысле не имеют никакой темы, тогда
как, с другой стороны, в иных произведениях тема играет очень
существенную роль. Первое верно по отношению к таким
произведениям, которыми мы восхищаемся как классическими в областях
архитектуры, скульптуры, музыки и живописи, особенно в первых
трех, и даже в случае живописи, в той мере, в какой тема
наличествует, ее значение сводится к тому, что она дает повод для
создания картины. Второе справедливо в отношении поэзии, понимаемой
в самом широком значении, включающем все художественные
произведения, основанные на языке и на историческом сознании. Это
замечание само по себе вполне правильно; но если бы мы сделали
его основанием для классификации, рассматривая отсутствие или
наличие темы в качестве помощника или помехи для творческой
силы художника, то мы бы совершили ошибку. Строго говоря, мы
стали бы доказывать противоположное тому, что мы первоначально
намеревались обосновать, как всегда бывает при отвлеченном
рассуждении, относящемся к диалектически связанным понятиям;
верно не только то, что мы говорим одно, а думаем другое, но и то,
что мы говорим одновременно и о другом; мы не говорим того, что
мы думаем, будто говорим,— мы говорим обратное этому. Таков
будет итог, если мы используем тему в качестве основания для
классификации. Когда мы говорим о теме, то обнаруживается, что мы
на самом деле говорим о чем-то совершенно отличном, а именно,
487
о процессе, образующем форму. С другой стороны, если бы мы
начали с процесса, образующего форму, и стали бы подчеркивать
только его значение, то случилось бы нечто сходное. Если бы мы
стремились обнаружить здесь существенное различие между
разными произведениями, подчеркивая то, что в некоторых случаях
процесс, образующий форму, является творческим, так как он сам
создает тему, тогда как в других случаях он получает ее извне, то
в итоге, думая, что мы говорим о процессе, образующем форму, мы
на самом деле говорили бы о теме, и наша классификация в
действительности основывалась бы на тематических различиях. [...]
Только тогда, когда идея с прозрачной ясностью заключена в
отчетливую форму, произведение может быть названо классическим;
и тогда оно также в состоянии будет защититься от нападений
времени. Это единство, эта внутренняя напряженная
взаимосвязанность является отличительной чертой любого классического
произведения, и поэтому сразу становится ясно, что всякая попытка
классификации различных классических произведений, в качестве
основания которой кладется различение формы и содержания, или
идеи и формы, ео ipso 1 обречена на неудачу.
Мы можем сделать попытку классифицировать эти произведения
еще одним путем. Мы могли бы рассматривать способ, с помощью
которого выражается идея, в качестве предмета для изучения, и,
установив, что один способ по своим возможностям богаче или
беднее другого, сделать это основой для классификации, при которой
богатство или бедность способов рассматривались бы соответственно
как содействие или как помеха художнику. Но средство выражения
слишком тесно связано со всем произведением, вместе взятым;
поэтому маловероятно, что классификация, основанная на средствах
выражения, не окажется рано или поздно сопряженной с теми
трудностями, которые уже подчеркивались выше.
С другой стороны, я полагаю, что нижеследующие соображения
позволяют открыть путь для классификации, которая может
оказаться действенной именно потому, что она связана с совсем
случайными обстоятельствами. Чем более отвлеченной и, следовательно,
чем более лишенной содержания2 является идея, и чем более
отвлеченным и, следовательно, страдающим бедностью является
средство выражения, тем больше вероятность того, что повторение будет
невозможным, и тем больше вероятность того, что когда идея
однажды найдет свое выражение, она найдет его раз навсегда. Чем
1 — тем самым (латин.).
2 Значение термина «отвлеченный» раскрывается ниже, где он связывается
с наличием или отсутствием соотношения с историческим сознанием.
488
более конкретной и, следовательно, чем богаче будет идея и точно
так же средство выражения, тем больше вероятность повторения.
Теперь, если я сопоставляю классические произведения друг с
другом и, не желая устанавливать их соотносительного превосходства,
нахожусь в состоянии восхищения их возвышенным равенством,
тем не менее легко становится видно, что в одной из названных
категорий их окажется больше, чем в другой, или, если это не так,
то можно предположить наличие неравного количества
произведений в одной из этих категорий.
Иа этой стороне дела я хотел бы остановиться несколько
подробнее. Чем более абстрактна идея, тем меньше вероятность
наличия большого числа классических произведений такого рода. Но как
идея становится конкретной? Когда она проникается историческим
сознанием? Чем более конкретна идея, тем больше вероятность
повторения, Чем более абстрактно средство выражения, тем меньше
вероятность повторения; чем более конкретно, тем меньше
вероятность. Но когда мы говорим, что средство выражения конкретно, то
это означает не что иное, как то, что это средство является языком
или рассматривается с точки зрения его приближения к языку;
потому что язык является самым конкретным из всех средств
выражения. Например, идея, которая находит себе выражение в
скульптуре, является совершенно абстрактной и не имеет никакого
отношения к историческому; способ, посредством которого она
выражается, так же является абстрактным; следовательно, велика
вероятность того, что число классических произведений скульптуры весьма
немногочисленно. Это подтверждается свидетельством времени и
моим собственным опытом. Если, с другой стороны, мы имеем дело
с конкретной идеей и конкретным средством выражения, тогда все
обстоит иначе. Гомер — это, конечно, классический эпический поэт,
но именно потому, что эпическая идея — это конкретная идея, и
потому, что средством является язык,— оказывается, что в той части
классических произведений, которые относятся к эпическим, можно
представить себе наличие многих эпических произведений, которые
все в равной мере принадлежат к классическим, потому что история
постоянно снабжает нас новым эпическим материалом. Это также
подтверждается историческими свидетельствами и согласуется
с личным опытом.
Самым абстрактным средством выражения является то, которое
далее всего отстоит от языка. [...] Самое абстрактное средство
не всегда используется для выражения самой абстрактной идеи.
Так, средство, используемое в архитектуре, несомненно наиболее
абстрактно, но идеи, которые находят выражение в архитектуре,
никоим образом не являются наиболее абстрактными. Архи-
489
тектура стоит в гораздо более близком отношении к истории, чем,
например, скульптура. Здесь мы снова встречаемся с новой
возможностью выбора. Размещая в некоторой последовательности
классические произведения искусства, я могу поставить на первое место
либо те из них, в которых выступает самое абстрактное средство
выражения, либо те, где идея наиболее абстрактна. Здесь я отдам
предпочтение идее, а не средству выражения. Средства выражения,
используемые в архитектуре и скульптуре, живописи, музыке,
абстрактны. Здесь не место исследовать этот вопрос подробнее.
Самая абстрактная идея, какую только можно себе вообразить,— это
чувство 1 в его самой глубокой сути. Но с помощью какого
средства можно выразить эту идею? Только с помощью музыки. Ее
нельзя выразить ни в скульптуре, потому что она представляет собой
внутреннюю характеристику того, что есть внутри человека, ни в
живописи, потому что ее нельзя представить себе в сколько-нибудь
отчетливых очертаниях; это энергия, буря, нетерпение, страсть
и тому подобное, со всеми их лирическими качествами, и при этом
она существует не в одно какое-то мгновение, а в целой
последовательности мгновений, потому что, если бы она существовала только
одно мгновение, ее можно было бы изваять или представить на
картине; то, что она существует в последовательности мгновений,
говорит об ее эпическом качестве, и все же она не эпична в более
точном смысле этого слова, потому что она еще не доходит до
воплощения в словах, но движется всегда в сфере более непосредственного.
Единственное средство, которое может ее выразить,— это музыка.
В самой музыке заключен элемент времени, но она не занимает
места во времени в более существенном смысле; исторического
процесса во времени выразить она не может.
Совершенное единство идеи и соответствующей формы мы
находим в «Дон Жуане» Моцарта. Но именно потому, что идея в
такой мере абстрактна, средство выражения также абстрактно, и нет
вероятия, что у Моцарта когда-либо найдется соперник. Удачей
Моцарта было то, что он нашел предмет, в такой степени
музыкальный, и если какой-нибудь композитор в будущем захочет
сравниться с Моцартом, то у него не будет другого пути, как
попытаться снова написать «Дон Жуана». Гомер нашел великолепный
эпический сюжет, но можно представить себе много эпических поэм,
потому что история представляет еще много другого материала для
эпоса. С «Дон Жуаном» дело обстоит иначе. То, что я имею в виду,
1 В некоторых контекстах этот термин (датск. det Sandselige, Sandselighed)
можно переводить как «чувственность» (но без осуждающего морального
оттенка) .
490
быть может, будет легче понять, если я покажу различие,
связанное с соответствующей идеей. «Фауст» Гёте — это настоящее
классическое произведение, но его идея — это историческая идея, и
поэтому всякая значительная историческая эпоха будет иметь своего
«Фауста». Средством выражения в «Фаусте» служит язык, и,
поскольку это гораздо более конкретное средство, из этого также
следует, что можно представить себе несколько произведений того же
рода. С другой стороны, «Дон Жуан» всегда будет оставаться в
одиночестве, точно так же, как греческая скульптура, являющаяся
классической. Но поскольку идея в «Дон Жуане» даже более
абстрактна, чем та, которая лежит в основе этой скульптуры, то легко
можно видеть, что в то время как к скульптуре относится несколько
классических произведений искусства, в музыке мы найдем только
одно такое произведение. Конечно, может существовать несколько
классических музыкальных произведений, но никогда не встретится
более одного, о котором можно будет сказать, что идея является
совершенно музыкальной, так что музыка не появляется в
качестве сопровождения, а обнаруживает свою самую глубокую суть,
раскрывая в то же время идею.
[...] Если чувство и любовь в их внутренней сути требуют
непосредственного выражения, то возникает вопрос, какое средство
соответствует этой цели. Здесь нельзя успускать из виду того,
что это начало требует выражения и представления во всей своей
непосредственности. В опосредствованном виде и отраженное в чем-
либо другом, это начало может быть передано средствами языка и
может соотноситься с этическими категориями. Однако в своей
непосредственности оно может быть выражено только в музыке.
Другими словами, музыка демонична. В чувственности и любви музыка
находит свой самодовлеющий предмет. Разумеется, это не должно
означать, что музыка не может также выражать других вещей, но
в этом заключается ее собственный предмет. Точно так же
искусство скульптуры тоже способно изображать многое другое кроме
человеческой красоты и тем менее в том его самодовлеющий
предмет; живопись может изображать многое другое кроме красоты,
которая прославлена и возведена на небеса, и тем не менее в этом
ее самодовлеющий предмет.
[...] В языке то, что воспринимается чувствами, выступает только
как средство выражения, низведено до уровня орудия и постоянно
отрицается. Иначе обстоит дело с другими средствами выражения.
Ни в скульптуре, ни в живописи доступное чувствам не сводится
только к роли орудия; напротив, оно образует составную часть всего
произведения; оно не подвергается постоянному отрицанию, а,
напротив, постоянно принимается во внимание. [...] В скульптуре, ар-
491
хитектуре, живописи идея связана со средством выражения, [...] По-
иному все обстоит в языке. Здесь воспринимаемое чувствами
сведено к роли простого орудия и тем самым уничтожено. Если бы
человек говорил так, чтобы можно было услышать движение его
языка, то он говорил бы плохо; если бы он слышал так, что
воспринимал бы колебания воздуха вместо слов, то слушал бы плохо;
если бы при чтении книги он постоянно видел бы отдельные буквы,
то читал бы плохо. Язык становится совершенным средством
именно в то время, когда все чувственное в нем отрицается. Так же
обстоит дело с музыкой: то, что в действительности должно быть
услышано, постоянно освобождается от воспринимаемого
чувствами [...]. Если не говорить о языке, музыка является единственным
средством выражения, которое обращается к слуху. [...] Язык
включает время в качестве своего составного элемента; соответствующим
элементом других средств выражения является пространство.
Музыка является единственным другим средством выражения,
которое проявляется во времени. Но то, что она проявляется во
времени, также является отрицанием того, что воспринимается
чувствами.
Создания других искусств обнаруживают свою связь с тем, что
воспринимается чувствами, именно благодаря наличию у них
протяженности в пространстве. [...] Музыка существует только в то
мгновение, когда ее исполняют, потому что даже если кто-либо был не
только чрезвычайно искусен в чтении нот, но и всегда обладал бы
столь живым воображением, что мог бы всегда читать музыку
с листа, тем не менее нельзя было бы отрицать, что музыка, когда
ее читают, существует только в ненастоящем смысле слова. [...]
Музыка всегда выражает непосредственное в его непосредственности;
благодаря этому музыка тоже оказывается одновременно тем, что
предшествует языку или следует за ним, но именно поэтому также
становится очевидным, насколько неверно утверждение, будто
музыка — это более совершенное средство. Язык предполагает
размышление и тем самым не может выражать непосредственного.
Размышление уничтожает непосредственное, и поэтому невозможно
передать музыкальное начало с помощью языка; но эта кажущаяся
бедность языка вместе с тем является его богатством.
Непосредственное на самом деле является неопределенным, и поэтому язык
не может воплотить его; но то, что оно неопределенно, это не
достоинство, а недостаток. [...]
Дон Жуан, следовательно,— это воплощение демонического
начала, определяемого как чувственное; Фауст — воплощение того же
начала, определяемого как интеллектуальное или духовное, что
исключается христианским духом. Эти две идеи находятся в суще-
492
ственном соотношении одна с другой и имеют много общего;
поэтому можно ждать, что обе они выступают в народных сказаниях.
То, что это справедливо по отношению к Фаусту, хорошо известно.
Существует народная книга, заглавие которой достаточно часто
упоминается, хотя самой книгой редко пользуются *, это особенно
странно в наше время, когда люди так заняты идеей Фауста. Но так
все и идет. В то же время любой благонамеренный приват-доцент
или профессор, считающийся интеллектуально зрелым, рассчитывает
приобрести себе репутацию у читающей публики, напечатав книгу
о Фаусте, в которой он добросовестно повторяет уже сказанное
всеми другими лиценциатами и кандидатами на соискание
академических степеней. Ему никогда не приходит в голову, насколько
прекрасно то, что действительно великое является общим достоянием
для всех, что крестьянин идет к вдове Триблера2 или к торговцу
лубочными книгами в Хальмторвете и читает эту книгу сам себе
вполголоса в то самое время, когда Гёте сочиняет «Фауста». И,
конечно, эта народная книга заслуживает внимания, потому что в ней
есть то, что больше всего- ценится в вине, в ней есть букет, она
хранится в великолепной средневековой бутылке, и, когда ее
открываешь, она пенится так сочно, так искристо, с таким особенным
ароматом, что проникаешься совершенно необычным чувством...
Хорошо известно, что Дон Жуап существовал еще в очень ранние
времена в виде фарса; по-видимому, это первое его воплощение. Но
здесь идея представлена в комической форме, так же как и в других
случаях замечательно то, что средние века, столь широко
творившие идеалы, безошибочно чувствовали комическое, заключающееся
в сверхъестественной величине идеала3. [...]
Древний трагический мотив,
отраженный в современном
[...] Хорошо известно, что Аристотель упоминает две причины,
мысль и характер, в качестве источника действия в трагедии, но он
замечает также, что основное — это сюжет, и отдельные люди
действуют в трагедии не для того, чтобы представить в ней характеры,
а, напротив, характеры вводятся ради действия. Здесь сразу же об-
1 Экземпляр этой народной книги о Фаусте был найден в библиотеке Кьер-
кегора.
2 Книготорговая фирма в Копенгагене.
3 В следующей части статьи дается подробный анализ оперы Моцарта
«Дон Жуан».
493
наруживается отличие от современной трагедии. Особенностью
древней трагедии является то, что действие не обусловлено
исключительно характером, что действие не находит достаточного
объяснения в размышлениях и решениях отдельных людей, но что в самом
действии заключена известная примесь страдания *. Поэтому
античная трагедия не развила диалога до степени исчерпывающего
размышления, в котором все растворяется; в монологе и в хоре
заключались ее составляющие части, дополняющие диалог. Достигает ли
хор эпического изложения или лирического воодушевления, он
в обоих случаях говорит о большем, чем то, что может быть
растворено в личности; с другой стороны, монолог отличается большей
лирической напряженностью и содержит то, что не исчерпывается
действием и ситуацией. В древней трагедии действие само по себе
содержит эпическое начало; это в такой же мере событие, как и
действие. Объяснение этому, естественно, находится в том, что древний
мир не знал полностью осознающей себя и размышляющей
субъективности. Даже если личность и двигалась свободно, она все равно
была связана с основными категориями общества, семьи и рока.
Гибель героя поэтому была не только следствием его собственных
дел, но и страданием, тогда как в современной трагедии гибель
героя — это не страдание, а действие. Поэтому в новое время
ситуация и характер стали на самом деле господствующими. Трагический
герой, осознающий себя как субъект, полностью предается
размышлению, и это размышление не только целиком отделяет его от
общества, рода и рока, с которыми у него порываются непосредственные
связи, но часто отделяет его и от собственной его предшествующей
жизни. Мы заинтересованы в определенном мгновении его жизни,
рассматриваемом как дело его собственных рук. Поэтому трагедия
может быть исчерпывающим образом представлена посредством
ситуации и диалога, так как не остается больше ничего
непосредственного, что требовалось бы передать. Следовательно, у современной
трагедии нет эпического фона, в ней нет эпического наследия 2. Герой
действует и гибнет целиком в зависимости лишь от своих собствен*
ных поступков. [...] Если у личности совсем нет вины, интерес
к трагедии сводится на нет, потому что пропадает сила трагического
столкновения; с другой стороны, если герой полностью виновен сам,
то он не может нас интересовать с трагической точки зрения.
Поэтому несомненным непониманием трагического объясняется то, что
наш век стремится преобразить трагическую судьбу, целиком сведя
1 Под страданием (passio) имеется в виду пассивно переживаемое в
отличие от активного действия.
2 Имеется в виду наследие прошлых поколений, предопределяющее
действие рока в античной трагедии.
494
ее к индивидуальному и субъективному. Выходит, что ничего не
надо говорить о прошлой жизни героя, вся его жизнь тяжелым
бременем ложится на его плечи, как если бы она была следствием
только его собственных поступков, его делают ответственным за все,
но благодаря этому эстетическая вина героя превращается в
этическую. Трагический герой тем самым становится злым; зло
становится предметом трагедии; но зло не представляет эстетического
интереса, и грех не является эстетическим элементом.
S. Kierkegaard (Victor Eremita), Enten —
Eller. Et Livs — Fragment, Kjßibenhavn, 1878,
Forste Deel, s. 33-42, 79-80, 131-132, 136.
Перевод Вяч. В. Иванова.
БИБЛИОГРАФИЯ
Кьеркегор (Киркегор)
Сочинения:
Kierkegaard S., Samlede Vaerker, udg. af A. B. Drachmann, J. L. Hei-
berg og H. 0. Lange, bd. 1—14, Kj0benhavn, 1920—1936.
Киркегор С, Афоризмы эстетика.— «Вестник Европы», 1886, май,
стр. 104—127.
Киркегор С, астетические и этические начала в развитии личности.
Пер. П. Ганзен.— «Северный вестник», 1885, № 1, стр. 109—134; № 3,
стр. 52—93; № 4, стр. 20—57.
Киркегор С, Наслаждение и долг, [Спб.], Ледерле, 1894, 413 стр. (в книге
напечатаны также две предшествующие статьи и «Дневник обольстителя»
из «Или — или»).
Киркегор С, Несчастнейший. Пер. с датского Ю. Балтрушайтиса.—
«Северные сборники», кн. 4, Спб., 1908, стр. 7—55 (со вступительной статьей
Г. Геффдинга «Потомок Гамлета»).
Литература:
A a ζ W., Kierkegaard und der deutsche Idealismus, Tübingen, Mohr, 1956,
78 S.
Bärthold Α., Die Bedeutung der ästhetischen Schriften S0ren
Kierkegaard's, Halle (Saale), Fricke, 1879, 47 S.
Bejerholm L., Meddelelsens dialektik. Studier i S0ren Kierkegaards theo-
"rier om sprog, Kommunikation og pseudonymitet.— «Publications of the
Kierkegaard society», v. II, Kj0benhavn, 1962.
Chestov L., Kierkegaard et la philosophie existentielle, P., Vrin, 1936, 385 p.
Heller Α., A Kierkegaardi esztétika es a zene.— „Magyar filozofiai szemle»,
1965, N. 1, 1. 48—73.
Niedermeier С, S0ren Kierkegaard und die Romantik, Lpz., Quelle u.
Meyer, 1909, 83 S. (Abhandlungen zur Philos, u. ihrer Geschichte, hrsg. von
R. Falckenberg, N. 11).
495
Perpeet W., Kierkegaard und die Frage nach einer Ästhetik der Gegenwart,
Halle (Saale), Niemeyer, 1940, 284 S.(Philos, und Geisteswissenschaft, Buchreihe,
N. 8).
Pleines J.-F.,, Vom Wesen des Menschen in seiner zeitlichen Bestimmung.
Ein Versuch zur Zeitanalyse des menschlichen Daseins nach S0ren Aabye
Kierkegaard, [Köln, 1964], 214 S. Diss.
Wiesengrund-Adorno Th., Kierkegaard. Konstruktion des
Ästhetischen, Tübingen, Mohr, 1933, VIII, 165 S. (Beiträge zur Philos, und ihrer
Geschichte, N. 2).
ФРАНЦИЯ
PCTE τ "и: ic A
ФРАНЦУ^ с кого
КААССТЩИЗМА
К РОМАНТИЗМА
Господствующим художественным стилем эпохи
Революции и Империи был классицизм. Он пришел
на смену искусству буржуазного реализма XVIII
века: в живописи — жанровой картине Шардена
и Грёза, в театре — драме Дидро, Седена и
Бомарше. Стремление реалистов XVIII века
опоэтизировать обыденного человека третьего сословия,
его дом, быт, уклад жизни, привычки, мораль,
семейные добродетели заключало большой
общественный смысл, означало художественную реабилитацию
демократического героя, которому эстетика Буало отводила только
второстепенные роли. Однако уже в последней трети XVIII века
искусство буржуазного реализма перестало выражать дух времени.
Размах и накал классовой борьбы, вызванный приближением
революции, требовал перенесения места действия из четырех стен одного
дома на площадь, на форум, требовал перехода от моральной
постановки вопроса к политической. И вновь возродилась традиция
большого политического искусства французского классицизма.
17*
499
Гражданская героика демократических Афин и республиканского
Рима становится главной темой нового искусства, источником
сюжетов картин и трагедий. Сменившие добродетельных отцов
семейства Бруты, Горации, Сократы, Гракхи были призваны
героизировать современность, придать ее конфликтам и страстям
грандиозный характер, всемирное, всечеловеческое звучание.
Французская революция облекалась в мифы, заимствованные из Греции
и Рима. В преданиях античности деятели революции, по словам
Маркса, «нашли идеалы и художественные формы иллюзии,
необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя
буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое
воодушевление на высоте великой исторической трагедии» К
Это обращение к античности имело глубокие корни в
предреволюционной идеологии Просвещения: мыслителям XVIII века
будущее общество представлялось построенным по образцу античного
полиса с его гармонией личности и коллектива. Здесь отразилось
центральное противоречие Просвещения между его
общедемократическим, всечеловеческим идеалом и обществом частной
собственности, которое должно было служить ему материальной основой,
почвой, фундаментом. И чем более обнажалось это противоречие в
самой жизни, тем более абстрактный характер приобретал идеал
просветителей, тем более замыкался он в некую идеальную сферу,
отрешенную от жизненных материальных интересов. Мыслители
конца XVIII века вслед за Руссо склонны были относить его к
началу всех начал — природе, которая в их глазах находится вне
истории, противостоит всему строю современной цивилизации и является
незыблемой нормой, масштабом, позволяющим мерить и судить
окружающую жизнь. Все исторически и социально обусловленное
воспринимается как нечто наносное, и задача искусства,
желающего проникнуть в самую суть вещей, усматривается не в точном
изображении натуры, а в воспроизведении «архетипа», некоего
идеального образца. «Надо видеть,— писал Катрмер де Кенси,— не
то, что есть, а то, что могло и должно было бы быть». Это
определяет концепцию художественного образа в искусстве
классицизма. Давид настаивает на изображении нагого тела, в нем он
видит чистое воплощение человека, который сбросил уродующие его
покровы цивилизации и предстал в своих высших, идеальных
возможностях.
Античность и природа в эстетике классицизма оказываются
синонимами: Быть верным природе можно, лишь подражая античным
образцам,— природа вечна и неизменна, и древние полнее всего
1К. Маркс и Φ. Энгельс, Сочинения, т. 8, стр. 120.
500
сумели выразить ее в своих великих творениях. Действительное же
содержание этого требования заключалось в стремлении преобразить
натуру, возвысить ее над прозой повседневной жизни.
Художественные принципы античной пластики, которая тяготеет к
изображению общего, неизменного, устойчивого, отвлекается от всего
чрезмерно индивидуального, изменчивого, неотчетливого, становятся
художественным идеалом классицизма. Отсюда в живописи —
примат рисунка, линейных контуров, статуарной, строгой, почти
геометрической композиции над колоритом и цветом.
Французская революция обнаружила действительное содержание,
скрывавшееся за самыми отвлеченными построениями
просветителей, она вскрыла и истинное содержание классицизма XVIII века,
его революционное и консервативное начало. Классицизм как бы
получил реальное воплощение в политике якобинской диктатуры,
которая, признав частную собственность основой нового общества,
в то же время стремилась построить политргческую организацию
этого общества по античному образцу. Революционный террор был
направлен не только против сил старого порядка, но и против той
буржуазной экономической основы, на которой держалась сама
якобинская диктатура. Он поэтому и расчищал путь для буржуазного
общества и одновременно препятствовал его свободному и
стихийному развитию.
С падением якобинской диктатуры классицизм начинает
утрачивать свое революционное содержание, и заключенное в нем
консервативное начало выступает на первый план. Внешняя, официальная
парадность и помпезность составляют характерные черты
художественного стиля наполеоновской империи. Замкнутое в отвлеченной
сфере идеала, почти свободное от давления жизни, искусство
классицизма легко перерастает в холодный академизм. Поздние картины
Давида, исторические и религиозные полотна Энгра уже
принадлежат этому направлению.
Какими бы новыми чертами ни отличалось искусство
Революции и Империи, все же это искусство было завершением большого
художественного стиля классицизма, восходящего еще к XVII веку,
и в этом смысле оно знаменовало конец целой полосы
художественного развития. Истинным началом нового искусства XIX века был
романтизм, зародившийся еще в эпоху Термидора, но достигший
своего расцвета лишь после падения Наполеона, при Реставрации.
Романтики первые выразили разочарование в результатах
революции, первые осознали несовместимость античного идеала и
современного общества, современного человека.
Уже у Шатобриана и у Сталь, а затем у романтиков 1820-х годов
(Гюго, Делакруа и других) контраст античного, или классического,
501
и романтического искусства становится главным мотивом
эстетических построений. И хотя они считают, что началом нового
искусства является эпоха средневековья, в действительности
реальным, жизненным подтекстом этой антитезы является контраст
нового мира, рожденного французской революцией, и норм античного
полиса, идеалов эпохи Просвещения. Весьма знаменателен тот факт,
что начало романтизма падает на эпоху Термидора, когда, по словам
Маркса, стремительно вырвалась наружу и стала бить ключом
настоящая жизнь буржуазного общества *.
Романтическая теория исходит из того, что принципы античного
искусства к искусству нового времени неприложимы, ибо жизнь
нового времени не знает органической связи личности и коллектива,
она распадается на ряд отдельных самостоятельных сфер, а сам
человек не живет больше единой с народом жизнью. У человека после-
античной эпохи исчезает то чувство уверенности, стабильности,
твердости, которое было присуще древним, когда у него было
множество опор, ибо было множество связей, и эта связь с целым,
гармония с окружающим давала ему ощущение силы; современный же
человек опирается лишь на себя, и потому он внутренне слаб, не
знает, куда приложить таящиеся в нем силы. Интерес нового
искусства поэтому перемещается с объективного на субъективное, его
содержанием становится напряженная внутренняя духовная жизнь,
изображение одинокой личности, неудовлетворедности, томления
и вечного беспокойства, внутреннего разлада ее души.
Признавая, что в смысле чистоты художественного идеала
древние выше новых, романтики отдают предпочтение искусству после-
античной эпохи во всем том, что касается изображения внутреннего
мира человека, его страстей. Греки и римляне перестали быть для
них особыми народами. Эллада и Рим — всего лишь этап в
историческом развитии человечества, и, следовательно, красота античного
искусства не есть больше нечто вечное, незыблемое, «норма и
недосягаемый образец» — она лишь отражение определенной
пройденной человечеством исторической ступени. Тем самым было
положено основание для художественной реабилитации современности
и современного человека, было признано за современностью право
на историческое своеобразие, на особую, неведомую античности
поэзию и красоту.
Утверждение нового, послереволюционного мира сочетается у
романтиков с его резкой критикой. Они не принимают прозу
буржуазной цивилизации и ищут поэтическую действительность в мире
прошлого или в пестрой экзотике еще не затронутых капитализмом
1 См.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 2> стр. 136,
502
стран Юга и Востока, где сохранились цельные, сильные характеры,
яркие, самобытные индивидуальности, необузданная энергия и
ничем не сдерживаемые страсти. В этом бегстве, уходе от современной
жизни выразился протест против превращения человека, существа
по своей природе общественного, в частного индивида
буржуазного общества, погруженного в мир своих узких эгоистических
интересов.
В этом бегстве выразилось и бессилие романтического протеста.
Ограниченные буржуазным кругозором, сознательно или
бессознательно оставаясь на почве буржуазных отношений, французские
романтики видят в буржуазном порядке последний, заключительный
аккорд европейского развития. Даже В. Гюго в предисловии
к «Кромвелю» называет современную эпоху старостью, то есть
последним этапом исторической жизни. Поэтому романтическому
мятежу свойствен трагизм — буржуазный порядок неприемлем, но
идти вперед некуда, от него можно только отступать в прошлое,
к докапиталистическим формам общественной жизни. Сталь
противопоставляет Англии и Франции — Германию как страну более
отсталую, раздробленную, лишенную единого политического центра,
развитых форм буржуазной жизни. Эти реакционные тенденции
проявляются уже на раннем этапе романтического движения
(творчество Шатобриана) и приобретают особое влияние в первые годы
Реставрации, когда в обстановке разгромленного демократического
движения и возросшей политической активности дворянства и
духовенства романтический протест против капитализма принял открыто
выраженный реакционный характер.
Французский романтизм в целом явление социально
неоднородное, в нем можно различить дворянское течение,
буржуазно-либеральное и мелкобуржуазное, наиболее радикальное и
демократическое. И все же провести грань между ними не всегда представляется
возможным. Гюго, например, начавший свой творческий путь как
певец Реставрации, уже в конце 20-х годов находится на самом
левом крыле романтического движения. В сторону либерализма
в 30-е годы эволюционируют такие поэты, как Ламартин и Виньи,
более органически, чем Гюго, связанные с идеологией Реставрации.
Поэтому правильнее будет говорить о романтизме как о едином
художественном явлении, хотя и социально разнородном.
Историческая почва романтизма — Франция, вышедшая из
великой революции 1789—1794 годов и созидающая новый
буржуазный порядок. Этот порядок не принял, однако, еще твердых
очертаний, буржуазные отношения не стабилизировались, различные
общественные силы боролись за свой путь исторического развития,
и было еще не ясно, какая из них одержит окончательную победу.
503
Эта неустойчивость создавала атмосферу социального брожения,
была почвой для мощного демократического революционного
движения, которое дает себя чувствовать на протяжении всей первой
половины века и выливается в две революции — 1830 и 1848 годов.
Весьма характерен тот факт, что расцвет французского романтизма
падает на конец 1820-х годов, то есть на время революционного
подъема, когда романтизм обретает почву в широком
демократическом движении накануне событий Июльской революции 1830 года.
Связь с демократическим движением составляет главное своеобразие
французского романтизма, его отличие от романтизма немецкого,
оказавшего заметное влияние на французских поэтов и художников
романтической школы, особенно на раннем этапе ее развития.
Эволюция Виктора Гюго, начавшего свой путь роялистом и кончившего
его демократом, столь же показательна для французского
романтизма, как для немецкого показательна эволюция Фридриха Шле-
геля — от демократа и республиканца к реакционеру, пособнику
Меттерниха.
Внутренняя противоречивость и непоследовательность
французского романтизма, наличие в нем разнородных тенденций во многом
определяются противоречивостью и непоследовательностью
демократического движения, которое составляет его почву. Недовольство
и разочарование результатами буржуазной революции сочетается
в этом движении с надеждами на возможность более широкого
развития демократии и создания на ее основе разумного и
справедливого общественного строя.
Основное мироощущение людей этой эпохи — ощущение того,
что нет ничего прочного, стабильного, застывшего. Все казалось
зыбким, незавершенным, всякая граница — относительной,
возможности шире, богаче и важнее итогов, становящееся важнее
ставшего, стихия жизни важнее, чем формы, которые жизнь приняла
сегодня.
Естественно, что эстетика классицизма с ее формальной логикой,
господством рассудка, стремлением всему придать устойчивую
окончательную форму оказалась неприемлемой для людей
романтического поколения. Гюго не без основания видел в ней отражение
старого режима, противодействующего всякому движению,
изменению, стихийному развитию жизненных сил. Романтизм он связывал
с духом революции и даже утверждал, что этот революционный
дух присущ и творчеству тех писателей, которые занимают
реакционные позиции в общественной борьбе, как, например, Шато-
бриан, но, сами того не сознавая, несут революцию в глубине своего
сознания, поскольку борются со всем застывшим, окостеневшим,
доверяют стихии, природе, надеются не на рассудок, а на свободу,
504
прихоть, даже каприз мысли и чувства, наитие и вдохновение,
которые должны сами вывести на верный путь.
Провозгласив высшим принципом искусства истину, верность
природе («все, что есть в природе, есть и в искусстве»,— пишет
Гюго) и с этой точки зрения подвергая критике классицизм,
который ограничивает искусство лишь сферой прекрасного (Гюго
настаивает на том, что уродливое и безобразное должно найти свое место
в искусстве), романтическая эстетика резко выступает и против
реализма XVIII века; по ее мнению, реализм передает лишь внешний
облик, видимость вещей, и неспособен проникнуть в их истинную
глубинную сущность. Классицизм и реализм для романтиков
связаны: классицизм — подражание образцам, реализм — отдельным
вещам, нас окружающим. И то и другое исключает главное в
искусстве — свободную игру фантазии, творчество.
Природа для романтиков не собрание отдельных вещей,
мертвых и неподвижных, она живое целое, творящее новую жизнь.
Отдельные вещи имеют смысл лишь как часть этого целого, целое
живет лишь в отдельных вещах. Классицисты стремятся передать
целое, но они равнодушны к отдельному, к неповторимому
индивидуальному качеству живых явлений. Именно за это Гюго критикует
классицистическую драму, требуя живописности, конкретности,
соблюдения местного и исторического колорита. Реалисты, по его
мнению, не заботятся о правде целого, стараясь лишь зафиксировать
внешний облик отдельных вещей. Подражать природе для
романтиков значит возвыситься до творческой силы природы и творить,
как творит она. Природа — образец, высшая норма для художника:
произведение искусства должно быть подобно природе, где все
между собой связано, общее пронизывает частное, живет в частном,
но не подавляет, не подчиняет его.
Умение передать целое — основной признак истинного
художника. Эта мысль — главная во всех рассуждениях Делакруа. При
этом он подчеркивает, что целое не абстракция, не логическая
схема, оно создается живым впечатлением, которое возникает сразу,
прежде чем мы вгляделись в то, что на картине изображено.
Поэтому цвет, а не рисунок становится ведущим принципом
романтической живописи. Рисунок с его четкими контурами разъединяет
вещи, устанавливает между ними твердые границы, цвет же,
оставляя вещам их неповторимое своеобразие, индивидуальность,
разрушает вместе с тем всякую статуарность, создает впечатление
единства. Ни один элемент изображения не существует сам по себе, он
соотнесен с другим, с ним взаимодействует, благодаря чему
возникает впечатление внутренней подвижности, мир предстает
как льющийся поток, все формы становятся выражением одного
505
динамического целого. «Между вещами, представляющимися нашему
взору,— пишет Делакруа,— существует своеобразная связь,
созданная окутывающей их атмосферой и разнообразными отражениями
света, которые, так сказать, вовлекают каждый предмет в некую
общую гармонию» 1.
Для романтиков все взаимосвязано, одна вещь не отгорожена от
другой, не есть замкнутый в себе мир, она всегда готова перейти
в другую, противоположную, слиться с ней. Гротеск становится для
Гюго важнейшим принципом романтического искусства. Смешение
трагического и комического, прекрасного и безобразного,
героического и шутовского кажется ему самым характерным признаком
современной драмы. Требование соединения этих разделенных
классицизмом форм изображения мира означает прежде всего борьбу,
ниспровержение той социальной иерархии, которая стояла за
иерархией жанров в эстетике классицизма. В драмах самого Гюго
народные персонажи, погруженные в мир уродливого и шутовского,
высказывают чувства, достойные самых возвышенных героев. Не менее
важно и другое. Комическое для Гюго есть отголосок трагического,
его спутник. Комический гротеск сопутствует самым возвышенным
и трагическим сценам шекспировской драмы. Комическое
подчеркивает, что смысл данной вещи не окончательный, не последний, ибо
все находится в потоке вечного изменения и развития.
Отвергая принцип подражания, романтики подчеркивают
огромную роль фантазии, воображения, субъективного начала творчества,
личности самого творца. Образ целого, согласно романтической
эстетике, не может возникнуть в результате точного наблюдения
натуры, он постигается не рассудком, а внутренним чувством,
духовным взором, художник находит его в собственной душе.
«Сюжет,— говорит Делакруа,— это ты сам, это впечатления и чувства,
которые ты испытываешь, глядя на природу. Ты должен смотреть
в свою душу, а не вокруг себя» 2. Искусство поэтому одновременно
объективно и субъективно, изобразительно и экспрессивно.
Живопись, пишет Делакруа, дает картину природы, но помимо нее
«включает в себя элемент контроля и сознательного выбора, то есть душу
художника и свойственный ему стиль» 3. В своих статьях Делакруа
настаивает на творческой свободе, на праве индивидуального,
своеобразного взгляда на мир.
Правда искусства и правда жизни не совпадают — к этой мысли
романтики возвращаются неоднократно. Точное подражание невоз-
1 «Мастера искусства об искусстве», т. И, М.—Л., 1936, стр. 357.
2 Эжен Делакруа, Мысли об искусстве. О знаменитых художниках,
М., I960, стр. 231.
3 Τ ам же, стр. 222.
Ô06
можно. Палитра художника не может состязаться с палитрой
природы, художественный образ, по выражению Делакруа, всего лишь
«эквивалент». Ио ограниченность искусства — его великая сила,
нужно уметь только ею пользоваться. Художник не повторяет
окружающего его мира, он творит свой собственный. Искусство не только
воспроизводит жизнь, но и передает те чувства и мысли, которые
рождает жизнь в душе художника.
Гюго видит в искусстве зеркало, но не плоское, а
концентрирующее, «которое не ослабляет цветных лучей, но, напротив, собирает
и конденсирует их, превращая мерцание в свет, а свет в пламя» 1.
Таким «концентрирующим зеркалом» является для Гюго типический
образ. Он не повторение того, что есть, а акт творчества. Его правда
в том, что он сотворен на основе законов самой жизни. Гений
возвышается до творческой силы природы. Бог сотворил Адама, говорит
Гюго, «прототип человека», художник творит типические образы.
То, что лишь намечено, рассеяно в самой действительности, здесь
доведено до конца: «человек — только предпосылка, типический
образ — это вывод» 2, в нем запечатлена мысль художника по поводу
тех жизненных явлений и характеров, которые послужили для него
материалом. Это «идея, ставшая нервами, мускулами и плотью;
мысль, у которой есть сердце, чтобы любить, нутро, чтобы страдать,
глаза, чтобы плакать, зубы, чтобы пожирать или смеяться» 3.
Эстетика французского романтизма заключала в себе ясно
выраженное реалистическое начало. Романтика во Франции поэтому
не оказалась безысходным кризисом, а явилась прологом
классического реализма XIX века. Многие положения романтической
теории легли в основу реалистической эстетики Стендаля и Бальзака.
Недаром эти писатели сами причисляли себя к романтической
школе. И все же есть грань, отделяющая романтизм от реализма.
Романтики открыли путь в искусство страстям и думам XIX века,
но обыденная жизнь буржуазного общества оказалась камнем
преткновения для них. Овладеть прозой жизни они не сумели, они
капитулировали перед ней, бежали от нее, одевая своих героев
в исторические костюмы времен кардинала Ришелье или короля
Франциска. Это определило и отрицательное отношение писателей
и художников романтизма к реалистическому искусству. Делакруа
называл реализм «антиподом искусства», современные романы
навевали на него скуку, а живопись Курбе вызывала раздражение.
Правда, когда Делакруа говорит о реализме, он всегда имеет в виду
1 В. Гюго, Собрание сочинений в 15-ти томах, т. 14, М., 1956, стр. 107.
2 Там же, стр. 284.
3 Τ а м ж е, стр. 283.
507
натуралистически точное копирование жизни, а не реализм в
собственном смысле слова. И все же это не случайное недоразумение.
Здесь отразилось реальное противоречие романтической эстетики,
для которой поэтическая правда целого и точное воспроизведение
натуры друг друга исключают. Целое в произведениях романтиков
рождается не из реального познания окружающего, наблюдения
и изучения эмпирической жизни, а, так сказать, поверх нее, помимо
нее — оно постигается смутным внутренним чувством.
Романтическое искусство поэтому дает больше образ души самого художника,
чем объективную картину мира.
Стремление романтической эстетики создать целостное,
универсальное искусство так и осталось неосуществленным. Буржуазной
прозой, которую игнорировали романтики, оказались захвачены
важнейшие стороны жизни. Только классический реализм,
сумевший художественно овладеть этой прозой, соединить философскую
глубину, поэтическую правду целого с точным изображением
повседневного облика современной действительности, смог осуществить
и заветные чаяния романтиков — создать то синтетическое,
универсальное искусство, образцом которого для самих романтиков
служило творчество Шекспира.
В. Я. БАХМУТСКИЙ
М.-Ж. ШЕНЬЕ
1764-1811
Поэт и драматург Мари-Жозеф Шенье, автор революционно-патриотических
гимнов Великой французской революции, был одним из ярких представителей
революционного классицизма.
Шенье считал театр общенациональным делом, важным «средством
общественного просвещения», подлинной школой гражданственности и патриотизма,
трибуной идей свободы. В статьях 1787—1791 годов он настойчиво подчеркивает
необходимость создания нового, революционного стиля в драматургии. Самым
важным жанром драматургии Шенье считал трагедию. По его мнению, высокая
трагедия классицизма может более успешно, чем другие драматические жанры,
активно воздействовать на общественное мнение. Назначение трагедии Шенье
видит в изображении «самых сильных страстей» и «великих эпох мировой
истории и людей, которые делают честь человечеству», а также в художественной
трактовке «тех возвышенных вопросов морали и политики», которые
представляют животрепещущий интерес для всех народов. Трагедия должна вызывать
у людей «ненависть к тирании и суеверию, отвращение к преступлению, лю-
508
бовь к добродетели и свободе, уважение к законам и морали» 1. Единственно
приемлемым жанром Шенье считал политическую трагедию. Этим объясняется
полное отсутствие в его трагедиях любовной интриги («галантности») и
решительное предпочтение сюжетам, взятым из истории, перед мифологическими
или вымышленными сюжетами. Деятели французской революции XVIII века,
как отмечал К. Маркс, стремились героизировать свою деятельность и
«удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии» 2.
Шенье считал, что интерес в трагедии должен вытекать прежде всего из
характеров действующих лиц, а не из внешних событий. Двойная интрига,
побочные эпизоды и сложность действия недопустимы. В целом Шенье стоял
на позициях рационалистической эстетики классицизма, считая, что в
художественном процессе главную роль играет не чувство или вдохновение, а разум.
Концепция национальной трагедии сложилась у Шенье в
предреволюционные годы и в начале революции. Она сформулирована в его статье «О свободе
театра во Франции», в посвящении и предисловии к трагедии «Карл IX»,
предисловии к трагедии «Брут и Кассий, или Последние римляне» и др.
«Трагедия более философична и более поучительна, чем сама история» 3,— писал он,
ссылаясь на Аристотеля. Древнегреческую трагедию Шенье считал высшим
образцом «подлинно национальной трагедии».
Теория и художественная практика «национальной трагедии» у М.-Ж.
Шенье тесно связаны с идеей революционного патриотизма. В посвящении
к пьесе «Карл IX» Шенье называет ее «патриотической трагедией», а себя
с гордостью именует «патриотическим писателем», «национальным поэтом» и
«поэтом-гражданином». Он хочет, чтобы его трагедии помогли французам
превратиться из «людей старых предрассудков и древнего рабства в людей новой
свободы» 4.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРАГЕДИИ «КАРЛ IX,
ИЛИ ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ»
[...] Влекомый к трагедии [...] глубоким убеждением в том, что
никакой другой жанр не может иметь такого влияния на
общественное мнение, я задумал показать на французской сцене важные
моменты современной истории, и особенно национальной истории,
связать страсти и трагические события с большим их политическим
интересом, с великой нравственной целью. Я решил, что можно было бы
сделать наш театр еще более суровым, чем афинский театр, что
можно было бы удалить из трагедии нагромождение мифологических
представлений и уродливых небылиц, часто встречающихся у
древних поэтов.
1 M.-J. С h é η i e г, Charles IX, ou l'École des rois, tragédie, P., 1790, p. 10.
2 К. Маркс и Φ. Энгельс, Сочинения, т. 8, стр. 120.
3 M.-J. С h en i er, Charles IX, ou l'École des rois, tragédie, P., 1790, p. 9.
4 Τ a m же, стр. 1.
509
Но по крайней мере я постиг единственную славу, к которой
мне еще можно было стремиться,— честь проложить дорогу и
первым сочинить истинно национальную трагедию. Я говорю: «первым»,
так как всякий должен понимать, что драматизированные романы
о ничтожных событиях, описанных в рабском духе, нельзя считать
«национальными трагедиями» [...].
Неверно, что трагические события должны быть стерты из
памяти людей: эта ложная мысль достойна лишь малодушного
ритора. Наоборот, они должны вечно жить для того, чтобы
непрестанно внушать людям ненависть, чтобы вооружить их на борьбу
с бедствиями, которые всегда существуют, несмотря на то, что они
часто незаметны. Фанатики заверяют, что нет больше фанатизма,
тираны — что нет больше тирании, а толпа людей с предрассудками
не перестает кричать, что предрассудки уже исчезли. Весьма
сомнительно, чтобы эти лживые утверждения соответствовали истине,
и поэтому трагедии свободного и просвещенного народа всегда
должны иметь моральную и политическую цель, а принципы морали
и политики неизменны. Необходимо всегда, не забывая о
совершенстве искусства, изображать на сцене те великие трагические
события, те великие исторические эпохи, которые представляют интерес
для всех граждан, а не те любовные интриги, которыми
интересуются лишь женщины, не пошлые чувства, являющиеся вечным
уделом сотен трагедий, которые повторяют друг друга [...].
Мне осталось лишь высказать одно общее соображение
относительно общественных нравов. Пусть себе сочиняют трагедии
в прозе, пусть уговаривают нас отвергнуть Софокла и Расина ради
подражания вызывающим отвращение нелепостям английского
театра и смехотворному вздору немецкого театра. Эти бессвязные
глупости скорее забавны, чем опасны; все это преходяще и скоро,
перестав быть смешным, будет предано полному забвению. Постоянный
враг, самый страшный бич, я бы сказал, не только нашего театра,
но также всего искусства и нравов современных наций это дух
галантности — плод невежества наших предков, дух,
противоречащий истинной цели общества, дух, унизительный для пола,
которому надлежит быть обманутым, и еще более унизительный для
пола, который обманывает. Я не стану отыскивать его
происхождение и не буду рассматривать его развитие: этот интересный
вопрос, который я мог бы обсуждать в другом месте, сейчас увел бы
меня слишком далеко. Мне лишь достаточно отметить с
несомненностью, которую не смогут отрицать люди, способные мыслить, мне
достаточно дать понять, что этот нелепый дух странным образом
замедлил развитие современных наций в области искусства и
морали. Он, так сказать, изуродовал наши чувства. Но ведь доброде-
510
тели и таланты исходят от страстей, ведь одни лишь страсти
способствуют замыслу и исполнению великих дел.
Если вся Европа находится во власти этой ребяческой химеры,
то французская нация поражена ею больше, чем любая другая
нация, не вследствие каких-то особых отличительных свойств, а
вследствие множества обстоятельств, которые было бы слишком долго
здесь объяснять. Зайдите в мастерские наших живописцев и наших
скульпторов, забегите в наши театры, откройте сочинения наших
поэтов, наших ораторов и даже наших историков, просмотрите наши
книги по морали и даже наши книги по физике: повсюду вы найдете
следы этого неизлечимого предрассудка. И пусть не говорят, что это
неизбежное следствие цивилизации. Наоборот, галантность
уменьшается по мере того, как народы становятся более
цивилизованными. Я беру в свидетели опыт. Я вовсе не буду говорить здесь
о римлянах и греках, которые никогда не знали этих смешных
нравов, я хочу опираться здесь на современные нации: сравните
XVIII век с рыцарскими временами.
Необходимо, чтобы трагический поэт восстал против потока
преходящих мод. Комедия должна изображать изнанку общества,
передавать правдоподобие времени и места К Трагедия же должна
изображать человеческие страсти в их самом сильном проявлении. Раз
личие эпох и местностей требует некоторого отличия в форме, но
сущность должна оставаться той же самой. Ум изменяется,
человеческое же сердце не смогло бы измениться. Однако если нужно
описывать природу, то где ее отыскать вокруг нас? Она настолько
приукрашена, настолько завуалирована, настолько перегружена
лишними одеждами, что стала уже неузнаваемой. Отвергнем же
сомнительные украшения, прикрывающие и извращающие ее, и мы снова
обнаружим чистоту античных форм. Греки изображали ее
обнаженной в своих поэмах и статуях. Нравы, учреждения, законы,
обычаи — все вело их к истине, нас же все толкает в противоположном
направлении. Греки были свободной нацией 2, они не знали ни
готических предрассудков, ни одолевающей нас гидры условностей.
Последуем же совету Горация: будем читать их денно и нощно.
Речь идет уже не о том, чтобы их переводить: проникнемся их духом
и будем творить, как они.
M.-J. Chénier, (ouvres, t. I, P., 1824—1826, p.
162, 170—171, 176—180. Перевод Ю. И. Божора.
1 Эта фраза — «Комедия должна...» и т. д. — дана по изданию 1790 года..
Впоследствии, в годы Реставрации, она была снята цензурой.— Прим. перев.
2 Эта часть фразы — «Греки были свободной нацией» — дана по изданию
1790 года; в годы Реставрации она была снята цензурой.— Прим. перев.
511
ДАВИД
1748-1825
Имя Луи Давида — художника и мыслителя — неразрывно связано со
становлением во Франции нового или, точнее, обновленного классицизма,
противостоявшего в основе своей «старому искусству». Двойной культ античности и
природы, утвердившийся во французском искусстве не без воздействия вин-
кельмановских идей, но подготовленный всем развитием французской
общественно-эстетической мысли, обусловил многие художественные открытия
предреволюционных лет, героический «революционный классицизм», а также
живописный стиль времен Консульства и Империи.
Тенденции «нового классицизма» обнаруживаются уже в ранних
произведениях Давида, созданных после первого пребывания в Италии («Гектор
и Андромаха», «Велизарий, просящий подаяние»), усиливаются в 1780-е годы
(«Клятва Горациев»), наконец, господствуют в его творчестве в период
революции («Смерть Марата», «Сабинянки», оформление революционных
празднеств) , а затем — в годы Консульства и Империи, .когда он, еще недавно
депутат Конвента и член Якобинского клуба, становится первым живописцем
императора и пишет цикл монументальных композиции, прославляющих
империю и Наполеона Бонапарта.
Великий художник, политический и государственный деятель (ему
принадлежит, в частности, идея создания Национального музейного хранилища),
Луи Давид не был теоретиком искусства в собственном смысле слова. Однако
в его брошюрах, речах и докладах, заметках и письмах содержится множество
важных суждений по общеэстетическим вопросам, представляющих большой
исторический интерес. Наиболее ярким из его сочинений этого рода является
брошюра, написанная в связи с публичной выставкой картины «Сабинянки»
(1799). Уже в начальных ее словах с исключительной ясностью обнаруживается
эстетическая позиция художника: «Древность не перестала быть великой
школой современных художников, источником, из которого художники черпают
красоты своего искусства. Мы стремимся подражать древним в гениальности
их замыслов, в чистоте рисунка, в экспрессии фигур и в прелести форм» '.
В последующих рассуждениях эта точка зрения развивается и
конкретизируется. Так, Давид отстаивает право художника изображать своих героев
обнаженными, апеллируя при этом к античности и правде.
Хотя Давид и начинал постепенно сознавать, что дни классицизма
сочтены, его приверженность этому искусству остается в целом неизменной. В 1820
году в письме к Ж.-Л. Шнетцу он 'уверенно заявляет о своей принадлежности
к «сторонникам античности», а в 1825 году, незадолго до смерти, в письме к
А.-Ж. Гро с гордостью напоминает о том, что создал во Франции «блестящую
школу» и «классические произведения, которые будет изучать вся Европа».
1 «Речи и письма живописца Луи Давида», М.—Л., 1933, стр, 189.
512
КАРТИНА «САБИНЯНКИ»,
выставленная для публичного обозрения в Национальном дворце
науки и искусств (зал б. Академии архитектуры) гражданином
Давидом, членом Национального института
О наготе моих героев
Меня упрекали и не перестают упрекать за наготу моих героев.
В мое оправдание можно привести так много примеров из того, что
сохранилось нам в произведениях древних, что единственная
трудность, которую я испытываю, заключается в затруднении выбора.
Вот как я на это отвечаю. Был обычай у живописцев, скульпторов
и поэтов древности представлять обнаженными богов, героев и также
людей, которых они желали прославить. Как изображали они
философа? Он был представлен обнаженным, с мантией на плече и с
атрибутами, ему свойственными. Как писали они воина? Он
изображался обнаженным, с каской на голове, с мечом, прикрепленным
к поясу, со щитом в руке и с поножами на ногах; лишь изредка
они присоединяли к этому драпировку, когда находили, что она
может прибавить изящества фигуре. Точно так же и в других случаях
герои изображались обнаженными, как это видно на моем Татии,
или, как это еще лучше можно наблюдать постоянно в
Центральном музее искусств на фигуре Фокиона, недавно прибывшей из
Рима. А разве не обнажены оба сына Юпитера, Кастор и Поллукс,
произведения Фидия и Праксителя, находящиеся в Риме на Монте
Кавалло? Ахилл в вилле Боргезе равным образом представлен
обнаженным. В Версале можно видеть на вазе, называемой вазой Медичи,
барельеф с изображением жертвоприношения Ифигении: Ахилл
изваян там обнаженным, так же как и большая часть воинов на
окружности вазы. Можно видеть у скульптора Жиро в его музее
на Вандомской площади барельеф Персея и Андромеды: герой
представлен на нем обнаженным, хотя он только что сражался с
чудовищем, источающим яд. Вспомним также в Национальной
библиотеке, в книге эстампов Геркуланума, сюжет отъезда Ипполита на
охоту в присутствии Федры: Ипполит также изображен
обнаженным. На скольких авторитетов я мог бы еще сослаться! Однако тех,
которые я только что перечислил, без сомнения, достаточно для
того, чтобы публика не удивилась, что я стремился подражать этим
великим образцам в моем Ромуле, который сам был сыном бога. Но
вот еще пример, который я сохранил напоследок, потому что он
является завершением всех других: Ромул представлен обнаженным
на медали в тот момент, когда он, убив Акрона, царя кенинейцев
513
несет на плечах в качестве трофея оружие, которое он жертвует
храму Юпитера Феретрийского; это были доспехи вождя
неприятельских войск.
Теперь, когда я думаю, что ответил вполне удовлетворительно на
упрек, который мне делали или будут делать относительно наготы
моих героев, пусть мне будет позволено обратиться к художникам.
Они знают лучше, чем кто-либо, насколько легче мне было бы
изображать своих героев одетыми. Пусть подтвердят художники, что
допущение драпировки доставило бы мне более легкий способ
отделять фигуры от полотна. Я думаю, что художники воздадут мне
должное за то, что я разрешил трудную задачу, поскольку известна
истина, что тот, кто делает больше, может делать и меньше. Одним
словом, моей задачей было при создании этой картины
воспроизвести античные нравы с такой точностью, чтобы греки и римляне,
видя мое произведение, не нашли бы меня чуждым их обычаям.
«Речи и письма живописца Луи Давида», M.—JL,
1933, стр. 196—197. Перевод Б. Денике.
ИЗ РАЗГОВОРА С ДОЧЕРЬЮ ЭМИЛИЕЙ В САЛОНЕ
1808 года
«Через десять лет,— заметил Давид,— изучение античности
будет заброшено. Я слышу, однако, что со всех сторон восхваляют
античность. Но когда я смотрю, применяют ли ее на деле, я
обнаруживаю, что ею не пользуются. Равным образом все эти боги, герои
будут заменены рыцарями, трубадурами, распевающими под окнами
своих дам у подножия старинного донжона. Направление, которое
я придал изящным искусствам, слишком сурово, чтобы долгое время
нравиться во Франции. Те, кому надлежит поддерживать его, его
покинут, и, когда меня не будет, школа исчезнет вместе со мной».
Там же, стр. 221.
КАТРМЕР ДЕ КЕНСИ
1755-1849
Антуан Кризостом Катрмер де Кенси прожил долгую жизнь: участник
революции, депутат Законодательного собрания, он умер накануне переворота
Луи Бонапарта. Деятельность его, таким образом, продолжалась около
семидесяти лет. Однако наивысшего расцвета и зрелости она достигла именно
514
в годы Революции и Империи, когда он — «французский Винкельман» — стал
едва ли не самым крупным и влиятельным знатоком и теоретиком искусства.
К этому времени относится публикация ряда важнейших его сочинений по
археологии, истории искусств и общеэстетическим вопросам («Словарь
архитектуры», т. I, 1789; «Рассуждение об изобразительном искусстве во Франции»,
1791; «Письма... о перенесении памятников искусства из Италии», 1796; цикл
статей «Об идеальном», 1805; и др.). Уже в самых ранних трудах Катрмера де
Кенси с отчетливостью проявился его глубочайший интерес к античности. Этот
интерес, это преклонение перед античной культурой он испытывал и в
дальнейшем, сохранив его до конца своих дней. В представлении Катрмера де
Кенси, искусство Древней Греции и Рима — единственный достойный образец
для современных архитекторов, скульпторов и живописцев. Подражание
действительности он решительно отвергает, считая его неизбежно поверхностным
и «бесплодным». С равным пренебрежением относится он и к воссозданию
исторической правды. Только «идеальная красота» (le beau idéal),
сконструированная при помощи разума, путем философского анализа, является, по
его мнению, подлинной целью творческих усилий художника, которому
надлежит дать некий абстрактно-обобщенный образ событий и вещей.
Отдавая должное широчайшей эрудиции Катрмера де Кенси, многие
современники вместе с тем не без оснований упрекали его в узости взглядов и
догматизме. Однако уже к середине 1800-х годов и в его эстетических
воззрениях намечаются некоторые сдвиги. Отнюдь не меняя своей классической
ориентации, по-прежнему настаивая на подчинении современного искусства
античным схемам и канонам, он одновременно выступает приверженцем
непосредственности и чувства, которое называет «живительной силой
искусств».
Эта своеобразная и, во всяком случае, далеко не столь традиционная для
начала века позиция обнаруживается, в частности, в его трактате «Мысли о
назначении произведений искусства», несколько отрывков из которого
приводятся ниже. Сочинение это относится к 1806 году, когда оно было прочитано
на одном из заседаний Французского Института; но в то время Катрмер де
Кенси счел его издание несвоевременным, и оно вышло в свет лишь в 1815
году, то есть уже после падения Первой империи.
МЫСЛИ О НАЗНАЧЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
Часто спрашивают, каковы нравственные причины великого
совершенства искусств в Древней Греции. На это может быть дан
ответ, который, правда, охватывает не все эти причины, но, во
всяком случае, значительное их число. Мне кажется, можно одним
словом ответить, что высокий уровень или совершенство, достигнутые
515
в этом отношении древними греками, обязаны своим
происхождением тому обстоятельству, что искусства были им необходимы.
Слово «необходимо» может здесь пониматься весьма различно
и употребляться на множество разных ладов.
Если рассматривать искусство с точки зрения его возникновения
и способности развиваться непрерывно, спонтанно, без всякого
постороннего вмешательства, «необходимо» означает: должно,
вынуждено существовать. В царстве природы это называется
стихийностью, в человеческом обществе — силой вещей или судьбой.
Если рассматривать искусство с точки зрения его бытования
у того или иного народа, слово «необходимо» может обозначать его
естественную связь с основными потребностями общества, связь,
которая иногда ставит общественное устройство в такую
зависимость от искусства, что без него это устройство прекратило бы свое
существование. В такой степени, например, необходима
письменность.
Наконец, если рассматривать искусство с точки зрения его
использования, оно также в той или иной мере окажется и будет
называться «небходимым» — в соответствии с той непосредственной
пользой, которую сумеют извлечь из его образцов. Необходимым,
следовательно, называют произведение, цель которого
определенна и ясна, а применение столь несомненно, что автор не может
придать ему иной смысл и вид, зритель принужден судить о нем,
сообразуясь с обстоятельствами, его породившими, а публика
неизбежно должна воспринимать его именно так и никак иначе.
Стремясь более подробно разобраться в причинах, содействующих
совершенству искусств, можно понять, что существует очень мало
причин, не относящихся к этим трем. И даже причины, связанные
с потребностью обучения, поощрения или вознаграждения, имеют
значительно большее, чем это можно предположить, отношепие
к действию одной из этих главных и необходимых причин.
[...] Задача моя — показать, что нравственная польза
произведений искусства или их применение с определенной благородной
целью является самым важным из условий, необходимых
художнику и любителю для того, чтобы творить и судить; публике — для
того, чтобы чувствовать и наслаждаться красотой.
[...] Напрасно воображают, что, бесстрастно занимаясь
теоретическими построениями схоластического толка, можно разгадать
тайны античного искусства и той красоты, которая заставляет нас
испытывать зависть к народу, оставившему нам ее образцы. С
помощью наблюдения можно разгадать законы того, что на
наблюдении основано. Но кому дано подвергнуть анализу способность
516
чувствовать, без которой красота не в состоянии произвести и не
производит никакого впечатления? Кто в состоянии уловить, каким
образом проявляется и какое наслаждение доставляет чувство? Не
существует ни метода, ни теории, объясняющей его и способной
установить его законы. Оно само творит свой закон. Чувство —
живительная сила искусств.
Quatremère de Quincy, Considérations
morales sur des ouvrages de l'art, P., 1815, p. 1—3,
7. 63. Перевод П. P. Заборова.
ЭМЕРИК-ДАВИД
1755-1839
Деятельность историка и теоретика изобразительных искусств Туссен-
Бернар Эмерик-Давид начал сравнительно поздно, ряд лет занимаясь
адвокатской практикой — сначала в родном Эксе, а затем в Париже. Первые его
значительные труды относятся лишь к концу 1790-х годов. Впрочем, начиная
с этого времени Эмерик-Давид выступает постоянно на протяжении четырех
десятилетий с большими исследованиями, статьями, заметками и т. п., стяжав
себе славу одного из самых блестящих французских критиков и знатоков
искусства.
Эстетические взгляды и художественные интересы Эмерик-Давида находят
отчетливое выражение уже в самых ранних его сочинениях по вопросам
искусства, и прежде всего в «Олимпийском музее современной школы
изобразительных искусств» (1796). Преклоняясь перед античностью, он вместе с тем
горячо отстаивает право на существование современного искусства, которое
если и не достигло еще «образцового» совершенства, то потому только, что
для этого не было необходимых общественных условий, и выдвигает мысль
о создании во Франции музея новой живописи, графики и скульптуры.
Наиболее важный труд Эмерик-Давида периода Консульства и Империи —
«Исследование о скульптуре». И в этом трактате критик, признавая великие
достоинства древних ваятелей, выступил со страстной защитой современного
искусства и новых эстетических воззрений. Подражание природе, изучение
шедевров прошлого вместо их рабского копирования, непременное проявление
индивидуальности художника — эта программа свидетельствует о его
неприятии той «антикизирующей» концепции искусства, выразителем которой во
Франции был Катрмер де Кенси. Недаром этот последний встретил труд
Эмерик-Давида с нескрываемым раздражением и в качестве ответа опубликовал
цикл своих статей «Об идеальном», что, впрочем, не прекратило дискуссии,
а, наоборот, способствовало ее усилению.
517
Свои взгляды Эмерик-Давид с неослабевающим воодушевлением
отстаивал и в дальнейшем. Они лежат в основе его знаменитых в свое время речей
о П. Пюже (1807) и Н. Пуссене (1812), а также многочисленных
биографических очерков, напечатанных в биографической энциклопедии («Biographie
universelle») и других изданиях. Эти очерки сыграли немалую роль в
возрождении во Франции интереса к национальному средневековому и ренессансному
искусству и оказали воздействие на французское искусствознание первой
половины XIX века.
ИССЛЕДОВАНИЕ О СКУЛЬПТУРЕ
Чувство [...] — первооснова вкуса; но само по себе чувство еще
не есть вкус; напротив, оно не может создать ничего великого и
чистого, если вкус не будет его направлять.
Ваятель, который отдается порыву чувства, далеко не всегда
способен одновременно охватить все стороны воспроизводимого им
предмета. Божество, побуждающее его к деятельности, подчас
увлекает его и сбивает с пути. Волнение, бурная радость могут ввергнуть
его в заблуждение. Поглощенный отдельными сторонами предмета,
он не замечает всех остальных. Восхищаясь деталями, он
пренебрегает целым. В несомненно прекрасном, но несовершенном
произведении, которое художник создает, находясь во власти чувства, меня
волнует и удивляет ощущение жизни; но при этом важные черты
предмета не находят полного своего выражения. Статуя трепещет,
она страдает, кричит; но чего же ей недостает? Того, что ей должны
были бы придать размышление и вкус. Это изысканность форм,
правильность и уверенность построения, связь отдельных частей,
величие, гармоничность.
Чувство слишком часто не желает ни с чем считаться; оно
отвергает правила; они его стесняют, затрудняют его движение, оно же
не терпит никаких препятствий. Так, иной горит воодушевлением
до тех пор, пока может пренебрегать законами, но охладевает ко
всему, когда ему приходится этим законам подчиниться.
[...] Было бы странным заблуждением искать красоту
человеческих форм вне природы, ибо формы, почерпнутые вне природы, это
уже не человеческие формы, и естественная склонность,
побуждающая нас любить себе подобных, не смогла бы нас заставить их
полюбить.
Не говорите: истинную красоту человеческого тела сотворила
не природа, эта красота возникла в сознании человека. Нет, если бы
природа была не в состоянии создать эту красоту, вам бы уже, во
всяком случае, не было дано этой красотой восхищаться.
518
Если художник, введенный в заблуждение каким-нибудь
пылким гением, скажет вам: «Красота — всего лишь абстракция, не
изображайте людей, изображайте человека вообще»,— спросите его:
«О учитель, где найти этого человека вообще, которого мне
надлежит изображать?» Он ответит вам: «В своем воображении». Но это
только слова; если вы не видите перед собой живой природы, ее
идею вы можете обнаружить лишь в собственной памяти.
Что такое красота? Вопрос слепого,— отвечал Аристотель.
Красота абстрактная — это несбыточная мечта ленивых художников,
которые пренебрегают видимой красотой.
Т.-В. Eméric-David, Recherches sur l'art
statuaire considéré chez les anciens et les modernes,
P., 1805, p. 251—252, 515—516. Перевод
П. P. Заборова.
ЭНГР
1780-1867
Творческий путь Жана Огюста-Доминика Энгра — одного из крупнейших
художников ХГХ столетия — продолжался около семидесяти лет, и на период
Консульства и Империи приходится лишь самое его начало. Однако
эстетическая позиция и художественная манера Энгра позволяют условно отнести его
к числу мастеров и мыслителей именно этой эпохи.
Действительно, при всех сомнениях и колебаниях, при всех неизбежных
(и весьма для него плодотворных) уступках времени Энгр до конца жизни
сохранил верность идеалам, воспринятым им в ранние годы, и — современник
Курбе — оставался учеником Давида. Об этом убедительно свидетельствует его
творчество (от «Послов Агамемнона у Ахилла» до поздних картин) и его
многочисленные высказывания по вопросам искусства. Речь идет именно о
высказываниях, поскольку художнику не принадлежит ни одной печатной статьи.
Дошедшие до нас мысли Энгра об искусстве, его суждения об отдельных
мастерах и творческих школах — это страницы его записных книжек
(«тетрадей»), естественно, не предназначавшиеся для посторонних глаз. Тем не менее
некоторые из этих высказываний имеют характер манифеста. Энгр не просто
фиксирует свои соображения, но темпераментно их отстаивает, горячо одобряя
единомышленников, полемизируя с противниками, сражаясь с врагами.
Ведущая тема эстетических раздумий Энгра — античное искусство,
подражания которому он требует (не ради него самого, но для того, чтобы
научиться хорошо видеть природу) от современных живописцев. Только один
художник нового времени явился, по мнению Энгра, достойным
продолжателем античных мастеров. Это Рафаэль, «божественный ум» и «божественный
гений», одни фрески которого в Ватикане «стоят больше, чем все картинные
519
галереи, вместе взятые». Даже сравнение Рафаэля с Рембрандтом кажется ему
«богохульством».
Хотя творчество Энгра (в особенности его полотна 1800—1810-х годов)
говорит о том, что многие художественные открытия XIX века не прошли для
него бесследно, в глазах современников он был великим живописцем,
виртуозом кисти, влюбленным в искусство, но далеким от «эстетического движения»
своей эпохи.
О ПРЕКРАСНОМ В ИСКУССТВЕ
Двух искусств не существует — есть только одно. Его основа —
вечно прекрасное и естественное. Те, кто ищет вне этого, ошибаются
самым роковым образом. Что хотят сказать мнимые художники,
проповедующие открытие «нового»? А есть ли что-либо новое? Все
уже сделано, все уже найдено. Наша цель не изобретать, а
продолжать, и нам много есть что делать, пользуясь по примеру мастеров
бесчисленными образцами, которые нам постоянно предлагает
природа, воспроизводя их со всей искренностью нашего сердца,
облагораживая их тем чистым и точным стилем, без которого никакое
произведение не может быть прекрасно. Какой абсурд думать, что
врожденные предрасположения и свойства могут быть искажены
изучением или подражанием классическим произведениям!
Основной образ — человек — всегда перед нами: нам надо только
обратиться к нему, чтобы узнать, правы или неправы были классики
и, когда пользуемся их методом, лжем ли мы или говорим правду.
Нет надобности открывать условия и основы прекрасного. Речь
идет о том, чтобы их применять и чтобы из-за стремления к
изобретательству мы не упустили б их из виду. Красота чистая и
естественная не нуждается в том, чтобы поражать новизной: достаточно
того, что она красота. Но человек страстно любит перемены, а
перемены в искусстве часто являются причиной упадка.
Изучение или созерцание шедевров искусства должно служить
лишь для того, чтоб плодотворнее и с большей легкостью изучать
природу; оно не должно уводить от нее, так как из природы
вытекают и в ней берут свои начала все совершенства.
Только в природе можно найти красоту, которая является
великим объектом живописи; там-то и надо ее искать, и нигде более.
Представить себе идею красоты вне ее (природы.— Перев.),
красоты, которая была бы выше того, что нам дает природа, столь же
невозможно, как невозможно иметь представление о шестом
чувстве. Мы вынуждены вырабатывать все свои понятия, вплоть до
идеи Олимпа и его. божественных обитателей, исходя из предметов
520
чисто земных. Все глубокое изучение искусства сводится к тому,
чтобы научиться подражать этим предметам.
Главное и самое важное в живописи — это знать, что именно
дала природа самого совершенного и наиболее подходящего для
этого искусства, чтобы сделать из этого выбор согласно вкусу
древних мастеров и их восприятию.
Нужно помнить, что отдельные части самой совершенной статуи
никогда не могут, каждая сама по себе, превзойти природу, и что
нашим идеям невозможно подняться выше красот, которые мы
видим в ее творениях. Единственное, что мы можем сделать,— это
суметь собрать их вместе. Строго говоря, греческие статуи стоят
выше природы только потому, что в них соединены все прекрасные
части, тогда как природа очень редко собирает их в одном и том же
предмете. Художник, поступающий таким образом, может считать
себя принятым в святая святых природы. Тогда он наслаждается
лицезрением богов и беседой с ними; подобно Фидию, он созерцает
их величие и постигает их язык, чтобы говорить на нем со
смертными.
Фидий достиг возвышенного, исправляя природу посредством ее
самой. Для своего «Юпитера Олимпийского» он использовал все
естественные красоты и соединил их, чтобы достичь того, что
довольно неудачно называют «прекрасный идеал». Это слово надо
понимать только как обозначение соединения самых прекрасных
элементов природы, которая очень редко бывает совершенной в этом
отношении, хотя природа при этом такова, что нет ничего выше ее,
когда она прекрасна, и все человеческие усилия не в состоянии не
только ее превзойти, но даже сравняться с ней.
«Энгр об искусстве», М., 1962, стр. 47—48.
Перевод Е. В. Жуковской.
СТАЛЬ
1766-1817
Анна-Луиза-Жермена де Сталь — автор широкоизвестных в свое время
художественных и теоретических произведений — романов «Дельфина» (1802)
и «Коринна» (1807) и ряда трактатов, посвященных различным политическим,
нравственно-философским и литературно-эстетическим проблемам («Письма
о Руссо», «Размышления о мире», «О художественных произведениях», «О
влиянии страстей», «О литературе», «О Германии», «Рассуждения о французской
революции» и др.).
521
Самый значительный из ранних ее философско-эстетических трудов-
трактат «О литературе в ее отношении к общественным установлениям»
(1800). В основе- рассуждений Сталь лежит идея непрестанного
совершенствования человеческого общества и человеческого разума. Сама по себе мысль эта
не отличалась большой новизной, она уже сравнительно давно высказывалась
французскими просветителями, но в книге Сталь она впервые с такой
убедительностью была «приложена» к художественной литературе. Цель, которую
поставила перед собой писательница, заключалась в том, чтобы на
материале литератур разных стран и эпох проследить воздействие на литературу
политики, религии и нравов, а также обратное воздействие на них литературы.
В книге обосновывалась необходимость прогресса искусств, а тем самым —
закономерность возникновения новых эстетических тенденций и новых
художественных форм. Однако решительного разрыва с классической традицией
усмотреть в этом трактате невозможно, как невозможно его обнаружить и я
другом теоретическом сочинении Сталь — в ее знаменитом трактате «О
Германии» (1813).
Книга эта, возникшая в результате двух путешествий Сталь по немецким
землям и ее весьма интенсивного изучения немецкого языка и литературы,
была задумана как вызов наполеоновской Франции с ее полицейским
режимом, ее утилитарной моралью, ее «образцовой», но почти остановившейся
в своем движении культурой, к тому же искусственно отгороженной от иных
национальных культур. В представлении Ж. де Сталь Германия оказывалась
своего рода идеальной страной, в которой безраздельно царит духовная свобода.
Непосредственным следствием этой свободы Сталь считала умственную жизнь
Германии, ее науку, философию, эстетику и, наконец, ее романтическое (в
отличие от классического французского) искусство. У немецких романтиков
Сталь заимствовала и историческое противопоставление двух типов
искусства — «классического» и «романтического». Впрочем, немецкие ориентации
де Сталь отнюдь не означали, что именно в искусстве Германии она видела
идеал подлинного искусства вообще. Мечтая о свободном искусстве будущих
времен, она представляла его себе как синтез наиболее ценных
художественных достижений различных европейских народов.
О ГЕРМАНИИ
О поэзии классической и романтической
Слово «романтический» было недавно введено в Германии для
обозначения поэзии, ведущей свое начало от песен трубадуров,
поэзии, которая обязана своим происхождением рыцарству и
христианству. Тому, кто не согласен, что язычество и христианство,
Север и Юг, античность и средневековье, рыцарство и
греко-римские установления поделили между собой мир литературы, ни-
522
когда не удастся усвоить философский взгляд на стиль античный
и стиль современный.
Иногда слово «классический» считают синонимом слова
«совершенный». Я же пользуюсь им здесь в ином значении, рассматривая
классическую поэзию как поэзию древних, а романтическую — как
поэзию, так или иначе связанную с традициями рыцарских времен.
Это разделение в равной мере относится к обеим эрам всемирной
истории: той, что предшествует установлению христианства, и той,
что за ним следует.
В различных немецких сочинениях сравнивают также античную
поэзию со скульптурой, романтическую — с живописью; словом,
делаются попытки охарактеризовать развитие человеческого духа со
всех возможных позиций — от материалистических представлений
до спиритуалистических, от природы до божества.
Французский народ, самый просвещенный из романских народов,
склоняется к поэзии классической, которая представляет собой
подражание грекам и римлянам. Английский народ, самый
выдающийся из народов германских, предпочитает поэзию романтическую
и рыцарскую и гордится образцовыми творениями, которыми
обладает в этом жанре. Я не стану рассматривать здесь, какой из двух
родов поэзии заслуживает предпочтение: мне достаточно показать,
что различие в этой области зависит не только от случайных причин,
но и от глубинных источников воображения и мышления.
Для эпических поэм и античной трагедии характерна
своеобразная простота, которая происходит оттого, что люди в то время
отождествляли себя с природой и думали, что их жизнью управляет
судьба. Человек мало размышлял, и его внутренняя жизнь
всегда проявлялась внешне; даже совесть изображалась с помощью
материальных предметов, и от факелов, несомых фуриями, волосы
шевелились на голове у преступников. В древности деяние
означало все; в новые времена большее значение приобретает характер,
и тревожное раздумье, которое часто терзает нас, подобно грифу
Прометея, показалось бы безумием среди определенных и ясных
отношений, существовавших в древнем обществе и государстве.
В Греции, в период зарождения искусства, ваятели создавали
лишь отдельные статуи; позднее возникли скульптурные группы.
Можно было бы также с полным основанием сказать, что групповые
изображения отсутствовали первоначально во всех искусствах:
изображаемые предметы следовали один за другим, как на барельефах,
поодиночке, не связанные между собой. Человек олицетворял
природу: в воде обитали нимфы, в лесах — дриады; но природа, в свою
очередь, господствовала над человеком, и он до такой степени
подчинял свои поступки непроизвольным побуждениям, а размышление
523
столь мало влияло на причины этих поступков и их следствия, что
человек словно уподоблялся потоку, молнии, вулкану. Древние
обладали, так сказать, телесной душой, все движения которой
отличались силой, прямотой и ясностью. Иначе обстоит дело с человеком,
душа которого сформировалась под воздействием христианства.
Христианское раскаяние приучило людей нового времени к
непрестанному раздумью.
Но для того, чтобы обнаруживалась эта напряженная
внутренняя жизнь, все, что происходит в душе, все, до малейших
частностей, должно выражаться в бесконечном разнообразии и
многообразии человеческих поступков. Если бы в наше время
изобразительным искусствам пришлось ограничиться простотой древних, нам не
удалось бы достигнуть отличающей их первобытной силы, и в то же
время мы утратили бы многие глубокие эмоции, присущие нашей душе.
Простота искусства у людей нового времени могла бы легко
превратиться в холодность и отвлеченность, между тем как у древних
эта простота была исполнена жизни. Честь и любовь, отвага и
сострадание — таковы чувства, характерные для эпохи рыцарской и
христианской, и эти движения души могут проявляться лишь
благодаря опасностям, подвигам, страстям, несчастьям, иными словами,
благодаря романтической занимательности, которая придает
разнообразие художественному изображению. Следовательно,
источники воздействия романтического и античного искусства
отличаются во многих отношениях: в античном искусстве царит рок, в то
время как в романтическом господствует провидение. Рок
безразличен к человеческим чувствам, провидение же судит поступки
только по лежащему в их основе чувству. [...]
Языческая поэзия должна быть простой и ясной, как предметы
внешнего мира; христианская поэзия нуждается во всех цветах
радуги, чтобы не оказаться слишком туманной. Поэзия древних как
искусство прозрачнее, поэзия нового времени вызывает больше слез;
но дело не в отличиях классической поэзии от романтической, а в том,
что одна подражательна, а другая исполнена вдохновения. В новое
время древняя литература — литература, искусственно
пересаженная; романтическая, или рыцарская, литература — наша исконная,
ее возникновению способствовали наша религия и наши
установления. Писатели, подражавшие древним, отдались во власть самых
суровых правил вкуса; ибо, не имея возможности сообразовываться
ни с собственной природой, ни с собственными воспоминаниями,
они оказались вынужденными примениться к законам, согласно
которым шедевры древнего искусства можно приспособить к нашим
вкусам, несмотря на полное изменение общественных условий,
давших жизнь этим шедеврам. Но эти произведения, созданные по
524
античному образцу, редко становятся народными, поскольку в наше
время они уже совершенно лишены национальной основы.
Французская поэзия, самая классическая из всех современных,
в то же время единственная поэзия, не получившая
распространения в народе. Венецианские гондольеры распевают строфы Тассо;
испанцы и португальцы всех сословий знают наизусть стихи Каль-
дерона и Камоэнса. Шекспиром восхищаются в равной мере народ
Англии и ее высшие слои. Стихотворения Гёте и Бюргера положены
на музыку, и их можно услышать от берегов Рейна до Балтийского
моря. Между тем нашими французскими поэтами восторгаются
самые просвещенные умы у нас и в остальной части Европы, но они
вовсе не известны простому люду и даже горожанам, так как, в
отличие от других стран, во Франции искусство развивается и
процветает, но родилось оно на иной почве.
Некоторые французские критики полагают, что литература
германских народов переживает еще младенческую пору. Это мнение
совершенно ложно; люди,.отлично осведомленные в языках и
сочинениях древних, несомненно знают недостатки и преимущества
принимаемого или отвергаемого ими жанра; однако их характер,
привычки и размышления заставляют их предпочесть литературе, в
основе которой лежит греческая мифология, литературу, основанную
на воспоминаниях рыцарских времен и чудесах средневековья.
Только романтическую литературу можно еще усовершенствовать,
ибо корни ее —в нашей почве, и лишь она одна может расти и
обновляться: она выражает нашу религию; она воскрешает нашу
историю; она древнего, но не античного происхождения.
Классическая поэзия доходит до нас лишь с помощью образов
языческих времен; германская поэзия — христианская эра
искусства. Она волнует нас, вновь и вновь пробуждая наши жизненные
впечатления. Гений, ее вдохновляющий, непосредственно
обращается к нашему сердцу и заставляет явиться пред нами нашу жизнь,
подобно призраку, самому могущественному и ужасному из всех
возможных.
M-me de Staël, Oeuvres complètes, t. X.
Paris, 1820, p. 270—277. Перевод П. P. Заборова.
ГЮГО
1802-1885
Великий французский поэт и романист Виктор-Мари Гюго был
признанным главой французского романтизма. Он прожил большую жизнь, прошел
сложный политический путь от монархизма до известного, хотя и весьма уме-
525
ренного сочувствия Парижской коммуне. Создатель литературных кружков
1820—1830-х годов, Гюго во второй половине века становится большой
национальной и международной фигурой, прославленной своим сочувствием
рабочему классу, своей оппозицией Наполеону III, борьбой против войны между
народами и смертной казни. Мировоззрение Виктора Гюго отражало
демократические настроения мелкобуржуазных масс со всеми их сильными и
слабыми сторонами, со всеми их политическими колебаниями.
В многочисленных статьях и предисловиях к своим поэтическим
сборникам, романам и драмам Гюго касается важных проблем теории искусства.
В 1827 году он изложил основные принципы романтизма в предисловии
к драме «Кромвель», которые имели для романтиков едва ли не более важное
значение, чем для классиков «Поэтическое искусство» Буало.
Некоторые принципы этого литературного манифеста несомненно
являются шагом вперед к реалистической эстетике, другие заключают в себе меньшую
долю истины. Гюго отвергает готовые рецепты и традиционные книжные
правила искусства, призывая следовать не авторитету Аристотеля, а природе,
правде и вдохновению. Он обращается к жизни, в которой все смешано —
высокое и низкое, ужасное и смешное, а не разделено резкими линиями, как
у «классиков». Другим принципом романтической эстетики Гюго считает
обращение к фактам, событиям, действию, как таковому, вместо рассказов об этих
фактах и событиях в классической трагедии Корнеля и Расина. Наряду с этим
принципом жизненной активности изображаемых лиц в их столкновении и
борьбе, происходящей на сцене, перед лицом зрителя, Гюго проповедует также
соблюдение «местного колорита», историческую верность конкретной
обстановке вместо абстрактных формул единства места и времени, установленных
теоретиками классицизма еще в XVI—XVII веках. Это требование истины,
жизненной правды, выступающее у Гюго как главный принцип романтической
эстетики, отличается от аналогичных требований эстетики классицизма:
«правда» в классическом понимании является пустой и холодной абстракцией.
Несомненно, что программа Гюго представляла собой завоевание эстетической
мысли, хотя нельзя забывать, что многие из его идей были хорошо известны
уже выдающимся мыслителям эпохи Просвещения. Однако в этом
приближении к реализму рождается также и некоторая односторонность.
Во-первых, в эстетике Гюго драматизм жизни выходит за рамки действительности,
сознательно превращается в гротеск («красота, оттененная уродством»).
Таким образом, стремление к правде переходит в поиски ярких эффектов,
искажающих реальные измерения так, что картина жизни приобретает иногда
неестественные, судорожно искаженные черты. Вместо «классической» фальши,
украшения жизни в духе античных канонов появляется иная фальшь —
украшение жизни в духе небывалых романтических контрастов света и тени. Во-
вторых, Гюго противопоставляет до известной степени правду познания,
действительность, и правду идеала, воображения. Образ вдохновенного поэта
вырастает в эстетике Гюго до гигантских масштабов. Истинный художник, гово-
526
рит Гюго в предисловии к драме «Мария Тюдор», дополняет правду величием
и величие правдой. Согласно этой теории действительность отчасти
приносится в жертву формальным ценностям романтической яркости и силы.
В соответствии с общим направлением эстетики Гюго центральной
фигурой мировой драматургии и образцом художественного творчества вообще
становится у него Шекспир. В критическом этюде «Вильям Шекспир» (1864)
Гюго, рассматривая развитие драматургии от древних греков до Шекспира,
старается показать общественный фон, на котором возникает творчество
различных поэтов. Отвергая теорию «искусства для искусства», Гюго
подчеркивает воспитательную роль художественного творчества, его нравственные и
политические цели, связь с прогрессивными демократическими идеалами своего
времени.
ПРЕДИСЛОВИЕ К «КРОМВЕЛЮ»
И вот перед нами — новая религия и новое общество; на этой
двойной основе должна была возникнуть новая поэзия. До сих
пор — да простят нам, что мы излагаем выводы, которые читатель,
конечно, сам уже сделал из всего сказанного,— до сих пор чисто
эпическая муза древних, подобно античному политеизму и
философии, изучала природу лишь с одной точки зрения, безжалостно
изгоняя из искусства почти все то, что в мире, которому она должна
была подражать, не соответствовало определенному типу красоты —
типу, первоначально великолепному, но, как всегда бывает со всем,
что возведено в систему, ставшему в конце концов ложным,
скудным и условным. Христианство приводит поэзию к правде. Подобно
ему, новая муза будет смотреть на вещи более возвышенным и
свободным взором. Она почувствует, что не все в этом мире прекрасно
с человеческой точки зрения, что уродливое существует в нем
рядом с прекрасным, безобразное — рядом с красивым, гротескное —
с возвышенным, зло — с добром, мрак — со светом. Она будет
спрашивать себя, должно ли предпочесть узкий и относительный разум
художника бесконечному, абсолютному разуму творца; пристало ли
человеку исправлять бога; станет ли природа более прекрасной, если
она будет искалечена; имеет ли искусство право, так сказать,
раздваивать человека, жизнь, творение; будет ли каждая вещь
двигаться лучше, если у нее отнять мускулы и пружины; одним словом,
является ли неполнота средством для того, чтобы стать
гармоничным,— и тогда, устремив взор на события, одновременно и
смешные и страшные, под влиянием только что отмеченного нами духа
христианской меланхолии и философской критики поэзия сделает
великий шаг вперед, решающий шаг, который, подобно землетрясе-
527
нию, изменит все лицо духовного мира. Она начнет действовать как
природа, сочетая в своих творениях, но не смешивая между собой
мрак со светом, гротескное с возвышенным, другими словами — тело
с душой, животное с духом, ибо отправная точка религии всегда
есть отправная точка поэзии. Все связано друг с другом.
Вот начало, чуждое античности, вот новый элемент, вошедший
в поэзию; и так же как всякое новое явление в организме изменяет
весь огранизм целиком, в искусстве развивается новая форма. Этот
элемент — гротеск. Эта форма — комедия.
И на этом мы позволим себе настаивать, ибо мы здесь указали
на характерную особенность, на основное различие,
противопоставляющее, по нашему мнению, современное искусство — искусству
античному, нынешнюю форму — форме мертвой, или, пользуясь
терминами менее ясными, но более популярными, литературу
романтическую — литературе классической.
«Наконец-то,— воскликнут те, кто уже заметил, к чему мы
клоним,— наконец-то вы попались! Мы поймали вас с поличным.
Значит, вы считаете безобразное предметом подражания, а гротеск —
составным элементом искусства! 1 Но красота!.. Но хороший вкус!..
Разве вы не знаете, что искусство должно исправлять природу, что
ее нужно облагораживать? Что нужно выбирать? Применяли ли
когда-нибудь древние безобразное и гротеск? Сочетали ли они
когда-нибудь комедию с трагедией? Пример древних, господа! К
тому же — Аристотель... К тому же — Буало... К тому же — Лагарп...»
Действительно!
Доводы эти, конечно, очень веские, а главное, они блещут
новизной. Но отвечать на них не входит в наши задачи. Мы не строим
системы,— боже избави нас от систем. Мы констатируем факт. Мы
1 Да, да, и еще раз да! Здесь следует принести благодарность знаменитому
иностранному писателю, который благосклонно заинтересовался автором этой
книги, и засвидетельствовать ему наше уважение и признательность, отметив
ошибку, которую он, как нам кажется, совершил. Почтенный критик уличает —
таковы его собственные слова — автора в том, что в предисловии к другому
произведению он заявлял: «В литературе нет ни классического, ни
романтического; здесь есть, как и всюду, только два подразделения — хорошее и дурное,
прекрасное и безобразное, истинное и ложное». Не требовалось с такой
торжественностью повторять эти убеждения автора: он никогда не изменял им и не
изменит никогда. Они отлично уживаются с тем, что можно считать
«безобразное — предметом подражания, а гротеск — составным элементом искусства».
Одно не противоречит другому. Различие между прекрасным и безобразным
в искусстве не совпадает с тем же различием в природе. В искусстве
прекрасное или безобразное зависит лишь от выполнения. Уродливое, ужасное,
отвратительное, правдиво и поэтично перенесенное в область искусства,
становится прекрасным, восхитительным, возвышенным, ничего не потеряв в своей
чудовищности; и, с другой стороны, прекраснейшие на свете вещи, фальшиво
528
выступаем здесь в качестве историка, а не критика. Приятен ли этот
факт или нет — безразлично. Он существует. А потому вернемся
назад и попытаемся доказать, что это плодотворное соединение
образа гротескного и образа возвышенного породило современный
гений, такой сложный, такой разнообразный в своих формах,
неисчерпаемый в своих творениях и тем самым прямо противоположный
единообразной простоте античного гения; отсюда следует исходить,
чтобы определить коренное и подлинное различие между обеими
литературами.
Конечно, ошибкой было бы утверждать, что комедия и гротеск
были совершенно неизвестны древним. Да, впрочем, это было бы
и невозможно. Ничто не вырастает без корня; последующая эпоха
всегда в виде зародыша заключена в предыдущей. Начиная с
«Илиады», Терсит и Вулкан играют комедию, один — для людей,
другой — для богов. Слишком много естественного и оригинального
в греческой трагедии, чтобы в ней не было иногда комедии.
Такова — мы называем здесь только то, что приходит нам на память,-—
сцена Менелая с привратницей дворца («Елена», действие I);
сцена фригийца («Орест», действие IV). Тритоны, сатиры, циклопы —
это гротеск; сирены, фурии, парки, гарпии — это гротеск;
Полифем — это гротеск ужасный; Силен — это гротеск смешной.
Но чувствуется, что этот элемент искусства еще находится в
младенчестве. Эпопея, в ту эпоху на все накладывающая свой
отпечаток, эпопея тяготеет над ним и заглушает его. Античный
гротеск робок, он постоянно старается спрятаться. Видно, что он не
уверен в себе, потому что это не его стихия. Он скрывается,
насколько это возможно. Сатиры, тритоны, сирены только чуть-чуть
уродливы. Парки, гарпии безобразны скорее по своим атрибутам, чем
и тенденциозно обработанные в произведении искусства, становятся нелепыми,
смешными, ублюдочными, уродливыми. Оргии Калло, «Искушение» Сальвато-
ра Розы с его ужасающим демоном, его «Схватка) со всеми ее отталкивающими
изображениями смерти и избиения, «Трибуле» Бонифацио, покрытый паршой
нищий с картины Мурильо, резные работы Бенвенуто Челлини, в которых
среди арабесок и акантовых листьев смеются такие уродливые лица,— безобразны
с точки зрения природы, но прекрасны с точки зрения искусства, между тем
как нет ничего более уродливого, чем все эти греческие и римские профили,
чем вся идеальная красота тех пользующихся успехом полотен фиолетово-
тусклых тонов, которые выставляет вторая школа Давида. Иов и Филоктет с их
гнойными и зловонными язвами прекрасны; короли и королевы Кампистрона
уродливы в своем пурпуре и мишурных коронах. Хорошо выполненное и плохо
выполненное — вот что такое прекрасное и уродливое в искусстве. Автор уже
пояснил свою мысль, отождествив это различие с различием между правдивым
и ложным, хорошим и плохим. Добавим, что в искусстве, как и в природе,
гротеск — одни из элементов, а не цель. То, что является только гротеском,— не
есть совершенство.— Прим. Гюго.
18 История эстетики, т. III
529
внешностью; фурии красивы, и их называют эвменидами, то есть
ласковыми, благодетельными. Дымка величия или божественности
окутывает другие гротески. Полифем — гигант; Мидас — царь;
Силен — бог.
Поэтому-то комедия и проходит почти незамеченной в великом
эпическом целом античности. Рядом с олимпийскими колесницами
что представляет собой повозка Феспида? В сравнении с
гомерическими колоссами Эсхилом, Софоклом, Еврипидом что значат
Аристофан и Плавт !? Гомер уносит их с собой, подобно тому как
Геркулес унес пигмеев, запрятавшихся в его львиную шкуру.
В мировоззрении новых народов гротеск, напротив, играет
огромную роль. Он встречается повсюду; с одной стороны, он создает
уродливое и ужасное, с другой — комическое и шутовское. Вокруг
религии он порождает тысячу своеобразных суеверий, вокруг
поэзии — тысячу живописных образов. Это он разбрасывает полными
пригоршнями — в воздухе, в воде, на земле, в огне — мириады
промежуточных средств, которые так живучи в средневековых
народных преданиях; это он во мраке ночи кружит страшный хоровод
шабаша, это он дает сатане вместе с крыльями нетопыря козлиные
рога и копыта, и это он ввергает в христианский ад уродливые
фигуры, которые оживит затем суровый гений Данте и Мильтона, или
населяет его теми смешными существами, которыми будет
забавляться впоследствии Калло, этот Микеланджело бурлеска. Переходя
от идеального мира к миру действительности, он создает
неиссякаемые пародии на человечество. Это его фантазия сотворила всех этих
Скарамушей, Криспинов, Арлекинов, гримасничающие тени
человека, образы, совершенно не известные суровой античности и все же
ведущие свое происхождение из классической Италии. Наконец, это
он, расцвечивая одну и ту же драму тонами то южной, то северной
фантазии, заставляет Сганареля приплясывать вокруг Дон Жуана
и Мефистофеля ползать вокруг Фауста 2.
1 Эти два имени стоят здесь рядом, но не слиты вместе. Аристофан
несравненно выше Плавта; Аристофану принадлежит особое место в поэзии
древних, как Диогену — в их философии.
Понятно, почему наряду с двумя народными комическими авторами
древности мы не упомянули здесь Теренция. Теренций — поэт салона Сципионов,
изящный и кокетливый ювелир, под рукой которого окончательно исчезает
старый, утративший свою силу комический дар древних римлян.— Прим. Гюго.
2 Эта великая драма человека, губящего свою душу, владеет воображением
всего средневековья. Полишинель, которого уносит черт к великому
удовольствию ярмарочных зрителей, является лишь тривиальной и народной формой
ее. Особенно поражает при сопоставлении двух пьес-близнецов — «Дон Жуана»
и «Фауста» — то, что Дон Жуан — материалист, а Фауст — спиритуалист. Один
познал все наслаждения, другой — все науки. Тог и другой вкусили от древа
530
И как свободен и смел он в своих движениях! Как дерзко
выделяет он все эти причудливые образы, которые предшествовавшая
эпоха так робко окутывала пеленами! Когда античной поэзии нужно
было дать спутников хромому Вулкану, она старалась скрыть их
уродство, смягчая его, так сказать, колоссальными их размерами.
Современный гений сохраняет этот миф о необыкновенных
кузнецах, но он сообщает ему как раз противоположный характер, делая
его гораздо более поражающим: он заменяет великанов карликами,
из циклопов он делает гномов. С той же самобытностью он заменяет
несколько банальную Лернейскую гидру многочисленными
местными драконами наших преданий; это Гаргулья в Руане, «граульй»
в Меце «шер-сале» в Труа, «дре» в Монлери, «тараск» в Тараско-
не — разнообразнейшие чудовища, причудливые имена которых
также составляют их характерную особенность. Все эти создания
черпают в собственной своей природе ту предельную
выразительность, перед которой иногда отступала, по-видимому, античность.
Греческие Эвмениды, конечно, менее ужасны, а следовательно, и
менее правдивы, чем ведьмы «Макбета». Плутон — дьявол.
Следовало бы, по нашему мнению, написать совершенно новую
книгу о применении гротеска в искусстве. Можно было бы
показать, какие мощные эффекты извлекли новые народы из этой
плодотворной художественной формы, которую ограниченная критика
преследует и в наши дни. Может быть, в дальнейшем нам еще
придется мимоходом указать на некоторые особенности этой обширной
картины. Здесь мы только отметим, что гротеск как
противоположность возвышенному, как средство контраста является, на наш
взгляд, богатейшим источником, который природа открывает
искусству. Так, конечно, понимал его Рубенс, охотно помещавший среди
пышных королевских торжеств, коронований, блестящих церемоний
уродливую фигуру какого-нибудь придворного карлика. Та
всеобщая красота, которую античность торжественно распространяла на
все, не лишена была однообразия; одно и то же постоянно
повторяющееся впечатление в конце концов утомляет. Возвышенное,
следуя за возвышенным, едва ли может составить контраст, а между
тем отдыхать надо от всего, даже от прекрасного. Напротив,
гротескное есть как бы передышка, мерка для сравнения, исходная
точка, от которой поднимаешься к прекрасному с более свежим
и бодрым чувством. Благодаря саламандре Ундина сильно
выигрывает; гном делает сильфа еще более прекрасным.
познания добра и зла; один сорвал его плоды, другой исследовал корни.
Первый губит свою душу, чтобы наслаждаться, второй — чтобы познать. Один —
вельможа, другой — философ. Дон Жуан — это плоть, Фауст — это дух. Эти две
драмы дополняют одна другую.— Прим. Гюго.
18*
531
Мы будем также правы, сказав, что соседство с безобразным
в наше время сделало возвышенное более чистым, более
величественным, словом — более возвышенным, чем античная красота; так
и должно быть. Когда искусство не находится в противоречии с
самим собой, оно гораздо увереннее приводит все к своей цели. Если
гомеровскому Элизиуму очень далеко до эфирного очарования, до
ангельской прелести мильтоновского рая, то только потому, что под
Эдемом есть ад, несравненно более ужасный, чем языческий Тартар.
Разве Франческа да Римини и Беатриче были бы столь
обаятельны, если бы поэт не запер нас в Голодную башню и не заставил нас
разделить отвратительную трапезу Уголино? У Данте не было бы
столько прелести, если бы у него не было бы столько силы.
Обладают ли пухлые наяды, силачи тритоны, распутные зефиры
прозрачной стройностью наших ундин и сильфид? Не потому ли
воображение новой эпохи в состоянии придать своим феям бестелесную
форму, чистоту существа, от которой так далеки языческие наяды,
что по его прихоти на наших кладбищах бродят уродливые
вампиры, людоеды, ольхи, псиллы, колдуны, оборотни, всякие злые духи.
Античная Венера, без сомнения, прекрасна, восхитительна; но что
породило в фигурах Жана Гужона это легкое, своеобразное,
воздушное изящество, что придало им это неведомое раньше выражение
жизни и величия, как не близость грубых и мощных изваяний
средневековья?
В. Гюго, Собрание сочинений в 15-ти томах,
т. 14, М., 1956, стр. 82—88. Перевод Б. Реизова.
ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР
Типический образ не воспроизводит никакого человека в
частности; он не подходит точно ни к какому индивидууму, он
обобщает и концентрирует в одном лице целую семью характеров и
умов. Типический образ не сокращает, а сгущает. Он воплощает не
одного, а всех. Алкивиад только Алкивиад, Петроний только Пет-
роний, Бассомпьер только Бассомпьер, Фронсак только Фронсак,
Лозен только Лозен; но возьмите Лозена, Фронсака, Бекингема,
Бассомпьера, Петрония и Алкивиада, бросьте их в горнило мечты,
и оттуда выйдет призрак более реальный, чем каждый из них,—
Дон Жуан. Переберите одного за другим всех ростовщиков, никто
из них не будет тем свирепым венецианским купцом, который
кричал: «Тубал, выдай ему вексель на две недели; если он не
заплатит, я потребую его сердце». Соберите вместе всех ростовщиков,
из их толпы выделится один обобщенный — Шейлок. Сложите вме^
532
сте все ростовщичество, и у вас получится Шейлок. Народная
метафора, всегда безошибочная, подтверждает, не зная его, плод
воображения поэта; и пока Шекспир создает Шейлока, она создает слово
«живоглот». Шейлок — еврей, но он также все иудейство, то есть
вся еврейская нация, с ее низкими и высокими сторонами, с ее
честностью и мошенничествами, и именно потому, что он обобщает
черты целой расы в том виде, в каком ее создало угнетение,
Шейлок велик. Впрочем, евреи, даже средневековые, правы, говоря, что
ни один из них — не Шейлок; и все сластолюбцы будут правы,
если скажут, что ни один из них не Дон Жуан! Пожуйте листок
апельсинового дерева — вы не почувствуете вкуса апельсина. И все
же у листа и плода есть глубокое сродство, общий корень, один и
тот же источник соков, единое начало жизни в подземной мгле.
Плод заключает в себе тайну дерева, а типический образ
заключает в себе тайну человека. Этим и объясняется странная жизнь
типического образа.
Потому что — ив этом чудо — типический образ живет. Если бы
он был только абстракцией, люди не узнавали бы его и не мешали
бы этой тени идти своей дорогой. Так называемая классическая
трагедия создает маски; драма создает типические образы. Урок людям
и в то же время человек, миф — с человеческим лицом,
вылепленным с таким совершенством, что оно смотрит на вас и взгляд его —
зеркало; притча, как будто толкающая вас локтем; символ,
кричащий: «Берегись!»; идея, ставшая нервами, мускулами и плотью;
мысль, у которой есть сердце, чтобы любить, нутро, чтобы страдать,
глаза, чтобы цлакать, зубы, чтобы пожирать или смеяться;
психологическое понятие, обладающее рельефностью факта и
кровоточащее, когда оно кровоточит, подлинной кровью,— вот что такое
типический образ. О всемогущество истинной поэзии! Типические
образы — живые существа. Они дышат, мы слышим их шаги по полу,
они существуют. Они существуют более интенсивным
существованием, чем любой из тех, кто сейчас ходит по улице и считает себя
живым. У этих призраков больше плотности, чем у человека.
В их сущности есть частица вечности, неотъемлемая от великих
творений, которая заставляет жить Тримальхиона, в то время как
господин Ромье уже умер.
Типические образы — это возможности, предвиденные богом;
гений осуществляет их. Вероятно, бог, чтобы внушить людям
доверие, предпочитает учить их через других людей. Поэт живет рядом
с людьми, его слова скорей дойдут до их ушей. Отсюда и
доходчивость типических образов. Человек — только предпосылка,
типический образ — это вывод; бог творит явление, гений дает ему имя;
бог создает купца вообще, гений создает Гарпагона; бог создает пре-
533
дателя вообще, гений создает Яго; бог создает кокетку вообще,
гений создает Селимену; бог создает буржуа вообще, гений создает
Кризаля; бог создает короля вообще, гений создает Грангузье.
Бывают моменты, когда готовый типический образ рождается из
какого-то неведомого сотрудничества всего народа с талантливым и
искренним актером, который неожиданно для самого себя с силой
выражает этот образ; толпа при этом играет роль повитухи; так,
в эпоху, у которой на одном полюсе Талейран, а на другом Шодрюк-
Дюкло, вдруг как молния блеснул таинственно выношенный
театром призрак — Робер Макер.
Типические образы свободно движутся в искусстве и в природе.
Они — идеальное, воплотившееся в реальном. В них сгустилось все
добро и все зло, присущее людям. Под взглядом мыслителя
каждый из них становится источником человеческого.
[...] Гений создан не для гения, он создан для человека. Гений
на земле — это бог, отдавший себя человечеству. Каждый раз, как
появляется великое произведение искусства, это бог дарит людям
частицу себя. Великое произведение — это разновидность чуда.
Отсюда происходит вера в божественного человека, свойственная
всем религиям и всем народам. Ошибаются те, кто думает, что мы
отрицаем общественность мессии.
При современном состоянии развития социального вопроса все
должно стать общим делом. Единичные усилия сходят на нет,
идеальное и реальное действуют заодно. Искусство должно помогать
науке. Эти два колеса прогресса должны вращаться одновременно.
О поколение новых талантов, благородная плеяда писателей и
поэтов, легион молодых, живое будущее моей родины! Ваши отцы
любят и приветствуют вас. Смелее! Отдадим себя безраздельно.
Отдадим себя добру, истине, справедливости. Это прекрасно.
Некоторые рьяные поклонники чистого искусства, движимые
целью, не лишенной, впрочем, достоинства и благородства,
отвергают эту формулу — «искусство для прогресса», отвергают
«прекрасное — полезное», боясь, как бы полезное не обезобразило
прекрасного. Они дрожат при одной мысли, что нежные руки музы
могут огрубеть, как у служанки. По их мнению, слишком близкое
соприкосновение с реальным может привести к искажению идеала.
Они боятся, как бы божественное не опустилось до человеческого.
О, как они ошибаются!
Полезное отнюдь не ставит пределов божественному, оно
поднимает его. От соприкосновения божественного с человеческим
неожиданно рождаются великие произведения. Если рассмотреть
полезное, с одной стороны, само по себе, а с другой — как элемент, спо-
534
собный сочетаться с божественным, то мы обнаружим несколько
родов полезного; есть полезное, исполненное нежности, и полезное,
исполненное возмущения. Нежное, оно утоляет жажду несчастных
и создает социальную эпопею; возмущенное, оно бичует злых и
создает божественную сатиру. Моисей передает Иисусу жезл, которым
он высек воду из скалы, и этот же самый царственный жезл
изгоняет торгующих из храма.
Как! Искусство придет в упадок оттого, что оно станет шире?
Нет. Оказав одной услугой больше, оно будет еще прекрасней.
Но мы слышим возмущенные крики. Пытаться излечивать язвы
общества, вносить поправки в кодекс, обличать закон во имя права,
произносить такие отвратительные слова, как «тюрьма»,
«надсмотрщик», «каторжник», «проститутка», контролировать
регистрационные книги полиции, ограничивать число освобожденных от налогов,
исследовать заработную плату и безработицу, пробовать черный
хлеб бедняков, искать работу работнице, ставить бездельников с
лорнеткой на одну доску с лентяями в лохмотьях, ломать перегородку
невежества, открывать школы, учить читать маленьких детей,
обрушиваться на постыдное, на подлость, на ошибки, на пороки, на
преступление, на несознательность, проповедовать многотиражные
издания букварей, провозглашать, что солнце светит для всех,
добиваться улучшения пищи для умов и сердец, кормить и поить,
требовать разрешения проблем и обуви для разутых — до всего
этого нет дела небесной лазури. А искусство — это небесная лазурь.
Да, искусство — это лазурь; но с высоты этой лазури падают
лучи, от которых зреет рожь, желтеет кукуруза, округляется яблоко,
золотится апельсин, наливается сладкий виноград. Повторяю: одной
услугой больше — и прекрасное становится еще прекраснее. Да и
как может оно унизиться? От того, что небо помогает зреть свекле,
поливает картофель, взращивает люцерну, клевер и траву,
сотрудничает с землепашцем, виноградарем и огородником, у него не
пропадает ни одной звезды. О! Безграничность не презирает
полезное,— а разве оно теряет что-нибудь от этого? Разве молнии,
зажигаемые в тучах широким животворным потоком, который мы
называем магнитным, или электрическим, становятся менее
ослепительными оттого, что он соглашается указывать путь судну и
неизменно обращает к северу маленькую стрелку, вверенную ему,
этому бескрайнему водителю? Разве заря становится беднее, разве
у нее меньше пурпура и изумрудов, разве она уже не так чарует,
не так величава и ослепительна оттого, что она заботливо прячет
на дно цветка ту каплю росы, которой пчела утолит свою жажду?
Нам возражают: служить социальной поэзии, поэзии гуманной,
поэзии для народа, ворчать на зло, защищая добро, громко говорить
535
о гневе народном, оскорблять деспотов, приводить в отчаяние
негодяев, освобождать бесправного человека, толкать вперед души
и отталкивать тьму назад, помнить, что есть воры и тираны,
чистить тюремные камеры, опорожнять лохани с общественными
нечистотами — чтобы Полигимния, засучив рукава, занималась этой
грязной работой? Фу! Как можно! — А почему бы и нет?
Гомер был географом и историком своего времени, Моисей —
законодателем, Ювенал — судьей, Данте — теологом, Шекспир —
моралистом, Вольтер — философом. Никакая область в мире
размышлений или фактов не закрыта для духа. Вот горизонт, а вот
крылья,— он может парить.
Есть божественные создания, для которых парить — значит
приносить пользу. В пустыне ни капли воды, путников мучит жажда;
с трудом тащится вереница несчастных, изнемогающих паломников;
вдруг на горизонте, над грядой песчаных холмов, появляется
парящий орел, и весь караван восклицает: «Там источник!»
Что думает Эсхил об искусстве для искусства? Несомненно, если
был когда-либо настоящий поэт, то это Эсхил. Слушайте его ответ.
Он находится в «Лягушках» Аристофана, стих 1039. Эсхил говорит:
«С начала времен каждый знаменитый поэт всегда служил людям.
Орфей внушал отвращение к убийству, Музей разгадывал
пророчества оракулов и учил медицине, Гезиод — земледелию,
божественный Гомер — героизму. А я после Гомера воспеваю Патрокла
с львиным сердцем, чтобы каждый гражданин стремился походить
на великих людей».
Подобно тому как все море — сплошная соль, вся Библия —.
сплошная поэзия. Временами эта поэзия говорит о политике.
Откройте первую Книгу царств, главу VIII. Иудейский народ
просит себе царя. «И сказал господь Самуилу: «Они хотят царя, они
отвергают меня, чтобы я не властвовал над ними. Пусть делают
что хотят, но ты не соглашайся и объясни им, как с ними будут
обращаться цари». И пересказал Самуил все слова господа народу,
просящему у него царя. И сказал: «Вот какие будут права царя,
который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет
и приставит их к колесницам своим; и возьмет дочерей ваших и
сделает их служанками, и поля ваши и виноградные и масличные
сады ваши возьмет и отдаст слугам своим, и от посевов ваших
и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст
евнухам своим; и рабов ваших и ослов ваших возьмет и употребит
на свои дела; и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы
избрали себе, и не будет господь отвечать вам тогда, и вы будете
рабами». Самуил, как мы видим, отрицает божественное право.
Книга второзакония разрушает алтарь, ложный алтарь, конечно, но
536
ведь алтарь соседей всегда бывает ложным! «Вы разрушите алтарь
ложных богов. Вы будете искать бога там, где он обитает». Это
почти пантеизм. Разве эта книга менее великолепна и менее
совершенна из-за того, что она печется о людских делах, что она порой
склоняется к демократизму, а порой к иконоборству? Если поэзии
нет в Библии, то где же она?
Вы говорите: дело музы — воспевать, любить, верить, молиться.
И да и нет. Объяснимся. Воспевать что? Пустоту. Любить кого?
Самое себя. Верить чему? Догме. Молиться кому? Идолу. Нет, вот
настоящая истина: воспевать идеальное, любить человечество,
верить в прогресс, молиться бесконечности.
Берегитесь! Очерчивая вокруг поэта подобные магические круги,
вы ставите его вне человечества. Пусть он стоит вне человечества
благодаря своим крыльям, благодаря своему безграничному полету,
благодаря тому, что он может мгновенно исчезать в глубинах,— это
хорошо, так и должно быть, но при том условии, чтобы он появлялся
снова. Пусть он уносится, но пусть и возвращается. Пусть у него
будут крылья, чтобы улетать в бесконечность, но пусть будут
и ноги, чтобы ходить по земле, и после того как все видели его
летающим, пусть все увидят, что он умеет ходить. Выйдя из
человека, он должен вернуться в него. Те, кто видел его архангелом,
должны вновь обрести в нем брата. Пусть звезды, сияющие в его
глазах, источают слезы, и пусть эти слезы будут человеческими
слезами. Таким — и человечным и сверхчеловечным — должен быть
поэт. Но быть целиком вне человека — это значит не быть. Покажи
мне твою ногу, о гений, и посмотрим, пристала ли к твоей пяте
пыль земли, как она пристала к моей.
Если у тебя нет этой пыли, если ты никогда не ступал по моей
тропе, ты меня не знаешь и я не знаю тебя. Уходи прочь. Ты
думаешь, что ты ангел, а ты всего лишь птица.
Помощь сильных слабым, помощь великих малым, помощь
свободных закованным, помощь мыслителей невеждам, помощь
одинокого массам — таков закон, от Исайи до Вольтера. Кто не следует
этому закону, тот может быть гением, но такой гений — бесполезная
роскошь. Он думает, что очищается, не прикасаясь ни к чему
земному, на самом же деле он упраздняет себя. Он утончен, деликатен,
он даже может быть очарователен, но он не велик. Любой человек,
приносящий пользу в самом грубом понимании этого слова, имеет
право спросить при виде этого никому не нужного гения: «Это что
за бездельник?» Амфора, отказывающаяся ходить к источнику,
заслуживает хулы со стороны простых кувшинов.
Велик лишь тот, кто отдает себя! Даже удрученный, он остается
безмятежным, и в горе своем он счастлив. Нет, встреча с долгом —
537
это неплохая встреча для поэта. У долга есть суровое сходство с
идеалом. Исполнить свой долг — такое приключение стоит
пережить. Нет, не следует избегать соприкосновения с Катоном. Нет,
нет, нет, нельзя презирать правду, честность, обучение масс,
свободу человека, мужественную добродетель, совесть. Возмущение и
нежное сострадание — это одно и то же чувство, вызванное двумя
сторонами тяжелого человеческого рабства, и те, кто способен на
гнев, способны также на любовь. Уравнять тирана и раба — какое
великолепное деяние! Ведь на одном склоне современного общества
тираны, на другом — рабы. Предстоит грозная перестройка. Она
свершится. Все мыслители обязаны стремиться к этой цели. Они
вырастут в этом стремлении. Быть помощником бога в прогрессе
и апостолом бога в народе — таков закон роста гения.
В. Гюго, Собрание сочинений в 15-ти томах,
т. 14, М., 1956, стр. 282—284, 328—332. Перевод
А. Тетерниковой.
СЕНТ-БЕВ
1804—1869
Известный французский критик Шарль-Огюстен Сент-Бев начал свою
литературную деятельность в прогрессивной газете «Глоб», вокруг которой
группировались литераторы, выступавшие против догматов католической религии и
деспотизма французской монархии. В 1827 году Сент-Бев сближается с
Виктором Гюго и принимает активное участие в создании новой романтической
школы. В книге «Исторический и критический обзор французской поэзии
и театра XVI века» (1828) он раскрывает национальное своеобразие
творчества поэтов Плеяды во главе с Ронсаром. Рассматривая романтизм как
литературную революцию, Сент-Бев проводит параллель между тем, что совершили
Ронсар и Плеяда в XVI веке, и тем, что призваны осуществить в литературе
Гюго и его единомышленники. В романтической литературе его привлекает
культ природы, интерес к средневековью, к современным событиям, к жизни
людей из народа.
Увлеченный социальной и эстетической доктриной социалистов-утопистов,
Сент-Бев печатает ряд статей, посвященных учению Сен-Симона, где выражает
надежду на то, что во Франции будет установлен общественный строй
гармонического содружества людей.
В статье «Надежды и чаяния литературно-поэтического движения
после революции 1830 года» (1830) Сент-Бев отмечает плодотворное воздействие
Июльской революции на развитие французской культуры и искусства и
констатирует зависимость изменений в искусстве от изменений общественных форм.
538
«Сент-Бев,— замечает Плеханов,— не был приверженцем абсолютного
идеализма; он искал последних причин литературных движений не в имманентных
законах развития абсолютной идеи, а в общественных отношениях» К
Сен-Бев создал огромный цикл портретов, посвященных поэтам, писателям,
философам, историкам («Литературно-критические портреты», «Портреты
современников», «Портреты женщин», «Беседы по понедельникам», «Новые беседы
по понедельникам»). В этих многотомных работах он предстает прежде всего
как критик-социолог, заботливо воскрешающий эпоху и те
общественно-политические события, которые отразились в творчестве писателя. Большое
значение придает Сент-Бев и личности автора, его интимной жизни,
физиологическим склонностям, характеру его воспитания, прочитанным книгам. Таким
образом, в целом Сент-Бев является представителем социологической и
психологической критики, столь характерной для Франции ХТХ века. До некоторой
степени он предвосхитил социологический метод Тэна, хотя идеалистические
принципы эстетики Тэна не встретили у него сочувствия. Наличие
какого-нибудь строго продуманного исторического метода не является сильной стороной
Сент-Бева. В этом отношении он часто представляется эклектиком. Зато
глубокая связь с романтической школой сделала его особенно чувствительным к
индивидуальности писателя. Сент-Бев — большой мастер критического портрета,
и созданная им галерея портретов литературных деятелей Франции
принадлежит к лучшим образцам художественной критики.
НАДЕЖДЫ И ЧАЯНИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1830 ГОДА
При каждой великой политической и социальной революции меняется
и искусство, которое является одной из важных сторон общественной жизни;
в нем тоже свершается революция, но она касается не внутренних его
принципов — основа искусства неизменна,— а условий его существования, способов
его выражения, его отношения к окружающим предметам и явлениям; она
касается чувств и идей, которые оно запечатлевает, равно как и источников
вдохновения. Революция 1830 года застала искусство Франции на определенном
уровне развития; на первых порах она нарушила и задержала его ход; но
задержка эта может быть лишь временной. Судьбы искусства не подчинены игре
случая, развитие его не может внезапно прекратиться, оно неизбежно
проложит себе новое русло в более благодатной и плодородной почве нового
общества. Однако возникают такие вопросы: выиграет ли искусство от этих
всесторонних перемен? Не рискует ли оно измельчать и зачахнуть, разлившись на
множество потоков и ручьев, войдя в большее соприкосновение с обществом,
для которого главное — промышленность и демократия? Не следует ли
опасаться и того, что, по-прежнему стремясь к уединенности, оно разольется в
глухих местах? Не превратится ли оно в священные озера, безвестные и
безмолвные, куда никто не придет утолить жажду? Или же, соприкоснувшись, но
отнюдь не смешавшись с тем, что его окружает, широко разлившись, устре-
мясь к далекой, неведомой цели, оно будет гармонично отражать все то, что
1 Г. В. Плеханов, Литература и эстетика, т. I, М., 1958, стр. 339.
539
встретит на своем пути, и сделается более содержательным, а главное, менее
недоступным? Мы не станем здесь заглядывать в таинственное грядущее, в
неясные его очертания; к этой теме мы еще не раз вернемся. Пока будем
говорить лишь о том, что касается непосредственно литературного и поэтического
движения, и попытаемся показать, каковы, с нашей точки зрения, те
неизбежные изменения, которые должны произойти в искусстве и для которых оно
безусловно созрело. Читатель легко поймет, какое новое выражение получат
вопросы поэзии и литературы, которые должны встать в равной степени как
перед художником, так и перед критиком.
В XVIII веке, как известно, искусство пребывало в состоянии самого
прискорбного упадка; вернее, оно перестало существовать само по себе,
лишившись независимости и своеобразия. Писатель ставил свой талант на службу
определенных религиозных или философских идей, стремившихся побороть и
уничтожить идеи, им противоположные. Правда, остроумие и то, что
называлось тогда вкусом, не погибли и даже расцвели пышным цветом, но они были
чем-то вроде цветов, прикрывающих оружие, ярких блесток на обитых шелком
ножнах шпаги. Талант чаще всего являлся лишь средством, он становился
выражением ненависти и страстного обличения; он подчинялся навязанной ему
философской тактике, он опускался до повседневной работы, создавая
произведения, которые приносили пользу, но преследовали одни только
разрушительные цели. Да, существуют имена, которые можно назвать в опровержение
нашего мнения. Дидро поднимался в сферы высокой теории и не раз в своих
размышлениях касался вечных принципов искусства, но, применяя их,
слишком часто терпел неудачу. С нашей точки зрения — Руссо скорее
замечательный, весьма ученый писатель, сильный мыслитель, нежели великий поэт.
Вольтер как художник был силен лишь как непревзойденный мастер
насмешки — жанра по самой сути своей антипоэтического. Бомарше более, чем все
они, знал чистое вдохновение и взлетал порой до блистательных высот. Лишь
Андре Шенье и Бернарден де Сен-Пьер занимают особое место: истинные
поэты строгого стиля, восхитительные, утонченные художники, увлеченные
прекрасным не из каких-либо сторонних побуждений, не знавшие иной цели,
кроме служения красоте, они предавались ее культу с какой-то невинной негой
и с удивительной непосредственностью и простодушием; появившись на исходе
минувшего века, они радуют и поражают нас, они служат нам утешением,
словно мы нежданно встретились с друзьями. В годы надвигающейся
социальной бури им удается сберечь в груди своей самые пленительные дары музы
и спасти их для будущих времен.
В пору бурного развития французской революции искусство
безмолвствовало. Меньше, чем когда-либо, сохраняло оно свою обособленность. Его
своеобразие словно исчезло перед лицом неповторимых событий, ужасавших или
увлекавших сердца людей. Однако эхо социальных потрясений рано или поздно
должно было найти отклик и в поэзии: она неизбежно должна была пережить
свою революцию, в ней неизбежно должен был совершиться свой переворот;
и действительно, вскоре такая революция началась; только вначале она
развивалась особняком, в стороне от столбовой дороги общественного развития. Она
была подготовлена в верхах общества и не сразу спустилась вниз, и пошла по
тому же широкому пути, по которому двигалось обновленное общество. В то
время как Франция, еще не оправившаяся от потрясений религиозной и
политической революции, была занята то ее развитием, то ограничением и, не
обретя еще спокойствия, пыталась определить, что же следует отнести к ее
благодеяниям, а что к ошибкам; в то время как, упоенная боевым пылом, она
ринулась на страны Европы, расточая избыток своей энергии на воинские победы,
внутри страны подготовлялась революция в сфере искусства, мало кем
понятая, незамеченная или осмеянная на первых порах, но вполне реальная, все
540
нарастающая и неодолимая. Начали эту революцию г-н де Шатобриан и г-жа
де Сталь — два великих писателя, перед которыми мы испытываем равный
восторг и имена которых привыкли упоминать рядом; они начали эту революцию
с различных сторон, они шли к ней разными путями, но в конце концов пути
их сблизились и слились воедино. Г-жа де Сталь еще в 1796 году была полна
глубокой веры в освобождение человечества и возрождение общества:
устремленная к будущему смутным, но могучим порывом, она хранила в себе
печальную память о прошлом, но вместе с тем чувствовала в себе достаточно силы,
чтобы порвать с минувшей эпохой, навсегда распрощаться с ней и под
всевидящим оком провидения доверчиво отдаться течению событий, движению
прогресса. Все впечатления души, открывшейся новому духу времени, ее вера в
философию более реальную и более человечную, чем философия прошлого,
вновь завоеванная ею нравственная независимость, ее признание свободы воли,
ее вера в самые благородные и бескорыстные свойства человеческой натуры —
все эти свойства и взгляды г-жи де Сталь, перенесенные в ее книги, сообщили
им необыкновенную теплоту, взволнованность, жизненность и стремление
вдаль, порой несоизмеримое с реальностью. Все, что в ее произведениях было
непомерного и лишь инстинктивно осознанного, помешало постигнуть истинное
значение ее творчества и по достоинству оценить ее как поэта и художника.
Г-н де Шатобриан, личность более сильная, лучше знавший, с чего начать,
в большей степени, нежели г-жа де Сталь, поразил умы при своем появлении;
а между тем он менее, чем она, был в то время в ладу с духом прогресса
и с перспективами развития общества; но он обращался к чувствам своих
современников, к чему-то осязаемому — и стал глашатаем той многочисленной
партии, которую реакционное движение 1800 года вернуло к воспоминаниям
и сожалениям о прошлом — о великолепии церковных обрядов, о блеске
королевского двора. И это сделало его имя достаточно известным в замках, среди
духовенства, в лоне благочестивых семейств. Славой своей он в значительной
степени был обязан той своеобразной, сентиментальной и поэтической религии,
которую он так вдохновенно прославлял; подкупало и его мужественное
сопротивление императору, то положение опального, которому он не побоялся
подвергнуться. Известность г-жи де Сталь точно так же зиждилась на ее
политической оппозиционности, на тех преследованиях, которые вызвали интерес
к ее личности, а также на той сентиментальной философии, которая была
модной в определенных кругах. Их искусство как писателей не имело почти
никакого отношения к их славе: художников этого рода скорее склонны были
высмеивать. Подготавливаемая обоими художниками литературная революция не
стала еще тогда всеобщим достоянием, она слишком была окрашена личностью
обоих великих талантов и была в тогдашнем обществе чем-то искусственным.
Когда г-н де Шатобриан, гораздо более художественная натура, чем г-жа
де Сталь, пожелал замкнуться в сфере чистого искусства, он написал поэму
«Мученики», бесконечно далекую от общества, в котором жил, и совершенно
оторванную от чувств и устремлений своих современников. То была настоящая
эпопея в александрийском духе, творение блестящее, ученое, бесстрастное,
это был величественный гимн, прославлявший минувшую эпоху и
порожденный воображением, эрудицией, это была гармоничная скульптура из карарско-
го мрамора, созданная искуснейшим современным резцом, воздвигнутая на
пьедестале древней эпохи. «Мученики» остались непонятыми; в те времена не
поняли бы и «Слепого» Шенье. Общество, искусственно созданное при империи,
не было способно воспринять революцию в области искусства, и самое мудрое,
что могло сделать чистое искусство,— это держаться еще некоторое время
в отдалении от общества, которое, будучи насквозь реакционным в вопросах
литературы, находило развлечение в военных сводках Великой армии, в
фельетонах Жоффруа и в игривых стихах аббата Делиля.
541
Затем во Франции наступил период Реставрации, ее первые три-четыре
года были малоплодотворными для литературы: политические раздоры,
бурные, враждебные споры в парламенте, возродившаяся борьба старого режима
с революцией — все это убило хрупкую делилевскую поэзию, и лишь в 1819
году мы обнаруживаем первые ростки новой поэзии, пробивающиеся в верхах
общества,—в местах наиболее защищенных от народного дыхания и наименее
проторенных толпой. При самом своем рождении эта поэзия была озарена
ореолом католического, рыцарского и монархического духа г-на Шатобриана.
Аристократическая по происхождению и склонностям, но независимая и
прямодушная по природе, дерзко отважная на манер Монтроза и де Сомбрейля,
поэзия эта тотчас же обратилась к прошлому, она преклонилась перед ним, стала
любовно воспевать его, питая иллюзию, будто прошлое это возможно
обнаружить и воскресить в настоящем; ее господствующей страстью стало
средневековье, она прониклась его красотами и принялась идеализировать его
величие; но поэзия эта заблуждалась, считая, будто можно возродить одни лишь
его положительные стороны, поверив в фикцию божественного права и
исключительное избранничество аристократии,— ложный блеск современного
общества, демократического в своей основе. Между тем молодые поэты вовсе не
были столь уж чужды тому новому обществу, неодолимое развитие которого
они в ту пору не признавали; в определенных кругах его они стали даже
властителями дум, так как обращались к страстям, не успевшим еще угаснуть,
и к мечтам о прошлом, которые разделяла вместе с ними аристократия.
Неясные религиозные чувства и смутная мечтательность, которые они сумели
передать душам своих современников — а это стало и в последние годы своего рода
социальным недугом,— обеспечило им признание молодых людей и женщин,
которые, не будь этого фона, вряд ли способны были бы прельститься
феодальным или монархическим колоритом.
Весь этот обращенный к прошлому воинствующий период поэтической
школы, именуемой романтической, продолжается до 1824 года; он завершается
после окончания испанской войны и внезапной отставки г-на де Шатобриана.
В это время остывает политический пыл, рассеиваются благородные иллюзии
молодых поэтов; они начали понимать, что реставрированная монархия с ее
жалкими биржевыми спекулянтами, темными интригами с конгрегацией, не
слишком походит на тот идеал, о котором они мечтали и во имя которого
готовы были сражаться; тогда они удалились с общественной арены, куда увлек
их вихрь событий, и, беспристрастные наблюдатели, уже не раздражающиеся
на либеральный дух времени, они предпочли посвятить себя служению
бескорыстному искусству; так начался для них новый период, только что
завершившийся 1830 годом.
В трактате Балланша «Старик и юноша» изображен молодой человек,
исполненный самых благородных и искренних чувств, который отвергает
современную ему эпоху как бесплодную, несовершенную, противится еще неясным
социальным изменениям и в отчаянии обретает убежище в химерах прошлого.
Этот юноша — правдивый образ многочисленных чувствительных душ нашего
поколения — примиряется в конце концов с новым обществом, сущность
которого он начинает лучше постигать, прислушиваясь к старцу, то есть к мудрости
и опыту; он признает, что мы переживаем период кризиса и обновления, что
настоящее, вызывающее его возмущение, есть последний этап крушения
старого общественного здания, все более и более разрушающиеся развалины; что
прошлое миновало безвозвратно, а та гармония жизненных обстоятельств
и идей, о которой он скорбит, может быть обретена только при движении
вперед. Нечто подобное произошло и с поэтами, о которых идет речь.
Вольнолюбивые по характеру и поступкам даже тогда, когда они обращали свои взоры
в прошлое, люди прихоти, всего больше ценящие независимость, они давно уже
542
сочувствовали стремлению общества к будущему. Однако они жаждали
гармонии, но тогдашнее общество отнюдь не было гармоничным, и они долгое время
возлагали вину за это на революционный дух, якобы нарушивший ее. Затем,
позднее, когда они поняли, что этот революционный дух и есть сама жизнь,
что это и есть будущее человечества, они примирились с ним и, так же как
большинство честных людей того времени, стали надеяться, что
реставрированная династия пойдет на мировую с молодым веком и что наступит период
спокойного развития; они не подозревали тогда, что «монархия согласно
хартии» останется лишь названием одного из сочинений знаменитого автора
«Мучеников».
Они заблуждались, но их искреннее заблуждение не оказалось бесплодным,
ибо они всецело посвятили себя служению искусству, веря в то, что пробил
час революции в искусстве; их вдохновляло то великое чувство, которое только
и способно создавать великие творения: они сделали многое, хотя полагали,
будто способны на большее.
Благодаря им, их теориям, их произведениям искусство, которое не
приобщилось в ту пору к общественному движению, за время своего добровольного
изгнания приобрело по крайней мере глубокое и отчетливое сознание своей
сущности; оно проверило свои силы, признало свою значительность, закалило
свое оружие. Не стану отрицать — немало было негативных сторон в этом
абсолютизировании искусства и художественного творчества, в этом
стремлении отделить его от мира, от современных политических и религиозных
страстей, превратить в искусство прежде всего беспристрастное, занимательное,
колоритное, виртуозное; за всем этим таилась прежде всего личная
заинтересованность художника, преувеличенное отношение его к форме — не стану
отрицать этого, хотя все эти недостатки и очень преувеличивают. Можно было
весьма приятно подшучивать над литературным «Сенаклем», и, копечно, он
ничем особенным не выделяется среди прочих явлений эпохи Реставрации, где
занимал положенное ему место на почтительном расстоянии от доктринеров.
Но было бы чрезвычайно несправедливо отрицать развитие искусства в
течение последних лет, его освобождение от всякого рода зависимости, его
утвердившуюся духовно самодержавность, отныне признанную всеми, его
завоевания во многих областях реальной жизни, до того времени не находившей
своего отражения в художественных произведениях, его глубокое понимание
природы, а также орлиный его полет над самыми высокими вершинами истории.
И все же признаемся, что искусство это не пользуется еще известностью;
оно не охватывает и не отражает все более и более развивающегося
социального движения. С огорчением спустившись с вершин средневековья, оно
слишком свыклось видеть в удобной террасе Реставрации своего рода королевскую
террасу Сен-Жерменского предместья, некий приятный, мирный уголок, где
в жаркий день можно помечтать и попеть в тени деревьев, совершить
прогулку или блаженно отдохнуть, не испытывая духоты и не томясь в пыли;
и оно довольствовалось тем, что время от времени свысока созерцало народ
и большую часть общества, теснившиеся внизу на проселке, где, за
исключением имени Беранже, ни разу не звучало еще имя подлинного поэта.
В наши дни, когда Реставрация канула в прошлое и с таким трудом
возведенная терраса обвалилась, когда народ и поэты готовы шагать вместе, перед
поэзией открывается новый период, искусство перестает быть отныне
достоянием немногих; оно спустится на многолюдную арену, оно будет стоять бок
о бок с неутомимым человечеством. К счастью, современное искусство молодо,
полно жизни, верит в себя, знает себе цену и убеждено, что займет свое
царственное место даже в лоне республиканской нации. Искусство это помнит
о своей былой любви к прошлому — прошлому, которое оно постигло и с
которым разлучилось с грустью в душе. Но отныне к одному лишь будущему
543
устремлены все его чаяния и усилия; уверенное в своих силах, умудренное
знанием прошлого, оно на славу вооружено и оснащено для дальнего пути.
Безграничные перспективы, открывающиеся перед возрожденным обществом,
смутные религиозные течения, волнующие его, полное освобождение, к
которому оно стремится,— все это зовет искусство стать частью жизни общества;
оно должно услаждать его во время странствий по путям истории, отвлекать
его от скуки, стать гармоничным эхом, пророческим голосом его тревожных
мыслей и сомнений. Сегодня дело искусства, назначение искусства — это чело^
веческая эпопея; оно должно передавать ее в тысячах форм: в драме, в оде,
в романе и в элегии — да, даже в элегии, которая вновь стала торжественной
и простой, потому что она заговорила присущим ей языком; оно должно
отражать и преломлять ее в тысячах отблесков чувств человечества, которое идет
вперед; видеть эту эпопею даже в философских спорах прошлого, понимать
ее развитие на протяжении веков, дать ей жить с ее страстями в живой и
гармоничной природе под необозримым небосводом разума, где свет всегда
пробивается сквозь тьму.
Premiers Lundis par Ch. Sainte-Beuve, t. I, P.,
1886, p. 394—406. Перевод M. С. Трескунова.
ЖОРЖ САНД
1804-1876
Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван) — выдающаяся французская
писательница, автор многочисленных романов, пьес, литературно-критических
этюдов и публицистических статей.
Первое самостоятельное крупное произведение Ж. Санд — роман
«Индиана» (1832); за ним вскоре последовали: «Валентина» (1832), «Лелия» (1833),
«Жак» (1834) и ряд других. Весь этот ранний период творчества ознаменован
неустанной борьбой писательницы против бесправного положения женщин
в современном обществе, против господствующих в нем классово-сословных
предрассудков.
1840-е годы — центральный и наиболее значительный период в творчестве
Ж. Санд, во многом обусловленный предреволюционным общественным
подъемом и воздействием на писательницу идей утопического социализма. В это
время она создает свои замечательные социальные романы («Орас», 1841; «Кон-
суэло», 1842—1843; «Грех господина Антуана», 1847; и др.) и повести из
деревенской жизни («Чертово болото», 1846; «Маленькая Фадетта», 1848; «Франсуа-
найденыш», 1850), в которых с отчетливостью воплотились демократические
симпатии писательницы, ее наивная мечта о мирном преодолении социальных
противоречий и оптимистическая вера в общественный и нравственный
прогресс.
Подобно «женскому» и социальному роману, крестьянские повести
Ж. Санд оказали воздействие на литературу многих стран, в том числе и на
544
русскую литературу, крупнейшие представители которой — Белинский,
Тургенев, Герцен, Чернышевский, Салтыков-Щедрин, Достоевский с сочувствием
отзывались о творчестве французской романистки.
Тесно связанная в начале своей деятельности с романтизмом, Ж. Санд в
дальнейшем вырабатывает собственную эстетическую программу и не
примыкает ни к одной из существующих литературных школ. В основе ее
эстетических воззрений лежит убежденность в неодолимости прогресса и в
общественной полезности искусства. Решительно отвергая теорию «искусства для
искусства», она видит конечную цель искусства в служении народу.
Преклоняясь перед талантом Флобера, с которым Ж. Санд связывала долгая личная
дружба, она, однако, не одобряет его «объективной» манеры, утверждая, что
«крайнее беспристрастие лишено человечности». Она критически относится
к искусству, лишенному идеала, требуя всестороннего изображения
действительности—не только отрицательных, но непременно и светлых ее сторон.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ (1851-1856)
Я художник по природе и, что бы там ни говорили, ничем
другим и не хотела бы стать; те, кто рассчитывал меня унизить и
оскорбить, заявляя, что быть философом мне не по плечу, доставили
мне этим большое удовольствие, потому что каждый настолько
тщеславен, что питает пристрастие к складу своей натуры и, лишь
следуя ей, чувствует себя в своей стихии. Но когда утверждали, что
мои природные свойства и мое призвание художника — помеха для
понимания и изложения основных социальных истин, что они
мешают мне любить вечные истины, главной выразительницей
которых является философия христианства, то тем самым все сводили
к совершенно наивному софизму. Разве художников Ренессанса
упрекали когда-нибудь в том, что они присваивают себе роль
теологов, так как пишут картины на темы из священного писания?
Разве фламандские живописцы претендовали на звание ученых
естествоиспытателей на том основании, что им известны законы света?
Что это за художник, который способен отстраниться от проблем
божественных и человеческих, не отражать взгляды своей эпохи
и быть чуждым той среде, воздухом которой он дышит? Вот уж
поистине никогда педантизм не доходил до такой нелепости, как в
этой теории «искусства для искусства»: ведь эта теория ни на что
не откликается, ни на чем не основана, и никто в мире — в том
числе ее глашатаи и противники — никогда не мог претворить ее
в жизнь. «Искусство для искусства» — пустой звук, совершенно
545
ложное понятие, и на него лишь напрасно убили столько времени,
пытаясь его осмыслить; потому что, попросту говоря, невозможно
найти смысл там, где его нет.
Потребуйте от поэта, который живет исключительно поэзией,
чтобы он писал стихи только красоты ради и не вкладывал в них
ни крупицы философской мысли, вы увидите, удастся ли ему это и
что это будут за стихи. Возьмите самое романтическое
стихотворение, какое-нибудь чисто описательное произведение главарей
пресловутой школы «искусства для искусства» и проследите, не
появится ли в них после первого же десятка строчек идея
человечества, не возникнут ли чувства и воспоминания, связанные с
периодами его величия или упадка, чтобы одухотворить, истолковать,
символизировать описываемую природу.
Когда Виктор Гюго говорит «море отчаивалось», он одухотворяет
море, вкладывая в него бурную и смятенную душу, душу поэта ила
коллективную душу человечества.
Древние говорили: «Фетида гневается»,— значит, и они
олицетворяли волнения человеческой страсти в образах стихий. Все дело
в том, что в любой области искусства, при любой степени
одаренности нельзя стать поэтом или художником, не будучи эхом
человечества, которое волнуется или жалуется, отчаивается или ликует.
Стало быть, и я на свой лад проповедовала, как это делали до
меня и вокруг меня и как это всегда будут делать все художники.
Жорж Санд, Избранные сочинения, т. 2, М.,
1950, стр. 589—590. Перевод М. Надеждиной.
«ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» ГЮСТАВА ФЛОБЕРА
(1869)
[...] Правда есть правда лишь в том случае, когда она опирается
на реальность. Реальность — это фундамент, правда — статуя, на
ней воздвигнутая. Можно отделывать детали этого фундамента, но
это еще не искусство. Общеизвестно, что пьедестал Персея работы
Бенвенуто Челлини во Флоренции — чудо ювелирного
мастерства; жаль все же, что шедевром не стала статуя. Мы вправе были
бы этого требовать. Мы охотно назвали бы реализм просто знанием
деталей. Правда, без которой реализм обойтись не может, да и не
обходится, если художник действительно талантлив, есть знание
целого, синтез жизни, понимание, которое возникает в результате
изучения фактов.
Там же, стр. 613.
546
ИЗ ПИСЕМ К ФЛОБЕРУ
18—19 декабря 1875 года
[.,.] Я знаю, что ты противник вторжения личных взглядов
автора в литературу. Но прав ли ты? Не есть ли это скорее отсутствие
убеждений, нежели эстетический принцип? Невозможно таить в
душе свое мировоззрение без того, чтобы оно не пробилось на свет.
Не мне давать тебе советы по литературной части, я не берусь
судить о твоих друзьях-писателях, о которых ты мне
рассказываешь. Я сама высказала Гонкурам все, что думаю; что касается
остальных, то я твердо убеждена в том, что они образованнее и
талантливее меня. Но только я думаю, что им и тебе, в особенности
тебе, не хватает вполне установившегося и широкого взгляда на
жизнь. Искусство — не только живопись. Впрочем, в подлинной
живописи есть еще и душа, она-то и двигает кистью. Искусство
не только критика и сатира: критика и сатира воспроизводят лишь
одну сторону истины. Я хочу видеть человека не хорошим или
дурным, а таким, как он есть. Он и хорош и дурен одновременно. Но
есть в нем еще кое-что... это оттенок! Оттенок, который составляет
для меня цель искусства: хороший и дурной одновременно, человек
наделен внутренней силой, которая заставляет его быть либо очень
дурным и немножко хорошим, либо очень хорошим и немножко
дурным.
Мне думается, что твоя школа недостаточно занимается
сущностью вещей и слишком увлечена их внешностью. В поисках формы
она недооценивает сущности и рассчитана только на образованных
людей. Но ведь образованных людей в чистом виде нет! Каждый
из нас прежде всего человек. В конце концов, в любом
повествовании, в любом событии мы ищем человека.
Там же, стр. 634-635.
12 января 1876 года
[...] Ты предпочитаешь хорошо построенную фразу всякой
метафизике. Я тоже: мне нравится, когда в нескольких словах выражено
то, что занимает подчас целые тома; но ведь нужно раньше
вникнуть в эти тома (безразлично — приемлешь их или отрицаешь), для
того чтобы получить тот великий итог, который становится
литературным мастерством в его наивысшем выражении: вот почему
нельзя пренебрегать ни одним из усилий человеческого разума, чтобы
достичь истины.
Говорю это потому, что ты придаешь чрезмерное значение ело-
вам. В сущности говоря, ты читаешь, корпишь над рукописью,
работаешь больше, чем я и множество других людей. Ты приобрел
547
такие познания, каких у меня никогда не будет. Значит, ты во сто
крат богаче всех нас; ты богаче, а ноешь, как бедняк. Подайте
милостыньку нищему, у которого тюфяк битком набит золотом, но
который желает питаться изящными фразами и изысканными
словечками! Да пошарь ты у себя в тюфяке, дурачина, и выложи свое
золото! Питайся мыслями и чувствами, накопленными в твоем
мозгу и сердце; тогда слова и фразы, форма, о которой ты так
хлопочешь, сама собой у тебя образуется. Ты считаешь ее самоцелью,
между тем она только следствие. Творческая удача вызвана только
глубоким чувством, а чувство возникает только от убежденности.
Нельзя быть взволнованным чем-то, во что веришь страстно.
Я не говорю, что ты не веришь,— напротив: вся твоя жизнь,
исполненная любви, готовности помочь людям, пленительной и
простой доброты, доказывает, что ты самый убежденный человек на
свете. Но стоит тебе заняться литературой, как у тебя, неизвестно
почему, является желание стать другим человеком — человеком,
который должен исчезнуть, изничтожиться,, которого нет. Какая
смешная причуда! Какое ложное представление о хорошем вкусе!
Наше творчество ценно лишь постольку, поскольку ценны мы сами.
Кто тебе велит выводить свою особу на сцену? Это
действительно никуда не годится, если только не делается откровенно, как
рассказ о себе. Но изымать собственную душу из своей книги, что это
за больная фантазия? Скрывая свое собственное мнение о
персонажах, действующих на сцене, и, следовательно, оставляя читателя
в неведении относительно того, какое мнение он должен себе
составить о них, вы проявляете нежелание быть понятым, а потому
и бежит от вас читатель,— ведь если он соглашается выслушать
ваш рассказ, то только на том условии, что вы ясно ему покажете,
что вот такой-то человек силен, а такой-то слаб.
[...] Мне кажется не слишком обоснованным это ваше
стремление описывать вещи как они есть, случаи из жизни такими, какими
они представляются. Живописуйте реалистически или поэтически —
это мне безразлично — неодушевленные предметы; но другое дело,
когда рассматриваются движения человеческого сердца. Вы не
можете отвернуться и не видеть их, ибо вы — человек, а читатели —
люди. Как бы вы ни старались, ваш рассказ останется
собеседованием между вами и читателем. Если вы холодно указываете ему
на зло, никогда при этом не показывая добро, он сердится. Он
спрашивает себя, кто же из вас двух дурен: он или вы? Между тем вы
стараетесь его растрогать и привлечь его симпатию, никогда вам
это не удастся, если вы сами не растроганы или если вы так хорошо
это скрыли, что он считает вас равнодушным. Он прав: крайнее
беспристрастие лишено человечности,— а роман обязан быть прежде
548
всего человечным. Если в романе этого нет, то не оценят в нем
того, что он хорошо написан, хорошо построен и тщательно отделан
в деталях. Он лишен главного: интереса.
Читатель отвернется также и от такой книги, где все персонажи
представлены добрыми без малейших оттенков и без слабостей; он
хорошо понимает, что это еще менее свойственно человеку. Я
считаю искусство, особое искусство рассказа, лишь тогда ценным, когда
оно показывает характеры, противостоящие друг другу; но я хочу
видеть в их борьбе торжество добра; допускаю, что честный человек
может быть раздавлен внешним миром, но это не должно ни
запятнать его, ни принизить, и пусть он взойдет на костер с сознанием
того, что он счастливее своих палачей.
Там же, стр. 638—640.
25 марта 1876 года
В общем, при всем том, что я критикую метод Золя с
философской точки зрения, мне в- одном не придется отречься от
собственных слов: «Ругон» книга весьма значительная, твоими словами
говоря — сильная книга и достойна занять место в первом ряду.
Это нисколько не меняет мою точку зрения на то, что искусство
должно быть правдоискательством и что правда не только в
живописании зла или добра. Художник, который видит первое, так же
ошибается, как и тот, кто видит только второе. Жизнь вовсе не
кишит одними подлецами и негодяями. Честных людей не так уж
мало, раз общество существует, сохраняя известный порядок и без
чрезмерного количества безнаказанных преступлений. Правда,
преобладают дураки; однако есть общественное мнение, которое на них
воздействует и вынуждает уважать право. Выводите и бичуйте
мерзавцев, это хорошо, это даже нравственно, но покажите и тех, кто
противостоит им: иначе читатель наивный, а он-то и есть главный
читатель, впадает в уныние, в тоску, в панику, отказывается с вами
согласиться, боясь прийти в отчаяние.
Там же, стр. 641.
ДЕЛАКРУА
1798-1863
Великий французский художник Эжен Делакруа, сыгравший выдающуюся
роль в развитии живописи XIX века, был также глубоким теоретиком
искусства. Свои эстетические взгляды он изложил как в ряде журнальных статей
и биографических очерков о великих художниках прошлого и настоящего, так
549
и в записях своего замечательного дневника, почти целиком посвященного
искусству.
Если нормативная эстетика классицизма утверждала универсальность и
незыблемость идеала красоты, завещанного античностью, и оценивала
художественные произведения в зависимости от степени приближения к этому идеалу,
то Делакруа неизменно отстаивает тезис о бесконечном разнообразии форм
прекрасного, о постоянном изменении художественного идеала вместе с
порождающей его эпохой. «Не существует различных степеней красоты,
существуют лишь разные способы вызывать чувство прекрасного» 1,— восклицает он в
статье «О прекрасном» (1854), едко издеваясь над современными ему школами,
«ищущими красоту с линейкой в руках» и верящими в существование
определенных рецептов прекрасного. Неустанное изучение природы и
непосредственное чувство художника — вот главные источники для создания прекрасного
в искусстве, которое открывается в рембрандтовском портрете нищего в
лохмотьях не менее, чем в фидиевском Юпитере.
Делакруа высоко ценил создания античного гения, но, как и Стендаль,
утверждал, что «красоту надо искать в окружающей нас жизни» 2. По его
мнению, Шекспир с его силой характеров и жизненной правдой образов гораздо
ближе к подлинной античности, чем тот же Расин. Величайшим завоеванием
искусства нового времени по сравнению с античностью Делакруа считал
экспрессию. «Мрачная смятенность Микеланджело... глубокая экспрессия и жар
Рубенса, трепетность, магия и экспрессивный рисунок Рембрандта — все это
наше, от нас, и обо всем этом древние не догадывались» 3.
Красота для Делакруа неотделима от выразительности. Сама живопись для
него лишь «мост, перекинутый от души художника к душе зрителя» (Дневник,
18 июля 1850 года). Главное в искусстве — это идея, содержание. «Цвет
ничто,— говорит этот великий колорист,— если он не находится в соответствии
с сюжетом и не усиливает впечатления картины, действуя на воображение»
(Дневник, 2 января 1853 года). Не следует бояться преувеличений, если они
соответствуют сущности явления и помогают лучше выразить основную идею
картины, и в то же время необходимо жертвовать частностями во имя
выразительности целого. «Талант — это не что иное, как дар обобщать и
выбирать» 4. Видя в творческом воображении основу искусства, Делакруа отвергает
бездумное натуралистическое копирование предметов, которое он называет
«буквальным реализмом». Верность природе и своему времени лежит в основе
всякого подлинного произведения искусства, и с этой точки зрения Делакруа
представляется нелепой любая попытка канонизировать какую-либо
ограниченную систему принципов и приемов искусства.
1 Эжен Делакруа, Мысли об искусстве. О знаменитых художниках,
М., I960, стр. 183.
2 Τ а м ж е, стр. 189.
3 «Мастера искусства об искусстве», т. II, М.—Л., 1936, стр. 363.
4 Эжен Делакруа, Мысли об искусстве. О знаменитых художниках,
стр. 219.
550
О ПРЕКРАСНОМ
Что же такое чувство прекрасного? Есть ли это то самое
чувство, которое охватывает нас при виде любой картины Рафаэля
и Рембрандта или при чтении сцен из Шекспира и Корнеля, когда
мы в восхищении восклицаем: «Как это прекрасно!»? Или оно может
быть вызвано только вполне определенными образами, вне которых
не существует красоты? Короче говоря, следует ли считать, что
Антиной, Венера, Гладиатор и подобные произведения, оставленные
нам античностью, являются неизменным правилом, каноном?
Следует ли считать, что всякое отклонение от этого канона чудовищно
и эти образы, олицетворяя грацию и самое жизнь, являются тем
самым вечным олицетворением правильности?
[...] Современные школы не признают никаких отклонений от
античной правильности. Они пытаются скрасить Силенов и Фавнов,
изображают старость без морщин и устраняют неизбежные и часто
очень характерные недостатки человеческого тела, вызванные
работой или возрастом. Тем самым они наивно доказывают, что
прекрасное для них сводится к нескольким рецептам. Они. решили учить
ему, как учат алгебре, и не только учить, но и давать легкие
примеры.
В самом деле, что может быть проще? Для этого достаточно
только свести все характеры к одному образцу, стереть глубокую
разницу темпераментов и возрастов, избегать сложных выражений
и сильных движений, способных нарушить гармонию черт или
членов,— вот вкратце те принципы, с помощью которых можно держать
прекрасное в руках! Таким образом, можно научить учеников
создавать красоту и передавать ее из поколения в поколение, как
денежный вклад!
Но совершенные произведения всех времен доказывают нам, что
при таких условиях невозможно создать прекрасное. Оно не
передается по наследству или по дарственной записи, как ферма.
Красота — это плод постоянного вдохновения, порожденного упорным
трудом. Она появляется на свет с болью и мучением, как и все, что
должно жить. Люди находят в ней величайшую отраду и
утешение, а потому она не может быть плодом мимолетного впечатления
или избитой традиции! Ничтожные усилия ожидает ничтожная
награда! Произведения, порожденные капризом моды, могут завоевать
мимолетный успех; но для того, чтобы добиться подлинной славы,
необходима упорная борьба, ибо каждая ее улыбка стоит нам
огромных усилий; мало того, необходимо редкое сочетание способностей
и благосклонности судьбы.
551
Творение, перед которым мы невольно восклицаем: «Как это
прекрасно!» — это творение не может быть порождением простой
традиции: его создает неизвестный избранный человек-гений,
опрокидывающий нагромождение избитых и бесплодных доктрин. Голь-
бейн, который, тщательно подражая природе, випысывал морщины
и почти считал волоски на лицах своих моделей; Рембрандт с его
простонародными типами, полными необыкновенной
выразительности; немецкие и итальянские примитивы с их худыми, резко
очерченными фигурами и совершенным незнанием античности — все они
блещут красотой, которую современные школы ищут с линейкой
в руках. Эти гении черпали в природе и собственном глубоком
чувстве наивное вдохновение, которому не могла повредить эрудиция,
они вызывают восхищение народа и всех образованных людей, так
как выражают чувства, доступные каждой человеческой душе.
Словом, они нашли то бесценное сокровище, которое бесплодная наука
тщетно ищет в рецептах и опыте.
Рубенс видел Италию и античные произведения, но его
собственное художественное чутье оказалось сильнее всех примеров, и,
возвратившись с этой родины прекрасного, он по-прежнему остался
фламандцем. В картине «Чудесный лов рыбы» он сумел найти
красоту простых людей — народа и апостолов, изобразив сцену, где
Христос говорит Симону: «Оставь свои сети и следуй за мной, я
сделаю тебя ловцом человеков». [...]
Сравнивая «Спор о святом причастии» Рафаэля с «Браком
в Кане» Паоло Веронезе, мы видим, что первое произведение
отличается необычайной гармонией линий и изяществом замысла,
радующими глаз и ум. Но вместе с тем в нем есть некоторая холодность,
что объясняется контрастными движениями фигур и чрезвычайной
изысканностью форм. У всех этих ученых мужей и святых такой
вид, будто они не знают друг друга, их фигуры кажутся
застывшими навеки. А на пиру Паоло Веронезе мы видим людей такими,
какими встречаем их повсюду, людей с различными лицами и
темпераментами, сангвиника и желчного человека, кокетку рядом
с равнодушной и рассеянной женщиной, людей молчаливых и
беседующих, словом, жизнь и движение, не говоря уже о несравненных
цветовых эффектах, воздухе и свете.
Можно ли сказать, что обе эти картины прекрасны? Да, но
в разных смыслах: но существует различных степеней красоты,
существуют лишь различные способы вызывать чувство прекрасного.
У обоих художников стиль одинаково силен, так как оба они
отличаются необыкновенным своеобразием. Можно, подражая манере
Рафаэля, располагать драпировки и уравновешивать линии
композиции, можно выбирать типы безукоризненной правильности и все-
552
таки не добиться его очарования и благородства; можно копировать
модели со всеми их деталями или искать эффектов, способных
создать иллюзию, и не найти той жизни и теплоты, которой проникнуто
чарующее произведение Паоло Веронезе.
Как известно, Давид выказывал пылкое восхищение «Распятием»
Рубенса и вообще самыми неистовыми произведениями этого
мастера. Неужели это объясняется тем, что он находил у Рубенса
сходство с античностью, которой так усердно поклонялся?
Чем объяснить очарование фламандских пейзажей? Силу и
необычность пейзажей Констебля, родоначальника нашей
замечательной школы пейзажистов? Есть ли в них что-либо общее с пейзажами
Пуссена? Не проигрывают ли пейзажи Клода Лоррена от
чрезмерной изысканности и условности в некоторых деревьях на первом
плане?
Всем известно, как ответил Дидро живописцу, который принес
ему портрет его отца и, вместо того чтобы изобразить его в рабочем
костюме (он был ножовщиком), нарядил его в лучшую одежду.
Дидро сказал ему: «Ты сделал моего отца в воскресном наряде,
а я хотел бы видеть его таким, каким видел всегда». Этот
живописец поступил точно так же, как поступают почти все художники,
которые, вероятно, считают, что природа ошиблась, создав людей
такими, какие они есть; они стараются украсить их, изобразить
их в воскресном виде, отчего их персонажи не только перестают быть
обычными людьми, но и людьми вообще. Мы уже ничего не видим
под их завитыми париками и безупречными драпировками: это
просто маски, лишенные души и тела.
Если считать, что античный стиль определил границы искусства,
если полагать предел искусства в абсолютной правильности, то как
определите вы место Микеланджело с его странной композицией,
стремительностью форм, с его утрированными и подчас совершенно
неверными планами, очень приблизительно взятыми с натуры? Вы
будете вынуждены назвать его возвышенным, чтобы не признать,
что он прекрасен.
Микеланджело, так же как и мы, видел античные статуи и, как
известно, не меньше нас преклонялся перед этими чудесными
произведениями (оставшимися от древней скульптуры). Но это
преклонение ничего не изменило ни в его творчестве, ни в природе его
гения. Он не перестал быть самим собой и создал произведения,
которые заслуживают преклонения наряду с античными.
Нетрудно заметить, что среди произведений одного и того же
мастера самые совершенные не всегда оказываются самыми
правильными с точки зрения традиций. В качестве примера я приведу
Бетховена. Во всем его творчестве, которое кажется одним долгим
553
стоном страдания, можно ясно различить три различные фазы.
В первой фазе его вдохновение следует чистой традиции. Правда,
здесь наряду с подражанием божественному языку Моцарта уже
чувствуется дыхание меланхолии и страстные порывы: они выдают
его внутренний огонь, подобно глухому рокоту, который исходит из
жерла вулкана, когда он еще не извергает пламени. Но, по мере того
как обилие идей принуждает его создавать еще не известные формы,
он начинает пренебрегать правильностью и строгостью пропорций.
Одновременно его сфера расширяется, и его талант достигает
высшей силы. Я знаю, что ученые и знатоки отказываются понять
последний период его творчества. Они колеблются в оценке его
грандиозных, необычных и еще не вполне ясных творений, которым,
быть может, суждено навсегда остаться непонятыми. Но если
вспомнить, что произведения его второго периода, казавшиеся
непостижимыми, уже завоевали всеобщее одобрение и считаются его
шедеврами, то я готов признать его правоту даже вопреки своему
собственному чувству и думаю, что в этом случае, как и во многих
других, всегда следует довериться гению.
Что же касается основных качеств, составляющих совершенство,
то в этом вопросе критики не всегда единодушны. Тот, кто готов
сегодня осуждать Бетховена и Микеланджело во имя правильности
и чистоты традиций, возможно, оправдал бы их и даже превозносил
до небес и в другие времена, когда господствовали другие
принципы. Различные школы полагали эти принципы то в рисунке, то
в цвете, то в экспрессии и даже (поверят ли?) в полном отсутствии
всякого цвета и всякой экспрессии. Так, английские живописцы
конца прошлого и начала нашего столетия, представители
выдающейся школы, мало оцененной в нашей стране, видели эти
принципы главным образом в эффектах света и тени, тогда как в наши
дни их видят исключительно в контуре, то есть в отсутствии всякого
эффекта.
Надо полагать, что великие художники всех времен не обращали
никакого внимания на все эти разграничения и нисколько не
стремились к преобладанию рисунка или цвета — двух необходимых
элементов, которыми они располагали. Если же они выделяли
некоторые отдельные качества, то делали это не намеренно, а под
влиянием природной склонности. Разумно ли думать, что можно
встретить шедевр живописи, который бы не был сочетанием всех
основных элементов этого искусства? Все великие живописцы
использовали и рисунок и цвет сообразно со своими склонностями, и это
сообщало их творениям то высшее качество, о котором умалчивают
все живописные школы и которому они не могут научить: поэзию
554
формы и цвета. В этом сходятся все великие мастера всех
живописных школ.
При виде утреннего пейзажа, омытого росой, оживленного
пением птиц, напоенного всей чарующей прелестью природы, ученый
и простолюдин не подумают ни о линии, ни о светотени, они
почувствуют только глубокое волнение, прилив какого-то затаенного
счастья, то наслаждение, в котором Пуссен видел единственную цель
живописи.
[...] Каждому таланту природа дарует своего рода талисман;
я сравнил бы его со сплавом, состоящим из тысячи драгоценных
металлов и издающим пленительный и грозный звон в зависимости
от различных пропорций содержащихся в нем элементов.
Существуют таланты утонченные, которым трудно добиться
удовлетворения. Стремясь покорить зрителя, они используют все средства,
какими располагает искусство; они сотни раз переделывают один
и тот же кусок, нередко жертвуя искусным исполнением ради
общего единства и глубины впечатления. Таков Леонардо да Винчи,
таков Тициан. Но есть и другие таланты, такие, как Тинторетто
или еще в большей степени Рубенс, ибо у него еще больше
экспрессии. Их увлекает какой-то внутренний жар, горящий в крови и
передающийся кисти. Благодаря силе выполнения некоторых частей
творения этих мастеров приобретали необычайную живость и мощь,
чего не всегда можно добиться при более сдержанном
исполнении.
Подобные результаты можно было бы сравнить с порывами
ораторов, увлеченных сюжетом, моментом, аудиторией и подымающихся
до такой высоты, которой они сами удивляются в минуты
хладнокровия. Эти необыкновенные порывы, приводящие в восторг и
слушателей и самого оратора, принято называть импровизацией. Однако
легко понять, что такого рода импровизация (если можно
употребить это слово) и в живописи и в ораторском искусстве будет
иметь крайне посредственный эффект, если он не был заранее
обдуман и подготовлен упорным трудом либо в искусстве вообще, либо
над тем, что является непосредственным объектом живописца или
оратора. Принято считать, что импровизации, в отличие от
произведений, более обработанных по форме, не выдерживают разбора. Так,
речи Мирабо, когда мы их читаем, не отвечают тому представлению,
какое можно составить о них на основании свидетельств
современников, пораженных их необычайным блеском. Но значит ли это,
что они не были прекрасны в тот момент, когда были произнесены,
когда они взволновали и увлекли не только Национальное собрание,
но и целую нацию? И, напротив, не случалось ли, что речь, которая
была хорошо продумана и даже производила впечатление в тишине
οδό
кабинета, встречала крайне холодный прием на форуме, перед
тысячами слушателей? Всегда ли картина, казавшаяся в мастерской
безупречной, оправдывает ожидание своих поклонников и публики,
когда они видят ее при ярком свете выставки, на необходимой
высоте или в определенном месте?
Нужно видеть прекрасное там, где художник захотел его
показать. Поэтому не требуйте от мадонн Мурильо целомудренной
умиротворенности и робкой стыдливости мадонн Рафаэля; восхищайтесь
в их чертах и позах выражением божественного экстаза и победного
смятения, наполняющего душу смертного, вознесенного к
неведомым высотам! Изображая мадонну во славе, оба художника часто
окружают ее фигурами благочестивых дарителей или святых. Но
у Рафаэля нас чарует их благородная простота и грация движений,
а у Мурильо мы восхищаемся прежде всего экспрессией этих
прекрасных фигур. При виде этих монахов и отшельников,
уединившихся в пустыне или простертых перед святым распятием, мы
в свою очередь испытываем чувство самоотречения и веры.
Можно ли не назвать прекрасным волнующие композиции,
переносящие нас в совершенно иной мир и заставляющие понять среди
скептицизма и детских забав нашей жизни смирение чувств,
могущество жертвы и созерцания? И если в самом деле они не лишены
красоты, то могут ли они выиграть от большего сходства с
античными произведениями?
Спрашивается, как поступали древние, не имевшие античных
образцов? Или Рембрандт, находившийся примерно в таком же
положении, так как никогда не покидал болот Голландии. «Вот моя
античность»,— говорил он, указывая на людей, которые терли ему
краски.
Те, кто считает, что следует подражать античности, правы, но
правы единственно потому, что в античных произведениях
соблюдены вечные законы искусства: выразительность и чувство меры,
благородство и простота, а также потому, что их средства
выражения совершенно разумны и могут дать нужный эффект. Но эти
средства могут быть использованы не только для того, чтобы, без
конца повторяясь, изображать геро<ев античности или богов Олимпа,
которым мы уже не поклоняемся. Рембрандт, работая над
портретом нищего в лохмотьях, подчинялся тем же законам, что и Фидий,
когда он создавал своего Юпитера или Палладу. В этих
произведениях одинаково отражены великие принципы единства и
разнообразия, пропорций и выразительности. Но каждое качество
встречается в них в большей или меньшей степени в зависимости от
изображаемого предмета, темперамента художника или вкусов его
времени.
556
Расина упрекали в том, что его герои не были римскими или
греческими героями. По-моему, это, скорее, достойно похвалы,
впрочем, его самого это заботило мало. У Шекспира было гораздо больше
общего с античностью, что бы там ни говорили поборники
классицизма. Его характеры — это копии характеров Плутарха, его Ко-
риолан, Антоний, Клеопатра, Брут и многие другие персонажи
исторически верны. Но это было бы весьма слабым достоинством, если бы
они не были настоящими людьми. Шекспир хотел изобразить и
изображал именно людей, так же как и Расин. Пусть его Брут, Нерон
и Агриппина взяты из истории. Не все ли равно? Я хочу видеть
их в театре, вместе с публикой, которая вовсе не думает о Таците
или Плутархе, видеть их со всеми их душевными движениями
и страстями в интересном и поэтическом действии, занимающем
меня гораздо больше, чем действительная история.
[...] Вопрос о прекрасном всегда подымался модой, играющей
талантами и высказывающей обо всем свои недолговечные
суждения. Ей кажется, что ее легкомысленное влияние простирается
вплоть до незыблемых принципов красоты. Но прекрасные образы
живут в душах всех людей, и те, кому суждено родиться через века,
узнают их по неизменным признакам, которых не могут указать ни
мода, ни книги. Прекрасное произведение находит живой отклик
в нашей душе, отвечая самым благородным ее свойствам. Известная
степень культуры может придать некоторую утонченность тому
наслаждению, какое доставляет нам прекрасное, может открыть в нем
красоты, мало доступные неискушенному глазу. Но эта же
культура, часто нескромная, может извратить естественное чувство
и породить неверное суждение.
Неужели красота, составляющая внутреннюю потребность и
источник самого чистого наслаждения нашей души, заключена в
строго ограниченную область? Неужели нам запретят искать ее в
окружающей нас жизни и греческая красота навсегда останется
единственной? Те, кто оправдывает это кощунство, неспособны
чувствовать красоту вообще. Прекрасное и великое не находят в их
душе внутреннего отзвука, заставляющего нас трепетать от
восторга.
Я не думаю, чтобы бог предоставил только грекам создать то,
что должны любить мы, северяне. Ну что ж! Тем хуже для глаз, не
желающих видеть, для ушей, не желающих слышать, для разума,
не желающего познавать и, следовательно, наслаждаться! Эта
неспособность наслаждаться вполне соразмерна с неспособностью
создавать великое! Только избранным умам дано любить различные
типы совершенства, между которыми, по мнению ученых мужей,
лежит глубокая пропасть. В собрании, состоящем только из великих
557
людей, не стали бы долго спорить о прекрасном. Если бы все
светила искусства, образцы грации и силы, Рафаэли, Тицианы и
Рубенсы и их последователи — все они собрались вместе, чтобы по
достоинству оценить таланты, разделить славу между их верными
последователями и отдать друг другу дань восхищения, в которой
им не отказали целые поколения, они сразу нашли бы общий язык,
ибо все они имели нечто общее — все они достигли равной мощи
в создании прекрасного, хотя пришли к нему разными путями.
Эжен Делакруа, Мысли об искусстве. О
знаменитых художниках, М., 1960, стр. 180—190.
Перевод М. Казениной.
БЕРЛИОЗ
1803-1869
Крупнейшим представителем романтического направления в музыке был
композитор Гектор Берлиоз, автор программных симфоний («Фантастическая
симфония», «Гарольд в Италии», «Траурно-триумфальная симфония»), ораторий
(«Ромео и Джульетта», «Осуждение Фауста», «Реквием»), опер («Беатриче
и Бенедикт», «Бенвенуто Челлини», «Троянцы в Карфагене») и других
произведений.
Берлиоз принимал активное участие в музыкальной и художественной
жизни Парижа, соприкасаясь в своей деятельности с Листом, Паганини, Гейне
и другими романтиками. Как и многие из них, художественную деятельность
он сочетал с критической. В критических статьях, а также в «Мемуарах»
Берлиоза наряду с анализом и оценкой конкретных явлений музыкальной жизни
и музыкального творчества содержится определенная эстетическая
программа, развивающая идеи романтизма. Как и все романтики, Берлиоз критикует
«индустриализацию искусства» в современном ему обществе и профанацию
художественного творчества, коренящуюся «в невозможности людям, живущим
брюхом, понять людей, живущих сердцем». Он резко выступает против
«чувственного направления» в музыке, против «ушеугодия», бездумного наслажден-
чества, самодовлеющей виртуозности, ратуя за содержательность,
выразительность, драматическую правду в музыке.
В статье Берлиоза «О подражании в музыке», отрывок из которой
публикуется ниже, рассматриваются специфические особенности музыкальной
образности в связи с проблемой изобразительности в музыке, выдвинутой
практикой оперного искусства и программного симфонизма того времени. В
характерном для романтизма духе Берлиоз подчиняет изобразительные элементы
в музыке выражению внутренних переживаний, определяющему сущность
музыкального творчества.
558
О ПОДРАЖАНИИ В МУЗЫКЕ
[...] Искусство живописи не может и не должно иметь иной цели,
кроме более или менее точного воспроизведения природы или
подражания природе, тогда как музыка (в подавляющем большинстве
случаев) есть искусство, имеющее свою специфику: оно
довольствуется своими собственными средствами и может чаровать, не
прибегая ни к каким видам подражания. Живопись никогда не была бы
в состоянии воспользоваться тем, что является достоянием музыки;
музыка же, наоборот, в состоянии это сделать: при помощи средств,
присущих только ей одной, она, несомненно, способна
воздействовать на воображение таким образом, что может вызывать
ощущения, совершенно аналогичные тем, какие вызывает искусство
живописи. [...]
Первое условие для применения прямого или физического
подражания наравне с другими приемами воздействия музыкального
искусства, с тем чтобы последнее не теряло ничего из свойственного
ему благородства и могущества,— это чтобы такое подражание
было только средством, а не целью; чтобы оно не рассматривалось
(за редкими исключениями) как сущность музыкального замысла,
потому что оно является не более чем его логическим и
естественным следствием.
Второе условие, для того чтобы подражание было
приемлемым,— это чтобы оно распространялось только на объекты,
заслуживающие внимания слушателей; чтобы оно не предназначалось
(особенно в серьезных произведениях) для подчеркивания звуков,
движений или явлений, относящихся к той низменной сфере, до
которой искусство не может опускаться без ущерба для своего
достоинства.
Третье — чтобы подражание не вело к подмене искусства
простой копией с натуры, но было бы вместе с тем достаточно точным
для того, чтобы внимательный и искушенный слушатель мог понять
намерения композитора.
И, наконец, четвертое — физическое подражание никогда не
должно занимать место подражания чувствительному (экспрессии),
оно не должно выставлять напоказ свои ничтожные
изобразительные эффекты в то время, когда драма развертывается полным
ходом, когда одной лишь страсти принадлежит право голоса.
[...] Многие из композиторов делались просто смешными, когда
они пытались прямо подставлять природные антимузыкальные
звуки на место звуков музыкальных, подражающих первым. Некий
итальянский композитор — никак не припомню его имени! —
сочиняя симфонию на смерть Вертера, решил, что наилучшим воспро-
559
изведением пистолетного выстрела самоубийцы будет обыкновенный
выстрел, который раздастся в оркестре. Это было уже верхом
глупости! Зато, когда Мегюлю и Веберу понадобилось (первому —
в увертюре из' «Молодого Генриха»; второму — в сцене «Волчьей
долины») воспроизвести выстрел из ружья, то оба они сумели найти
выход из положения: чтобы не нарушить закономерностей музыки,
они оба прибегли к простому удару литавр, применив его вовремя
и весьма искусно.
[...] При применении физического подражания как средства
часто даже самым великим поэтам не удавалось обойти те подводные
камни, на которые мне хочется указать музыкантам. Труднее всего
использовать подражание в меру и вовремя, постоянно наблюдая за
тем, чтобы оно не заняло того места, которое надлежит занимать
самому могущественному из всех средств — тому, которое
подражает чувствам и страстям, то есть — выразительности.
[...] Музыка стремится с помощью звуков вызвать у нас ряд
представлений о различных чувствах, обращаясь при этом только
к нашему слуху, она пробуждает в нас такие ощущения, которые
в реальной действительности могут возникнуть не иначе как при
посредстве остальных органов чувств. Именно в этом и заключается
цель выразительности, музыкальной живописи и музыкальных
образов. Не верю, чтобы по силе и мощи выразительности такие
искусства, как живопись и даже поэзия, могли бы равняться с
музыкой! [...] Как мы сейчас увидим, музыкальная живопись — это не
совсем то же самое, что музыкальный образ, и, по-моему,
музыкальная живопись имеет неоспоримо меньшее значение.
[...] Музыка может превосходно выражать: счастливую любовь,
ревность, радостно бурную и беспечную, целомудренно-чистое
волнение, грозную силу, страдание и страх, но она неспособна
выразить то, что все эти различные страсти вызваны именно видом леса
либо чего-то иного. Стремление расширить возможности
музыкальной выразительности за пределы ее достаточно широких границ
кажется мне совершенно не заслуживающим одобрения. [...] Без
сомнения, мне возразят на это, что бывают прекрасные образцы
музыкальной живописи и что их следует принять во внимание хотя бы
в виде исключений. Однако при анализе последних мы увидим, что
присущие им поэтические красоты вовсе не выходят за пределы
того обширного круга, в котором они должны быть заключены
сообразно природе искусства. Все дело в том, что такое подражание
дает не изображение видимого явления, а только его образ или
подобие; сам же образ должен способствовать пробуждению таких
ощущений, которые будут совершенно аналогичны ощущениям,
находящимся в безоговорочной власти музыки. Но при этом помимо
560
всего остального необходимо: чтобы прототип этих образов мог быть
узнан вполне точно; чтобы слушатель был предупрежден каким-
либо намеком о замысле композитора и чтобы возможность для
сравнений была вполне очевидной.
[...] О некоторых произведениях можно сказать, что в них
изображаются широкие просторы или нечто беспредельное... но все
это происходит оттого, что тот или иной композитор умел находить
соответствующие средства: или широкие по диапазону мелодии, или
торжественно и прозрачно звучащие гармонии, или величавые
ритмы, подчеркнутые резкими контрастами,— и все это для того, чтобы
вызвать при помощи слуха такие же ощущения, которые возникают
у путешественника, когда он, достигнув вершины, окидывает
взглядом огромные пространства, когда перед его глазами предстает
роскошная панорама. При этом судить о правдивости образа почти
невозможно, если не знать заранее, какой сюжет был воплощен
композитором.
Ясно, что способность создавать волнующие образы,
нуждающиеся в уточнении словом (написанным, пропетым или
продекламированным), не имеет ничего общего с пустыми и самонадеянными
намерениями охарактеризовать вполне определенно те явления,
которые в действительности никак не связаны ни со звуками, ни с рит-
мованными движениями и охарактеризовать их лишь с помощью
музыкальных интонаций и ритмов.
Г. Берлиоз, Избранные статьи, M., 1956,
стр. 88—99. Перевод В. Н. Александровой и
Ε. Ф. Бронфин.
БИБЛИОГРАФИЯ
/. Общая литература
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., «Искусство», 1957, стр. 418—
430, 473-487.
Б е н у а Ф., Искусство Франции эпохи Революции и Первой Империи. 1793—
1814. Под ред. М. А. Лифшица, М.—Л., «Искусство», 1940, 384 стр.
Де Ла-Барт Ф., Розыскания в области романтической поэтики и стиля,
т. I, Киев, 1908, V, 520 стр.
«История французской литературы», т. 1—2, М., Изд-во Акад. наук СССР, 1946—
1956.
Обломиевский Д. Д., Литература французской революции 1789—
1794 гг. Очерки, М., «Наука», 1964, 355 стр.
Обломиевский Д., Французский романтизм. Очерки, М., Гослитиздат,
1947, 356 стр.
19 История эстетики, т. III 561
Пти-де-Жюльвилль Л., Иллюстрированная история французской
литературы в XIX веке. Пер. Ю. А. Веселовского с предисл. А. Н. Весе-
ловского, М., Прокопович, 1908, VI, 824 стр.
Ρ е и з о в Б. Г.,, Между классицизмом и романтизмом, [Л.], 1962, 253 стр.
(Ленингр. ун-т им. А. А. Жданова).
Яворская Н. В., Романтизм и реализм во Франции в XIX веке, М., Изо-
гиз, 1938, 206 стр.
Baldensperger F., Sensibilité musicale et romantisme, P., Belles
lettres, 1925.
В er ta ut J., L'époque romantique, P., Tallandier, 1947, 443 p. (Histoire
de la vie littéraire).
В ray R., Chronologie du romantisme (1804—1830), P., Nizet, 1963, 238 p.
Cassagne Α., La théorie de l'Art pour l'Art en France chez les derniers
romantiques et les premiers réalistes, P., Borbon, [1959], IX, 487 p.
Dreyfous M., Les arts et les artistes pendant la période révolutionnaire (1789—
1795), P., Payot, 1906, VIII, 471 p.
Evans R. L., Le romantisme français et la musique, P., Ghamion, 1934, XIII,
184 p.
Fosca F., De Diderot à Valéry. Les écrivains et les arts visuels, P., Michel,
[I960], 296 p.
Guichard L., La musique et les lettres au temps du romantisme, P.,
Presses univ. de France, 1955, 423 p.
Hautecœur L., Le romantisme et l'art, P., Laurens, 1928.
Hautecœur L., Littérature et peinture en France, du XVIIe au XXe
siècle, P., Colin, 1963, 358 p.
Jensen Ch. Α., L'évolution du romantisme. L'année 1826, Genève, Droz;
P., Minard, 1959, 362 p., bibl. p. 347—357.
Lasserre P., Le romantisme français, P., Mercure de France, 1907, 547 p.
M a r t i η о P., L'époque romantique en France, P., Hatier-Boivin, 1944.
Moreau P., Le romantisme, P., Del Duca, [1957], 470 p., bibl. p. 417—450.
Mustoxidi Th. M,, Histoire de l'esthétique française (1700—1900), P.,
Champion, 1920, LXIII, 240 p.
N e e d h a m H. Α., Le développement de l'esthétique en France et en
Angleterre au XIX siècle, P., Champion, 1926, 323 p.
Ρ é t r ο ζ P., L'art et la critique en France depuis 1822, P., Baillière, 1875.
«Le romantisme de l'art». Préf. d'E. Herriot, P., Laurens, 1928, IV, 320 p.
Renouvier J. M., Histoire de l'art pendant la Révolution, P., Renouard,
1863, XXXI, 592 p.
R о с h e b 1 a ν e L., Le goût en France. Les arts et les lettres de 1600 à 1900,
P., Colin, 1923, 345 p.
Rosenthal L., L'art et les artistes, P.,Goupy, 1928, 184 p.
S a u 1 η i e r V.-L., La littérature française du siècle romantique, 5 éd., P.,
Presses univ. de France, 1959, 134 p.
Saunier C, Les conquêtes artistiques de la Révolution et de l'Empire, P.,
Renouard, 1902, VIII, 189 p.
S о u r i a u M., Histoire du romantisme en France, t. 1—3, P., Spès, 1927.
Van Tieghem Ph., Les grandes doctrines littéraires en France, P.,
Presses univ. de France, 1963, 302 p.
Van Tieghem Ph., Le romantisme français, P., Presses univ. de France,
1963, 126 p.
Vial E. et Denise L., Idées et doctrines littéraires au XIX siècle, P., De-
lagrave, 1918.
562
/У. Литература к о m д e л ь н ы м авторам
Мари-Жозеф Шенье
Сочинения:
Ghénier M.-J., Oeuvres anciennes et posthumes. Publ. par D.-Ch. Robert,
t. 1—8, P., 1824—1826.
Ghénier M.-J., Tableau historique de l'état et des progrès .de la littérature
française, depuis 1789, 2 éd., P., Maradan, 1817, XXIV, 422 p.
Литература:
Б о ж ο ρ Ю. И., Политическая и литературная деятельность Мари-Жозефа
Шенье в годы французской революции.— «Ученые записки Моск. пед. ин-та
им. В. И. Ленина», 1958, т. 130, каф. зарубежной лит., вып. 3, стр. 133—
169.
Великовский С. И., Поэты французских революций 1789—1848, М.,
Изд-во Акад. наук СССР, 1963, 277 стр.
3 а б о τ к и н а О. С, Эстетические воззрения Мари-Жозефа Шенье и поэтика
революционного классицизма.— «Ученые записки Ленингр. ун-та», сер.
филол. наук, вып. 37, 1957, стр. 68—88.
Обломиевский Д. Д., Литература французской революции 1789—
1794 гг. Очерки, М., «Наука», 1964, 355 стр.
К ü с h 1 е г W., M.-J. Ghénier's dramatische und lyrische Dichtung, Lpz., 1900.
L i é b y Α., Etude sur le théâtre de M.-J. Chénier, P., 1902.
Peters Ε., M.-J. Chénier als Kritiker und, satirischer Dichter, Lpz., 1911»
210 S. Diss.
Давид
Сочинения:
David J. L., Le tableau des Sabines, exposé publiquement au Palais national
des sciences et des arts... par le c[itoye]n David, P., Didot, an VIII, 16 p.
«Le peintre Louis David. 1748—1825. Souvenirs et documents inédits», [t. 1—2],
P., Havard, 1880—1882.
Давид Л., Речи и письма живописца Луи Давида. Пер. Б. Денике.
Вводная статья Д. Аркина, М.—Л., Изогиз, 1933, 277 стр.
Литература:
Замятина А. Н., Давид, М.—Л., Изогиз, 1936, 121 стр.
Князева В. И., Жак-Луи Давид. 1748—1825, М., «Искусство», 1949, 36 стр.
9 м б е ρ Α., Луи Давид — живописец и член Конвента. Пер. Э. Б. Шлосберг.
Под ред. В. Я. Бродского, Л.—М., «Искусство», 1939, 153 стр.
Gantinelli R., Jacques-Louis David, P.— Bruxelles, Van Oest, 1930,
125 p., ill.
D e l é с 1 u ζ e Ε.-J., Louis David, son école et son temps, P., Didier, 1855,
IV, 452 p.
Humbert Α., Louis David peintre et conventionnel. Essai de critique
marxiste, P., éd. Hier et auj., [1947], 184 p.
Rosenthal L., Louis David, P., Ronam, [1905], IX, 176 p., ill.
Saunier Gh., Louis David, P., Laurens, [1904], 128 p., ill.
19*
563
Катрмер де Кенси
Сочинения:
Quatremère de Quincy Α. Gh., Gonsidérations sur les arts du dessin
en France, P., 1791.
Quatremère de Quincy A. Gh., Considérations morales sur la
destination des ouvrages de l'art ou de l'influence de leur emploi sur le génie et
le goût, P., 1815.
Quatremère de Quincy A. Gh., Dictionnaire historique
d'architecture, t. 1—2, P., Le Glére, 1832.
Quatremèrede Quincy A. Gh., Essai sur la nature, le but et les moyens
de l'imitation dans les beaux-arts, P., Wurtz, 1825, XII, 435 p.
Quatremère de Quincy A. Gh., Le Jupiter Olympien ou l'art de la
sculpture antique considéré sous un nouveau point de vue, P., 1815.
Литература:
J о u i η Α., Antoine Chrisostome Quatremère de Quincy, P., 1892.
Schneider R., L'esthétique classique chez Quatremère de Quincy (1805—
1823), P., Hachette, 1910, VIII, 168 p.
Эмерик-Давид
Сочинения:
Eméric-David T. В., Discours historique sur la peinture moderne, P.,
[18071, 100 p.
Eméric-David T. В., Musée olympique de l'école vivante des beaux-
arts ou considérations sur la nécessité de cet établissement et sur les moyens
de le rendre aussi utile qu'il peut être, P., Plassan, [1796], 51 p.
Eméric-David T. В., Recherches sur l'art statuaire, considéré chez les
anciens et chez les modernes, P., Renouard, 1863, VIII, 348 p.
Eméric-David T. В., Vie des artistes, anciens et modernes, architectes,
sculpteurs, peintres, verriers, archéologues... réunies et publ. par P. Lacroix,
P., Renouard, 1862, VII, 348 p.
Литература:
M u s t ο x i d i Th. M., Histoire de l'esthétique française (1700—1900), P.,
Champion, 1920, p. 82—83.
Энгр
Сочинения:
Ingres J. Α., Cahiers littéraires inédits, P., Presses univ. de France, 1956,
96 p.
Ingres J. Α., Ecrits sur l'art. Textes recueillis dans les carnets et dans la
correspondance de Ingres. Préf. de R. Cogniat, P., La jeune parque, 1947, XIV,
85 p.
Ingres J.-A., Ingres, d'après une correspondance inédite, introduction,
commentaires, et notes par Boyer d'Agen, P., Daragon, 1909, 543 p.
«Ingres raconté par lui-même et par ses amis», t. 1—2, Vésenaz — Genève, Cailler,
1947-1948.
«Энгр об искусстве». Составитель, автор вступит, ст. и коммент. А. Н. Изер-
гина, М., Изд-во Акад. худ. СССР, 1962, 171 стр.
564
Литература:
Α ί a ζ а г d J., Ingres et l'ingrisme, P., Michel, 1950, 168 p.
A m a u r y - D u ν a 1 E., L'atelier d'Ingres, P., Grès, 1925, IV, 252 p.
Delaborde H., Ingres, sa vie, ses travaux, sa doctrine, P., Pion, 1870, 385 p.
Schienoff Ν., Les sources littéraires de J.-A.-D. Ingres, P., Presses univ. de
France, 1956, 387 p.
Ж. де Сталь
Сочинения:
Staël A. L. G. de, De la littérature considérée dans ses rapports avec les
institutions sociales. Ed. critique par P. Van Tieghem, t. 1—2, P., Genève,
Droz, Minard, 1959.
Staël A. L. G. de, De l'Allemagne. Nouv. éd., t. 1—5, P., Hachette, 1959—
1960.
Staël A. L. G., Correspondance générale. Texte établi et présenté par
B. W. Pasinski, t. 1—2, [P.J, Pauvert, 1960—1962.
Литература:
Никольский Α., Литературные взгляды де Сталь в ее ранних
произведениях.— «Научные труды высш. учеб. заведений Литов. ССР», лит., вып. 5,
1963, стр. 113—129.
Реизов Б. Г., Мадам де Сталь. Франция и Германия.— Мадам де Сталь.
Теория драмы.— В кн.: Реизов Б. Г., Между классицизмом и
романтизмом, [Л.], 1962, стр. 50—121.
Gibelin J., L'esthétique de Schelling et L'Allemagne de madame de Staël,
P., Champion, 1934.
Henning I.-A., L'Allemagne de Mme de Staël et la polémique romantique,
P., Champion, 1929, 326 p.
Schazmann P.-E., Bibliographie des œuvres de m-me de Staël. Préf. de
F. Baldensperger. Introd. de J. de Pange, P.—Neuchâtel, Attinger, 1938, 96 p.
Van Tieghem Ph., Pour une esthétique ouverte: Mme de Staël.—In: Van
Tieghem Ph., Les grandes doctrines littéraires en France, P., 1963,
p. 159—170.
Гюго
Сочинения:
H u ц о V., Œuvres complètes, t. 1—30, P., 1889—1893.
Hugo V., Œuvres complètes, t. 1—45, P., Albin Michel, 1904—1952.
Hugo V., Journal. 1830—1848. Publ. et prés, par H. Guillemin, P., Gallimard,
1954, 382 p.
Гюго В., Собр. соч., т. 1—15, M., Гослитиздат, 1953—1956.
Гюго В., Статьи о писателях. [Пер. Н. Рыковой и др., примеч. С. Брахман],
М., Гослитиздат, 1956, 47 стр.
Литература:
Б о н τ Φ., Рыцарь мира. Пер. Н. Жарковой и Н. Немчиновой. Предисл.
В. Николаева. Ред. Е. Бабун, М., Изд-во иностр. лит., 1953, 136 стр.
Волисон И. Я., Литературно-эстетические взгляды Виктора Гюго
тридцатых — шестидесятых годов.— «Учет записки Харк. держ. 6i6. ш-та»,
1959, вып. 4, стр. 105—125.
Нусинов И., Виктор Гюго,— В кн.: Нусинов И., Избранные статьи
по русской и западной литературе, М., 1959, стр. 279—328.
565
Обломиевский Д., Виктор Гюго в эпоху Реставрации и Июльской
монархии.— В кн.: Обломиевский Д., Французский романтизм,
М., 1947, стр. 257—291.
Резник Р. Α., О мировоззрении и эстетических взглядах Виктора Гюго.—
«Ученые записки Саратов, ун-та», 1948, т. 20, вып. филол., стр. 186—243.
Трескунов М., Виктор Гюго. Очерк творчества, изд. 2, доп., М.,
Гослитиздат, 1961, 475 стр.
Aragon L., Hugo, poète réaliste, P., Ed. sociales, 1952, 62 p. (Coll.
Problèmes).
Froment-Guieysse G., Victor Hugo, t. 1—2, P., Ed. de l'empire
français, [1948].
J о u s s e i η Α., Le pittoresque dans le lyrisme et dans l'épopée. (L'esthétique
de Victor Hugo), P., 1920, 223 p.
M a 1 1 i ο η J., Victor Hugo et l'art architectural, P., Presses univ. de France,
1962, 743 p.
Ρ e 1 1 i e r H., La philosophie de Victor Hugo, P., 1904, 234 p.
Renard Α., L'esthétique de Victor Hugo.— «Le contemporain», 1874, août.
R о о s J., Les idées philosophiques de Victor Hugo, PM Nizet, 1958, 155 p.
Rossé Α., Les théories littéraires de Victor Hugo, Berne, Delémont, Boéchat,
1904, 122 p. Thèse.
R u d w i η M., Bibliographie de V. Hugo, P., Belles lettres, 1926, 44 p.
Tor tel J., Notions sur l'esthétique de Victor Hugo.—«Cahiers du Sud», 1953,
№ 311.
«Victor Hugo et la musique».— «Revue musicale», 1935, № 159, num. spec.
С e н τ - Б e в
Сочинения:
Sainte-Beuve Ch. Α., Œuvres. Texte présenté et annoté par M. Leroy,
t. 1-2, P., Gallimard, 1951—1956.
Sainte-Beuve Ch. Α., Correspondance générale. Recueillie, choisie et
annot. par J. Bonnerot, t. 1—12, P., Stock, 1935—1961.
Литература:
Обломиевский Д., Сент-Бев — поэт.— В кн.: Обломиевский Д.,
Французский романтизм, М., 1947, стр. 177—188.
Цвейг С., Сент-Бев.— В кн.: Цвейг С, Собр. соч. в 7-ми томах, т. 7,
М., 1963, стр. 385—397.
Billy Α., Sainte Beuve. Sa vie et son temps, t. 1—2, P., Flammarion, [1952].
Bonnerot J., Bibliographie de l'œuvre de Sainte-Beuve, t. 1—4, P.,
Giraud-Badin, 1937.
Bonnerot J., Demi-siècle d'études sur Sainte-Beuve. (1904—1954), P.,
Belles lettres, 1957, 177 p.
Lehman A. G., Sainte-Beuve. A portrait of a critic. (1804—1842), Oxford,
Clarendon press, 1962, XVI, 430 p.
Leroy M., La pensée de Sainte-Beuve, P., Gallimard, 1940, 247 p.
Regard M., Sainte-Beuve, P., Hatier, 1959, 223 p.
Жорж Санд
Сочинения:
Sand G., Questions d'art et de littérature par George Sand, P., Calmann Levy,
1878, 434 p.
566
Sand G., Correspondance inédite. Publ. avec une introd. et des notes par S.
André-Maurois. Préf. d'A. Maurois, P., Gallimard, [1953], 405 p.
Sand G., Correspondance. Journal intime (1834). Nombreux documents,
annexes et lettres inédites. Texte établi, annoté et présenté par L. Evrard, Monaco,
éd. du Râper, 1956, 328 p.
С a h д Ж., Избранные сочинения. Сост. и вступит, ст. М. Елизаровой, т. 1—2,
М., Гослитиздат, 1950.
Литература:
X а τ и с о в а Т. Г., Жорж Санд о литературе (статьи 30—40-х годов).— В кн.:
«Литература и эстетика», Л., 1960, стр. 198—214.
Каренин В., Жорж Санд. Ее жизнь и произведения, т. 1—2, Спб.— Пг.,
1899—1916.
Gaudibert Р., George Sand et les arts plastiques.—«Europe», 1954, № 102—
103, p. 59—67.
L'H ο ρ i t a 1 M., La notion d'artiste chez George Sand, P., Boivin, 1946, 310 p.
Karénine W., George Sand. Sa vie et ses œuvres, t. 1—4, P., OUendorff-
Plon, 1899—1926.
Ma rix-Spire Th., Les romantiques et la musique. Le cas George Sand,
P., Nouvelles éd. latines, [1954], 710 p., bibl. p. 627—665.
Maurois Α., Lélia ou La vie de George Sand, [P.], Hachette, [1954], 563 p.
Ρ a i 1 1 e r ο η M.-L., George Sand, t. 1—2, P., Grasset, 1938—1942.
Thomas E., George Sand, P., Ed. univ., 1959, 139 p.
Делакруа
Сочинения:
Delacroix E., Œuvres littéraires, t. 1—2, P., Crès, [1923] (t. 1. Etudes
esthétiques; t. 2. Essais sur les artistes célèbres).
Delacroix E., Correspondance générale. Publ. par A. Joubin, t. 1^-5, P.,
Pion, 1935—1938.
Delacroix E., Journal. Notes et éclaircissements par P. Fiat et R. Piot,
t. 1—3, P., Plon-Nourrit, s. a.
Делакруа Э., Дневник. Пер. T. M. Пахомовой. Ред. и предисл. M. В.
Алпатова, т. 1—2, М., Изд-во Акад. худ. СССР, 1961.
Делакруа δ., Мысли об искусстве. [Пер. М. Казениной. Вступит,
ст. и коммент. В. Прокофьева], М., Изд-во Акад. худ. СССР, 1960,
282 стр.
Литература:
Π и о Р., Палитра Делакруа. Пер. А. Н. Тихомирова, М.— Л., йзогиз, 1932,
44 стр.
Ситник К. Α., Зжен Делакруа. 1798—1863, М.— Л., «Искусство», 1947,
39 стр.
E s с h о 1 i е г R., Delacroix — peintre, graveur, écrivain, t. 1—3, P., Floury,
1926—1929.
E scholi er R., Eugène Delacroix, P., Cercle d'art, [1963], 247 p., ill.
G i Ilot H., Eugène Delacroix. L'homme, ses idées, son œuvre, P., Belles
lettres, 1928, III, 394 p.
Horner L., Baudelaire, critique de Delacroix, Genève, Droz, 1956, X, 200 p.
Julli a η Ph., Delacroix, P., Michel, [1963], 248 p.
Mohrenwitz L., Eugène Delacroix und die Romantik in Frankreich,
Frankfurt a/M., 1913, 42 S.
567
M r a s G. P., Literary sources of Delacroix's conception of the sketch and the
imagination.— «Art bulletin», 1962, June, p. 103—111.
R о g e_r - M a r χ C, Centenaire de Delacroix. Le plus grand des critiques d'art,—
«Revue de Paris», 1963, № 4, p. 101—111.
Rudrauf L., Eugène Delacroix et le problème du romantisme artistique,
P., Laurens, 1942, 382 p.
Stavinohovâ Z., Gautier — critique de Delacroix (une page de rhistoire
de la critique d'art comme genre littéraire).— «Zagadnienia rodzajow lite-
rackich», t. 3, z. 2 (5), 1960, s. 77—93.
Taslitzky В., Delacroix et le romantisme français,— «Nouvelle critique»,
1963, mars, № 143, p. 112—134.
Берлиоз
Сочинения:
Berlioz H., A travers chants, 3 éd., P., Lévy, 1880, 352 p.
Berlioz H., Les grotesques de la musique. Nouv. éd., P., Calmahn-Lévy,
1880, 311 p.
Berlioz H., Mémoires de Hector Berlioz, comprenant ses voyages en Italie,
en Allemagne et en Angleterre, t. 1—2, P., Calmann-Lévy, 1926.
Berlioz H., Les musiciens et la musique, 2 éd.*, P., Calmann-Lévy, [1903],
L, 348 p.
Berlioz H., Les soirées de l'orchestre, 3 éd., revue et corr., P., Lévy, 1871,
428 p.
Berlioz H., La vie de Berlioz racontée par Berlioz. Textes rassemblés par
J. Roy. Prép. de D. Milhaud, PM Julliard, 1954, 275 p.
Berlioz H., Les années romantiques. 1819—1842. Correspondance inédite.
Publ. par J. Tiersot, P., 1908.
Berlioz HM Correspondance, 1819—1868. Avec une notice biogr. inédite
par B. Bernard, P., Calmann-Lévy, 1879, 361 p.
Berlioz H., Le musicien errant. 1842—1852. Correspondance publ. par J.
Tiersot, P., Calmann-Lévy, s. a., XX, 380 p.
Berlioz H. Lettres choisies, P., 1951, 160 p. («Les belles lectures», N 177).
Berlioz H., New letters. Nouvelles lettres. 1830—1868. With introd.,
notes a. English transi, by J. Barzun, N. Y., Columbia univ. press, 1954, XIX,
332 p.
Берлиоз Г., Избранные статьи. Пер., сост., вступит, ст. и прим.
В. Н. Александровой и Е. Ф. Бронфин, М., Музгиз, 1956, 406 стр.
Берлиоз Г., Мемуары. Пер. О. К. Слезкиной. Вступит, ст. А. А. Хохлов-
киной. Ред. пер. и прим. В. Н. Александровой и Е. Ф. Бронфин, М.,
Музгиз, 1961, 916 стр., с илл.
Литература:
Александрова В. Н. и Бронфин Ε. Ф., Гектор Берлиоз —
музыкальный критик.—В кн.: Берлиоз Г., Избранные статьи, М., 1956, стр. 5—
30.
К о н е н В., Берлиоз-критик.— «Советская музыка», 1957, № 10, стр. 137—
140.
Ρ о л л а н Р., Музыканты наших дней, М., 1938, стр. 7—63.
Соллертинский И. И., Берлиоз, М., Музгиз, 1962, 80 стр.
Соллертинский И., Берлиоз — музыкальный критик.— «Советское
искусство», 1938, ' 28 мая.
568
Стасов В. В., Письма Берлиоза. [Общ. ред., вступит, ст. и примеч.
А. С. Оголевца], М,, Музгиз, 1954, 31 стр. (Русская классическая
музыкальная критика).
Хохловкина Α. Α., Берлиоз, М., Музгиз, 1960, 547 стр.
Barraud Η., Hector Berlioz, {P.], Costard, [1955], 286 p.
В a r ζ u η J., Berlioz and his century, N. Y., 1956, 448 p. (Meridian books).
Boschot Α., La jeunesse d'un romantique. Hector Berlioz. 1803—1831.
D'après de nombreux documents inédits. Nouv. éd., P., Pion, [1946], 316 p.
Boschot Α., Un romantique sous Louis-Philippe. Hector Berlioz. 1831—
1842. D'après de nombreux documents inédits. Ed. rev. et corr., P., Pion,
[1948]; 382 p.
Boschot Α., Le crépuscule d'un romantique. Hector Berlioz. 1842—1869.
Ed. rev. et corr., P., Pion, [1950], 451 p.
G о q u a r d Α., Berlioz, P., Laurens, s. a., 127 p.
«Hector Berlioz (1803—1869)». Sous la dir. d'A. Richard, P., Richard-
Masse, [1956], 147 p. («La revue musicale», N 233).
Hopkins M. G., A bibliography of the musical and literary works of Hector
Berlioz (1803—1869), [Edinburgh], Edinburgh bibl. society, 1951, XIX,
20Ö p., ill.
Pro d'h о m m e J.-G., Hector Berlioz (1803—1869). Sa vie et ses œuvres
d'après les documents nouveaux. Suivi d'une bibliographie musicale et littéraire,
P., Delagrave, s. a., 495 p.
Rolland R., Musiciens d'aujourd'hui, 7 éd., P., Hachette, 1917, 278 p.
Valensi Th., Le chevalier «quand-même» Berlioz, Nice,. E. L. F., [1955],
221 p.
Valensi Th., Fin et gloire de Berlioz, Nice, E. L. F., 1956, 221 p.
Ρ С Τ Ε Τ Κ Κ Α
ФРАНЦУЗ С КОГО
У Τ ОПИЧЕ СКОГО
социализма
Социальные утописты прошлого, отталкиваясь от
несовершенств и противоречий современного им
строя, создавали планы идеального общества,
гармоничного и прекрасного. У них, как правило, нет
стройных эстетических теорий, и многие вопросы,
относящиеся к области искусства, оставались вне
поля их зрения. Главными для
социалистов-утопистов были проблемы отношения к собственности,
организации производства и распределения, и эти
вопросы они решали с большей или меньшей последовательностью
и глубиной, выступая против принципа частной собственности,
создавая силой своего воображения картины строя, свободного от
эксплуатации, строя, при котором труд — первая обязанность каждого
гражданина. Труд — средство удовлетворения всех потребностей
человека, в том числе и потребностей художественных, полагали
утописты. Но сам уровень этих потребностей граждан идеальных об-
570
ществ в конечном счете определялся уровнем развития
производительных сил эпохи, в которую жили авторы утопий. Это,
разумеется, накладывало свой отпечаток на их построения.
В произведениях ранних утопистов сильны черты
уравнительности и аскетизма. Французский утопист XVII века Д. Верас пишет,
что в стране севарамбов запрещены «бесполезные и пустые
искусства» 1: В воображаемом государстве французского утописта
XVIII века Морелли действуют строгие законы против роскоши,
граждане ходят в скромных форменных платьях, соблюдают
умеренность в одежде и питье 2. В республике бабувистов только
физический труд может быть основанием для приобретения прав
гражданства. Судя по тому, что в списке полезных занятий, включенном
в проект их «Декрета об управлении», есть только «механические
и ремесленные искусства», представители изящных искусств
оказываются «иностранцами», не пользующимися политическими
правами 3. Правда, этот взгляд разделялся не всеми бабувистами. В одном
из своих писем 1795 года Бабеф заявляет, что науки и искусства не
только не погибнут, но получат новый импульс к своему развитию;
они не будут более приспособляться ко вкусам и капризам богатых
меценатов и поднимутся до больших высот, движимые стремлением
к общественной пользе 4.
Представители французского утопического социализма первой
половины XIX века не вполне освободились от уравнительных и
наивно-морализаторских тенденций своих предшественников. У
Дезами, например, мы встречаем высказывания против роскоши, а в
список профессий, подлежащих упразднению при строе общности,
он включает паяцев и скоморохов 5.
Свободный труд приобретал в представлениях утопических
социалистов эстетический характер. Фурье, исходя из своей теории
страстей, полагал, что в гармоническом обществе, где отношения
между людьми будут строиться на основе свободного
взаимодействия страстей, каторжный труд из-под палки превратится в труд
привлекательный. Фурье был убежден, что в нормальных условиях
труд представляет органическую потребность человека, поэтому при
строе гармонии не может быть тунеядцев и паразитов. Многие
страницы своих произведений Фурье посвящает изложению способов
1 Д. Верас, История севарамбов, М., 1956, стр. 263.
2 См.: Морелли, Кодекс природы, Мм 1956, стр. 216.
3 См.: Ф. Буонарроти, Заговор во имя равенства, т. II, М., 1963,
стр. 296.
4 См.: G. Babeuf, Textes choisies, P., 1950, p. 94.
6 См.: T. Дезами, Кодеки общности, M., 1956, стр. 163—164.
571
сделать труд не только удовольствием, но и подлинным
наслаждением, подчас ставя знак равенства между трудом и игрой, забавой.
Мысли Фурье о свободном радостном труде восприняли Дезами,
Вильгардель и другие французские утописты первой половины
XIX века.
Уже ранние утописты выдвигали принцип распределения
«каждому по потребностям» в идеальном обществе, но в том, что
касается предметов удовольствия и наслаждения, у Т. Мора этот
принцип подвергался значительным ограничениям. Морелли допускает,
что предметов, удовлетворяющих стремление к наслаждениям,
может не хватать, и тогда общество должно будет ввести строго
нормированное распределение. Особенно последовательно
уравнительная регламентация проводится в проектах бабувистов. Таким
образом, проблему соотношения полезного и приятного ранние утописты
решали в пользу первого. Среди утопистов XIX века четкую
постановку этого вопроса мы видим у Кабе: в первую очередь
обеспечиваются потребности необходимого, затем полезного и в последнюю
очередь приятного. Фурье принимает деление материальных и
духовных предметов, потребных человеку в идеальном обществе, на
полезные и приятные. Однако он высказывается против
примитивного понимания этого деления. Нельзя, говорит он, обеспечить
народу необходимое без одновременного обеспечения ему приятного.
Человек — существо сложное. Человеческое общество должно идти
к добру и красоте одновременно, не отделяя в своих взглядах
приятное от полезного, иначе оно впадет в духовную нищету. Те, кто
проповедует только добро, только полезное, не стремясь к красоте
и удовольствию, извращают ум человека и ввергают его в
анархию1 .
Большинство социалистов-утопистов понимало искусство как
социальное явление и в том смысле, что оно создается в обществе его
членами, и в том смысле, что оно активно участвует в жизни
общества, содействуя его развитию или его разложению. Были утописты,
которые ставили искусство в обществе в весьма узкие рамки или
даже отрицали его необходимость для строя будущего. Но не было
таких, которые мыслили бы искусство вне социальной
действительности, которые были бы сторонниками теории «искусства для
искусства». Перед 1848 годом ряд представителей французского
утопического социализма защищает тезис о том, что искусство должно
быть не только общественно значимым, но и социалистическим,
то есть оно должно пропагандировать в художественной форме идеи,
1 См.: Шарль Фурье, Избранные сочинения, т. II, М.—-Л., 1951, стр.
190—191.
572
которые они отстаивали. При этом почти все утописты связывают
искусство с общественным воспитанием молодого поколения.
Уже Т. Мор отмечал, что способности утопийцев, изощренные
науками, удивительно восприимчивы к изобретению искусств,
содействующих в каком-либо отношении удобствам и благам жизни 1.
Дезами видит в науках и искусствах мощное орудие подъема
творческой активности народа при строе общности. Науки и
искусства, писал французский журнал 40-х годов XIX века «Ля Фратер-
ните», будут служить при коммунизме не кучке богатых, а всему
обществу, увековечивая для будущего акты преданности и
добродетели, внушая людям энтузиазм, воспламеняя сердце и
воспитывая таким образом добрых граждан 2. В утопической Икарии Кабе
театр и пресса служат целям упрочения морали, братства и любви
к законам.
Мысль о социальной функции искусства достигает большой
теоретической законченности в построениях сеи-симонистов. Эстетика
сен-симонистов тесно связана с двумя особенностями их философии
истории: эволюцию общества они мыслят как закономерный процесс
развития от более низких ступеней к более высоким; вместе с тем
сам этот прогресс определяется, по их мнению, факторами
нравственности, религии. Отойдя от идеалистических схем рационализма и
теории естественного права, сен-симонисты оказались в плену
другой идеалистической концепции.
Общественное бытие человека, говорят сен-симонисты, состоит
из ряда промышленных фактов, ряда развития науки и ряда
развития чувства, симпатий. Эти ряды органически связаны друг с
другом, и развитие их образует единый общественный процесс.
Изящные искусства являются выражением чувства, одного из трех видов
бытия человечества, которое без них было бы безгласно. «Именно
они побуждают человека к общественным актам; увлекаемый ими,
он начинает смотреть на общий интерес как на свой собственный» 3.
Социальные отношения определяют упадок или расцвет искусства,
больше того — определяют характер самого искусства. В настоящее
время, утверждают сен-симонисты, лучшие художники отражают
только антиобщественные чувства, потому что общество находится
в критическом состоянии, у него нет великой нравственной цели.
В античности, когда любовь к отечеству воодушевляла граждан,
изящные искусства достигли большого могущества, потому что
самопожертвование и поэтическое вдохновение неразлучны. Положе-
1 См.: Т. Мор, Утопия, М.—Л., 1935, стр. 154.
2 См.: В. П. Волгин, Французский утопический коммунизм, М., 1960,
стр. 186—187.
3 «Изложение учения Сен-Симона», М., 1961, стр. 151—152.
Ö73
ния о социальной роли искусства, развивавшиеся многими
французскими утопическими социалистами и особенно ярко
сформулированные сен-симонистами, явились важным завоеванием эстетической
мысли человечества.
Ю. Я. МАДОР
СЕН-СИМОН И СЕНСИМОНИСТЫ
Общественной философии Сен-Симона (1760—1825) в высокой степени
присуща идея социального прогресса. Развитие общества мыслится великим
утопистом как некая аналогия развитию человеческого организма. Каждому
возрасту свойственна склонность к определенному роду деятельности. Ребенок
увлекается ремеслами (этому периоду соответствует та ступень цивилизации,
на которой стоял Древний Египет). В юности проявляются врожденные
склонности к изящным искусствам, и молодость человеческого общества
совпадает с расцветом изящных искусств,— недаром до сих пор греки служат
нам образцом, подняв искусство на такую высоту, которая больше уже не
была достигнута.
Одним из доказательств несовершенства современного ему общества Сен-
Симон считает тот факт, что богатые и сановные круги мешают развитию
науки и изящных искусств, содействующих благоденствию наций. Постоянной
целью общественной организации при новом строе должно быть возможно
лучшее применение знаний, добытых науками и искусствами, для
удовлетворения потребностей человека. Когда будет учреждаться система общественного
блага, то в этом великом деле люди искусства, люди с богатым воображением
пойдут впереди. Художники включаются Сен-Симоном в разряд («партию»)
производителей, которые и составляют «истинный корпус нации» вместе
сучеными, земледельцами, фабрикантами и торговцами 1.
По мысли Сен-Симона, искусство в новом обществе должно быть тесно
связано с религией и культом. «Теология,— утверждает Сен-Симон,— сестра
искусств» 2. Культ, полагал Сен-Симон, необходим для того, чтобы
сосредоточивать внимание людей на общих интересах, привести их к пониманию того,
что все люди — братья. Искусство содействует целям культа тем, что
возбуждает в людях страх перед ужасным наказанием за поведение, несообразное
предписанному для них, или соблазняет их теми радостями, которые сулит им
добропорядочное поведение. Здесь и прилагают свои способности искусные
проповедники, поэты, музыканты, живописцы, скульпторы и архитекторы.3
1 С е н - С и м о н, Избранные сочинения в 2-х томах, т. II, М., 1948, стр. 119.
2 Там же, стр. 301.
3 Τ а м ж е, стр. 407—412.
574
Таким образом, как ни высока оценка Сен-Симоном роли искусства в
новом обществе, оно все же выполняет функцию своеобразной служанки
реформированной религии («нового христианства»). Сен-Симон предлагал создать
Академию моральных наук, которая должна состоять из выдающихся
моралистов, теологов и правоведов, равно как и из поэтов, художников, скульпторов
и музыкантов,— по мысли Сен-Симона, составители теорий не должны быть
отделены от людей, которые занимаются их практическим приложением.
Создание такой Академии он полагал возможным и в условиях монархической
Франции его дней.
Ученики Сен-Симона С.-А. Базар (1791—1832), В.-П. Анфантен (1796—
1864), О. Родриг (1794—1851), Л. Алеви (1802—1883) и другие
систематизировали и в ряде случаев значительно развили взгляды учителя. Важную роль
в концепции сен-симонистов играет их деление человеческого общества на
органические и критические эпохи. В органические эпохи в общественных
отношениях царит гармония и единство. Таковы в античности времена Перикла
и Августа, таковы средние века в Европе, когда католичество и феодализм
выступали во всем своем блеске. В критические эпохи старый порядок
подвергается критике и разрушению до тех пор, пока миру не открывается новый
принцип порядка; во всем царит анархия, эгоистические интересы получают
перевес над общим интересом: утеряв свою связь с ближними, человек
приходит к безверию. Такова эпоха, отделяющая язычество от христианства, такова
эпоха от Лютера до наших дней. В критические эпохи в обществе воцаряются
печаль, презрение, отчаяние: в искусстве мы наблюдаем появление Ювеналов,
Персиев, Гёте и Байронов К
Всегда и везде обществу давали направление люди, обращавшиеся к сердцу,
к чувству; рассуждения, умозаключения имели при этом лишь второстепенное
значение. Здесь сен-симонисты вступают в спор с О. Контом, который полагал,
что, наоборот, ученые дают художникам план социального будущего, а те,
воздействуя на чувства массы, добиваются повсеместного признания этого
плана. Художники в этом случае, заявляют сен-симонисты, не смогут
проникнуться страстным интересом к холодным научным доказательствам. Человек
обладает симпатической способностью, которая привязывает его к окружающему
миру, открывает ему взаимосвязь различных частей этого мира, ведет к
единению людей в одной ассоциации. Художником называется человек, в высшей
степени одаренный этой симпатической способностью. В эпохи органические
функции художников более всего подходят священникам, в эпохи
критические — поэтам. В будущем эти два вида деятельности сольются в одну
функцию, ибо самая высокая поэзия будет в то же время самой могучей
проповедью 2.
1 См.: «Изложение учения Сен-Симона», стр. 151—154, 206, 422.
2 Там же, стр. 515.
575
Непосредственно и через произведения Пьера Леру (1797—1871), который
в ранний период своей деятельности прошел школу сен-симонизма, идеи сен-
симонистской школы оказали несомненное, иногда весьма значительное
влияние на таких художников Франции, как Жорж Санд и Виктор Гюго.
[Роль художников в установлении нового общества]
[...] Когда приступят непосредственно к работе по установлению
системы общественного блага, то в этом великом деле люди
искусства, люди с богатым воображением пойдут впереди. Они возвестят
будущее человечества; они отнимут у прошлого золотой век, чтобы
обогатить им будущие поколения; они воодушевят общество на
поднятие своего благосостояния, нарисовав перед ним прекрасную
картину новых успехов, внушив ему, что вскоре все члены общества
будут пользоваться наслаждениями, которые до этого времени были
достоянием лишь одного весьма малочисленного класса; они воспоют
благодеяния цивилизации и приведут в действие для достижения
своей цели все средства изящных искусств, красноречие, поэзию,
живопись, музыку — словом, они разовьют поэтическую сторону
новой системы.
Ученые, главное занятие которых заключается в наблюдении
и рассуждении, докажут возможность большого подъема
благосостояния всех классов общества, как самого многочисленного класса
пролетариев, так и класса самых богатых людей. Они выяснят
наиболее верные и быстро действующие средства обеспечить
непрерывность труда массы производителей; они разработают основные
начала общественного образования, они установят законы гигиены
социального организма, и в их руках политика станет дополнением
к науке о человеке.
Самые выдающиеся промышленники, сосредоточивая все свои
мысли на производстве, обсудят, что может быть немедленно
проведено в жизнь из тех проектов, которые задуманы и разработаны
в общественных интересах совокупными трудами людей науки и
искусства; они обдумают средства исполнения и руководство ими
предоставят банкирам, стоящим всегда во главе финансовых дел.
Вот тот путь административной власти — твердый, прямой и
честный, по которому пойдут люди науки, искусства и
промышленности, когда им будет доверено руководство общими интересами.
Сен-Симон, Избранные сочинения, т. II,
стр 335—337. Перевод Л. С Цетлина.
576
[Характер и цель искусства. Художник и критические эпохи]
Мы показали отсутствие общей цели в области науки и
промышленности; нам остается только бросить взгляд на изящные
искусства, чтобы, таким образом, охватить все виды человеческой
деятельности.
Когда переносишься мысленно к векам Перикла, Августа.
Льва X, Людовика XIV и затем окидываешь взором XIX столетие,
то нельзя не усмехнуться, и никому не приходит в голову проводить
между ними параллель; на этот счет, по крайней мере, все
единодушны. Правда, газеты утешают нас в этом печальном для нас
положении, уверяя, что мы в высшей степени позитивны, но такое
объяснение может служить лишь слабым утешением для людей,
знающих истинный смысл этого магического прилагательного,
которым так странно злоупотребляют.
Мы, со своей стороны, также признаем упадок и прозябание
изящных искусств, но мы приписываем его причинам коренного
характера, и обратиться к этим причинам тем более интересно, что
позже нам придется показать, какова подлинная роль изящных
искусств и как широко мы понимаем этот термин.
Изящные искусства являются выражением чувства, то есть
одного из трех видов бытия человечества, которое без них было бы
лишено языка; отсутствие их составило бы пробел в личной жизни,
как и в жизни общественной. Именно они побуждают человека к
общественным актам; увлекаемый ими, он начинает смотреть на
общий интерес как на свой собственный; они являются источником
самоотверженности, пылких и нежных привязанностей. И когда
в наши дни признают с некоторым самодовольством их
неполноценность, то мы видим в этом прискорбное признание черствости
общественных чувств и даже чувств индивидуальных. До какой роли
их низводят, когда выражать их считают бесплодным делом, когда
их принижают до степени простого развлечения?
Изящные искусства имеют две стороны: поэзию (или
воодушевление) и форму (или технику). Первая, несомненно, определяет
вторую; между тем мы можем наблюдать, как поэзия исчезает,
а техническое совершенство переживает ее. Теперь почти
исключительно занимаются формой; на природу чувств, истолковательни-
цей которых она должна быть, едва обращают внимание. Мы
оцениваем произведение искусства независимо от его воздействия на
наши симпатии, иными словами, мы рассматриваем его односторонне.
Вот почему изящные искусства застают нас равнодушными и такими
же оставляют нас. Добавим мимоходом, что в настоящее время
истинные художники, люди живого вдохновения, отражают только
577
антиобщественные чувства, ибо единственные поэтические формы,
в которых еще находишь воодушевление,— это сатира и элегия.
Правда, элегия теперь — язык нежных душ, избранных натур; но и
сатира и элегия одинаково направлены против социальных чувств:
страстным ли выражением отчаяния или выражением презрения,
которое своим адским смехом старается осквернить все чистое и
святое. Однако, не останавливаясь дольше на этом сюжете,
открывающем столь широкое поле для критики настоящего, вникнем
глубже в социальные отношения, общие и индивидуальные; мы
найдем в них причину упадка изящных искусств и в то же время
убедимся в действительном существовании здесь неурядицы, о
которой можно было догадаться уже по нарисованной нами картине
научной и промышленной деятельности. [...]
Критические эпохи, как и великие бегства с поля сражения,
отмечены печатью эгоизма. Уничтожены все верования, угасли все
общественные чувства, у священного огня нет больше весталок.
Поэт не является больше божественным певцом, поставленным в
первых рядах общества, чтобы служить человеку истолкователем,
давать ему законы, подавлять его отсталые наклонности,
раскрывать ему радости будущего и поддерживать, поощрять его
прогрессивное шествие; нет, поэт находит лишь мрачные песни. То он
вооружается бичом сатиры, его поэтический жар ищет себе
выхода в исполненных горечи словах, он обрушивается на все
человечество, внушает человеку недоверие, ненависть к себе подобным;
то ослабевшим голосом он воспевает в элегических стихах прелесть
одиночества, предается туманным грезам, рисует счастье в
уединении; а между тем, если бы человек, соблазнившись этими
печальными напевами, бежал от себе подобных, то вдали от них
нашел бы только отчаяние. Но эти речи более не в силах даже
увлекать, ибо к исходу критической эпохи человека не трогают больше
обращения к его сердцу; необходимо показать ему, что его
имущество в опасности. Посмотрите в самом деле на нынешних
главарей критики: когда они захотели придать популярность своей
системе, разве они призвали наших поэтов, живописцев, музыкантов?
Какую пользу они извлекли бы из них? Они могли затронуть в нас
лишь те струны, которые отзываются на личные вожделения.
Поэтому они вызвали призрак феодализма, они изобразили его нам
вооруженным с головы до ног, чтобы одной рукой вновь завоевать
церковную десятину, а другой — вырвать у купивших национальные
имущества их земельную собственность. В недавнее время, когда
было предпринято жестокое нападение на свободу печати, на
палладиум наших вольностей (как принято выражаться на языке
трибуны), то разве для ее защиты прибегли к общим, моральным сооб-
578
ражениям? Очень мало. Кому не известно, насколько ограничено
число людей, готовых вступиться за так называемый общий интерес!
Поэтому благоразумно обратились к чему-то более позитивному и
составили петиции — к выгоде издателей, типографов, торговцев
бумагой, брошюровщиков, наклейщиков и т. д.
Да, скажем прямо: изящные искусства не имеют больше голоса,
когда у общества утрачена любовь; поэзия не служит истолкователь-
ницей эгоизма. Для того чтобы истинный художник мог открыться,
ему нужен хор, который вторил бы его песням и воспринял
излияния его души.
«Изложение учения Сен-Симона», Мм 1961,
стр. 150—153, 155—157. Перевод Э. А. Желубов-
ской.
ФУРЬЕ
1772-1837
Ф. Энгельс назвал Фурье одним из тех мыслителей, которые «несмотря на
всю фантастичность и весь утопизм их учений принадлежат к величайшим
умам всех времен и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество
таких истин, правильность которых мы доказываем теперь научно...» 1. Это
относится и ко многим эстетическим идеям Фурье.
Вся критика Фурье современного общества («строя цивилизации») с его
каторжным трудом и моралью, пропитанной фальшью и лицемерием,
изображаемая им картина общества будущего с царящей в нем гармонией и
целесообразностью проникнуты «подлинно поэтическим духом...» 2.
Ненависть Фурье ко всякому принуждению и насилию, его восторг перед
истинной красотой не являются чем-то случайным; они составляют
органическую часть его мировоззрения, краеугольным камнем которого является
учение о страстях. Но в ситеме Фурье верные мысли смешаны с
идеалистическими фантазиями.
Фурье — деист. Он утверждает, что природа состоит из трех начал: бога,
материи и справедливости (математики). Бог воздействует на материю, но при
этом он ограничен необходимостью руководствоваться справедливостью.
Человек также состоит из трех начал: тела, разума и страстей. Значение
последних определяется тем, что все люди наделены страстями, «жадными к
наслаждениям» и возбуждающими «тысячи сильных желаний» 3. В
удовлетворении их состоит человеческое счастье — конечная цель человеческих
стремлений и главная работа самого бога, который, как утверждает Фурье, чужд како-
1К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 18, стр. 499.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 3, стр. 463.
3 Шарль Фурье, Избранные сочинения, т. I, М.—Л., 1951, стр. 177.
579
го бы то ни было аскетизма и, следовательно, не имеет ничего общего с
христианским богом.
Так как во вселенной царит единство, то по аналогии с законом, открытым
Ньютоном для материального мира, Фурье устанавливает для общественных
отношений «закон притяжения по страсти» и в этом видит свою историческую
заслугу.
Всего, согласно учению Фурье, имеется двенадцать «коренных» страстей,
из которых главных три: первая — кабалиса, «сильная страсть к интриге».
Эта страсть у человека настолько сильна, «что за недостатком действительных
интриг он жадно ищет интриг искусственных — в игре, в театре, в романах»;
вторая-—композита, «состояние упоения, порождаемое набором многих
удовольствий чувств и души, испытываемых одновременно». Это —
«воодушевляющая страсть», которая «создает восторженное согласие»; и, наконец, папийон-
на — «потребность в периодическом разнообразии». Благодаря этой страсти
человек избавлен от скуки и притупления чувств, ему не грозит ослабление
удовольствий и нездоровье в результате затянувшихся занятий. Как бы
синтезом всех страстей является тринадцатая страсть — унитеизм или гармонизм —
заключающаяся в жгучей потребности людей в единстве. Страсти стремятся
к свободному проявлению, к единству и согласию. Однако при нынешнем
общественном устройстве, при строе цивилизации страсти подавляются или
извращаются; большинство людей лишено возможности удовлетворить даже
самые элементарные потребности. Отсюда — всеобщее зло. Только при строе
гармонии, где отношения между людьми будут регулироваться не принуждением,
а свободным притяжением страстей, восторжествуют всеобщее довольство и
счастье.
Этот новый общественный строй будет состоять из фаланг-союзов серии
по страсти. Каждая серия, в свою очередь, будет подразделяться на группы,
в которые войдут лица, обладающие общим вкусом и наклонностями к той или
иной деятельности. В настоящее время при строе цивилизации нельзя
распознать эти вкусы и наклонности: они «растаптываются, заглушаются». При
строе же гармонии они будут легко обнаруживаться, им будет обеспечено
максимальное развитие, в результате чего колоссально возрастет
производительность труда, а следовательно, и обилие материальных и духовных благ.
[Труд как потребность и наслаждение]
Людям было бы совершенно бесполезно объединяться в трудовое
общество, если бы вся масса участников общественного договора не
находила в социальном порядке больше преимуществ, чем в
бездеятельном, или диком, состоянии.
Шарль Фурье, Избранные сочинения, т. II,
М.—Л., 1951, стр. 153—154. Перевод И. И. Зиль-
берфарба.
580
Действуя очень короткими сеансами, самое большое по полтора-
два часа, каждый может заниматься в течение дня семью-восемью
родами привлекательных работ, разнообразить следующий день,
посещать группы, отличные от тех, что накануне: этот образ
действия — требование одиннадцатой страсти, именуемой папийонной,
которая влечет к тому, чтобы порхать от удовольствия к
удовольствию, избегать чрезмерностей, в которые беспрестанно впадают
люди строя цивилизации, продолжающие одну работу на
протяжении шести часов, одно пиршество шесть часов, один бал шесть
часов, да еще ночью, в ущерб своему сну и здоровью.
Там ж е, т. III, стр. 152.
[...] Образуя, согласно математическим правилам, кантон из ста
сорока четырех приблизительно серий — по земледельческим
культурам, промышленным производствам, наукам и искусствам,
постоянно толкая их на борьбу друг с другом, можно возбудить между
ними столь живые интриги, рассеивать в их работах столько
различных интересов, что все серии окажутся захваченными всеобщим
притяжением, что они будут вовлекаться одна другой в дело
творения чудес труда и науки, не будучи побуждаемы соблазном
наживы. У них не будет иного двигателя, кроме порыва страсти,
слепого предрасположения к своим излюбленным вкусам; а их
одушевление будет столь сильным, что можно будет видеть, как миллионер,
нынешний сибарит, станет вставать до рассвета, чтобы оживлять
и поддерживать лично работы серий, в которых он будет принимать
участие.
Там ж е, т. И, стр. 228.
Ну а что же надо будет делать? — воскликнут тут. Ничего
иного, как развлекаться с утра до вечера, поскольку развлечения будут,
вовлекать в труд, ставший более привлекательным, чем сейчас
зрелища и балы.
Там же, т. III, стр. 66—67.
[Эстетическое воспитание]
[...] Я сказал, что наиболее выдающееся свойство воспитания при
строе гармонии — развивать с раннего возраста, с трех-четырех лет,
два десятка трудовых призваний даже у ребенка, который был бы
в условиях семейного быта строя цивилизации упорным лентяем,
и поднять этого ребенка на высоту научного и художественного
вкуса, материальной и интеллектуальной утонченности без какой-
либо иной меры предосторожности, кроме предоставления его
притяжению, природе, всем его прихотям.
Там же, т. III, стр. 228—229..
581
В шестимесячном возрасте, когда мы не помышляем о том,
чтобы давать малюткам и малейшее обучение, будут принимать
многочисленные меры предосторожности с целью образовывать и
утончать их чувства, приучать их к ловкости, предупреждать
исключительное пользование одной рукой, обрекающее другую руку на
вечную неумелость; приучать ребенка с колыбели к точности слуха,
устраивая пение трио и квартетов в залах сосунков и прогуливая
годовалых карапузов под звуки маленького оркестра со всеми
партиями.
Там ж е, т. III, стр. 354.
Опера приучает ребенка к размеренному единству, которое
становится для него источником выгоды и залогом здоровья. [...] Она
вовлекает детей с самого раннего возраста во все гимнастические
и хореографические упражнения. Притяжение с силой толкает их
к этому; именно здесь они приобретают ловкость, необходимую в
работах серий по страсти, где все должно выполняться с уверенностью,
размеренностью и единством, какие мы видим царящими в опере;
поэтому она занимает первое место среди движущих сил
практического воспитания раннего возраста.
Под наименованием оперы я разумею все хореографические
упражнения, даже упражнения с ружьем и кадилом.
Там ж е, т. III, стр. 439—440.
Социетарное воспитание рассматривает в ребенке тело как
дополнение и сопомощника души: оно считает душу как бы большим
барином, который прибывает в замок лишь после того, как его
управитель подготовил дороги; оно начинает с приучения тела в его
юном возрасте ко всем службам, какие будут подходящими для
души гармонийца, то есть к справедливости, правдивости, к
проявлениям согласованности, к размеренному единству.
Там ж е, т. III, стр. 441.
[Красота, добро и польза]
[...] Я соблюдал это правило общей связи в отношениях,
описанных в третьем и четвертом разделах: там я всегда выдвигал
вперед прекрасное и доброе — то и другое там связаны непрерывно;
я не пренебрегал там цветами ради картошки, как в прекрасные
дни 1793 года, когда по моральным соображениям сажали
картофель в тюильрийском саду; не пренебрегал я там картофелем ради
цветов, как то делают нынче наши совершенствователи, желающие
под предлогом вознесения на высоту философии изгнать опреде-
582
ленные занятия, которые они считают пошлыми и отсутствие
которых обрекает на неудачу занятия благородные; поэтому мы видим,
что парижане столь же невежественны в отношении прекрасного,
как и в отношении доброго. [...] Так все связано: если терпишь
неудачу в отношении прекрасного, потерпишь неудачу и в отношении
доброго — таков неизбежный подводный камень вне серий по
страсти.
Там ж е, т. III, стр. 590.
Полагают, что рассуждают разумно, когда говорят: нехорошо
приучать народ к удовольствиям, надо было бы только иметь
возможность обеспечить ему необходимое. Вам это никогда не удастся,
если вы не обеспечите ему одновременно удовольствия. Бог
сделал человека существом сложным, а не простым. Его коллективное
предназначение, предназначение человеческих обществ, является
сложным, а не простым. Они должны клониться к добру и красоте
соединенными, никогда не отделять в своих взглядах приятное от
полезного, в противном случае они не достигнут ни того, ни
другого, а впадут, как английский народ, в крайнюю нищету из-за
одной промышленности. Пусть не ссылаются на некоторые
исключения в виде возникающих колоний, где недостаток рабочих рук и
изобилие земли доставляют народу благосостояние на миг,— оно
прекратится очень скоро с ростом народонаселения. К тому же эти
небольшие исключения подтверждают то правило, что общества
должны стремиться к красоте и добру одновременно и не могут
достигнуть того или другого в отдельности. Мораль, проповедующая
нам противоположное, желающая, чтобы принимали в соображение
только добро, только полезное, не стремясь к красоте и
удовольствию, является самой обманной из наук, подлинным врагом
человека, ибо именно она извратила его ум в отношении социальной
политики и ввергает его в простую анархию, отвращает взоры от
сложного развития, стремления к красоте и добру соединенным.
Там же, т. II, стр. 190—191.
КАБЕ
1788-1856
В 40-х годах XIX века Этьен Кабе пользовался значительной
популярностью как автор коммунистической утопии «Путешествие в Икарию». В этой
книге изложен ряд теоретических вопросов, в том числе и взгляды автора на
583
роль искусства в современном ему обществе и при идеальном строе. Кабе не
был оригинальным мыслителем, взгляды его во многом эклектичны. Идею
о бесконечной способности человека к совершенствованию он заимствовал
у Тюрго и Кондорсе, мысли о народных празднествах и общественном
воспитании— у деятелей периода якобинской диктатуры; в его описаниях
организации производства и распределения при коммунизме немало черт, сходных
с социальными проектами Оуэна; на многих рассуждениях Кабе лежит печать
уравнительности, присущая бабувистской школе. Однако он расходится с
рядом бабувистов во взглядах на роль искусства. В некоторых документах ба-
бувистов выражалась мысль о несовместимости искусств со строгим
равенством; Кабе, напротив, предвидит, что при коммунизме искусство не только
не исчезнет, но получит неограниченные возможности для своего расцвета.
Кабе восторженно и многословно описывает великолепие зданий,
памятников архитектуры и скульптуры икарийцев, не выказывая, впрочем, большой
фантазии и оригинальности. Он считает, однако, что благоустройство и
известная роскошь икарийцев — результат определенного развития. Только что
вышедшие из недр старого общества люди не могут сразу позволить себе все это.
Поэтому Кабе выдвигает принцип: сначала нужно позаботиться о
предоставлении всем гражданам необходимого, затем полезного; лишь тогда, когда эти два
условия будут выполнены, можно будет с общего согласия стремиться к
удовольствиям. Здесь Кабе опять отдает дань эгалитарным тенденциям: и в
наслаждениях все члены общества должны быть равны. Определенно
регламентируется труд деятелей искусств. Республика, например, издает только те
произведения писателей, которые она сочтет хорошими и полезными. С другой
стороны, за свой труд деятель искусств получает такое же вознаграждение, как
и любой другой гражданин Икарии, ибо, как полагает Кабе, талант и гений
являются результатом воспитания и самый талантливый человек не может
приложить свои способности вне общества. Искусство играет большую роль
в Икарии. Кабе уделяет много места как критике состояния искусства в
современном ему обществе, так и похвалам артистическим наклонностям икарийцев.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ
[...] Я верую, что сперва нужно заботиться лишь о
предоставлении всем гражданам необходимого, затем можно подумать о
снабжении их всем полезным; когда все в равной мере будут обеспечены
необходимым и полезным, только тогда можно стремиться к
удовольствиям, при том, однако, условии, что все законным путем
выразят свое согласие, и все будут участвовать в этом, ибо в
наслаждениях должно господствовать полное равенство.
[...] Я верую, что эта система не только не уничтожит изящных
искусств, а, напротив, может быть, более всего будет способствовать
584
их развитию и совершенствованию, ибо никакая иная система не
концентрирует в такой степени национальные силы, так как она не
препятствует коммуне способствовать развитию всех видов искусств,
воздвигая общественные памятники и развивая прикладные
искусства до высшей степени изящества на радость всем гражданам.
Г. Люкс, Этьен Кабе и икарийский коммунизм,
Спб., 1906, стр. 319. Перевод В. А. Кожевникова
и Б. С. Мальцмана.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ИКАРИЮ
[...] Ах, как я жалею, что не смогу еще раз осмотреть их вместе
с моим братом! Ты увидел бы, что ни один фонтан, ни одна
площадь, ни один памятник не похож на другие и что в них
исчерпаны все разновидности архитектуры. Здесь ты вообразишь себя
в Риме, в Греции, Египте, Индии — всюду, и никогда ты не
придешь в ярость, как это случилось с нами в Лондоне перед собором
св. Павла при виде лавок, которые мешают охватить одним
взглядом весь ансамбль великолепного здания.
Нигде ты не увидишь большего числа картин, скульптурных
произведений, статуй, чем здесь в общественных зданиях и в
общественных садах. В то время как в других местах произведения
изящных искусств спрятаны в дворцах королей и богачей, в то
время как в Лондоне музеи, закрытые в воскресенье, никогда не
открыты для народа, который не может оставить работу, чтобы
посетить их в будни, здесь все достопримечательности существуют
только для народа и помещены только в тех местах, которые
посещаются народом.
А так как все это создается в республике при помощи
живописцев и скульпторов и все художники, получающие полное
содержание — пищу, одежду, квартиру и обстановку — от общества, не
имеют других побуждений, кроме любви к искусству и славе, и
другого руководителя, кроме вдохновения, то ты легко поймешь,
каковы последствия этого.
Ничего бесполезного и в особенности ничего вредного, но все
направлено к полезной цели! Ничего в угоду деспотизму и
аристократии, фанатизму и суеверию, но все в интересах народа и его
благодетелей, свободы и ее мучеников или против былых тиранов
и их приспешников.
Э. Кабе, Путешествие в Икарию. Часть первая,
М—Л., 1948, стр. 168—169. Перевод под ред.
Э. Л. Гуревича.
585
I...J — Вы видите,— сказал Динар,— насколько республика
превосходит монархию в организации прекрасных и благородных
празднеств, точно так же как она превосходит ее и своим общественным
и политическим строем.
Она превосходит ее равным образом и в организации игр и
развлечений, общественных или частных, ибо нет ничего в древнем
и современном мире, чего мы не изучили бы тщательно, чего мы
не знали бы и чего мы не использовали, чтобы заимствовать
хорошее и отвергнуть плохое.
С другой стороны, мы любим развлечения и находим, что
мудрость обязывает нас развивать все физические способности, данные
нам благодетельной природой, и пользоваться всеми сокровищами,
которые она рассыпала вокруг нас и для нас, если только разум,
бесценный дар ее доброты, присутствует во всех наших
наслаждениях.
Поэтому вы находите у нас, как и в других местах, все виды
театров, все игры, все развлечения, которые не имеют в себе ничего
вредного, и сама республика предоставляет с этой целью
гражданам необходимые помещения и предметы.
Республика не запрещает даже роскоши или излишка, ибо
нельзя назвать излишним наслаждение, которое не имеет никаких
неудобств. Но мы мудро установили три основных правила:
первое — все наши наслаждения должны быть дозволены законом или
народом; второе — о приятном следует заботиться лишь тогда,
когда есть все необходимое и полезное; третье — допускаются только
такие развлечения, которыми может пользоваться одинаково всякий
икариец.
Там же, стр. 575—576.
ДЕЗАМИ
1803—1850
Дезами — крупнейший теоретик утопического коммунизма начала 40-х
годов XIX века. Эстетические суждения Дезами, как и его философские и
социальные взгляды в целом, во многом опираются на те положения, которые были
выработаны участниками «Заговора во имя равенства»·—Бабефом, Буонарроти,
Марешалем и другими. Вместе с тем в ряде вопросов Дезами делает шаг
вперед, отражая прогресс коммунистической мысли за полустолетие, истекшее
со времени казни Бабефа и его товарищей. Дезами далек от того, чтобы
отрицать значение искусства в жизни общества. Он считает, что любовь к наукам
и искусствам, равно как и способности к ним, вытекают из природы человека
586
(«Кодекс общности», гл. XV, стр. 353—354). Поэтому Дезами порицает столь
ценимого всеми революционерами XVIII века Ж.-Ж. Руссо за то, что тот не
смог отличить подлинных духовных ценностей от роскоши и излишеств,
часто сопутствующих изящным искусствам и являющихся следствием
неравенства. Из того, что науки и искусства используются монополизирующей их
аристократией против народа, чтобы заковать его в цепи, вовсе не следует, что
этим орудием не должен пользоваться народ. В современном обществе под
прикрытием искусств гнездится немало порочных учреждений, говорит
Дезами. В списки профессий, подлежащих упразднению при строе общности, он
включает уличных скоморохов и паяцев, работников кабаре и кафе, игорных
и публичных домов.
Строй общности сделает достижения наук и искусств достоянием всего
народа. Науки и искусства будут содействовать той цели, к которой они
призваны,— служить движущей силой творческой активности. При строе общности
люди, конечно, будут ценить талант, но ученые или художники не смогут
образовать особую касту, ибо не будет в массах невежества, которое они
могли бы эксплуатировать. В этих условиях не будет злом даже умеренная
роскошь, поднимающая силы нашего духа. С другой стороны, представители
науки и искусства будут также заниматься в той или иной форме
промышленным и сельскохозяйственным трудом, когда коммуна будет призывать их
к этому во имя общего блага. Расцвет наук и искусств распространит блага
цивилизации на все народы, пребывающие пока еще в состоянии дикости или
варварства, навсегда уничтожит войны и революции. Строй общности,
заключает Дезами, наиболее благоприятен для расцвета наук и искусств.
КОДЕКС ОБЩНОСТИ
[...] Я признаю, что развитием знаний наша современная
цивилизация обязана позорному искусству, которое учит ее покрывать
золотом и цветами узы рабства, чтобы скрыть его от глаз народа и
крепче сковать его цепи, пропитать медом чашу с ядом, скрыть,
ловко направить острие кинжала, одним словом, я признаю, что
искусства и науки научили нас украшать и освящать самые гнусные 1
пороки и преступления. Но нужно ли поэтому искоренить науки
и искусства? Тогда надо упразднить медицину, потому что
некоторые врачи иногда ошибаются и убивают своих пациентов, вместо
того чтобы их вылечить; надо бы также вырвать все растения
потому, что при известных обстоятельствах они стесняют нас, а
некоторые из них содержат ядовитые соки.
1 Науки и искусства вовсе не являются основой испорченности нравов, но
обычно они являются их отражением.— Прим. Дезами.
587
Упраздните собственность, и вы увидите, как рассеются все
ваши страхи. Вместе с ней тотчас же исчезнет масса порочных или
неестественных потребностей, всех этих излишеств и ненужных
вещей, которые теперь являются для несчастного человека причиной
угнетения. Упраздните собственность, и вы скоро увидите, как
сократится до правильных соотношений множество вкусов и желаний,
которые так сильно страшат вас. Исчезнут тогда соперничество,
ссоры и войны; вместо того чтобы стать пособниками
несправедливости и развращенности, науки и искусства станут лишним средством
для достижения длительного счастья, действительной и
совершенной цивилизации.
Сделаем же из всего этого вывод, аналогичный тому, какой мы
уже сделали в отношении страстей, признаем, что истинное
свойство наук и искусств — это служить фактором производства,
движущей силой активности, духом общественности (sociabilité) этих
жизненных и могущественных качеств, которые, по воле
общественных институтов, могут служить общему несчастью или общему
счастью.
Т. Дезами, Кодекс общности, М., 1956,
стр. 360—362. Перевод Э. А. Желубовской и
Ф. В. Шуваевой.
ЛЕРУ
1797-1871
Мировоззрение Пьера Леру складывалось под влиянием сен-симонизма,
школу которого он прошел в ранний период своей деятельности, немецкой
идеалистической философии и некоторых идей христианства. В отличие от
промышленности, полагает Леру, которая воздействует на внешний мир,
искусство является выражением внутреннего мира человека, его чувств. В то время
как промышленник удовлетворяется внешним миром, а ученый ищет путей его
преобразования, художник, возмущенный окружающей его капиталистической
действительностью, приходит к иронии и сарказму и в конце концов к
отчаянию. Нельзя поэтому осуждать таких художников XIX века, как Байрон и Гёте,
ибо тогда пришлось бы осудить также и Руссо и Вольтера, осудить весь век
Просвещения и французскую революцию, весь прогресс человеческого духа.
У Леру намечаются, таким образом, некоторые признаки исторического
подхода к явлениям искусства.
Художникам, обращающимся только к прошлому, а также сторонникам
«искусства для искусства» Леру противопоставляет «истинную поэзию, вдох-
588
новленную нашей эпохой». Рассматривая характер современного ему искусства,
Леру намечает облик идеального, по его представлениям, художника.
«Байроническая» школа, к которой он причисляет Байрона, Гёте с его «Вертером»
и «Фаустом», Шиллера с его драмами и поэзией, Шатобриана с «Рене», Б. Кон-
стана с «Адольфом»,— выражала неудовлетворенность обществом, в котором
царит анархия. На смену этому направлению идет новая школа, у которой
наряду с чертами, роднящими ее с «байронистами», есть положительный идеал —
она «создала ангела в противоположность той школе, которая имела дело с
демоном». К такой новой школе Леру относит Ламартина и Гюго, Подлинное
искусство, считает Леру, должно быть героическим, должно носить
пророческий характер. Он обращается к художникам с призывом показать такие же
гордые и независимые характеры, полные духа пытливости, благородства,
неприятия зла, какие изобразили Байрон и Гёте, но только дать им
общественную цель, благодаря которой их независимость превратилась бы в героизм.
Интересны также высказывания Леру о природе прекрасного. Область
искусства, говорит он, значительно шире области прекрасного. Искусство есть
художественное выражение действительности, а действительность не всегда
прекрасна.
Эстетические идеи Леру, в особенности содержащиеся в них элементы
понимания исторической и социальной роли искусства, оказали известное
влияние на художников Франции (В. Гюго, Ж. Санд и других), а также России.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О «ВЕРТЕРЕ» ГЁТЕ И ПОЭЗИИ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В XVIII веке человек уверовал в свои силы и стал мечтать о
новой судьбе; он отрекся от прошлого, отбросил традицию и
устремился в будущее. Но этот порыв чувств опередил, как всегда, воз-
можности времени. Без интеллектуального развития, без
материального развития мечта чувства не может стать явью. Мечты остаются
неисполненными, чувства людей искажаются, и, хотя человек
продолжает в своем сердце стремиться к будущему, он начинает
отрицать это будущее, отрицать все на свете. Но даже это отрицание
доказывает, что он все еще жаждет этого будущего, которое
открылось ему на мгновение, а затем исчезло. Не сомневайтесь: если бы
он не стремился к этой цели, он не богохульствовал бы так дерзко.
Страсть влечет его к этой божественной цели и заставляет его
кощунствовать.
Чувства человечества выражает поэт. В то время как люди,
живущие действиями и ощущениями, удовлетворяются жалким
подобием мира, который находится у них перед глазами и который люди
589
рассудка стараются улучшить, поэт, возмущенный его чересчур
медленным развитием, находит для него только слова иронии и поет
только песни отчаяния. Но если мы осудим его за это, то вместе
с ним мы должны будем осудить наших отцов, которые мечтали
о новом человечестве, о величии человечества.
Если мы не понимаем и осуждаем Байрона, то придется осудить
и Вольтера, и Руссо, и весь XVIII век, и всю революцию, все, что
пробудило гений Байрона и вызвало его благородные, но
беспорядочные порывы. Придется осудить все развитие человеческого
разума как роковую чудовищную химеру, если в этом человеке, который
заблудился на пути к вершине и подошел к пропасти, мы не
захотим увидеть своего брата, который, когда караван человечества
остановился перед препятствием, смело бросился в облака и теперь,
погибая за нас, показывает, что там нет дороги, что он ее не нашел.
Мы видим этот характер поэзии нашего времени всюду, мы его
находим даже у тех писателей, которые представлялись спокойными
художниками, довольными настоящим и всеми благами, которое
небо ниспосылает их таланту, или у тех писателей, которые не
могут уйти от великого, но невозвратимого прошлого. Выше этих
тщетных попыток восстановить искусство Возрождения и выше
искусства для искусства мы поставим поэзию, вдохновленную чувством
нашего времени, и мы показали стремление каждой нации Европы
достичь, часто без ведома других наций, этой фазы поэзии.
[...] Искусство [...] не является ни воспроизведением искусства,
ни воспроизведением природы. Искусство развивается от поколения
к поколению. Произведения великих художников, каждый из
которых вдохновляется своей эпохой, следуют друг за другом, и эта
последовательность есть развитие искусства. А вдохновляться одним
прошлым, заново создавать уже созданное — это значит забыть
свое время, создавать искусство промежуточное, искусство,
которому нет места в жизни искусства.
Мы утверждаем, что поэзия в широком смысле, как ее понимает
Байрон, является плодом современного общества и что она
естественно происходит от философии XVIII века и французской
революции, что она — наиболее жизненное порождение эпохи кризиса
и обновления, когда все берется под сомнение, потому что на
развалинах прошлого человечество хочет создать новый мир.
[...] Поэты, которые выражают это сомнение, и являются
настоящими представителями своей эпохи. А те, кто занимается
искусством ради самого этого занятия, похожи на иностранцев, которые
явились неизвестно откуда и играют на диковинных инструментах
на удивление народу или весело поют непонятные песни на
похоронах.
590
[...] Литература нашего времени, символ хаоса, в котором мы
существуем и откуда выйдет мир, почти вся окутана покровом
меланхолии.
Я знаю, что искусство в настоящее время обратилось к пошлому
прислужничеству, к пошлому материализму; я же предпочитаю
мучительное искусство Гёте в «Вертере» и в «Фаусте» этому
искусству, которое для радостей настоящего предает надежды
человечества и постыдно отрекается от идеала. Поэты, покажите нам сердца,
такие же гордые, такие же независимые, как сердце героя Гёте.
Только дайте цель этой гордости, и тогда она станет героизмом.
Покажите нам любовь, такую же страстную и такую же чистую, как
любовь Вертера, но пусть эта любовь будет только отблеском иной,
большей любви. Покажите нам, одним словом, судьбу, связанную
с судьбой мира. Но никогда не пытайтесь умалить ни эти чувства,
ни эту возвышенность ума, которую ваши предшественники
завещали вам. Сделайте людей из титанов Гёте и Байрона, но не
отнимайте у них благородства.
P. Leroux, Considerations sur «Werther» et la
poésie de notre époque. Dans: Werther par Goethe,
P., 1839, p. 7—10, 14—16, 17—18, 37. Перевод
A. В. Парнаха.
ПРУДОН
1809-1865
Пьер-Жозеф Прудон — мелкобуржуазный экономист и социолог, один из
теоретиков анархизма, к концу жизни написал работу «Об основах искусства»
(1865). Эта книга не была окончена автором, и часть глав отредактировали
после смерти Прудона его друзья. Направленная против доктрины «искусство
для искусства», книга имела большой успех во Франции и в том же году
вышла в России, где в эти годы революционные демократы вели борьбу против
сторонников «чистого» искусства.
Прудон считает, что всякому человеку присуща эстетическая способность,
позволяющая отличать прекрасное от безобразного. Прекрасное реально
существует в природе как некая высшая целесообразность. Но восприятие
прекрасного подчинено субъективным принципам вкуса, который меняется даже у
одного и того же человека, не говоря уж об исторических изменениях вкуса
в обществе. Человек стремится к прекрасному, стремится сам стать
прекрасным, и, следовательно, эстетическая способность приводит его к
самосовершенствованию.
Всякое искусство имеет содержание и цель. Содержанием искусства
является человек с его страстями и пороками, трудами и верованиями, иногда
591
смешной, иногда возвышенный,— словом, содержанием искусства является вся
человеческая жизнь. Цель же искусства — физическое, нравственное и
социальное улучшение человечества. Искусство и наука обрабатывают один и тот же
материал. Искусство не совпадает с наукой, но и не противоречит ей. Иной
раз оно опережает науку, познавая еще не открытые наукой области, но в
целом, по мнению Прудона, искусство ниже науки. Прогресс в области
художественной деятельности носит лишь внешний характер, не задевающий существа
искусства. Предоставленное самому себе, искусство обречено на застой.
Главное в искусстве — идея, содержание, цель. «Цель — прежде средств;
содержание прежде содержащего; мысль прежде осуществления».
Примитивный рационализм Прудона легко объяснял идейное начало искусства, он ясно
видел идею — логичную, рациональную, убедительно доказанную. Но перед
формой Прудон останавливался в недоумении, считал ее субъективной,
бездоказательной и произвольной. В произведении искусства его меньше всего
интересует индивидуальность художника, его мастерство, специфика его
художественного метода, зато он остро чувствует гражданский пафос произведения
и требует его от всякого художника. «Наш идеал — право и истина. Если вы
не умеете создать из них искусства — подите прочь! Вы нам не нужны. Если
вы служите разврату, роскоши и безделию — прочь! Мы не хотим вашего
искусства. Если вам необходимы аристократия; духовенство и королевское
величество — еще раз прочь! Мы изгоняем навсегда и вас и ваше искусство!» 1.
По мнению Прудона, художник должен внушить народу любовь к науке,
понимание истории, веру в справедливость, научить его искать наслаждение
в труде и в общении с другими людьми Искусство должно улучшать вкусы,
нравы, жизненные устои общества и вести человечество навстречу свободному
будущему.
ОБ ОСНОВАХ ИСКУССТВА И О ЕГО РОЛИ В ОБЩЕСТВЕ
Г л а в а III. Идеальное. Назначение и определение искусства
[...] Раз уж мы заговорили об идеальном, попробуем разобраться
в этом понятии.
Идеальное (idealis) —прилагательное, производное от слова
идея (idea), то, что соответствует идее или соотносится с ней. Но
что такое идея? Согласно греческой этимологии этого слова, идея —
это типическое, характеризующее родовое понятие о предмете,
возникшее в нашем сознании путем отвлечения от материального
существования этого предмета. Следовательно, этимологически
идеальным называется чистая и обобщенная сущность предмета, незави-
1 P. J. Ρ г о u d h о η, Du principe de l'art et de sa destination sociale, P.,
1865, p. 373—374.
592
симая от его реального воплощения и от разнообразия возможных
эмпирических случайностей.
Идеальный француз, например, как и вообще француз,— всего
лишь понятие, чисто умозрительный образ человека французской
национальности; это не Пьер, не Поль, не Жак, это не провансалец,
не гасконец, не уроженец Бретани: это некое вымышленное
существо, в котором, разросшиеся до предела, слились все достоинства
и недостатки французского гражданина, распространенные на всем
протяжении французской территории. Точно так же идеальный бык
не принадлежит ни к даремской породе, ни к нормандской, ни к
швицкой; и так же обстоит дело со словами «животное», «дерево»
или любым другим идеальным понятием; это просто абстракции
всего рода быков, всего царства животных или растений, где доводятся
до высшего предела их общие признаки, нигде реально не
существующие. Словом, идеальное означает обобщение, а не конкретизацию,
оно противоположно индивидуальному, которое можно наблюдать
в действительности, и, следовательно, оно является антитезой
реального.
Это первое определение «идеального» влечет за собой и другое
его определение: поскольку идея есть чистый образ вещи, строгий
и неизменный, она представляет собой совершенство, абсолют.
Идеальный предмет, целиком соответствующий своей идее, своему
прототипу, был бы совершенством в своем роде, как, скажем, шар,
у которого все радиусы абсолютно одинаковы. Но такого шара в
природе не существует, и его нельзя изготовить искусственно.
Материальный предмет не может быть полностью адекватным идее; что,
впрочем, не мешает геометрии воображать подобный шар и как
можно точнее приближаться к нему в практических приложениях
этого понятия. Плохая бы была у нас геометрия, механика и
техника, если бы мы во всех этих родах деятельности не стремились
по возможности точнее воспроизвести наш идеал.
На основании этих выводов, этимологических и логических,
идеальным можно назвать такой предмет, который в высочайшей
мере соединяет в себе все совершенства, более прекрасный, чем
любая из моделей, существующих в природе: идеальная красота^
идеальный образ. Отсюда происходит и существительное «идеал» —
некая совершенная форма, которую мы можем открыть в любом
предмете, причем сам предмет лишь более или менее
приблизительно воплощает эту форму.
Из этого следует, что идеальное, поскольку оно не существует,
не может быть воспроизведено или нарисовано. Подобное его
воплощение содержало бы противоречие. Один образ не может
объединить все варианты француза, не может быть одновременно портре-
20 История эстетики, т. III 593
том лионца, эльзасца и беарнца; волей-неволей приходится
ограничиться чем-нибудь одним, иначе портрет не будет походить ни на
кого из них. Точно так же искусству не под силу создать идеальное
животное, которое было бы одновременно четвероногим и птицей,
рыбой и рептилией; на этом пути возможно лишь создание чудищ.
Так же обстоит дело и с идеальной красотой; женщина ли, богиня
ли, не может быть в одно и то же время блондинкой и брюнеткой,
высокой и миниатюрной, могучей и хрупкой. Как бы художник ни
хитрил, красота, которую он создаст, всегда окажется в известной
мере портретной, воплощением единичного. Однако уже в этом
проявляется глубокое различие между искусством и ремеслом. Как мы
покажем в дальнейшем, оно зависит от того, что ремесленник,
чтобы его труд не пропал даром, вынужден тщательно соблюдать
законы геометрии, механики и арифметики, то есть придерживаться
идеи, абсолюта, тогда как художник, преследуя свою особую цель
и добиваясь нужного эффекта, может в той или иной мере
отклониться от своего прототипа: именно эта свобода отступлений и
создает в искусстве разнообразие и живость. Но вернемся к нашему
предмету.
Идеал — чисто умозрительная конструкция, его невозможно
физически воплотить, разве что приблизительно, и, следовательно,
нельзя нарисовать. Тем не менее именно созерцание и ощущение
идеального составляет все содержание искусства. Но тогда
возникает вопрос — какова же роль этого идеального начала в искусстве,
каким образом оно воспринимается ив какой мере художник может
его выразить? Это и есть главный и, насколько мне известно, еще
не решенный вопрос в эстетике. Именно на него я и попытаюсь
ответить, насколько я вправе это сделать, опираясь на мое личное
«чувствование» *, на рассуждения и в какой-то мере на мой опыт
писателя, практически знакомого с обсуждением подобных
предметов.
Благодаря идеалу, который, хоть мы и не в силах его когда-либо
воплотить, раскрывается для нас в предметах, мы приобретаем
способность исправлять эти предметы, улучшать их, приукрашивать,
возвышать, а также преуменьшать, сокращать, деформировать,
изменять их пропорции, словом, делать все, что делает обычно
природа, которая творит в согласии с заложенными в ней образами или
идеалами, достигая, впрочем, лишь единичного воплощения, в той
или иной мере неточного и несовершенного. Художник,
следовательно, лишь продолжает творчество природы, в свою очередь
созидая образы на основе своих собственных идей, к которым он жаждет
1 В подлиннике: esthesie — слово, придуманное Прудоном.
594
нас приобщить. Эти образы художника в большей или меньшей
степени прекрасны, значительны, выразительны в зависимости от
замысла, который их породил,— мы не затрагиваем вопрос о
мастерстве исполнения. Для этой цели художник располагает бесконечным
разнообразием градаций и образов, начиная от наиболее близких
к идее и кончая такими, в которых идеальный тип уже трудно
узнать. Став, таким образом, насколько ему удается, продолжателем
природы, художник не покидает общей сферы деятельности
человека, развитие которой в любой области, в науке и технике, в
экономике или в политике, можно рассматривать как продолжение
созидания.
Если бы мы ограничились теми идеями, которыми нас наделяет
природа, позволяя наблюдать свои творения; если бы все наши
знания были уже заранее начертаны на предметах и на их
соотношениях, нам не понадобились бы ни искусство, ни художники. Наша
душа довольствовалась бы созерцанием вселенной; наш язык,
приспосабливаясь к ней, мог бы бесконечно расширять свой словарь,
но его структура, его формы, его поэзия оставались бы
неизменными; наш идеализм не отличался бы от нашей философии, а наше
искусство знало бы лишь фотографическое воспроизведение.
Но природа не все поведала нам, она не все обдумала и не все
знает. Ей попросту незнакома наша общественная жизнь, которая
сама представляет собой целый новый мир, как бы вторую природу;
она ничему не может научить нас в области наших
взаимоотношений, чувств, жизни нашей души, своих изменчивых воздействий на
нас и тех новых точек зрения, с которых мы смотрим теперь на
нее, тех изменений, которым мы подвергли ее самое. Все это
способствует рождению новых идей, подсказывает нам новые идеалы,
которые требуют новых выразительных средств, нового языка,
не только философского, но и художественного. Попытаемся это
пояснить.
Для философов или ученых выражение, сформулированное
словами или знаками, пусть даже несовершенное, должно по
возможности соответствовать идее, быть точным, неоспоримым. Примеры
тому — язык права, язык математики, логики. Подобно тому как
это имеет место в технике или в механике, здесь не разрешается
произвольно делать отступления от нормы, добавлять или убавлять,
преувеличивать либо преуменьшать то, что есть на самом деле.
Художественная же речь, имеющая целью вызвать в нас
определенные чувства, напротив, преувеличивает или преуменьшает,
восхваляет или порицает. Ее образы не бывают, да и не могут
быть точными копиями. Это убило бы искусство. Рабское следование
чистой идее, характерное для философии, науки, техники, вне вся-
20*
595
ких сомнений разрушило бы эстетическое впечатление, ощущение
идеального; тогда как поэтическая вольность, напротив,
способствует его зарождению. Возьмем, к примеру, то, что в поэзии и в
риторике называется тропами. Эти тропы должны пробудить мысль,
усилить ее, придать ей рельефность, сделать ее увлекательной. Вот
их я и называю «идеализмами».
При этом следует иметь в виду, что искусство не просто
заставляет нас любоваться прекрасными формами и с этой целью сперва
воспроизводит эти формы, а затем идеализирует их, усиливая их
красоту либо, что, в сущности, сводится к тому же, противопоставляя
ей в качестве контраста нечто безобразное,—все это не выходит
за пределы начальной стадии в деятельности художника. Между тем
наша духовная жизнь складывается не из одного лишь
поверхностного и бесплодного созерцания. Человечество знает множество
различных страстей и деяний, предрассудков и верований, каст и
сословий; существуют еще семья, религия, город; комедия домашнего
быта, трагедия гражданского форума, национальная эпопея,
наконец, существуют и революции. Все это не только предмет
философского наблюдения, но и материал для искусства, а значит,
обрабатывать его следует не только по правилам науки, но и по законам
художественной идеализации.
Таким образом, искусство в еще большей мере, чем наука и даже
техника, по самой сути своей конкретно, оно выделяет своеобразное
и особенное, как и сама природа; именно это умение выделять и
определять, эта конкретность форм помогает ему так мощно
воздействовать на наше сознание, вызывая в нем ощущение прекрасного
и возвышенного, любовь к совершенству, стремление к идеалу.
Басня Лафонтена или евангельская притча может подтвердить это
не в меньшей мере, чем шедевры живописи и ваяния.
[...] В нас заложена некая отчетливо выраженная способность,
которую должно обслуживать искусство; эта способность
заключается в умении воспринимать чистые идеи, первообразы вещей,
а следовательно, прекрасное и возвышенное или идеальное; миссия
художника не в том, чтобы показать его нам, а в том, чтобы
заставить нас его почувствовать с помощью слов или знаков, пользуясь
образными выражениями (тропами), которые мы называем
идеализмами.
Теперь мы можем дать определение искусства.
Мы уже раньше говорили (глава II), что наша эстетическая
способность имеет второстепенное значение; что там, где она
преобладает, принижается содержание искусства и что роль художника,
который, показывая нам идеальное, стремится пробудить в нас
чувствительность души, достоинство и эстетическую тонкость, является
596
чем-то подсобным. Вот почему, говорили мы в той же главе,
художник должен соперничать с природой, воспроизводя социальный мир,
продолжение мира природного. Добавим к этому, что прекрасное
и возвышенное или идеальное уловимо не только во внешнем облике
живых существ; оно проявляется также в уме и в нравах. Повсюду
оно равно и тождественно самому себе.
Я определяю искусство так: идеализированное воспроизведение
природы и нас самих в целях физического и морального
совершенствования рода человеческого.
P. J. Ρ г о u d h о п, Du principe de Tart et de sa
destination sociale, P., 1865, p. 33—43. Перевод
A. Г. Левинтона.
БИБЛИОГРАФИЯ
/. Общая литература
Маркс К. и Энгельс Ф., Святое семейство, или Критика критической
критики против Бруно Бауэра и компании.—M арке К. иЭнгельс Ф.,
Соч., т. 2, М., 1955, стр. 7—230.
Маркс К. и Энгельс Ф., Немецкая идеология.— Маркс К. и
Энгельс Ф., Соч., т. 3, М., 1955, стр. 7—544.
Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест коммунистической партии.—
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 4, М., 1955, стр. 419—459.
Энгельс Ф., Развитие социализма от утопии к науке.— Маркс К.
иЭнгельс Ф., Соч., т. 19, М., 1961, стр 185—230.
Энгельс Ф., Анти-Дюринг.— Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 20,
М., 1961, стр. 5—338.
Энгельс Ф., Предисловие к немецкому изданию «Манифеста
коммунистической партии» 1890 года.— Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 22,
М., 1962, стр. 56—63.
Ленин В. И., К характеристике экономического романтизма.— Ленин
В. И., Полн. собр. соч., изд. 5, т. 2, стр. 119—262.
Ленин В. И., Л. Н. Толстой и его эпоха.— Ленин В. И., Полн. собр.
соч., т. 20, стр. 100—104.
Ленин В. И., Две утопии.— Ленин В. И., Полн. собр. соч., т. 22,
стр. 117—121.
Ленин В. И., Три источника и три составных части марксизма.—
Ленин В. И., Полн. собр. соч., т. 23, стр. 40—48.
Ленин В. И!, О кооперации.— Ленин В. И., Полн. собр. соч., т. 45,
стр. 369—377.
Волгин В. П., Предшественники современного социализма, ч. 1, М.,
Госиздат, 1928, 309 стр.
Волгин В. П., История социалистических идей, я. I—II, М., Госиздат,
1928-1931.
Волгин В. П., Очерки по истории социализма, изд. 4, М., Изд-во Акад.
наук СССР, 1935, 407 стр.
Волгин В. П., Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке,
М., Изд-во Акад. наук СССР, 1958, 415 стр.
597
Волгин В. П., Французский утопический коммунизм, М., Изд-во Акад.
наук СССР, 1960, 376 стр.
Гейне Г., Коммунизм, философия и духовенство.— Гейне Г., Собр. соч.
в 10-ти томах,- т. 8, М., 1958, стр. 264—280.
Гейне Г., Французские дела.— Гейне Г., Собр. соч. в 10-ти томах, т. 5,
М., 1958, стр. 237—418.
Герцен А. И., Письма из Франции и Италии.—Г е ρ ц е н А. И., Собр.
соч. в 30-ти томах, т. V, М., 1955, стр. 7—226.
Герцен А. И., С того берега.— Герцен А. И., Собр. соч. в 30-ти томах,
т. VI, стр. 7—142.
Данилин Ю. И., Поэты июльской революции, М., Гослитиздат, 1935,
420 стр.
Деборин А. М., Социально-политические учения нового времени, т. 1,
М., Изд-во Акад. наук СССР, 1958, 628 стр.
«История социалистических учений». Сборник статей [Отв. ред. Б. Ф. Поршнев],
М., Изд-во Акад. наук СССР, 1962, 471 стр.
Каи С. Б., История социалистических идей, М., «Высшая школа», 1963,
279 стр.
Обломиевский Д., Французский романтизм, М., Гослитиздат, 1947,
356 стр.
Из содержания: Романтизм и литературная политика сен-симонистов.—
Романтизм и литературная политика фурьеристов.
Плеханов Г. В., Очерки по истории материализма.— Плеханов Г. В.,
Избранные философские произведения, т. HI, М., 1957, стр. 33—194.
Плеханов Г. В., Французский утопический социализм XIX века.—
Плеханов Г. В., Избранные философские произведения, т. Ill, М., 1957,
стр. 521—566, 586—602.
Преображенская Е. И., К вопросу об эстетических и общественно-
политических взглядах поэтов-рабочих эпохи июльской монархии во
Франции.— «Ученые записки Пермского ун-та», т. X, вып. 3, 1957, стр. 183—
206.
BoUglé С, Socialisme français. Du socialisme utopique à la démocratie
intellectuelle, P., Colin, 1946, VIII, 199 p.
Bourg in H., Les systèmes socialistes, P., 1923.
С u ν i 11 i e r Α., Hommes et idéologies de 1840, P., Rivière, 1956, 250 p.
Garaudy R., Les sources françaises du socialisme scientifique, P., Hier et
aujourd'hui, 1949, 284 p.
Hunt H.-.T., Le socialisme et le romantisme en France, Oxford, Clarendon
press, 1935, Χ, 399 p.
N e e d h a m H. Α., Le développement de l'esthétique en France et en
Angleterre au XIX siècle, P., Champion, 1926, 323 p.
//. Литература к отдельным авторам
Сен-Симон и сен-симонизм
Сочинения:
Saint-Simon С.-H. de, Œuvres choisies, t. 1—3, Bruxelles, 1859.
Œuvres de Saint-Simon et d'Enfantin, t. 1—47, P., Dentu, 1865—1878.
Сен-Симон Α., Избранные сочинения. Пер. под ред. искоммент. Л. С. Цет
лина. Вступит, ст. В. П. Волгина, т. 1—2, М.— Л., Изд-во Акад.
наук СССР, 1948.
598
Литература:
Волгин В. П., Сен-Симон и сен-симонизм, М., Изд-во Акад. наук СССР,
1961, 158 стр.
«Изложение учения Сен-Симона». Пер. под ред. и с коммент. Э. А. Желубов-
ской. Вступит, ст. В. П. Волгина, М., Изд-во Акад. наук СССР, 1961,
608 стр.
«Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Première année», P., 1830.
Τ h i be r t M., Le rôle social de Part d'après les saint-simoniens, P., Rivière,
1926, 75 p.
Weill G., L'école saint-simonienne, P., Alcan, 1896.
Фурье
Сочинения:
Fourier Ch., Œuvres complètes, 2 éd., t. 1—6, P., 1841—1843.
Особенно: «Théorie des quatre mouvements» (t. 1, P., 1841); «Traité de
l'unité universelle» (t. 2, P., 1843).
Фурье ΠΙ., Избранные сочинения. Вступит, ст. В. П. Волгина, т. 1—4,
М., Изд-во Акад. наук СССР, 1951—1954.
Литература:
Иоаннисян А. Р., Шарль Фурье, М., Изд-во Акад. наук СССР, 1958,
152 стр.
Armand F., M a u b la ne R.. Fourier, t. 1—2, P., E. S. I., 1937.
Кабе
Сочинения:
С a b e t E., Œuvres, t. 1—2, P., 1833—1845.
С a b e t E., Voyage en Icarie, P., Au bureau du populaire, 1848, VIII, 600 p.
Кабе Э., Путешествие в Икарию. Вступит, ст. В. П. Волгина, т. 1—2, М.,
Изд-во Акад. наук СССР, 1948.
Литература:
Люкс Г., Этьенн Кабэ и икарийский коммунизм, Спб., «Просвещение», 1906,
323 стр.
A η g r a η d P., Etienne Cabet et la Révolution de 1848, P., Presses univ. de
France, 1948, 79 p.
Дезами
Сочинения:
D e s a m y Th., Code de la Communauté, P., 1842.
D e s a m y Th., Organisation de la liberté et du bien-être universel, P., 1846.
Дезами T., Кодекс общности. Пер. â. A. Желубовской и Φ Б. Шуваевой.
Вступит, ст. В. П. Волгина, М., Изд-во Акад. наук СССР, 1956, 546 стр.
Л ер у
Сочинения:
Leroux P., De l'Humanité, 2 éd., t. 1—2, P., Perrotin, 1845.
Leroux P., Le carrosse de M. Aguado, Boussac, 1848, 141 p.
Leroux P., Considérations sur Werther et en général sur la poésie de notre
époque.—In: Goethe W., Werther, P., 1839, p. I—XXXVIII.
599
Литература:
Волгни В. П., Пьер Леру -— один из эпигонов сен-симонизма. — «Из
истории общественных движений и международных отношений». Сборник
статей в память акад. Е. В. Тарле, М., 1957, стр. 389—404.
Π ρ у до н
Сочинения:
Proudhon P.-J., Qu'est que propriété? P., Garnier, 1848, 155 p.
Proudhon P.-J., Théorie de la propriété, 2 éd., P., Lacroix, Verboeck-
hoven, 1871, IV, 310 p.
Proudhon P.-J., Du principe de Part et de sa destination sociale, P.,
Garnier, 1865, VIII, 380 p.
Прудон П.-Ж., Что такое собственность? Пер. Е. и И. Леонтьевых, М.,
1919, 202 стр.
Прудон П.-Ж., Искусство, его основание и общественное назначение. Пер.
с примеч. и вступит, ст. А. П. Федорова, Спб., 1895, VII, 368 стр.
Литература:
Семенов В. Ф., Мелкобуржуазная экономика и мелкобуржуазный
социализм. Сисмонди, Луи Блан, Прудон в избранных отрывках, М.—Л.,
Госиздат, 1926, 277 стр.
Brandwajn R., La langue et l'esthétique de Proudhon, Wroclaw, 1952,
116 s.
H a e d e J t W., Die Ästhetik Proudhons, Krefeld, 1958, 170 S. Diss.
£ С Τ Ε TKKA
ФРАНЦУЗ С КОГО
КЛАССИЧЕСКОГО
Ρ Ε ААИ3 MA
о Франции XIX века раньше, чем в других
европейских странах складывается более трезвый и
последовательный реализм, чем реализм
Просвещения.
Классовые столкновения, возникающие во
Франции уже на почве буржуазных противоречий,
выдвигают анализ и осознание новой формации как
неотложную общественную задачу. В искусстве
и литературе эта задача оказывается непосильной
для романтизма, отвергающего прозу буржуазной жизни как
антиэстетический материал. Отражение и оценку буржуазного общества
в искусстве осуществляют реалисты. Теоретические основы их
творчества, в которых переосмыслены все основные категории старой
эстетики, выковываются в двусторонней борьбе за правдивое
изображение современности против классицистов и романтиков.
Стендаль и Бальзак в литературе, Домье в живописи создают
тип реализма, который можно считать классическим для XIX века.
601
Реалистам второй половины века уже не удается достигнуть того
соединения анализа и обобщения, правдивости изображения
буржуазного общества, глубины критики его с поэтичностью, которые
были присущи творчеству великих художников 30—40-х годов.
Теоретической основой классического реализма было признание
обусловленности деятельности человека исторически
изменяющимися формами общественной жизни. Историческую обусловленность
поведения человека, его идеалов, форм искусства и быта
признавали и романтики, но они ограничивали диапазон этого влияния,
рассматривая «естественные» связи и страсти людей, а также нормы
добра и зла как нечто неизменное. В их произведениях
историческое и социальное остается внешней оболочкой, «одеждой» личности
и декоративным фоном действия. Эстетика романтизма еще связана
с понятием «естественного человека» философии Просвещения.
У реалистов, особенно у Бальзака, естественная природа
человека превращается в tabula rasa. Социально-историческая среда
полностью формирует личность со всеми ее страстями и
отношениями. Персонажи Бальзака обусловлены общественной средой
в самих природных своих проявлениях: родительские чувства,
любовь мужчины и женщины, чувства и поведение всех людей
определяются господствующими отношениями собственности.
Само понимание среды у реалистов этого периода имеет
философский характер. Среда — это не только повседневная жизнь, быт,
обычаи, верования, не только обстановка жизни и развития героя,
но и обнаруживающаяся в них структура общественных отношений,
основной закон развития данного общества, раскрытый в
исторических изменениях.
Движение истории в непрерывной борьбе противоречивых начал
воплощается у Стендаля и Бальзака в самом характере их героев.
Характер и идеалы Жюльена Сореля, Джины Сансеверина, Фаб-
рицио дель Донго1 сложились в героическую эпоху буржуазного
общества, тогда как жизнь их протекает в неприемлемых для них
условиях Реставрации. Столкновение старых моральных норм с
аморализмом и собственничеством буржуазного общества является
исторической почвой трагедии отца Горио2. Главные герои романов
Стендаля, республиканцы «Человеческой комедии» Бальзака — Низ-
рон и Мишель Кретьен, связанные с национальной революционной
традицией и современным народным движением, несут в своем
духовном облике возможности и каких-то иных, не буржуазных
отношений личности к обществу.
1 Герои романов Стендаля «Красное и черное» и «Пармская обитель».
2 Роман Бальзака «Отец Горио».
602
Задача искусства в понимании классического реализма
заключается в «полном отображении своего времени» *, в отражении,
истолковании и вынесении приговора современному обществу.
Полнота изображения может быть достигнута только через типические
образы людей и типические ситуации. Общие социальные условия
порождают сходство в поведении и судьбах людей. Создавая типы,
художник выбирает эти общие выразительные черты, показывая их
причинную зависимость от социальных обстоятельств, и
синтезирует их в типе «путем соединения отдельных черт многочисленных
однородных характеров» 2.
Не только в реалистической литературе 30—40-х годов, но и в
образах живописи, по самой своей природе неспособной передавать
процесс становления, художник-реалист создает зрительный образ,
который толкает на мысленное воспроизведение и осознание тех
причинно-следственных рядов, которые сформировали характерный
облик персонажа его картины. И причинно-следственная цепь звено
за звеном неизбежно приводит зрителя к законам общественной
жизни как к последней обусловившей этот облик причине.
Достаточно взглянуть на произведения Домье, чтобы в этом убедиться.
Одним из самых существенных моментов эстетики классического
реализма является сознательное несовпадение реального
жизненного прототипа и типического образа в художественном
произведении.
«Я не устану повторять,— писал Бальзак,— что правда природы
не может быть и никогда не будет правдой искусства [...]. Гений
художника и состоит в умении выбрать естественные обстоятельства
и превратить их в элементы литературной жизни...» 3. Прямо
перенесенные из жизни факты и события выглядят недостоверно,
неубедительно, так как причины, их породившие, скрыты, не обнажены.
Правда жизненного явления заключается уже в том, что оно
существует, художник, если он реалист, должен обосновать возможность
существования созданного им образа, обнажив причины его
поведения, его облика и судьбы. Наглядность связи типического образа
с общественным целым и делает его не копией жизни, а ее
концентрацией, синтезом, невозможным или чрезвычайно редко
встречающимся в природе.
Следовательно, типический образ в классическом реализме
оказывается в некотором смысле «правдивее» сменяющейся и
недосказанной действительности. Концентрированность делает типы и ти-
1 Бальзак, Предисловие к «Человеческой комедии».— «Бальзак об
искусстве», М., 1941, стр. 7.
2 Τ а м ж е.
3 «Бальзак об искусстве», стр. 145—146.
603
пические ситуации реалистических произведений этой поры столь
яркими, незаурядными, даже грандиозными. Бесцветные,
обыденные люди, будничные ситуации никогда не занимают центрального
места в произведениях реалистов 30—40-х годов. Их герои
значительны и тогда, когда они сопротивляются господствующему
порядку жизни и когда они в ладу с ним. Гобсек и Гранде — скупцы
Бальзака — видят смысл своей жизни в накоплении, и в этом они
не отличаются от самого рядового буржуа. Но они накапливают
богатства с такой страстью, энергией, с таким полным отречением
от всех других целей, что, выражая норму буржуазного поведения,
нарушают ее, доводя собственничество до абсурда. Изображая
идеолога буржуазного накопления, Бальзак рисует его не в часто
встречающемся бытовом обличий лицемерного моралиста, защитника
«священного права собственности», а в лице уголовника и беглого
каторжника Вотрена, отстаивающего во всеоружии своего опыта
эгоистический интерес, беспощадную конкуренцию и
принципиальную беспринципность как основу всякой деятельности. Не
списанная с натуры привычная демагогия буржуазной «морали», а
откровенный до цинизма аморализм Вотрена выступает в «Человеческой
комедии» как обобщение буржуазного накопления, его преступных
методов и источников, как истинное самосознание буржуазии.
Сюжетные конфликты в реалистических произведениях первой
половины века также строятся не на подражании многочисленным
обыденным фактам жизни, а на концентрации ее. В основе
реалистических сюжетов лежит типическая ситуация, почти обязательно
выходящая за рамки будничного, часто встречающегося.
Тот же герой Бальзака Вотрен проходит парадоксальный путь
от нарушения частной собственности к охране ее, становясь главой
парижской полиции. В жизни такая судьба исключительна в не
меньшей мере, чем философские концепции в устах полуграмотного
бандита. Но логика самого существа буржуазной собственности,
конкуренции, преступности, своекорыстия выражена в этом
«вымышленном» персонаже и его биографии с абсолютной точностью, с
верностью высшей правде. Необычайность и драматизм конфликтов,
вытекающие из силы страстей исключительных героев, не
ослабляют, а усиливают социальную выразительность, раскрывая скрытые
и тайные пружины общественной жизни.
На типизации, концентрирующей существенные черты
действительности, построены и образы в произведениях Домье.
Карикатурные изображения буржуазных политических деятелей в скульптурах
и литографиях Домье наделены удивительным портретным
сходством. В них нет ничего неправдоподобно уродливого. Всюду
соблюдается верность жизни и анатомии. Тем не менее и карикатурные
604
портреты и большие композиции Домье производят впечатление
сатирической гиперболы. Заимствуя у своего объекта действительно
ему присущие физические особенности и выражения, Домье
отбирает и концентрирует в образе именно те из них, которые вместе
с подписью или в «контексте» композиции придают характеристике
персонажа острый и ясный политический смысл.
Казалось бы, отрицание бесчеловечных законов буржуазного
общества должно было привести реалистов или к бегству от
уродливой действительности в мир идеальных художественных
фантазий, как это случилось с романтиками, или к абсолютизации этих
уродств, к пассивному, цинически нигилистическому их отражению,
как в современном буржуазном искусстве декаданса. Второй из этих
двух путей, губительных для реализма, на первый взгляд
представлял особенную опасность, так как трезвый реалистический анализ
буржуазных отношений не оставлял места для фантастики добра,
для утопической веры в героя, который свершит чудо и создаст
«вдруг» справедливое и свободное общество.
Однако не случилось ни того, ни другого. Идеалы личности и
человеческого общества у писателей-реалистов этой эпохи еще
пронизаны гражданственностью Просвещения и великой буржуазной
революции. Ни легитимизм Бальзака, ни республиканские взгляды
Стендаля и Домье не допускали оправдания и идеализации
«частного человека», живущего только ради эгоистических целей. Атоми-
зация общества в результате конкуренции, отчуждение социальных
интересов от личных рассматривалось всеми этими художниками,
несмотря на различие их политических программ, как унижение
и обесчеловечивание человека. Реалисты понимали, что процесс
отчуждения, вызванный капитализмом, идет все глубже и глубже.
Но исторический момент, в который они жили и творили, давал им
возможность не воспринимать буржуазные противоречия и одичание
личности как абсолютный и непреодолимый закон бытия. Еще
слишком недавним прошлым была эпоха большого общественного
подъема — антифеодальная революция и войны республики,
несущие и другим странам освобождение от феодальных оков. Личный
опыт великих писателей-реалистов свидетельствовал еще о
способности людей к гражданским подвигам, к самоотречению,
напоминал им о величии человека.
Мировоззрение реалистов первой половины XIX века было
проникнуто ощущением сменяемости, непостоянства, непрерывного
движения всех общественных форм. Они искали преодоления
«социальной болезни» не в фантазии, не за пределами современного
исторического процесса, а в нем самом, в его поступательном
движении, в его противоречивых и многообразных силах. Каждый. из
605
них делал это по-своему, но их всех объединяло доверие к истории,
поиски на современном этапе ее развития того, что остается для них
всех «вечным законом», «истиной» и «красотой» 1 общественного
человека. Это определяло их отношение к своему творчеству как
к гражданскому деянию, способствующему восстановлению или
хотя бы осознанию современниками подлинной, здоровой нормы
социальной жизни. Каждый из них не сомневался в своем праве
«смотреть на себя как на учителя людей» 2.
Стендаль и Бальзак утверждают, что искусство невозможно без
идеального начала. Исходя из идеала, художник судит
действительность. Идеальное начало проявляется и в негативной форме, как
отрицание всего, не соответствующего норме, и в позитивной, как
утверждение здоровых тенденций действительности. Поскольку
реалисты не констатировали свой идеал умозрительно, а искали и
находили его в современной действительной жизни, он являлся в их
творчестве как противоречивое единство прекрасного и
безобразного, как смешение и борьба положительного и отрицательного.
По убеждению Стендаля, революция, разрушившая или
расшатавшая феодальные режимы, создала потенциальную
возможность демократии, возможность не только политическую, но и
духовную. Тоска по «нормальному», то есть общественно насыщенному,
свободному существованию живет в душах современных людей,
и никакие силы неспособны ее уничтожить. Эту жажду свободы,
ясность разума, не знающего суеверий, ненависть к рабству,
человеческое достоинство Стендаль называл «новой красотой», показывая
черты ее в образах своих героев. Он изображает «новую красоту»
в борении с враждебными ей силами современности, которые
накладывают свою печать и на души его любимых героев, заставляя их
расходовать свою энергию на цели, недостойные их высокого духа.
«Новая красота», увиденная Стендалем в современности, не
смягчила его приговор буржуазному обществу, а сделала его ненависть
к эгоистической природе буржуазных отношений еще более
непримиримой.
Носителями идеального начала в творчестве Стендаля являются
отдельные героические натуры. В живописи Домье раскрывается
красота освободительного движения масс, рождающегося из самых
основ буржуазного общества. В акварелях и живописи Домье, где
изображены люди из народа, идеал выявляется в моральной
красоте и силе простого человека, который всегда раскрывается Домье
в его социальной сущности, в трудовом, дружески-любовном, това-
1 «Бальзак об искусстве», стр. 8.
2 Τ а м же.
606
рищеском общении с другими людьми или в коллективной борьбе
за свои социальные права. Значительно сложнее и противоречивее
выражение идеального у Бальзака. Образы положительных героев
в «Человеческой комедии» занимают очень мало места, да и те
ситуации, в которые ставит их Бальзак, доказывают, что он не видит
за ними устойчивых социальных сил, способных противостоять ато-
мизации общества. Чаще всего гражданские добродетели своих
положительных героев Бальзак связывает с прошлым, обреченным
историей на умирание. Легитимистские убеждения заставляли его
искать высокие моральные качества среди аристократии, хранящей,
по его мнению, сословный «принцип чести», противопоставленный
эгоистическому буржуазному «денежному принципу». Но трезвый
анализ неизбежно приводил его к выводу, что дворянская честь
в современном французском обществе — явление не только редкое,
но даже уникальное. Дворянство как сословие умирает, врастает
в буржуазные отношения и, за исключением отдельных
печально-комических Дон Кихотов, сдается всемогущему «денежному принципу».
Позитивное выражение идеала в произведениях Бальзака
встречается редко и не играет в его творчестве значительной роли. Но
критика бесчеловечной природы буржуазных отношений у Бальзака
определенней и осознанней, чем у Стендаля. Глубокое понимание
специфической природы этих отношений приводит Бальзака к
открытию нового типа возвышенного, парадоксально прекрасного,
неотделимого от низменного и уродливого, связанного с
двойственностью капитализма в этот ранний исторически прогрессивный
период его развития.
В прогрессивности новой формации, развязавшей
производительные силы, скованные в феодальном обществе, обостряющей все
человеческие способности и страсти в жестокой конкуренции, Бальзак
никогда не сомневался. Но он видел и противоречивые результаты
этого прогресса. Развивая бешеную энергию, изощряя свой ум,
хитрость, ловкость, буржуа теряет все гражданские и просто
социальные качества — принципы, доброту, привязанности, все, что не
способствует достижению его эгоистических целей.
Сознание двойственности буржуазного прогресса привело
Бальзака к переосмыслению классических категорий эстетики:
возвышенного и низменного, прекрасного и безобразного, трагического и
комического. В противоречиях объективной истории открывал
Бальзак своеобразное величие зла, придающее пугающую красоту и
значительность самым отталкивающим его персонажам, да и всему
художественному миру «Человеческой комедии».
Бальзак понимал, что «частная жизнь» и личные интересы
получили в буржуазной формации новое качество. Поэтому Бальзак
607
задумывает свою историю послереволюционного французского
общества не как цикл исторических романов о политических событиях
и их деятелях, а как «историю нравов», то есть историю частной
жизни частных людей. «Поняв как следует смысл моих
произведений, читатели признают, что я придаю фактам постоянным,
повседневным, тайным или явным, а также проявлениям личной жизни,
кх причинам и побудительным началам столько же значения,
сколько до сих пор придавали историки событиям общественной
жизни народов» \— пишет Бальзак в предисловии к «Человеческой
комедии».
Частные интересы в феодальном обществе были материалом
комедии «низкого жанра», тогда как в основе «высокого» жанра
трагедии лежали столкновения политических, гражданственных
интересов. Изменение удельного веса частной жизни в буржуазном
обществе делает это разделение бессодержательным. Границ между
высоким и низкргм, комическим и трагическим больше, по существу,
нет. Не случайно Бальзак дает своему персонажу, мелкому
предпринимателю, парфюмеру Бирото, напоминающему комических
буржуа Мольера, гордое имя Цезарь, вызывавшее во времена
Бальзака самые возвышенные гражданственные ассоциации. Борьба за
место в жизни, за успех и богатство, которую ведет этот маленький
буржуа, горько-иронически приравнивается Бальзаком к войнам
Юлия Цезаря. Парфюмер Бирото и есть, согласно Бальзаку, цезарь
буржуазного общества, и возвышенный и низменный, и трагический
и комический, полноправный участник общественной комедии или,
может быть,— трагедии.
Исходя из своего гуманистического понимания норм
общественной жизни, Бальзак, часто называя отдельные эпизоды «истории
нравов» драмами или трагедиями, назвал свое грандиозное
произведение в целом «человеческой комедией», а весь свой труд
художника, философа-аналитика и судьи буржуазного общества —
описанием «великой социальной болезни».
Трудно угадать, в чем нашел бы Бальзак источник
величественного и как изменился бы его метод типизации после поворота
буржуазной истории в 1848 году. Ясно одно — что грандиозность
бальзаковских типов и исключительность его сюжетных ситуаций в
приложении к исторической действительности второй половины века
превратилась бы в «возвышающий обман», на который
Бальзак-реалист не был способен.
О. И, ИЛЬИНСКАЯ
1 «Бальзак об искусстве», стр. 14,
608
БАЛЬЗАК
1799-1850
Оноре де Бальзак, великий французский писатель-реалист, автор
«Человеческой комедии» — истории нравов французского общества после революции
1789 года. «Человеческая комедия» состоит из связанных между собой романов
и новелл. Из задуманных Бальзаком ста сорока трех произведений ему
удалось осуществить девяносто восемь.
Взгляды Бальзака на искусство складываются вместе с замыслом
«Человеческой комедии», в прямой зависимости от задачи, которую он ставит перед
собой и перед всей современной ему литературой,— правдивого, полного и
аналитического изображения недавно установившихся во Франции буржуазных
отношений. Исходной точкой эстетических суждений Бальзака, высказанных
им в рецензиях, обзорах и главных его критических статьях («Этюд о Бейле»,
1840; предисловие к «Человеческой комедии», 1842), является тезис:
«Литература есть выражение общества». Для Бальзака это не только констатация
закона существования искусства, но и основной критерий художественной
ценности; произведение тем выше и значительнее, чем полнее оно передает «дух
эпохи». Полнота изображения при этом не менее существенна, чем его
объективная точность. Можно точно изобразить куски жизни, бытовые и
психологические детали, отдельные сценки, но при отсутствии полноты изображения
верность внешней стороне явлений не будет правдой. Полнота изображения
означает аналитичность его, то есть соотнесение каждого образа и события в
литературном произведении с закономерностями общества в целом.
Гениальное литературное произведение является «концентрическим зеркалом» своей
эпохи, синтезируя целое общество в его «малом образце», в типических
характерах и ситуациях. Типический образ не есть буквальное повторение
жизненного явления или характера. В нем с большей ясностью и очевидностью, чем
в самой действительности, выявляется зависимость поведения отдельного
человека, отдельного события от социального целого. В логике образа и
заключается его «правдоподобие», доказательство возможности его существования в
самой жизни. Поведение типического персонажа должно быть мотивировано его
чувствами, чувства — характером, характер — социально-исторической средой,
его породившей.
В силу своей концентрированности типические персонажи и ситуации
обладают существованием «более длительным, более несомненным, чем
существование поколений, при которых они были созданы» 1.
Таким образом, гениальное литературное произведение одновременно
является и «полным отображением своего времени» и научным исследованием,
«философией истории» своей эпохи. Но анализ причин, включенный в самую
1 «Бальзак об искусстве», стр. 7.
609
художественную плоть произведения, еще не исчерпывает его философско-
исследовательских задач. Великий писатель не только объясняет общество; он
судит его, устанавливая, «в чем оно отдаляется или приближается к великому
закону, к истине, к красоте». Только «определенное мнение о человеческих
делах, полная преданность принципам» 1 делают художника великим,
превращают его в «учителя людей». Принципы писателя и являются тем идеальным
началом, через которое осуществляется обязательное, согласно Бальзаку,
«стремление к идеальной красоте» в художественном произведении. При этом
идеал должен существовать в образах искусства именно как стремление, а ве
как «возвышенный обман», то есть искажение действительности в
желательном для писателя направлении.
Социальная и эстетическая мысль Бальзака логически привела его к
замыслу «истории нравов» французского буржуазного общества первой полови?
ны XIX века, «историком», «секретарем» которого Бальзак хотел стать. Бальзак
понимал, что новизна, подвижность, небывалая сложность нового общества,
распадающегося на бесчисленные борющиеся атомы частных интересов, требуют
новых форм художественного выражения. По мнению Бальзака, этим
требованиям не отвечают ни «литература идей» (к которой он с оговорками
причисляет Стендаля и без оговорок Мериме, прозу Мюссе и поэзию Беранже),
следующая традиции рационалистической литературы XVII и XVIII веков,
ни романтизм — «литература образов».
Метод «литературы идей» Бальзак уподобляет рисунку, воспроизводящему
только остов предметов, но игнорирующему их живую плоть. Перечислеаие
действий и идей, часто выраженных не в образной, а в логической форме,—
такова стилистическая особенность этого направления, неспособного вместить
в свою сухую и строгую форму драматизм и пестрое многообразие нового
общества, не подчиненного «одной системе».
Романтизм («литературу образов») Бальзак сравнивает с живописью,
воспроизводящей только цвет предметов, но растворяющей в блеске колорита
рисунок — контуры и форму. Лиризм романтиков, их стремление к
возвышенному и исключительному не позволяют им увидеть уродливые противоречия,
хмурую прозу буржуазной жизни, а их эмоциональная субъективность не
оставляет места для анализа, без которого не может быть раскрыт «социальный
двигатель» буржуазных отношений.
В своем творчестве Бальзак стремится использовать достижения
«литературы идей» и «литературы образов», избавившись от их ограниченности. Он
хочет изображать «мир таким, каков он есть»2 в настоящее время, «когда все
анализируется и изучается», когда «поэзия невозможна» помимо «описания
социальной болезни», а ее диагноз не может быть поставлен вне «изображения
общества», так как больной —это сама «болезнь».
1 «Бальзак об искусстве», стр. 8.
2 Там же, стр. 19.
610
Роман, воплощающий суть этого больного общества, раздвигает рамки
старой литературы, соединяет жанры и смещает эстетические категории. Высокая
трагедия в таком современном произведении выражается в «низменных»
конфликтах обыденной жизни; в повествование, насыщенное конфликтностью
социального бытия, врывается драма, описание облика персонажей, места
действия, предметов, включает героев в национальную, социальную, историческую
среду.
Но главное — этот роман должен охватить все общество, раскрыть основы
его бытия и осудить его с точки зрения «высшего закона» истины и красоты.
Даже гениальный роман узок для такой задачи.
Так Бальзак приходит к идее объединения социальных романов о
современности в цикл «Человеческой комедии», к подлинному эпосу буржуазного
общества.
ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОМЕДИИ»
[,..] Идея этого произведения родилась из сравнения
человечества с животным миром.
Было бы ошибочно думать, что великий спор, вспыхнувший
в последнее время между Кювье и Жоффруа Сент-Илером,
основывается на научном открытии. Единство организмов уже занимало,
но под другими названиями, величайшие умы двух предшествующих
веков. Перечитывая столь удивительные произведения писателей-
мистиков, занимавшихся науками в их связи с бесконечным: Све-
денборга, Сен-Мартена и других,— а также книги талантливейших
естествоиспытателей: Лейбница, Бюффона, Шарля Бонне и
других,— находишь в монадах Лейбница, в органических молекулах
Бюффона, в «растительной силе» Нидгема, в связи подобных частиц
Шарля Бонне, имевшего смелость еще в 1760 году заявить:
«Животное развивается, как растение»,— находишь, повторяю, зачатки
замечательного закона: каждый для себя, на котором зиждется
единство организма. Есть только одно живое существо. Создатель
пользовался одним и тем же образцом для всех живых существ.
Живое существо — это основа, получающая свою внешнюю форму,
или, говоря точнее, отличительные признаки своей формы, в той
среде, где ему назначено развиваться. Животные виды определяются
этими различиями. Провозглашение и обоснование этой системы,
согласной, впрочем, с нашими представлениями о божьем
могуществе, будет вечной заслугой Жоффруа Сент-Илера, одержавшего
в этом вопросе высшей науки победу над Кювье — победу, которую
приветствовал великий Гёте в последней написанной им статье.
611
Проникнувшись этой системой еще задолго до того, как она
возбудила споры, я понял, что в этом отношении Общество подобно
Природе. Ведь Общество создает из человека, соответственно среде,
где он действует, столько же разнообразных видов, сколько их
существует в животном мире. Различие между солдатом, рабочим,
чиновником, адвокатом, бездельником, ученым, государственным
деятелем, торговцем, моряком, поэтом, бедняком, священником
так же значительно, хотя и труднее уловимо, как и то, что отличает
друг от друга волка, льва, осла, ворона, акулу, тюленя, овцу й т. д.
Стало быть, существуют и всегда будут существовать виды в
человеческом обществе так же, как и виды животного царства. Если
Бюффон создал изумительное произведение, попытавшись в одной
книге представить весь животный мир, то почему бы не создать
подобного произведения об Обществе? Но разнообразию животного
мира природа поставила границы, в которых Обществу не суждено
было удержаться. Когда Бюффон изображает льва-самца, ему
достаточно всего несколько фраз, чтобы определить и львицу, между тем
в Обществе женщина далеко не всегда может рассматриваться как
самка мужчины. Даже в одной семье могут быть два существа,
совершенно не похожие друг на друга. Жена торговца иной раз
достойна быть женой принца, и часто жена принца не стоит жены
художника. Общественное состояние отмечено случайностями,
которых никогда не допускает Природа, ибо общественное состояние
складывается из Природы и Общества. Следовательно, описание
социальных видов, если даже принимать во внимание только
различие полов, должно быть в два раза более обширным по сравнению
с описанием животных видов. Наконец, у животных не бывает
внутренней борьбы, никакой путаницы; они только преследуют друг
друга — вот и все. Люди тоже преследуют друг друга, но большее
или меньшее наличие разума приводит к гораздо более сложной
борьбе. Если некоторые ученые и не признают, что в великом потоке
жизни Животность врывается в Человечность, то несомненно, что
все же лавочник становится иногда пэром Франции, а дворянин
иной раз опускается на самое дно. Бюффон обнаружил у животных
исключительно простую жизнь. Животное наделено немногим в
смысле умственного развития, у него нет ни наук, ни искусств, в то
время как человек в силу закона, который еще надлежит изучить,
стремится запечатлеть свои нравы, свою мысль и свою жизнь во
всем, что он приспособляет для своих нужд. Хотя Левенгук, Сваммер-
дам, Спалланцани, Реомюр, Шарль Бонне, Мюллер, Галлер и другие
терпеливые зоографы показали, насколько занимательны нравы
животных, все же повадки каждого из них, по крайней мере на наш
взгляд, одинаковы во все времена, а между тем обычаи, одежда.
612
речь, жилище князя, банкира, артиста, буржуа, священника,
бедняка совершенно различны и меняются на каждой ступени
цивилизации.
Таким образом, предстояло написать произведение, которое
должно было охватить три формы бытия мужчин, женщин и вещи,
то есть людей и материальное воплощение их мышления,— словом,
изобразить человека и жизнь.
Кто не замечал, читая сухой и досадный перечень фактов,
именуемый историей, что во все времена — будь то в Египте, Персии,
Греции, Риме — писатели забывали изображать нам историю
нравов? Отрывок Петрония о частной жизни римлян скорее
возбуждает, чем удовлетворяет нашу любознательность. Заметив этот
огромный пробел в истории, аббат Бартелеми посвятил свою жизнь
восстановлению картины древнегреческих нравов в своем «Анахар-
сисе».
Но как сделать интересной драму с тремя-четырьмя тысячами
действующих лиц, которую являет любое общество? Как
одновременно понравиться поэту, философу и массам, которые требуют
поэзии и философии в захватывающих образах? Если я и понимал
значительность и поэзию этой истории человеческого сердца, то не
представлял себе способов воспроизвести ее: ведь вплоть до нашего
времени самые знаменитые рассказчики употребляли свое дарование
на созидание одного или двух типических лиц, на изображение
какой-нибудь одной стороны жизни. Именно с такими мыслями читал
я произведения Вальтера Скотта. Вальтер Скотт, этот современный
трувер, придал гигантский размах тому жанру повествования,
которое несправедливо считается второстепенным. В самом деле, разве
не труднее вступить в соперничество с живыми эпохами, создавая
Дафниса и Хлою, Роланда, Амадиса, Панурга, Дон-Кихота, Манон
Леско, Клариссу, Ловласа, Робинзона Крузо, Жиль Власа, Оссиана,
Юлию д'Этанж, дядюшку Тоби, Вертера, Ренэ, Коринну, Адольфа,
Павла и Виргинию, Дженни Дине, Клеверхауза, Айвенго, Манфреда,
Миньону, чем правильно располагать факты почти одинаковые у всех
народов, истолковывать устаревшие законы, выдумывать теории,
вводящие народы в заблуждение, или, подобно некоторым
метафизикам, объяснять то, что есть? Существование такого рода
персонажей почти всегда становится более длительным, более несомненным,
чем существование поколений, среди которых они рождены; однако
живут они только в том случае, если являются полным
отображением своего времени. Они зачаты в утробе определенного века, но
под их оболочкой бьется всечеловеческое сердце и часто таится
целая философия. Вальтер Скотт возвысил роман до степени
философии истории, возвысил тот род литературы, который из века в век
613
украшает алмазами бессмертия поэтическую корону тех стран, где
процветает искусство слова. Он внес в него дух прошлого, соединил
в нем драму, диалог, портрет, пейзаж, описание; он включил туда
и невероятное и истинное, эти элементы эпоса, и подкрепил поэзию
непринужденностью самых простых говоров. Но он не столько
придумал определенную систему, сколько нашел собственную манеру
в пылу работы или благодаря логике этой работы, он не
задумывался над тем, чтобы связать свои повести одну с другой и таким
образом создать целую историю, каждая глава которой была бы
романом, а каждый роман — эпохой. Заметив этот недостаток связи,
что, впрочем, не умаляет значения Шотландца, я в то же время ясно
представил себе и план, удобный для выполнения моей работы,
и самую возможность его осуществления. Хотя я и был, так
сказать, ослеплен изумительной плодовитостью Вальтера Скотта, всегда
похожего на самого себя и всегда своеобразного, я не отчаивался,
потому что объяснял особенности его дарования бесконечным
разнообразием человеческой природы.
Случай — величайший романист мира; чтобы быть плодовитым,
нужно его изучать. Самим историком должно было оказаться
французское Общество, мне оставалось только быть его секретарем.
Составляя опись пороков и добродетелей, собирая наиболее яркие
случаи проявления страстей, изображая характеры, выбирая
главнейшие события из жизни Общества, создавая типы путем соединения
отдельных черт многочисленных однородных характеров, быть
может, мне удалось бы написать историю, забытую столькими
историками—историю нравов. Запасшись основательным терпением и
мужеством, я, быть может, доведу до конца книгу о Франции
XIX века, книгу, на отсутствие которой мы все сетуем и какой,
к сожалению, не оставили нам о своей цивилизации ни Рим, ни
Афины, ни Тир, ни Мемфис, ни Персия, ни Индия. Отважный и
терпеливый Монтейль, следуя примеру аббата Бартелеми, пытался
создать такую книгу о средних веках, но в форме
малопривлекательной.
Подобный труд был бы еще ничем. Придерживаясь такого
тщательного воспроизведения, писатель мог бы стать более или менее
точным, более или менее удачливым, терпеливым или смелым
изобразителем человеческих типов, повествователем интимных
житейских драм, археологом общественного быта, счетчиком профессий,
летописцем добра и зла, но, чтобы, заслужить похвалы, которых
должен добиваться всякий художник, мне нужно было изучить
основы или одну общую основу этих социальных явлений, уловить
скрытый смысл огромного скопища типов, страстей и событий.
614
Словом, начав искать, я не говорю: найдя — эту основу, этот
социальный двигатель,— мне следовало поразмыслить о принципах
естества и обнаружить, в чем человеческие Общества отдаляются или
приближаются к вечному закону, к истине, к красоте. Несмотря на
широту предпосылок, которые могли бы сами по себе составить
целое произведение, труд этот, чтобы быть законченным, нуждался
в заключении. Изображенное так Общество должно заключать в себе
смысл своего развития.
Суть писателя, то, что его делает писателем и, не побоюсь этого
сказать, делает равным государственному деятелю, а быть может,
и выше его,— это определенное мнение о человеческих делах,
полная преданность принципам. Макиавелли, Гоббс, Боссюэ, Лейбниц,
Кант, Монтескье дали знание, которое государственные деятели
осуществляют на практике. «Писатель должен иметь твердые мнения
в вопросах морали и политики, он должен считать себя учителем
людей, ибо люди не нуждаются в наставниках, чтобы
сомневаться»,— сказал Бональд. Я рано воспринял как правило эти
великие слова, которые одинаково являются законом и для писателя-
монархиста и для писателя-демократа. Цоэтому если вздумают
упрекать меня в противоречиях, то окажется, что недобросовестно
истолковали какую-либо мою насмешку или некстати направили против
меня слова кого-либо из моих героев, что является обычным
приемом клеветников. Что же касается внутреннего смысла, души этого
произведения, то вот на каких принципах оно основывается.
Человек ни добр, ни зол, он рождается с инстинктами и
наклонностями; Общество отнюдь не портит его, как полагал Руссо, а
совершенствует, делает лучшим; но стремление к выгоде со своей
стороны развивает его дурные склонности. Христианство и особенно
католичество, как я показал в «Сельском враче», представляя собой
целостную систему подавления порочных стремлений человека,
является величайшей основой социального порядка.
Внимательное рассматривание картины Общества, списанной,
так сказать, с живого образца, со всем его добром и злом, учит, что
если мысль или страсть, которая вмещает и мысль и чувство,—
явления социальные, то в то же время они и разрушительны. В этом
смысле жизнь социальная походит на жизнь человека. Народы
можно сделать долговечными, только укротив их жизненный порыв.
[...] Труд, начатый мною, будет столь же обширен, как история:
я должен изложить его смысл, пока еще не ясный, общие начала
и нравственную цель.
По необходимости принужденный изъять предисловия,
напечатанные в свое время в ответ случайным критикам, я хочу
остановиться только на одном замечании.
615
Писатели, имеющие какую-нибудь цель, будь то возвращение
к идеалам прошлого (именно потому, что эти идеалы вечны), всегда
должны расчищать себе почву. А между тем всякий, кто вносит свою
часть в царство идей, всякий, кто отмечает какое-либо заблуждение,
всякий, кто указывает на нечто дурное, чтобы оно было
искоренено,— тот неизменно слывет безнравственным. Впрочем, упрек в
безнравственности, которого не удалось избежать ни одному смелому
писателю,— последнее, что остается сделать, когда ничего другого
не могут сказать автору. Если вы правдивы в изображении, если,
работая денно и нощно, вы начинаете писать языком небывалым по
трудности, тогда вам в лицо бросают упрек в безнравственности.
Сократ был безнравствен, Христос был безнравствен, обоих
преследовали во имя социального строя, который они подрывали или
улучшали. Когда кого-нибудь хотят изничтожить, его обвиняют
в безнравственности. Этот способ действия, свойственный партиям,
позорит всех, кто к нему прибегает. Лютер и Кальвин прекрасно
знали, что делают, когда пользовались, как щитом, затронутыми
материальными интересами. И они благополучно прожили всю
жизнь.
Когда дается точное изображение всего Общества, описываются
его великие потрясения, случается — и это неизбежно,— что
произведение открывает больше зла, чем добра, и какая-то часть
картины представляет людей порочных; тогда критика начинает вопить
о безнравственности, не замечая назидательного примера в другой
части, долженствующей создать полную противоположность первой.
Поскольку критика не знала общего плана, я прощал ей, и тем более
охотно, что критике так же нельзя помешать, как нельзя человеку
помешать видеть, изъясняться и судить. Кроме того, время
беспристрастного отношения ко мне еще не настало. Впрочем, писатель,
который не решается выдержать огонь критики, не должен вовсе
браться за перо, как путешественник не должен пускаться в дорогу,
если он рассчитывает на неизменно прекрасную погоду. По этому
поводу мне остается заметить, что наиболее добросовестные моралисты
сильно сомневаются в том, что в Обществе можно найти столько же
хороших, сколько дурных поступков; в картине же, которую я
создаю, больше лиц добродетельных, чем достойных порицания;
поступки предосудительные, ошибки, преступления, начиная от
самых легких и кончая самыми тяжкими, всегда находят у меня
человеческое и божеское наказание, явное или тайное. Я в лучшем
положении, чем историк,— я свободнее. Кромвель здесь, на земле,
претерпел только то наказание, которое на него наложил мыслитель.
И до сих пор еще длится спор о нем между различными школами.
Сам Боссюэ пощадил этого великого цареубийцу. Вильгельм Оран-
616
ский, узурпатор, Гуго Капет, другой узурпатор, дожили до глубокой
старости, не больше боясь и опасаясь, чем Генрих IV и Карл I.
Жизнь Екатерины II и жизнь Людовика XIV при сравнении ее с их
деятельностью свидетельствует о полной безнравственности, если
судить с точки зрения морали, обязательной для частных лиц, но,
как сказал Наполеон, для монархов и государственных деятелей
существуют две морали: большая и малая. Сцены политической
жизни основаны на этом прекрасном рассуждении. История не
обязана, в отличие от романа, стремиться к высшему идеалу. История
есть или должна быть тем, чем она была, в то время как роман
должен быть лучшим миром, сказала г-жа Неккер, одна из самых
замечательных женщин последнего времени. Но роман не имел бы
никакого значения, если бы при этом возвышенном обмане он не
был правдивым в подробностях. Принужденный сообразоваться
с идеями глубоко лицемерной страны, Вальтер Скотт был
неправдивым в отношении людей, в изображении женщин, так как его
образцы были протестантами. У женщины-протестантки нет идеала.
Она может быть целомудренной, чистой, добродетельной, но любовь
не захватывает ее всю, любовь ее всегда остается спокойной и
упорядоченной, как выполненный долг. Может показаться, что дева
Мария охладила сердце софистов, изгнавших ее с неба вместе с
сокровищами милосердия, исходящими от нее. В протестантстве для
женщины падшей все кончено, в то время как в католической
церкви надежда на прощение делает ее возвышенной. Поэтому для
протестантского писателя возможен только один женский образ,
между тем как писатель-католик находит новую женщину в каждой
новой ситуации. Если бы Вальтер Скотт был католик, если бы он
взял на себя труд правдивого изображения различных обществ,
последовательно сменявшихся в Шотландии, то, может быть, автор
Эффи и Алисы (два образа, за обрисовку которых он упрекал себя
в старости) признал бы мир страстей с его падениями и возмездием,
с добродетелями, к которым ведет раскаяние. Страсть — это все
человечество. Без нее религия, история, роман, искусство были бы
бесполезны.
Заметив, что я собираю столько фактов и изображаю их, как они
есть на самом деле, включая и страсть, некоторые ошибочно
вообразили, будто я принадлежу к школе сенсуалистов и материалистов —
к этим двум видам одного и того же направления — пантеизма. Но,
быть может, они могли, они должны были заблуждаться на этот
счет. Я не верю в бесконечное совершенствование человеческого
общества, я верю в совершенствование самого человека. Те, кто
думает найти у меня намерение рассматривать человека как создание
законченное, сильно ошибаются. [...]
617
Поняв как следует смысл моего произведения, читатели
признают, что я придаю фактам постоянным, повседневным, тайным
или явным, а также событиям личной жизни, их причинам и
побудительным началам столько же значения, сколько до сих пор
придавали историки событиям общественной жизни народов. Неведомая
битва, которая в долине Эндри разыгрывается между госпожой
Морсоф и страстью («Лилия в долине»), быть может, столь же
величественна, как самое блистательное из известных нам сражений.
В этом последнем поставлена на карту слава завоевателя, в
первой — небо. Несчастья обоих Бирото, священника и парфюмера, для
меня — несчастья всего человечества. «Могилыцица» («Сельский
врач») и г-жа Граслен («Сельский священник») —это почти вся
женщина. Мы тоже всю жизнь страдаем. Мне пришлось сто раз
сделать то, что Ричардсон сделал только однажды. У Ловласа
тысячи воплощений, ибо социальная испорченность принимает окраску
той социальной среды, где она развивается. Наоборот, Кларисса,
этот прекрасный образ страстной добродетели, отмечена чертами
подавляющей чистоты. Чтобы создать много таких девственниц,
нужно быть Рафаэлем. Быть может, литература в этом отношении
ниже живописи. Да будет же мне позволено отметить, сколько
безупречных (в смысле добродетельности) лиц находится в
опубликованных частях этого труда: Пьеретта Лоррен, Урсула Мируэ,
Констанция Бирото, «Могилыцица», Евгения Гранде, Маргарита Клаэс,
Полина де Вильнуа, г-жа Жюль, г-жа де ла Шантери, Ева Шардон,
девица д'Эгриньон, г-жа Фирмиани, Агата Руже, Ренэ де Мокомб,
наконец, значительное количество второстепенных действующих лиц,
которые, будучи не столь заметны, как перечисленные, тем не менее
являют читателю образец семейных добродетелей. Жозеф Леба, Же-
неста, Бенассй, священник Бонне, доктор Миноре, Пильро, Давид
Сешар, двое Бирото, священник Шаперон, судья Попино, Буржа,
Совиа, Ташероны и многие другие не разрешают ли трудную
литературную задачу, заключающуюся в том, чтобы сделать интересным
добродетельное лицо?
Это немалый труд — изобразить две или три тысячи типичных
людей определенной эпохи, ибо таково в конечном счете количество
типов, представляющих каждое поколение, и «Человеческая
комедия» их столько вместит. Такое количество лиц, характеров, такое
множество жизней требовало определенных рамок и, да простят мне
такое выражение, галерей. Отсюда столь естественные, уже
известные, разделы моего произведения: Сцены частной жизни,
провинциальной, парижской, политической, военной и сельской. По этим
шести разделам распределены все очерки нравов, образующие общую
историю Общества, собрание всех событий и деяний, как сказали бы
618
наши предки. К тому же эти шесть разделов соответствуют
основным мыслям. Каждый из них имеет свой смысл, свое значение
и заключает эпоху человеческой жизни. Я повторю здесь кратко
то, что высказал посвященный в мои планы Феликс Давен,
талантливый юноша, преждевременно похищенный смертью. Сцены
частной жизни изображают детство, юность, их заблуждения, в то время
как сцены провинциальной жизни — зрелый возраст, страсти,
расчеты, интересы и честолюбие. Затем в сценах парижской жизни
дана картина вкусов, пороков и всех необузданных проявлений
жизни, вызванных нравами, свойственными столице, где
одновременно встречаются крайнее добро и крайнее зло.
Каждая из этих частей имеет свойственную ей окраску: Париж
и провинция, социально противоположные, послужили здесь
неисчерпаемыми источниками. Не только люди, но и главнейшие
события отливаются в типические образы. Существуют положения,
встречающиеся в жизни любого человека, это типические фазы жизни:
именно в обрисовке их я старался быть возможно более точным.
Я старался дать представление о различных местностях нашей
прекрасной страны. Мой труд имеет свою географию, так же как и свою
генеалогию, свои семьи, свои местности, обстановку, действующих
лиц и факты, также он имеет свой гербовник, свое дворянство и
буржуазию, своих ремесленников и крестьян, политиков и денди, свою
армию — словом, весь мир.
Изобразив в этих трех отделах социальную жизнь, мне
оставалось показать жизнь совсем особую, в которой отражаются интересы
многих или всех,— жизнь, протекающую, так сказать, вне общих
рамок,— отсюда сцены политической жизни. После этой обширной
картины Общества надо было еще показать его в состоянии
наивысшего напряжения, выступившим из своего обычного состояния —
будь то для обороны или для завоевания. Отсюда сцены военной
жизни — пока еще наименее полная часть моей работы, но которой
будет оставлено место в этом издании, с тем чтобы она вошла
в него, когда я ее закончу. Наконец, сцены сельской жизни
представляют собой как бы вечер этого длинного дня, если мне позволено
назвать так драму социальной жизни. В этом разделе встречаются
самые чистые характеры и осуществление великих начал порядка,
политики и нравственности.
Таково основание, полное лиц, полное комедий и трагедий, над
которым возвышаются философские этюды, вторая часть работы,
где находит свое выражение социальный двигатель всех событий,
где изображены разрушительные бури мысли, чувство за чувством.
Первое произведение этого раздела — «Шагреневая кожа» —
некоторым образом связывает сцены нравов с философскими этюдами
619
кольцом почти восточной фантазии, где сама Жизнь изображена
в схватке с Желанием, началом всякой Страсти.
Еще выше найдут место аналитические этюды, о которых я
ничего не скажу, так как из них напечатан только один: «Физиология
брака». Скоро я напишу два других произведения этого жанра. Во-
первых, «Патологию социальной жизни», затем — «Анатомию
педагогической корпорации» и «Монографию о добродетели».
[...] Огромный размах плана, охватывающего одновременно
историю и критику Общества, анализ его язв и обсуждение его основ
позволяют, мне думается, дать ему то заглавие, под которым оно
появляется теперь: «Человеческая комедия». Притязательно ли оно?
Или только правильно? Это решат читатели, когда труд будет
окончен.
Оноре Бальзак, Собрание сочинений, т. 1,
М., 1960, стр. 21—28, 30—33, 34—37, 38. Перевод
К. Локса.
ЭТЮД О БЕЙЛЕ
В наши дни литература, как это легко заметить, имеет три лица;
отнюдь не являясь признаком вырождения, эта тройственность
(словечко, изобретенное г. Кузеном из отвращения к слову «троеличие»)
кажется мне естественным следствием обилия литературных
талантов: это хвала XIX веку, который не довольствуется единственной
и одинаковой формой, подобно XVII и XVIII векам, подчинявшимся
в той или иной мере тирании одного человека или одной системы.
Эти три формы, три лица или три системы — называйте их как
хотите — естественны и соответствуют общему влечению, которое
должно было появляться в наше время, когда с распространением
просвещения возросло число ценителей литературы и чтение
достигло неслыханного развития.
Во всех поколениях и у всех народов есть элегические,
мыслящие, созерцательные умы, которые особенно увлекаются
величественным зрелищем природы, возвышенными образами и переносят
их в глубь себя. Отсюда выросла школа, которую я охотно назвал бы
литературой образов и к которой принадлежит лирика, эпопея
и все, что порождается таким взглядом на вещи.
Существуют, напротив, души активные, которые любят
стремительность, движение, краткость, столкновения, действие, драму,
которые бегут от словопрений, не любят мечтательности и стремятся
к результатам. Отсюда совсем другая система, породившая то, что
я назвал бы, в противоположность первой, литературой идей.
Наконец, иные цельные люди, иные двусторонние (bifrons) умы
объемлют все, хотят и лирики и действия, драмы и оды, полагая,
620
что совершенство требует полного обзора явлений. Эта школа,
которую я назвал бы литературным эклектизмом, требует изображения
мира таким, каков он есть: образы и идеи, идея в образе или образ
в идее: движение и мечтательность. Вальтер Скотт вполне
удовлетворил бы эти эклектические натуры.
Какая школа выше? Не знаю. Я не хотел бы, чтобы из этого
естественного различия извлекали насильственные выводы. Я также
не говорю, что какой-нибудь поэт из школы образов лишен идей
или другой поэт из школы идей не умеет создавать прекрасные
образы. Эти три формулы относятся только к общему впечатлению
от творчества поэтов, к форме, в которую писатель отливает свою
мысль, к направлению его ума. Всякий образ соответствует какой-
нибудь идее или, точнее, чувству, являющемуся совокупностью идей,
а идея не всегда приводит к образу. Идея требует последовательной
работы мысли, которая доступна не всем умам. Зато образ по
существу своему популярен, его легко понять. Представьте, что
«Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго появился одновременно
с «Манон Леско»; «Собор» привлек бы массы гораздо быстрее, чем
«Манон», и показался бы выше ее тем, кто преклоняется перед vox
populi l.
Однако ж, в каком бы жанре ни было написано произведение,
оно останется в памяти людей только тогда, если подчинится
законам идеала и формы. В литературе образ и идея соответствуют
тому, что в живописи называют рисунком и цветом. Рубенс и
Рафаэль — великие художники; но странным заблуждением было бы
полагать, что Рафаэль не колорист, а те, кто считает Рубенса
рисовальщиком, могли бы, воздавая дань восхищения рисунку,
преклонить колени перед картиной, выставленной великим фламандцем
в генуэзской церкви иезуитов.
Г-н Бейль, более известный под псевдонимом Стендаля, является,
по-моему, одним из выдающихся мастеров литературы идей, к
которой принадлежат гг. Альфред де Мюссе, Мериме, Леон Гозлан,
Беранже, Делавинь, Гюстав Планш, г-жа де Жирардэн, Альфонс
Kapp и Шарль Нодье. Анри Монье сближает с ними правдивость
его сценок, часто лишенных обобщающей идеи, но тем не менее
полных естественности и строгой наблюдательности, столь
характерных для этой школы.
Эта школа, которой мы уже обязаны прекрасными
произведениями, отличается обилием фактов, умеренностью образов,
сжатостью, ясностью, короткой вольтеровской фразой, умением
рассказывать, унаследованным от XVIII века, и особенно чувством юмора.
1 — глас народа (латин.).
621
У г. Бейля и г. Мериме, несмотря на их глубокую серьезность, есть
что-то невыразимо ироническое и лукавое в манере излагать
события. Смешное у них сдержанно. Это пламя, спрятанное в кремне.
Г-н Виктор Гюго, несомненно, величайший талант литературы
образов. К этой школе, восприемником которой был г. де Шато-
бриан, а создателем философии г. Балланш, принадлежит и Ламар-
тин. Оберман тоже. Гг. Огюст Барбье, Теофиль Готье, Сент-Бев
тоже, а за ними множество бессильных подражателей. У некоторых
из приведенных мною авторов чувство порой берет верх над
образом, как, например, у г. Сенанкура или г. Сент-Бева. Своей поэзией,
больше чем прозой, г. де Виньи также принадлежит к этой
обширной школе. У всех этих поэтов мало чувства юмора; им не дается
диалог, за исключением г. Готье, обладающего в этой области
острым чутьем. У г-на Гюго диалог слишком похож на его собственные
слова, поэт недостаточно перевоплощается, он вкладывает себя
в свой персонаж, вместо того чтобы самому становиться персонажем.
Но и эта школа, так же как и другая, дала прекрасные
произведения. Она замечательна поэтической насыщенностью фразы,
богатством образов, поэтическим языком, внутренней связью с природой;
та, первая, школа человечна, эта — божественна в том смысле, что
стремится с помощью чувства подняться до самой души мира.
Природу она предпочитает человеку. Французский язык обязан ей тем,
что получил изрядную долю поэзии, которая была ему необходима,
ибо она развила поэтическое чувство, коему долго сопротивлялась,
да простят мне это слово, положительность нашего языка и сухость,
запечатленная в нем писателями XVIII века. Жан-Жак Руссо, Бер-
нарден де Сен-Пьер были зачинщиками этой благодетельной, на мой
взгляд, революции.
Тайна борьбы классиков и романтиков лежит целиком в этом
естественном разделении умов. В течение двух веков литература
идей царила безраздельно: наследники XVIII века должны были
принять единственную известную им литературную систему для
всей литературы. Не будем осуждать защитников классики!
Литература идей, насыщенная фактами, сжатая,— близка гению Франции.
«Исповедание савойского викария», «Кандид», «Диалог Суллы и Эв-
крата», «Величие и падение римлян», «Письма к провинциалу»,
«Манон Леско», «Жиль Б л ас» — все это ближе французскому духу,
чем произведения литературы образов. Но последней мы обязаны
поэзией, о которой и не подозревали в двух предыдущих веках, если
оставить в стороне Лафонтена, Андре Шенье и Расина. Литература
образов еще в колыбели, но насчитывает уже немало людей, талант
которых неоспорим; а когда я вижу, сколько их насчитывает другая
школа, я больше верю в величие, чем в упадок царства нашего
622
прекрасного языка. Теперь, когда борьба окончена, можно сказать,
что романтики не изобрели новых средств; в театре, например,
те, кто жаловался на недостаток действия, широко пользуются
тирадой и монологом, но все же нам не привелось еще услышать живой
и стремительный диалог Бомарше, ни увидеть комизм Мольера,
который всегда будет идти от разума и идей. Комизм — враг
размышления и образа. Г-н Гюго получил большое преимущество в этом
бою. Но люди осведомленные помнят о войне, объявленной г-ну Ша-
тобриану во времена Империи; она была так же ожесточенна, но
утихла скорее, потому что г-н Шатобриан был один, без stipante
caterva ] г-на Гюго, без газетной борьбы, без помощи, которую
оказывали романтикам прекрасные таланты Англии и Германии, более
известные и лучше оцененные.
Что касается третьей школы, обладающей свойствами и одной
и другой, то у нее меньше шансов, чем у первых двух, возбудить
страсти масс, которые недолюбливают mezzo-termine2,
произведения смешанные, и видят в эклектизме сделку, противоречащую их
страстям, поскольку он их успокаивает. Франция любит войну во
всем. Даже в мирное время она продолжает драку. Тем не менее
Вальтер Скотт, г-жа де Сталь, Купер, Жорж Санд, на мой взгляд,—
прекрасные таланты. Что касается меня, то я встал в строй под
знамя литературного эклектизма по следующей причине: я не
считаю возможным живописать современное общество суровыми
методами XVII и XVIII веков. Введение драматического элемента,
образа, картины, описания, диалога мне кажется необходимым в
современной литературе. Признаемся откровенно, «Жиль Блас»
утомителен по форме: в нагромождении событий и идей есть что-то
бесплодное. Идея, ставшая персонажем,— это искусство более
высокое. Платон диалогизировал свою психологическую мораль.
«Бальзак об искусстве», М., 1941, стр. 18—22.
Перевод Р. И. Линце р.
ПИСЬМА О ЛИТЕРАТУРЕ, ТЕАТРЕ И ИСКУССТВЕ
[...] Истинное назначение современной критики заключается
в том, чтобы указывать принципы нового искусства. Литература за
последние двадцать пять лет испытала превращение, изменившее
законы поэтики. Драматическая форма, колоритность, наука про-
1 — «напирающей на него толпы» — цитата из «Энеиды» (латин.).
2 — полумера, половинчатость (итал.).
623
никли во все жанры. Самые серьезные книги должны подчиняться
этому движению, которое придает сочинениям такую
увлекательность; но человеческий интеллект потеряет все, что выиграет
удовольствие, если при этой метаморфозе во Франции погибнут
и необходимое каждому писателю образование и та непобедимая
логика мысли, что в гораздо большей мере, чем логика фразы,
образует бессмертную красоту французского языка. Я полагаю, что
различные достоинства двух предыдущих литературных веков могут
и должны войти в современные произведения. Если некоторые пз
этих произведений пользуются мировым успехом, то успех
объясняется соединением старых достоинств с блеском новой формы. Я не
из тех, кто презирает свое время и удручает современных писателей
сравнениями с семью или восемью гениями XVII и XVIII веков;
я думаю, что второстепенные таланты нашего времени настолько
выше второстепенных талантов прошлых времен, что писателям
первого ранга стало гораздо труднее добиться славы, чем в старину.
Но я думаю также, что если нужна была когда-нибудь терпеливая,
совершенная, просвещенная критика, то именно в такой момент,
когда множество работ, когда пыл честолюбий вызвали всеобщую,
схватку и производят в литературе такое же смятение, как в
живописи, где нет больше ни мастеров, ни школ, где отсутствие
дисциплины позорит святое дело искусства и калечит все, даже чувство
прекрасного, на котором покоится творчество [...].
Там же, стр. 75.
[...] Я не устану повторять, что правда природы не может быть
и никогда не будет правдой искусства; а если искусство и природа
точно совпадают в каком-нибудь произведении, это значит, что
природа, неожиданностям которой нет числа, подчинилась условиям
искусства. Гений художника и состоит в умении выбрать
естественные обстоятельства и превратить их в элементы литературной жизни;
если же он не может хорошо спаять их, если из его металлов не
выходит монолитная статуя прекрасного стиля,— увы! произведение
не удалось. Обращение Ла Рейни к религии после жизни, полной
позора и трусости, согласно с южной натурой. Но чтобы объяснить
нам этот поступок, потребовалась бы целая книга. Граф де Комеиж
приходит на свидание к любовнице, видит ее мертвой в гробу и
становится трапистом; не нужна ли целая книга, чтобы претворить этот
случай в правдоподобную развязку! Природа не нуждается в книге,
факт объясняется самим своим существованием. Чтобы перевести
его из житейского действия к правдоподобному книжному действию,
писатель должен показать нам все его корни. Трапист отдавал отчет
только богу, авторы обязаны отчитываться перед всеми.
624
Когда мы читаем книгу, чувство правдивого кричит нам:
невероятно! — при каждой неверной детали. Если это чувство кричит
слишком часто и кричит всем, то книга не имеет и не будет иметь
никакой ценности. Секрет всемирного, вечного успеха — в
правдивости [...].
Там же, стр. 145—146.
СТЕНДАЛЬ
1783-1842
Стендаль — псевдоним великого французского писателя-реалиста Анри
Бейля. В детстве — свидетель революции 89—93 годов, в молодости — участник
наполеоновских войн, переживший падение Наполеона, Реставрацию и ее
смену буржуазной монархией, Стендаль до конца жизни сохранил верность
революционным демократическим идеям.
Литературная деятельность Стендаля началась с работ, посвященных
истории музыки («Жизнь Гайдна, Моцарта и Метастазио». 1815) и живописи
(«История живописи в Италии», 1817). В 1820-е годы он принял участие в
борьбе романтиков и классицистов, выступив против классицизма с двумя
брошюрами «Расин и Шекспир» (1—1823, II—1825). В 1827 году выходит его
первое художественное произведение «Арманс», за которым следует роман
«Красное и черное» (1831). После революции 1830 года Стендаль переселяется в
Италию, занимая там скромный пост французского консула. К этому времени
относятся его романы «Люсьен Левен» (1835; не был опубликован при жизни)
и «Пармская обитель» (1839).
Эстетические взгляды Стендаля сложились под влиянием
социально-эстетических учений XVIII века. Его учителями были философы-просветители
Гольбах, Гельвеций, Кабанис. Исходя из теории Гельвеция, Стендаль
утверждает, что постоянным стимулом человеческой деятельности является
стремление к счастью, которое Гельвеций определял как наслаждение и отсутствие
страданий. Хотя Стендаль нигде не вступает с ним в открытую полемику, его
понимание счастья иное, проникнутое романтическим началом борьбы: оно не
сводится к наслаждению и не исключает страданий. В понимании Стендаля
не достижение желаемого, а проявление энергии в борьбе за него, напряжение
всех страстей, в которых выявляет свои потенциальные возможности, силы
и таланты личность, и является подлинным счастьем. Совпадение счастья
и «погоня за счастьем» в концепции Стендаля вытекает из его понимания
природы человека, которое отличается от «естественного человека» просветителей.
Человек Стендаля — неисчерпаемый сосуд потенциальных возможностей. Он
может стать социальным или антисоциальным, добрым или злым, мудрым или
безрассудным. Кем он станет — решит общество и история. Характер общества,
21 История эстетики, т. Ill
625
его социальная и политическая система обусловливают представление о
жизненных ценностях, идеалы счастья и формы борьбы за него. Только в
государстве, для которого война является условием существования, человек мечтает
о военной славе как о высшем счастье. Только в демократических
государствах, где каждый или многие могут участвовать в управлении, возникает мечта
об общественной деятельности, о счастье реформатора, политика, руководителя
народа.
Социально-историческими формами «погони за счастьем» определяются
и господствующие идеалы физической и духовной красоты человека. Через
понятие красоты этика Стендаля органически соединяется с его эстетикой,
так как, по Стендалю, сущность искусства заключается в воплощении образа
человеческой красоты, соответствующей представлениям о счастье и формам
борьбы за него. Содержание и формы искусства, не только изображающего,
но и выражающего общество, изменчивы, как и сама история. Подражание
природе и достижение сходства с ней есть обязательное условие, без которого
не существует искусство, но произведение становится художественно
значительным только тогда, когда в нем воплощено «идеальное начало» — образ
счастья и красоты.
Выражение идеального в искусстве Стендаль называет экспрессией.
Преодолевая до некоторой степени разрыв идеального и реального, присущий
классицизму, реализму Просвещения и романтизму, Стендаль в экспрессивности
художественного произведения не видит отказа от подражания
действительности. Идеалы счастья — не вымысел: они существуют в самой жизни как
тенденции человеческого поведения, опирающиеся на общественное устройство.
Задача художественного произведения — отбирать и обобщать эти идеальные
устремления своего времени, оставаясь «ясным зеркалом» жизни.
Правдиво показывая современные страсти, искусство должно вызывать
сопереживание и пробуждать в людях стремление к счастью. Но такое искусство
может возникнуть только в атмосфере общественной активности, напряжения
энергии и борьбы. Далеко не всякий общественный строй способствует
расцвету искусства. Деспотизм, например, сужая крут ценностей, к которым
стремится личность, выдвигая как цель благосклонность монарха, карьеру,
материальное благополучие, неизбежно приводит к упадку искусства.
Низменные цели, умаляя страсти и парализуя активность, превращают искусство
деспотического государства в мелкое, фальшивое, «жеманное», то есть лишенное
искренности и силы. Примером такого аморфного искусства для Стендаля был
классицизм, которому он противопоставлял силу и страстность Шекспира.
Влияние религии и церкви также лишает искусство силы воздействия: чудеса
всемогущего божества, не знающего борьбы с препятствиями, не могут вызвать
сопереживания в душе человека.
Современное буржуазное литературоведение навязывает Стендалю культ
силы, рассматривая его как аморалиста, чуть ли не предшественника Ницше,
безразличного к мотивам и содержанию деяняй сильной личности. Эстетика
626
Стендаля опровергает эту концепцию. Стендаль называет «низкими» способы
борьбы за счастье и представления о счастье, порожденные общественным
рабством. Даже варварскую энергию и индивидуалистическое бунтарство он
предпочитает раболепству и лицемерию — низменным страстям деспотизма.
Одухотворенная разумом человеческая красота возникает только в
условиях гражданской свободы. Эту «новую красоту» Стендаль считал уже
существующей в современном ему обществе, возникшей как плод революционных
освободительных бурь начала XIX века. «...Переворот в умах неизбежен,—
писал он.— Люди высоких душевных качеств снова займут подобающее им
место; сильные движения души снова покажутся привлекательными... Тогда
вторично зародится фанатизм, а энтузиазм в политике проявится
по-настоящему впервые» *. Индивидуалистический пафос, иррационализм и религиозные
вдохновения французского романтизма 1820-х годов казались ему с позиций
этого идеала несовременными и нежизнеспособными.
В его собственных романах — вместе с правдивым отражением
феодального и буржуазного рабства — в образах главных героев, в свободе и глубине
авторской мысли живет «идеальное начало», та «новая красота» свободного
человека, которой, как он думал, принадлежит близкое историческое будущее.
РАСИН И ШЕКСПИР
Романтизм — это искусство давать народам такие литературные
произведения, которые при современном состоянии их обычаев и
верований могут доставить им наибольшее наслаждение.
Классицизм, наоборот, предлагает им литературу, которая
доставляла наибольшее наслаждение их прадедам.
Софокл и Еврипид были в высшей степени романтичны: они
давали грекам, собиравшимся в афинском театре, трагедии, которые,
соответственно нравственным привычкам этого народа, его религии,
его предрассудкам относительно того, что составляет достоинство
человека, должны были доставлять ему величайшее наслаждение.
Подражать Софоклу и Еврипиду в настоящее время и
утверждать, что эти подражания не вызовут зевоты у француза XIX
столетия,— это классицизм.
Я, не колеблясь, утверждаю, что Расин был романтиком: он дал
маркизам двора Людовика XIV изображение страстей, смягченное
модным в то время чрезвычайным достоинством, из-за которого
какой-нибудь герцог 1670 года даже в минуту самых нежных
излияний родительской любви называл своего сына не иначе, как
«сударь».
1 Стендаль, Собрание сочинений, т. 6, М., 1959, стр. 417.
21*
627
Вот почему Пилад из «Андромахи» постоянно называет Ореста
«сеньором»; и, однако, какая дружба между Орестом и Пиладом.
Этого «достоинства» совершенно нет у греков, и Расин был
романтиком именно благодаря этому «достоинству», которое теперь
кажется нам таким холодным.
Шекспир был романтиком, потому что он показал англичанам
1590 года сперва кровавые события гражданских войн, а затем,
чтобы дать отдых от этого печального зрелища, множество тонких
картин сердечных волнений и нежнейших оттенков страстей. Сто
лет гражданских войн и почти непрекращающихся смут, измен,
казней, великодушного самоотвержения подготовили подданных
Елизаветы к трагедии такого рода, которая почти совершенно не
воспроизводит искусственности придворной жизни и цивилизации
живущих в спокойствии и мире народов. Англичане 1590 года,
к счастью, весьма невежественные, любили видеть на сцене
изображение бедствий, от которых они недавно были избавлены из
действительной жизни благодаря твердому характеру их королевы.
Те же самые наивные подробности, которые были бы с
пренебрежением отвергнуты нашим александрийским стихом, но в
настоящее время так ценятся в «Айвенго» и «Роб-Рое», надменным
маркизам Людовика XIV показались бы лишенными достоинства.
Эти подробности смертельно испугали бы чувствительных и
раздушенных куколок, которые при Людовике XV не могли увидеть
паука, чтобы не упасть в обморок. Вот — я отлично чувствую это —
малодостойная фраза.
Для того чтобы быть романтиком, необходима отвага, так как
здесь нужно рисковать.
Осторожный классик, напротив, никогда не выступает вперед без
тайной поддержки какого-нибудь стиха из Гомера или философского
замечания Цицерона из трактата «De senectute».
Мне кажется, что писателю нужно почти столько же храбрости,
сколько и воину: первый должен думать о журналистах не больше,
чем второй — о госпитале.
Лорд Байрон, автор нескольких великолепных, но всегда
одинаковых героид и многих смертельно скучных трагедий, вовсе не
является вождем романтиков.
Если бы нашелся человек, которого наперебой переводили бы
в Мадриде, Штутгарте, Париже и Вене, можно было бы утверждать,
что этот человек угадал духовные стремления своей эпохи.
[...] На памяти историка никогда еще ни один народ не
испытывал более быстрой и полной перемены в своих нравах и в своих
развлечениях, чем перемена, происшедшая с 1780 до 1823 года.
628
А нам хотят давать все ту же литературу! Пусть наши важные
противники посмотрят вокруг себя: глупец 1780 года говорил
дурацкие и пресные остроты; он постоянно смеялся; глупец 1823 года
произносит философические рассуждения, неясные, избитые,
скучные; у него постоянно вытянутое лицо: вот уже значительное
изменение. Общество, в котором до такой степени изменился столь
существенный и часто встречающийся его элемент, как глупец, не
может более выносить ни комического, ни патетического на старый
лад. Раньше каждый хотел рассмешить своего соседа; теперь
каждый хочет обмануть его.
Неверующий прокурор приобретает роскошно переплетенные
сочинения Бурдалу и говорит: «Это нужно сделать ради моих
канцеляристов».
Поэт, романтический по преимуществу,— это Данте; он обожал
Вергилия и, однако, написал «Божественную комедию» и эпизод
с Уголино, а это менее всего походит на «Энеиду»; он понял, что
в его эпоху боялись ада.
Романтики никому не советуют непосредственно подражать
драмам Шекспира.
То, в чем нужно подражать этому великому человеку,— это
способ изучения мира, в котором мы живем, и искусство давать своим
современникам именно тот жанр трагедии, который им нужен, но
требовать которого у них не хватает смелости, так как они
загипнотизированы славой великого Расина.
По воле случая новая французская трагедия будет очень
походить на трагедию Шекспира.
Но так будет только потому, что обстоятельства нашей жизни
те же, что и в Англии 1590 года. И у нас также есть партии, казни,
заговоры. Кто-нибудь из тех, кто, сидя в салоне, смеется, читая эту
брошюру, через неделю будет в тюрьме. А тот, кто шутит вместе
с ним, назначит присяжных, которые его осудят.
У нас очень быстро появилась бы новая французская трагедия,
которую я имею смелость предсказывать, если бы у нас было
достаточно спокойствия, чтобы заниматься литературой; я говорю —
спокойствия, так как наша главная беда — перепуганное
воображение.
Безопасность, с которой мы передвигаемся в деревнях и по
большой дороге, очень удивила бы Англию 1590 года.
Так как в умственном отношении мы бесконечно выше англичан
той эпохи, то наша новая трагедия будет более простой. Шекспир
ежеминутно впадает в риторику, потому что ему нужно было
растолковать то или иное положение своей драмы неотесанному
зрителю, у которого было больше мужества, чем тонкости.
629
Наша новая трагедия будет очень похожа на «Пинто», шедевр
г-на Лемерсье.
Французский ум особенно энергично отвергнет немецкую
галиматью, которую теперь многие называют романтической.
Шиллер копировал Шекспира и его риторику; у него не хватило
ума дать своим соотечественникам трагедию, которой требовали их
нравы.
Я забыл единство места: оно будет уничтожено при разгроме
александрийского стиха.
«Рассказчик», милая комедия г-на Пикара, которая была бы
прелестной, если бы ее написал Бомарше или Шеридан, приучил
публику замечать, что существуют чудесные сюжеты, для которых
перемены декораций совершенно необходимы.
Почти так же мы подвинулись вперед и в отношении трагедии:
почему Эмилия из «Цинны», чтобы устраивать заговор, приходит
как раз в парадные покои императора? Как можно себе представить
«Суллу», которого играют, не меняя декораций?
Если бы жив был г-н Шенье, этот умный человек избавил бы
нас от единства места в трагедии, а следовательно, и от скучных
рассказов,— от единства места, из-за которого остаются навсегда
недоступными для театра великие национальные сюжеты:
«Убийство в Монтеро», «Штаты в Блуа», «Смерть Генриха III».
Для «Генриха III» совершенно необходимы: с одной стороны —
Париж, герцогиня Монпансье, монастырь якобинцев; с другой —
Сен-Клу, нерешительность, слабость, сладострастие и внезапно —
смерть, которая всему кладет конец.
Расинова трагедия может охватить лишь последние тридцать
шесть часов действия, следовательно, изобразить развитие страстей
она совершенно не в состоянии. Какой заговор успеет составиться,
какое народное движение может созреть в течение тридцати шести
часов?
Интересно, прекрасно видеть Отелло, влюбленного в первом акте
и убивающего свою жену в пятом. Если эта перемена произошла
за тридцать шесть часов, она нелепа, и я презираю Отелло.
Макбет, достойный человек в первом действии, соблазненный
своей женой, убивает своего благодетеля и короля и становится
кровожадным чудовищем. Или я очень ошибаюсь, или эти смены
страстей в человеческом сердце — самое великолепное, что поэзия
может открыть взорам людей, которых она в одно и то же время
трогает и поучает.
Стендаль, Собрание сочинений в 15-ти томах,
т. 7, М., 1959, стр. 26—28, 30—33. Перевод
Б. Г, Реизова.
630
Какое литературное произведение имело наибольший успех во
Франции за последние десять лет?
Романы Вальтера Скотта.
Что такое романы Вальтера Скотта?
Это романтическая трагедия со вставленными в нее длинными
описаниями.
Нам укажут на успех «Сицилийской вечерни», «Парии»,
«Маккавеев», «Регула».
Эти пьесы доставляют большое удовольствие; но они не
доставляют драматического удовольствия. Публика, которая, надо сказать,
не пользуется чрезмерной свободой, любит, когда высказывают
благородные чувства в красивых стихах.
Но это удовольствие эпическое, а не драматическое. Чтобы
вызвать глубокое волнение, здесь недостает иллюзий. [...]
Весь спор между Расином и Шекспиром заключается в вопросе,
можно ли, соблюдая два единства — места и времени, писать пьесы,
которые глубоко заинтересовали бы зрителей XIX века, пьесы,
которые заставили бы их плакать и трепетать,— другими словами,
доставили бы им драматическое удовольствие вместо удовольствия
эпического, привлекающего нас на пятидесятое представление
«Парии» или «Регула».
Я утверждаю, что соблюдение этих двух единств: места и
времени — привычка чисто французская, привычка, глубоко
укоренившаяся, привычка, от которой нам трудно отделаться, так как
Париж — салон Европы и задает ей тон; но я утверждаю также, что
эти единства ничуть не обязательны для того, чтобы вызывать
глубокое волнение и создавать подлинное драматическое действие.
[...] Романтик. [...] Договоримся относительно слова иллюзия.
Когда мы говорим, что воображение зрителя допускает, будто
прошло все то время, которое необходимо для изображаемых на сцене
событий, то это не значит, что иллюзия зрителя заставляет его
верить, будто время это действительно протекло. Дело в том, что
зритель, увлеченный действием, не обращает на это внимания, он
совсем не думает о том, сколько прошло времени. Ваш парижский
зритель ровно в семь часов видит, как Агамемнон будит Аркаса,
он является свидетелем прибытия Ифигении, он видит, как ее ведут
к алтарю, где ее ждет иезуит Калхас; если спросить его, то он
мог бы ответить, что для всех этих событий потребовалось несколько
часов. Однако, если во время спора Ахилла с Агамемноном он
взглянет на часы, часы скажут ему: восемь с четвертью. Кто из
зрителей удивится этому? Однако пьеса, которой он аплодирует,
тянется уже несколько часов.
631
Причина вот в чем: даже ваш парижский зритель привык видеть,
что время на сцене и в зрительном зале протекает неодинаково
быстро. Это факт, который вы не можете отрицать.
Ясно, что даже в Париже, даже в театре на улице Ришелье
воображение зрителя охотно следует за вымыслом поэта. Публика
не обращает никакого внимания на промежутки времени, которые
необходимы поэту, так же как в скульптуре ей не приходит в голову
упрекать Дюпати и Бозио в том, что их фигурам недостает
движения. Это одна из слабых сторон искусства. Зритель, если он не
педант, занят исключительно развитием страстей и событиями,
происходящими перед его глазами. Совершенно одно и то же
происходит в голове парижанина, аплодирующего «Ифигении в Ав-
лиде», и в голове шотландца, которого восхищает история его
старых королей, Макбета и Дункана. Единственная разница в том,
что парижанин, принадлежащий к почтенной семье, усвоил себе
привычку смеяться над шотландцем.
Академик. То есть, по-вашему, театральная иллюзия для
обоих совершенно одинакова?
Романтик. Питать иллюзии, впасть в иллюзию — значит
ошибаться, как говорит словарь Академии. Иллюзия, говорит
господин Гизо, возникает, когда какая-нибудь вещь или образ вводит
нас в заблуждение своим обманчивым видом. Следовательно,
иллюзия означает действие человека, верящего в то, чего нет, как,
например, при сновидении. Театральная иллюзия — это действие
человека, верящего в реальность того, что происходит на сцене.
В прошлом году [в августе 1822 года] солдат, стоявший на часах
в театре Балтиморы, видя, как Отелло в пятом акте трагедии этого
имени собирается убить Дездемону, воскликнул: «Никто не посмеет
сказать, что в моем присутствии проклятый негр убил белую
женщину». В то же мгновение солдат выстрелил и ранил в руку актера,
игравшего Отелло. Каждый год газеты сообщают о подобных
случаях. Так вот: этот солдат испытал иллюзию, он поверил в
реальность действия, происходившего на сцене. Но обыкновенный
зритель в минуту величайшего наслаждения, с восторгом аплодируя
Тальма — Манлию, говорящему своего другу: «Знаешь ли ты это
письмо?» — уже в силу того, что он аплодирует, не испытывает
полной иллюзии, так как он аплодирует Тальма, а не римлянину
Манлию; Манлий не делает ничего достойного одобрения, его поступок
вполне естествен и вполне в его интересах.
[.,.] Вы не можете не согласиться, что иллюзия, которую ищут
в театре, не есть полная иллюзия. Полная иллюзия — иллюзия
солдата на часах в театре Балтиморы. Зрители отлично знают, что они
находятся в театре и присутствуют на представлении произведения
632
искусства, а не при действительном событии,— и с этим вы не
можете не согласиться.
Академик. Кто же станет отрицать это?
Романтик. Значит, вы соглашаетесь с неполнотой иллюзии?
Берегитесь.
Не кажется ли вам, что время от времени, например два или
три раза в каждом акте, и каждый раз на одну или две секунды,
иллюзия бывает полной?
[...] Мне кажется, что эти мгновения полной иллюзии случаются
чаще, чем обычно полагают, а главное, чем это допускают в
литературных дискуссиях. Но эти мгновения бесконечно кратки; они
длятся, может быть, полсекунды или четверть секунды. Тотчас же
забываешь о Манлии, чтобы видеть лишь Тальма. [...]
Но посмотрим, в какие моменты трагедии зрителя могут ожидать
эти дивные мгновения полной иллюзии.
Эти чудесные мгновения не встречаются ни в момент перемены
места действия, ни в момент, когда поэт заставляет зрителя
перенестись на десять-пятнадцать дней вперед, ни в момент, когда поэт
принужден вложить в уста одного из своих персонажей длинный
рассказ только для того, чтобы осведомить зрителя о
предшествовавшем событии, которое ему должно стать известным, ни в момент,
когда появляются три-четыре восхитительных стиха, замечательных
как стихи.
Эти чудные и столь редкие мгновения полной иллюзии могут
случиться лишь в разгаре оживленной сцены» когда реплики актеров
мгновенно следуют одна за другой; например, когда Гермиона
говорит Оресту, который убил Пирра по ее приказанию: «Но кто тебе
велел?»
Однако эти мгновения полной иллюзии не наступят ни тогда,
когда на сцене совершается убийство, ни тогда, когда стража
арестует героя, чтобы вести его в тюрьму. Мы не можем поверить
в реальность таких сцен, и они никогда не производят иллюзии.
Эти места лишь подготавливают те сцены, во время которых зрители
находят эти дивные полсекунды; так вот, я утверждаю, что эти
краткие мгновения полной иллюзии чаще встречаются в трагедиях
Шекспира, чем в трагедиях Расина.
Все удовольствие от трагического зрелища зависит от того,
насколько часты эти краткие мгновения иллюзии, и от волнения,
в котором они оставляют душу читателя в промежутках между ними.
[...] Таким-то образом вопрос о романтизме сводится к своей
первоначальной основе. Если вы неискренни, или нечувствительны,
или заморожены Лагарпом, вы будете отрицать эти мгновения
полной иллюзии.
683
И я признаюсь, что никак не смогу возражать вам. Ваши
чувства — это не материальные предметы, чтобы я мог извлечь их из
вашего собственного сердца и, показав их вам, опровергнуть вас.
Я говорю вам: вы должны испытывать в этот момент такое-то
чувство; обычно все хорошо организованные люди испытывают
в этот момент такое-то чувство. Вы отвечаете мне: простите меня,
это неверно.
Я ничего больше не могу прибавить. Я подошел к последним
пределам того, что логика может уловить в поэзии.
Там же, стр. 7—15.
ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ В ИТАЛИИ
Живопись была призвана в Пьемонт, чтобы стать там, как в
других монархических государствах, экзотическим растением, уход за
которым дорого стоит, выращивание которого сопровождается
громкими словами и которое никогда не цветет.
Хотя кисть художника и безгласна, монархическая власть, даже
в том случае, когда король — ангел, враждебно относится к ее
шедеврам, не запрещая сюжеты картин, но угнетая души
художников.
Менее несовместима эта власть со скульптурой, которая вовсе
не допускает экспрессии, а стремится лишь к красоте. Я вовсе не
хочу утверждать, что такого рода правление не может быть
справедливым в отношении частной собственности и свободы подданных;
я говорю только, что посредством привычек, которые оно прививает,
оно убивает духовную энергию народов.
Каковы бы ни были личные качества короля, не в его силах
помешать нации воспринять и усвоить привычки монархии; иначе
его власть рухнет. Не в его силах помешать всем классам подданных
стараться угодить министру или его помощнику, прямому своему
начальнику.
Я охотно допускаю, что эти министры — честнейшие в мире
люди. Рабские привычки, прививаемые жаждой угождать им, носят
жалкий характер низости и исключают возможность малейшей ори-
гинальности; ибо при монархическом строе тот, кто не похож на
других, оскорбляет других, и те мстят ему, выставляя его смешным.
И тогда не может быть истинных художников — Микеланджело,
Гвидо, Джорджоне. [...]
Художники имеют несчастье жить при дворе. Больше того,
у них есть свой особый начальник, которому надо угождать.
634
Если Лебрен — первый живописец короля, все художники
должны копировать Лебрена. Если бы — допустим самое невероятное —
нашелся какой-нибудь гениальный бедняга, достаточно дерзкий,
чтобы не подражать его манере, первый живописец воздержался бы
от всякого покровительства таланту, который своей новизной может
вызвать отвращение к его собственному искусству у короля, его
господина. Он может быть очень порядочным человеком, допускаю
охотно, но он не поймет этого таланта, отличающегося от его
собственного. Поэтому живопись будет всегда посредственной при
неограниченной монархической власти. Если случайно родится новый
Пуссен, он отправится в Рим, чтобы окончить там свои дни.
Стендаль, Собрание сочинений в 15-ти томах,
т. 6, М., 1959, стр. 41—43. Перевод В. Комаро-
вича под редакцией В. Е. Шода.
Но религия, подобно тем несчастным матерям, которые, дав
жизнь детям, влагают в их тело зародыш неизлечимых болезней,
толкнула живопись на ложный путь; она удалила ее от красоты
и экспрессии. Иисус на картинах Тициана или Корреджо всегда
лишь несчастный, приговоренный к казни, или видный царедворец
при каком-нибудь деспоте. Смешпо смотреть, когда живопись, это
легкомысленное искусство, пытается доказать религиозную
доктрину.
У греков, возводивших в сан богов своих героев — благодетелей
родины, религия предписывала красоту, красоту прежде всего, даже
больше, чем сходство. Часто руки на античных барельефах имеют,
самое большее, человеческую форму, а подробности смехотворны; но
линия лба отмечает уже способность внимания; а рот —
спокойствие сосредоточенной в себе мысли. Это потому, что греки
изображали добродетели Тезея, спасшего афинян, а художники нового
времени — добродетели св. Симеона Столпника, двадцать лет
занимавшегося самобичеванием на своем столпе.
Там же, стр. 36.
[...] Среди необъятного разнообразия, которое природа предлагает
взорам человека, он в конце концов замечает только те образы,
которые соответствуют тому, в чем он видит для себя счастье. Грей
видит только величественные сцены, Мариво — только острые и
своеобразные черточки. Все остальное скучно. Посредственным следует
считать художника, не ощущающего живо ни счастья, ни несчастья,
или находящего их только в обычном, или же не находящего их
в явлениях природы, в подражании которым заключается это
искусство.
Там же, стр. 185,
635
БИБЛИОГРАФИЯ
/. Общая литература
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., «Искусство», 1957, стр. 525—
528.
Иезуитов А. Н., Вопросы реализма в эстетике Маркса и Энгельса, Л,—М.,
«Искусство», 1963, 323 стр.
«Из истории реализма XIX века на Западе». Сборник статей под ред. и с предисл.
Ф. П. Шиллера, [М.], Гослитиздат, 1934, 293 стр.
«История французской литературы», т. 2, М., Изд-во Акад. наук СССР, 1956.
«Литературные манифесты французских реалистов». Под ред. и со вступит.
ст. М. К. Клемана, Л., Изд-во писателей в Ленинграде, [1935], 205 стр.
Пти-де-Жюльвилль Л., Иллюстрированная история французской
литературы. Пер. Ю. А. Веселовского с предисл. А. Н. Веселовского,
М., Прокопович, 1908, VI, 824 стр.
«Французский реалистический роман XIX века». Сборник статей под ред.
В. А. Десницкого, Л.— М., Гослитиздат, 1932, 239 стр.
Яворская Н. В., Романтизм и реализм во Франции в XIX веке, М., Изо-
гиз, 1938, 206 стр.
Baldens-р erger F., La critique et l'histoire littéraire en France au XIX
et au début du XXe siècle, N.-Y., Brentano, 1945.
Β ο ρ ρ L., Les beaux-arts en France. Complément à la philosophie de Part, P.,
Gallimard, [1956], 234 p.
Bornecque J. H. et Cogny P., Réalisme et naturalisme, P., Hachette,
1959.
Dumesnil R., Le réalisme et le naturalisme, P., Gigord, [1955], 452 p.
Fischer J. 0., Problémy francouzského kritického realismu, Praha, Univ.
Karlova, 1961, 221 s. (Acta Univ. Carolinae. Philologica).
Fosca F., De Diderot à Valéry. Les écrivains et les arts visuels, P., Michel,
[1960], 296 p.
Guérard A. L., French civilisation in the XIX century, N. Y., Century,
1918.
Hautecœur L., Littérature et peinture en France du XVIIe au XXe siècle,
P., Colin, 1963, 358 p.
H u r e t J., Enquête sur l'évolution littéraire, P., Fasquelle, 1901, XXI, 455 p.
Martino P., Le roman réaliste sous le Second Empire, P., Hachette, 1913,
311 p.
M a-y niai E., L'époque réaliste, P., Œuvres représenta tives, 1931, 352 p.
M u s t ο χ i d i Th. M., Histoire de l'esthétique française. (1700—1900), P.,
Champion, 1920, LXIII, 240 p.
N e e d h a m H. Α., Le développement de l'esthétique en France et en
Angleterre au XIXe siècle, P., Champion, 1926, 323 p.
Ρ é t r ο ζ P., L'art et la critique en France depuis 1822, P., Baillière, 1S75.
Rocheblave L., Le goût en France. Les arts et les lettres de 1600 à 1900,
P., Colin, 1923, 345 p.
Rosenthal L., Du romantisme au réalisme, P., 1914.
Van Tieghem Ph., Les grandes doctrines littéraires en France, P.,
Presses univ. de France, 1963, 302 p.
Vial E. et Denise L., Idées et doctrines littéraires au XIXe siècle, P.,
Delagrave, 1918.
636
//. Литература к отдельным авторам
Бальзак
Сочинения;
Balzac H., Œuvres complètes, t. 1—40, P., Gonard, 1912—1940.
Balzac H., Œuvres complètes, éd. nouvelle établie par la Soc. des études
balzaciennes accompagnées de fragments inédits... t. 1—28, P., Le Prat,
[1956-1963].
Balzac H. de, Correspondance. [Textes réunis, classés et annotés par R.
Pierrot], t. 1—3, P., Garnier, 1960—1965.
Picon G., Balzac par lui-même, [P.], éd. du Seuil, [1960], 191 p. (Ecrivains
de toujours).
Бальзак О., Собрание сочинений в 24-х томах, [Сост. Д. Д. Обломиевский],
т. 1—24, М., изд-во «Правда», 1960 (Б-ка «Огонек»).
«Бальзак об искусстве». Сост. В. Р. Гриб, М.—Л., «Искусство», 1941, VIII,
527 стр.
Литература:
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., 1957, стр. 11—12; 525—528.
Б е ρ н ш τ а м Л. Г., Оноре Бальзак. 1799—1850. Указатель литературы,
Л., Лен. гор. б-ка, 1939, 32 стр.
Гербстман Α., Театр Бальзака. Предисл. К. Державина, Л.—М.,
«Искусство», 1938, 149 стр.
Горький А. М., О Бальзаке.— В кн.: Горький М., Собр. соч., т. 24,
М., 1953, стр. 138—140.
Гриб В. Р., Избранные работы. Статьи и лекции по зарубежной литературе,
М., Гослитиздат, 1956, 414 стр.
Грифцов Б. Α., Как работал Бальзак, М., Гослитиздат, 1958, 300 стр.
Засимова А. И., Проблема типического в эстетике Бальзака.— «Труды
Воронеж, ун-та», т. 63, 1961, стр. 291—303.
Миловидова Н. В., Борьба Бальзака за реалистическое искусство, М.,
1956, 16 стр. (Моск. пед. ин-т им. В. И. Ленина. Автореферат дисс. на соиск.
учен. степ. канд. филол. наук).
Морозова А. В., Вопросы реалистической эстетики в «Неведомом шедевре»
Бальзака.— «Ученые записки Орехово-Зуевского пед. ин-та», т. 2, фак.
рус. языка и лит-ры, вып. 1, 1955, стр. 253—269.
Муравьева Н. И., Оноре Бальзак. Очерк творчества, изд. 2, М.,
Учпедгиз, 1958, 203 стр.
Обломиевский Д. и Самарин Р., Бальзак (1799—1850).—В кн.:
«История французской литературы», т. II, М., 1956, стр. 441—510.
Обломиевский Д., Бальзак. Этапы творческого пути, М., Гослитиздат,
1961, 590 стр.
Овсянников Μ. Ф., О пластичности и гармонии в философских этюдах
О. Бальзака.— В кн.: «Из истории эстетической мысли нового времени»,
М., 1959, стр. 119—145.
Резник Р. Α., Философская повесть Бальзака «Неведомый шедевр».—
«Ученые записки Саратов, ун-та», т. 56, 1957, стр. 110—150.
Резник Р., Философские взгляды Бальзака.— «Вопросы литературы»,
1961, № 7, стр. 120—137.
Ρ е и з о в Б. Г., Творчество Бальзака, Л., Гослитиздат, 1939, 412 стр.
Ρ е и з о в Б., Бальзак. Сборник статей, [М.], Изд.-во Ленингр. ун-та, 1960,
328 стр.; Вопросы эстетики Бальзака, стр. 3—27.
637
Самарин P. M., К вопросу о Бальзаке — литературном критике.— «Вест-
ник Моск. ун-та, ист.-филол. серия», вып. 1, 1957, стр. 141—159.
Тэн И., Бальзак. Этюд. Пер. С. Шклявера, Спб., Берман, 1894, 108 стр.
Франс Α., Бальзак. Пер. М. П. Неведомского.— В кн.: Φ ρ а н с Α., Собр.
соч. в 8-ми томах, т. 8, М., 1960, стр. 47—54.
Цвейг С, Бальзак. Пер. А. Голембы. Под ред. Е. Закс. [Предисл. и коммент.
Н. Муравьевой, изд. 2], М., «Молодая гвардия», 1962, 493 стр.
Ч е τ у и о в а Н. И., Мировоззрение Бальзака.— В кн.: Четунова Н. И.,
В спорах о прекрасном, М., 1960, стр. 267—330.
Atkinson G., Les idées de Balzac d'après La comédie humaine, т. 1—5,
Genève, Droz; Lille, Giard, 1949.
Bellessort Α., Balzac et son œuvre, P., Perrin, 1925, VIII, 373 p.
Curtius E. R., Balzac, 2. Aufl., Bern, Francke, [1951], 422 S.
D e 1 a 11 г e G., Les opinions littéraires de Balzac, P., Presses univ. de France,
1961, 416 p.
Eigeldinger M., La philosophie de l'art chez Balzac, Genève, [1957],
182 p.
Fiat P., Essais sur Balzac, P., Pion, Nourrit, 1893, VII, 323 p.
Fiat P., Seconds essais sur Balzac, P., Pion, Nourrit, 1894, XI, 288 p.
Forest H. U., L'esthétique du roman balzacien, P., Presses univ. de.France,
1950, 249 p.
L a u b r i e t P., Le chef d'oeuvre inconnu de Balzac, un catéchisme esthétique,
P., Didier, 1961, 258 p.
Laub riet P., L'intelligence de l'art chez Balzac. D'une esthétique
balzacienne, [P.], Didier, [1961], 578 p.
Preston E., Recherches sur la technique de Balzac, P., Presses françaises,
1926, 286 p.
Spoelberch de Lovenjoul Gh., Histoire des œuvres de Honoré
de Balzac, 2 éd., P., Calmann-Lévy, 1886, 498 p.
Стендаль
Сочинения:
Stendhal, Oeuvres complètes. Texte établi par G. Eudes, t. 1—25, P., Lar-
rive, 1951—1956.
Roy G., Stendhal par lui-même, P., Ed. du seuil, [1951], 189 p.
Стендаль, Собрание сочинений. Под общ. ред. А. А. Смирнова и Б. Г. Ре-
изова, т. 1—15, Л.—М., изд. «Время» — Гослитиздат, [1933] — 1950.
Стендаль, Собрание сочинений в 15-ти томах. [Общая ред. и вступит, статья
Б. Г. Реизова], т. 1—15, М., изд. «Правда», 1959. (Б-ка «Огонек»).
Литература:
Арагон Л., Свет Стендаля.— В кн.: А ρ а г о н Л., Собр. соч, т. 10, М.,
1961, стр.. 213-308.
Артамонове, Стендаль.— В кн.: «История французской литературы», т. 2,
М., 1956, стр. 366—406.
Виноградов Α., Стендаль и искусство.— «Новый мир», 1933, № 1,
стр. 261—279.
Горький М., Собрание сочинений, т. 26, М., 1953, стр. 216—221; т. 24,
М., 1953, стр. 485—487.
Дорогова Н., Борьба Стендаля за реализм во французской литературе
20-х годов XIX века. — «Ученые записки Моск. пед. ин-та им. В. П.
Потемкина», т. 99, каф. зарубеж. лит., вып. 4, 1960, стр. 219—246.
638
И в а щ е н κ ο Α., О взглядах Стендаля на литературу и искусство. Проблемы
реалистического романа Стендаля.— В кн.: «Из истории романтизма и
реализма XIX, века на Западе», М., 1937, стр. 63—147.
Кочетков а Т. В., Стендаль. Библиография русских переводов и
критической литературы на русском языке 1822—1960, М., Изд. Всесоюз.
книжной палаты, 1961,, 119 стр. (Всесоюз. гос. б-ка иностр. лит.).
Обломиевский Д., Литературно-эстетические позиции Стендаля в
эпоху Реставрации.— В кн.: Обломиевский Д., Французский
романтизм, М., 1947, стр. 133—149.
Π ρ е в о Ж., Стендаль, Опыт исследования литературного мастерства и
психологии писателя. [Пер. под ред. А. А. Энгельке. Вступит, ст., примеч. и указ.
В. Рубцовой], М.—Л., Гослитиздат, 1960, 439 стр.
Ρ ей зо в В., Стендаль.—В кн.: «Французский реалистический роман XIX
века». Сборник статей под ред. В. А. Десницкого, Л.—М., 1932, стр. 11—44.
Ρ ей зо в В., Стендаль об искусстве.— «Искусство», 1933, № 3, стр. 55—
63.
Ρ е и з о в В., Эстетика Стендаля.— «Известия Сев.-Кавказ. ун-та» (Ростов
н/Д.), 1928, [вып.] 1 (XIII), стр. 66—101.
Ρ о л л а н Р., Стендаль и музыка.— В кн.: Ρ о л л а н Р., Собр. соч.,
т. 14, М., 1958, стр. 269—304.
Тетеревникова Η. Н., Взгляды Стендаля на язык и стиль.— «Ученые
записки Ленингр. ун-та», сер. филол. наук, вып. 29, 1957, стр. 158—194.
Фрид Я., Стендаль. Очерк жизни и творчества, М., Гослитиздат, 1958, 287 стр.
Alicatore J. С, Stendhal et Helvétius. Les sources de la philosophie de
Stendhal, Genève, Droz; Lille, Giard, 1952, XI, 300 p.
Aragon L., La lumière de Stendhal, P., Denoël, [1954], p. 9—161.
В 1 i η G., Stendhal et les problèmes du roman, P., Corti, [1953], 339 p.
Cordier H., Bibliographie stendhalienne, P., Champion, 1914, XIV, 416 p.
Del Lit to V., Bibliographie stendhalienne 1938—1943, Grenoble, Arthaud,
1945. Id. 1944—1946, Grenoble, Arthaud, 1948, 70 p. Id. 1947—1952,
Grenoble, Arthaud, 1955, 120 p. Id. 1953—1956, Lausanne, Ed. du Grand chêne,
1958, 110 p.
I m b e r t H., Symphonie. Mélanges de critique littéraire et musicale, P., Fisch-
bâcher, 1891, 178 p.
L e d e η t Α., L'esthétique de Stendhal.— «Revue internationale de
philosophie», 1949, janv.
Martineau H., L'œuvre de Stendhal, P., A. Michel, 1951, 640 p.
Martino P., Stendhal. Nouv. éd., P., 1933.
M a r t i η о P., Stendhal. Del romanticismo délie arti. Pub], et annoté par P.
Martino, S. 1., 1922, 28 p. (Ed. du Stendhal-Club, N 1).
M a tore G., Les notions d'art et d'artiste,—«Revue des sciences humaines»*
1951, avr.— sept., N62-63, p. 120-137.
M é 1 i a J., Les idées de Stendhal, P., Mercure de France, 1910, 529 p.
Rolland R., Stendhal et la musique.— «La revue», 1913, 15 déc, p. 462—
482.
Switzer R. a. Williams R., Stendhal the music critic—«Modem language
quarterly», 1956, sept., p. 246—251.
Thibaudet Α., Stendhal, P., Hachette, 1931.
ФРАНЦУЗСКАЯ
0 С Τ Έ ΤΚΙΑ
1850-18бОгг.
Первое самостоятельное наступление рабочих в
июльские дни 1848 года ознаменовало
превращение пролетариата из «класса в себе» в «класс
для себя». Требования рабочих угрожали
буржуазной собственности, но победа
пролетарской революции еще не была возможна. За
кровавым подавлением июньского восстания
последовала реакция. Буржуазия начинает
пересмотр своего демократического идейного
наследства, ее идеологи, пока еще робко, пытаются теоретически
обосновать право буржуазии на господство и на эксплуатацию. Страх
господствующего класса перед пролетариатом отдает Францию во
власть диктатуры Наполеона III.
В это двадцатилетие фигурой, определяющей облик
господствующего класса, становится рантье или мелкий лавочник, спокойно
проживающий под защитой империи, ничего не производящий, ни
640
во что не вмешивающийся, ничего не стремящийся изменить в
окружающей его действительности.
Демократические партии, дискредитировавшие себя в революции
1848 года и разогнанные после декабрьского переворота, не
находили больше опоры в массах, задавленных репрессиями. Живые
революционные традиции героического буржуазного прошлого
иссякли. Заменить их было пока нечем. Это была
всемирно-историческая эпоха, «когда революционность буржуазной демократии уже
умирала (в Европе), а революционность социалистического
пролетариата еще не созрела» 1.
На этой почве сытого буржуазного спокойствия, подавленности
масс, безнадежного разочарования и безверия интеллигенции
вырастает новая форма реализма, а вместе с тем и «цветы зла»
буржуазного искусства 50—60-х годов — теория «чистого искусства» и
творчество поэтов объединения «Парнас», предшественников
буржуазного декаданса. В преддверии этого периода развития
французского реализма стоят две в художественном отношении
малоинтересные, но в эстетике знаменательные фигуры — Шанфлёри и его
последователь Дюранти, романисты и критики, пустившие в
международный обиход термин «реализм». Кульминация их пропаганды
реализма падает на середину 50-х годов. Оба писателя называли
себя последователями Бальзака, но в их эстетике полностью
отсутствовало столь существенное для классического периода
утверждение, что «правда природы не есть правда искусства». Выступая
против буржуазного искусства, приукрашающего жизнь, и против
эстетизма парнасцев, Шанфлёри требует от художника «искренности
и простоты», понимая под этим безыскусственное копирование
будничных жизненных фактов. Произведения Шанфлёри и Дюранти
теперь забыты, но их реалистические манифесты 50-х годов,
объединившие большую группу демократически настроенных художников
и писателей, сохраняют историческое значение, так как в них
выразились общие тенденции искусства этой эпохи: стремление
воспроизводить факты жизни во всей их неяркой реальности, документально,
на основе личного опытного знания; понимание типического в
искусстве как заурядного, среднего, часто встречающегося.
Грандиозные типы и драматические типические ситуации классического
реализма отвергаются как нежизненные, вымышленные. Страстная
определенность критики буржуазного общества, основанная на
идеале общественного, не «расчеловеченного» человека, воспринимается
как разрушение художественной иллюзии.
1 В. И.Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 18, стр. 10.
641
В творчестве и эстетических суждениях художников второй
половины века эти идеи получают разнообразное истолкование и
воплощение. Например, Курбе стремится выразить свое отношение
к изображаемому так, чтобы выводы зрителя непосредственно
вытекали из созерцания самого факта жизни, запечатленного на полотне
с документальной точностью. Объективность изображения
подчеркивается выбором сюжета. Согласно пониманию типического как
обыденного, сюжеты картин Курбе — бытовые сцены, эпизоды, как бы
случайно подсмотренные художником. Обыденность изображенного
подчеркнута композицией, ракурсом — обычно «средним», на уровне
глаз зрителя, положениями и движением фигур как бы
«случайным», длящимся, захваченным врасплох. Художник сознательно
отбрасывает все кульминационное, все, что могло бы потрясти
зрителя и выразило бы мысль художника наглядно и подчеркнуто.
Картины Курбе — «документы» или хотят казаться ими.
Но при всей кажущейся нейтральности творчество Курбе —
страстная полемика против всякого украшательства жизни и бегства от
действительности в художественные фантазии. Его главными
противниками являются: «салонное» искусство Второй империи с его
лакировкой буржуазной действительности и сторонники «чистого
искусства», искавшие спасения от уродства современности в
вымысле или в образах прошлого.
«Моя мысль совершенно не стремилась к тщетной цели искусства
для искусства»,— пишет Курбе в каталоге своей знаменитой
выставки 1855 года. Задача художника-реалиста «быть в состоянии
передать нравы, идеи, облик всей эпохи, согласно моей собственной
оценке» *. Курбе видит свою заслугу и демократизм своего искусства
в борьбе против всех канонов красоты, классицистических и
романтических. Отсюда неистовые выпады Курбе против идеального
искусства художников Высокого Возрождения, отсюда же
подчеркнутая грубость, тяжеловесная плотскость его «обнаженных». Но,
создавая образы, противоположные установленным канонам, Курбе
утверждал собственный, по его понятиям, демократический идеал
человеческой красоты и жизни.
При всей революционности политических взглядов Курбе его
идеал несет на себе печать умаления социального начала,
характерного для всего искусства второй половины века. Не
гражданственность, не одушевленность общественными интересами, даже не
красота естественных человеческих связей составляют позитивный
пафос его творчества, а физическая мощь, плотское здоровье,
естественность природного, материального бытия. Именно этот пафос,
1 «Мастера искусства об искусстве», т. II, М.—Л., 1936, стр. 451.
642
сближающий Курбе с Золя, вводит пейзаж и анималистику в его
живопись как темы, равноправные изображению человека.
Не только трактовка идеальной нормы, в большей или меньшей
степени теряющей свое социальное содержание у всех реалистов
второй половины века, но и все категории реалистической эстетики
этой эпохи свидетельствуют о дегуманизации буржуазного
искусства в целом, медленно, но неуклонно ведущей его к декадансу.
Прежде всего это относится к требованию объективности.
Если у Курбе, отчасти у Флобера, «объективность» означает
скрытую, замаскированную правдоподобием изображения
тенденцию, то у братьев Гонкур и в теоретических работах Золя
объективность — прямой отказ от суждения о действительности и
осуждения ее. С требованием объективности непосредственно связана
их ориентация в эстетике и творчестве на естественные науки как
образец правдивости и глубины проникновения в действительность.
Для реалистов 30—40-х годов история—наука всех наук.
Сравнивая в предисловии к «Человеческой комедии» образование животных
видов с формированием социальных человеческих типов, Бальзак
тут же оговаривается: знака равенства поставить тут нельзя:
общество — высшая и особая ступень природы. Для изучения
общественной жизни требуется не естествознание, а другая наука — история,
к которой должна приобщиться и художественная литература.
Для художников второй половины века различие природного
и социального все больше и больше стирается. Утратив
социальный идеал человека, они уже с трудом улавливают принципиальную
разницу между человеческим и природным. Отчаявшись в
способности людей управлять общественным развитием, они в обществе
видят те же фатально стихийные процессы, которые происходят в
природе. Буржуазное общество, героическое начало которого уже ушло
в далекое прошлое и конца которому не предвидится, расширяется
в их представлении до беспредельности, поглощая и прошлое и
будущее.
Ошибочно объяснять культ естественных наук в идеологии
второй половины XIX века влиянием философского позитивизма.
Последний сам был следствием утраты веры в человеческую
социальную активность, следствием отождествления производительных сил
буржуазного общества с силами природы. Обращение к точным
наукам возникает в искусстве независимо от влияния Конта.
Флобер прочел Конта и пренебрежительно отмахнулся от него, уже
будучи поклонником и подражателем метода естественных наук.
«Естественные науки хороши вот чем,— пишет он в 1853 году,—
они ничего не стремятся доказать. Зато какая полнота фактов,
какая необъятность для мысли! К людям надо подходить как к масто-
643
донтам и крокодилам. Разве станешь волноваться из-за какого-то
рога или челюсти? Показывайте их, набивайте из них чучела,
заспиртовывайте их, вот и все; но оценивать их, нет. А вы-то сами
кто, несчастные жабы?» 1
Дело в том, что естественные науки «ничего не хотят доказать»,
не обязаны давать оценку с точки зрения человеческих социальных
нужд закономерностям, которые они открывают. Ничего, кроме
самого существования этих закономерностей, для них нет.
Для реалистов 30—40-х годов их художественная деятельность
была оружием в борьбе за иное, подлинно человеческое, в их
понимании, общество. Флобер же, ненавидя буржуазию, отрицал какую
бы то ни было возможность в развитии современного ему общества
на иных путях. Он не верил, что выражение его мнений, симпатий
и антипатий в художественном произведении может что-нибудь
изменить в действительности, и видел свою задачу только в
наблюдении, исследовании и фиксации в образах искусства закономерностей
современной ему жизни. Отсюда яростное стремление к
объективности, «вживание» в свои образы, зачастую отвратительные для
писателя, умение спрятать свою оценку за факты, проповедь
«бесстрастия» в искусстве.
Но флоберовская проповедь объективности отнюдь не означает
призыва к копированию жизни. В письмах, где он касается этого
вопроса, Флобер подчеркивает, что художник вскрывает
закономерности, «общее», «типическое» в изображаемой им действительности,
причем достичь изображения существенного художник может через
совершенную художественную форму, превращающую в красоту
даже объективно безобразное. Совершенство художественнной
формы, с точки зрения Флобера, есть внешнее выражение глубины
понимания художником сущности изображаемого явления. Значение,
которое придавал Флобер красоте художественной формы, вытекает
из его осмысления роли и места художника и искусства в
современном обществе. Флобер считал, что буржуазное опошление и
измельчание человека дошло до предела и возврата уже нет. Жалкие
крохи человечности, сохранившиеся в людях, бессильны что-либо
изменить. Возможность подняться над общим одичанием дает только
наука и в еще большей степени искусство, открывая художнику,
а через него и немногим, способным понимать, радость
бескорыстного знания всей правды о жизни. Эта правда не утилитарна.
Она не изменяет течения жизни, но она возвышает художника над
буржуазным опошлением, глупостью, лицемерием. Способность не
1 Гюстав Флобер, Собрание сочинений в 10-ти томах, т. VII, М.,
1937, стр. 456.
644
создавать себе иллюзий, видеть правду, как бы горька она ни была,
запечатлевать ее в образе, передавая ясность своего взгляда другим,
превращает искусство в остров, на котором немногие избранные
могут спастись от морального кораблекрушения в буржуазном
обществе.
Собственно, именно с Флобера начинается то превращение
искусства в своеобразный культ, требующий аскетического отречения
от всех других радостей жизни, который был так широко
распространен среди художественных деятелей конца XIX века. В награду
за отречение от мира художник, согласно этим представлениям,
очищался от буржуазной пошлости, получал духовную,
интеллектуальную свободу.
Правда в искусстве добывается, по Флоберу, мучительным и
прекрасным трудом над формой выражения. Работая над «Госпожой
Бовари», Флобер горько жалуется в письмах на ординарность
своего сюжета и героев. «Фокус» (выражение самого писателя) для
него заключался в том, чтобы, не высказав прямо своего отвращения
к этим персонажам, не уклонившись даже в мелочах от реального
облика действительности, каждую фразу, сочетание предложений,
диалог, описание пронизать пониманием мелочности героев и их
существования. Мысль писателя не существует вне формы ее
выражения: совершенство — ясность и пластичность выражения —
есть ясность самой мысли. Трудность задачи, которую ставил перед
собой Флобер, заключалась в том, что он, поборник объективности,
стремясь выразить свое отрицание буржуазности, отказался и от
авторских отступлений и от тенденции, откровенно подчеркивающей
те или иные стороны действительности. Но Флоберу удалось найти
художественную форму, действительно преодолевающую
прозаичность изображаемого. Флобер достигает этого не только через
авторскую интонацию, но главным образом через композицию кусков,
эпизодов, предложений, через параллельный монтаж, сталкивая в
контрасте явления разного плана, которые от сопоставления
разоблачают друг друга, сбрасывая свою привычную и благопристойную
видимость.
Борьба с прозаичностью материала и сложность «внеличной»
формы приводила Флобера время от времени к своего рода
капитуляции — бегству в самое отдаленное, не похожее на современность
прошлое. Но как ни громоздил Флобер в своих исторических
стилизованных произведениях описания жестоких страстей и красивых
предметов, именно здесь он терял то, ради чего эти вещи были
написаны: красоту. Ибо красота Флобера и заключалась в возвышении
критического и свободного разума художника над буржуазным
уродством. Его форма жила только своим антибуржуазным СОДер-
045
жанием, а не сама по себе, как иногда в минуты отчаяния ему
случалось думать.
Культ искусства и значение, которое придавал Флобер
художественной форме, связывали его с парнасцами — Т. Готье, Леконтом
де Лилем и Бодлером. Полемизируя с натуралистами, Флобер
часто противопоставлял пассивному отражению прозы буржуазного
общества в их творчестве понимание задачи искусства как создания
прекрасного, провозглашенного группой «Парнас», прежде всего
Леконтом де Лилем и Т. Готье. С их точки зрения, содержанием
искусства является отсутствующее в современной действительности
гармонически-прекрасное. Поэтому искусство не может черпать свой
материал из жизни. Современный художник может творить
прекрасное, извлекая эстетический материал из воспоминаний о
прошлых гармонических эпохах, из природы, из искусства. Даже
чувствам самого поэта, дисгармоническим и разорванным, рожденным
современностью, закрыт вход в святилище поэзии. Отсюда
требование «бесстрастия», объективности, выдвинутое Готье и Л. де
Лилем. Поэзия должна стать описательной, своего рода словесной
живописью, оперирующей зрительными ассоциациями. Но красота
в искусстве не сводится только к материалу, хотя он чрезвычайно
существен. Гармонически-прекрасное осуществляется в самой
словесной форме поэзии, в строгой размеренности ритма, в
возвышенности и удаленности поэтической речи от разговорного языка, в
композиции, расчленяющей поэтическое произведение на
соразмерные части. Художественная форма Л. де Лиля и Готье — барьер,
отделяющий дисгармоническую буржуазную современность от храма
искусства, где обитает гармоническая красота, подобная мраморной
статуе, не знающей ни добра, ни зла.
Парнасская концепция «чистого искусства» антиреалистична
в самом буквальном смысле этого слова: она не имеет в виду
познания действительности, наблюдения и анализа, она не заинтересована
в открытии правды. Красота художественной формы для этих
поэтов — не преодоление уродства буржуазной действительности, а
бегство от нее. Таким образом, культ красоты и художественной формы
у парнасцев далек по своему содержанию от флоберовского, для
которого художественно совершенное произведение включает и
преодолевает уродливую правду действительности. В этом понимании
красоты Флоберу был близок один Бодлер, формально примыкавший
к группе «Парнас».
Описательная живописность, свойственная парнасцам,
встречается и в творчестве Флобера. Узкий и субъективний характер
идеала у Флобера приводил его к поискам объективной основы
прекрасного вне человека, в вечном течении природной жизни, в законо-
646
мерных сменах умирания и обновления в природе, в игре света и
красок, в вещах. Описания у Флобера часто уже не выполняют
смысловой функции, которая им была свойственна в классическом
реализме, не раскрывают связи героя с социальной средой, с эпохой,
а играют роль «эстетического дивертисмента», заменяя
отсутствующее в его героях поэтическое начало.
Обратной стороной объективности была неопределенность
позиции художника. Когда отсутствует представление о социальной
норме, само отрицание действительности приобретает субъективный
характер, делается относительным, ни для кого не обязательным
проявлением личного вкуса, индивидуального «темперамента»
художника. Поэтому нет ничего удивительного в легкости перехода
многих художников второй половины века с эстетической платформы
реализма на позиции субъективного идеализма, соответствующие
художественным исканиям декадентов-символистов.
Такой переход совершил ученик Флобера, один из
замечательных реалистов Франции, Мопассан. В предисловии к повести «Пьер
и Жан» (1887) Мопассан излагает следующую концепцию: так как
индивид способен воспринимать действительность только через свой
темперамент, свое, только ему одному присуще мирочувствие, то и
искусство не отражает и не может отразить мир в его объективной
истинности; нельзя доказать, что действительность такова, какой ее
видит Флобер, или Тургенев, или Золя. Наивно спорить о том, кто
из них ближе к истине. Они передают то, что только и способно
передавать искусство,— свое индивидуальное переживание, свою
личность. В преодолении барьера, разделяющего человеческие
индивидуальности, в попытке передать другим людям свое видение мира
и заключается задача и смысл искусства.
Отрицание возможности познания объективной действительности
подрывает самую основу реализма, принципиально допуская любой
субъективный образ мира, любую самую фантастическую
художественную форму в искусстве, если только она выражает личность
художника. Не только отдельные художники, но и все
реалистическое направление в буржуазном искусстве, принявшее в 1870—
1890-е годы форму патурализма и очень близкого к нему
импрессионизма, неудержимо сближалось с антиреалистическими школами.
Эта близость уже совершенно очевидна в эстетике и творчестве
учителей, а во многом и единомышленников Золя, братьев Гонкур.
Реалистическое произведение, считают они, должно состоять из
собранных и скомбинированных художником, тщательно
зафиксированных им подлинных фактов. Эти реальные факты и есть
«документ», обеспечивающий правдивость произведения. История
человеческого общества представлялась Гонкурам стихийным потоком
647
единичных, мимолетных и неповторимых явлений, не связанных
какими-либо закономерностями. Художник, закрепляя в своем
произведении явление в его единичности, передает самую суть бытия —
его необозримое в целом непрерывное движение. Принцип
единичности Гонкуры распространяют на все элементы романа: на образы
персонажей, сюжет, изображение среды. Понятие «характер» в их
теоретических высказываниях полностью вытесняется
заимствованным из физиологии и психологии понятием «темперамент».
Характер — закономерность поведения индивида, вытекающая из
социально-исторических условий его существования; каким бы
своеобразным ни был характер, он всегда несет в себе моменты всеобщего.
Темперамент же определяется индивидуальной
психофизиологической конституцией. Биографические условия существования и
развития не могут отменить или качественно изменить эти врожденные
особенности, например, навязать индивиду страсти и склонности,
не заложенные в его природе. Ближайшая среда способна только
огрубить чувствительность человека или сделать ее более
восприимчивой, нервной, утонченной. Темперамент не может служить
средством художественного обобщения, он — единичное, которое
и интересует Гонкуров. Персонажи их романов наделены социально
типическими чертами случайно, помимо воли авторов; они
оказываются в сфере их наблюдений так, как водоросли и камни попадают
в сеть рыбака.
Отсутствие общезначимого, социально выразительного делает и
реального человека и художественный персонаж безликим, стертым,
неинтересным. Гонкуры стремились компенсировать это отсутствие
содержания в своих героях, наделяя их редкостными,
патологическими особенностями — физическими и психическими травмами,
болезненной наследственностью и т. д. Поиски редкостного,
занимательного превращают их героев и сюжеты в «документальные»,
то есть списанные с действительных фактов, «клинические случаи».
На первый взгляд это пристрастие Гонкуров к редкостному кажется
парадоксом: ведь Гонкуры, так же как и другие современные им
реалисты, считают правдивым в искусстве только будничное, не
исключительное. Но дело в том, что для Гонкуров нормы не
существует. Норма и есть бесконечное множество единичных
микромиров, болезненных и незначительных «атомов» буржуазного
общества.
Принцип единичности Гонкуры распространяют и на
изображение среды. В их понимании среда, окружающая героя, не есть часть
общественного целого, подчиняющаяся общему его закону.
Общество распадается в их представлении на бесчисленное количество
своеобразных и независимых клеточек социальных,
профессиональна
ных, индивидуальных условий жизни, точнее, обстановки, в которой
существуют те или иные индивиды. Изображая среду
художественной богемы, аристократии, мелкого трудового люда, тюрьму, цирк
и т. д., они ищут и фиксируют «экзотику» данных бытовых условий,
их специфические черты.
Поскольку писатели отказываются от социального истолкования
явлений жизни, да и вообще видят свою цель не в истолковании, то
существенным для них делается сам материал, «кусок жизни»
(Золя), который они изображают. Обращение Гонкуров в 60-е годы
к изображению жизни «низов», точно так же как их стремление,
осуществленное в конце жизни Эдмоном Гонкуром, к «изучению
и описанию» парижских аристократических салонов, не следует
объяснять ни их демократизмом, ни их реакционностью. В обоих
случаях мы имеем дело с поисками своеобразного, «экзотического»
материала, мало до сих пор использованного в литературе.
Понимание художественного мастерства как проявления острой
наблюдательности, направленной на мелочи, обычно не замечаемые,
как микроскопический анализ ощущений, а не мыслей и чувств,
наконец, само восприятие жизни как смены неповторимых
мгновений, которые «с натуры» фиксирует художник, роднит Гонкуров
с живописцами-импрессионистами, к творчеству которых Эдмон
Гонкур, доживший до расцвета импрессионизма, проявлял интерес
и симпатию.
Вариант позднего реализма в творчестве Гонкуров вполне может
быть назван импрессионизмом, хотя многочисленные и
существенные связи объединяют его с получившей всемирное распространение
последней формой реализма XIX века — с натурализмом.
Этот термин был заимствован Золя из эстетического арсенала
XVIII века. Характеризуя современное ему передовое искусство
и литературу как «натуралистические», то есть близкие к природе,
к действительности, Золя почти столь же часто говорит о
современном реализме, не различая эти понятия.
Есть ли основание утверждать, что «натурализм» в эстетике
и в художественном творчестве — нечто новое, качественно
отличное от предшествующего реализма? Для того чтобы ответить на этот
вопрос, надо разграничить эстетику Золя и его творчество, ибо они
не совпадают. Это не значит, что Золя в эстетике был натуралистом,
а в творчестве — реалистом. Противоречий между творчеством Золя
и его эстетическими теориями не было, но натуралистическая
эстетика писателя охватывала только одну, и притом наименее
оригинальную сторону его творчества.
В статьях Золя, посвященных вопросам искусства, поражает
отсутствие оригинальности мысли. В них не выдвигается буквально
649
ни одного положения, которое не было бы высказано кем-нибудь
из его предшественников, реалистов 50—60-х годов, или критиков и
теоретиков эстетики — позитивистов. В теоретических работах Золя
фигурируют все те же три столпа, на которых держится
реалистическая эстетика этого периода: документальность, объективность,
типическое как статистически среднее. К ним прибавляется столь
широко распространенный культ естественных наук, в которых Золя
уже под прямым влиянием Конта видит сближение современного
искусства с наукой, гарантирующее объективность и правдивость
художественного изображения. Так. же как и Гонкуры, Золя
оперирует понятием «темперамент», присоединяя к врожденным
психофизическим чертам наследственность, которую он считает
чрезвычайно существенной, даже в некоторых случаях полностью
определяющей поведение человека. Все же при этом «среда», понимаемая
то как ближайшая к человеку обстановка, быт, то как общие
исторические и социальные условия его существования, занимает в его
эстетической концепции более значительное место, чем у его
современников. Нашумевшая теория «экспериментального романа»,
которая на новый лад утверждает детерминированность человека
социально-историческими условиями, отличается от классического
понимания этой зависимости своими «биологическими» добавлениями
и оговорками. Золя считает, что среда определяет индивида в
границах его темперамента, в который входят унаследованные от
предков качества. Врожденные склонности, страсти, мании получают
свою конкретную форму и выражение от окружающих индивида
социально-исторических и ближайших бытовых условий.
Согласно теории экспериментального романа, современному
писателю, который пользуется «научным методом», нет нужды и не
следует фантазировать. Собирая жизненный материал, он находит
«человеческий объект», изучает его наследственность и
темперамент, затем мысленно помещает его в столь же тщательно
изученную среду, и далее ему остается только записывать, потому что
«человеческая машина» (термин, употребляемый Золя) будет
действовать с неукоснительной причинно-следственной логикой, в
соответствии со своими врожденными данными и влияющими на нее
внешними социальными и природными факторами. Это сближение
естественно-научного опыта и художественного творчества, часто
встречающееся и у других современников Золя, опирается на
детерминизм, понятый как механическая необходимость, исключающая
возможность индивидуальных вариантов и сознательного выбора.
Насколько общей была тенденция толковать детерминизм как
социальный и биологический фатализм, показывает, например, такая
популярная эстетическая теория, как позитивистская концепция
650
искусства И. Тэна. Художественные и литературные направления
в «Философии искусства» Тэна выступают как механическое
порождение, «продукт» объективных факторов — расы, среды и
исторического момента. Художник, подобно машине, лишенной
разумной оценивающей и избирающей воли, регистрирует в своем
произведении их воздействие. Художник в эстетике Тэна отличается
от человека в «Экспериментальном романе» Золя только тем, что
Тэн не упоминает о его биологических, «врожденных» свойствах.
В статьях же и в творчестве Золя социальная зависимость
дополняется зависимостью биологической. «Человеческая машина», слепо
подчиняющаяся среде, столь же пассивно подчиняется у Золя
наследственным страстям и инстинктам. В социальном аспекте
человек — «машина», как индивид он уподобляется животному.
«Человеческим животным» Золя часто без тени иронии или горечи
называет своих героев.
Широко распространенные в 70—80-е годы эстетические идеи
предстали в статьях и больших работах Золя в систематизированном
виде, изложенные красноречиво, проникнутые пафосом правдивого
изображения действительности в искусстве.
Стремление к истине у Золя, как и у многих его современников,
сочеталось с объективистским тезисом о «невмешательстве»
художника в течение жизни. Художник только показывает противоречия,
констатирует их наличие, а бороться с ними должен кто-то
другой — политик, социолог, ученый. Пафос правды в искусстве
способствовал всемирному распространению и влиянию эстетики Золя,
которая в этот период сыграла прогрессивную роль, особенно в тех
странах, где реалистическая литература только формировалась. Это
влияние не сводится к успеху эстетических теорий Золя и не
объясняется ими. Гораздо большее значение в развитии литературы
имело его творчество. В отличие от Бальзака, изображавшего
противоречия буржуазного общества через борьбу индивидуальных
интересов и страстей, Золя, который творил на более позднем этапе,
воплощает силы капиталистического развития в образах
«разумных» и кровожадных вещей — шахт, бирж, рынков, железных
дорог, универсальных магазинов. Человек лишен красоты и разума,
зато великолепны, прекрасны созданные им и его поработившие
вещи. Такую форму приобретает в романах Золя та самая
социальная среда, о которой он говорит в своей эстетике, сам не отдавая
себе отчета в том, что «человеческое животное» создано не
природой, а самой капиталистической средой, что господство зверских
инстинктов и бессмысленной механической деятельности не есть
«естественное состояние» человеческого существа, а «социальная
болезнь», как говорил Бальзак.
651
Эстетика Золя канонизирует и возводит в природную и
художественную норму человека-зверя, человека-машину. Натурализм как
художественное явление конца XIX века шире и богаче. Золя и
лучшие из его последователей в литературе показывали обе стороны
уродливого противоречия: жестокий прогресс капиталистических
производительных сил и ограбленного им, опустошенного до
«винтика машины» человека. Тем не менее и в своей художественной
практике натурализм не преступил канонов позитивистской
эстетики, оставаясь на позициях «объективного» изображения и
невмешательства художника в жизнь.
О. И. ИЛЬИНСКАЯ
ФЛОБЕР
1821-1880
Эстетические взгляды Флобера сложились ко времени его работы над
романом «Госпожа Бовари» и с наибольшей полнотой выражены в его письмах
50-х годов. Исходным положением флоберовской эстетики была мысль о том,
что красота в искусстве не сводится к воспроизведению пышной, праздничной
стороны жизни»— самая скромная повседневность может дать художнику
материал для его творчества. Захолустное Ивето как предмет художественного
изображения «стоит Константинополя», ибо какой бы обыденной и
непоэтичной ни казалась жизнь, она может стать в искусстве источником прекрасного:
по метафорическому выражению Флобера, сахар добывается не из одного
только сахарного тростника.
Флобер придавал исключительное значение совершенству формы, но не
в нем, как таковом, видел основную ценность искусства. Стихи Ожье он
называет «фальшивым искусством» именно вследствие их декоративности. По
словам Мопассана, у Флобера была концепция стиля, которая заставляла его
вкладывать в это слово «все качества, требуемые от мыслителя и от писателя.
Поэтому, когда Флобер провозглашал: «Нет ничего, кроме стиля», — не следует
думать, что он хотел этим сказать: «Нет ничего, кроме звучности или
гармонии слов» 1. Стиль произведения должен сливаться с его содержанием:
несовершенство формы говорит о несовершенстве замысла, концепции.
От художественной формы Флобер требовал максимальной простоты,
неотделимой в его понимании от точности и выразительности. Мопассан
вспоминает, как Флобер, утверждавший, что существует лишь одно-единственное
верное слово, чтобы обозначить то или иное явление, предавался мучительным
поискам, стремясь отыскать это слово и без конца переделывая фразу за
фразой. «Поймут ли когда-нибудь, сколько сложных комбинаций потребовала
1 ГидеМопассан, Полное собрание сочинений, т. II, М., 1958, стр. 233.
652
от меня эта простая книга,— пишет он в период создания «Госпожи Бовари»
(Луизе Коле, 6 апреля 1853 года).— Какой же механизм заключает в себе
простота, и как много нужно уловок, чтобы быть правдивым!» 1
Познавательная ценность искусства не сводится в эстетике Флобера к
простому воспроизведнию материала действительности, тех «кусков жизни»,
изображением которых увлекались французские натуралисты. Художественное
познание жизни не может, на его взгляд, осуществляться без обобщения,
типизации (см., например, письмо к г. Кайето от 4 июня 1857 года). Протестуя
против подмены объективного изображения авторской исповедью, Флобер
настойчиво требует, чтобы личность художника была глубоко спрятана в
произведении: за него должны говорить сами образы. Вместе с тем Флобер был далек
от идеи бесстрастного искусства парнасцев. В одном из писем к Жорж Санд
(от 15—16 декабря 1866 года) он сам считает нужным подчеркнуть: «Я
неточно выразился, говоря Вам, что «не следует писать своим сердцем». Я хотел
сказать: «не следует выводить на сцену свою личность»2.
Флобер не раз сердито открещивался от звания реалиста, понимая под
реалистами писателей типа Шанфлёри и его сторонников, которым он не прощал
небрежности художественной формы, мелкотравчатости в изображении жизни,
неспособности к большим художественным обобщениям; говоря о реализме,
он имел также в виду Золя и его соратников — братьев Гонкур и А. Доде,
нередко ограничивавшихся, по его мнению, воссозданием сырого материала
жизни. По существу же своих взглядов Флобер с его утверждением
познавательной природы искусства, требованием объективности художественного
произведения выступал как убежденный сторонник реалистической эстетики.
ИЗ ПИСЕМ ФЛОБЕРА
[...] Мюссе никогда не отделял поэзию от ощущений, которые
она дополняет. Музыка, по его мнению, создана для серенад,
живопись для портретов, а поэзия для сердечной услады. Так, каждый,
кто вздумает поместить в штаны солнце, прожжет штаны и намочит
солнце. Вот это и случилось с Мюссе. Нервы, магнетизм — так вот
в чем поэзия? Нет, у нее более ясная основа. Если бы достаточно
было для того, чтобы стать поэтом, чувствительных нервов, я
превзошел бы Шекспира и Гомера,— они кажутся мне людьми мало
нервными.
Такое смешение понятий кощунственно; я смело берусь это
утверждать, ибо обладаю способностью слышать через запертые двери
1 Гюстав Флобер, Собрание сочинений в 5-ти томах, т. 5, М., 1956,
стр. 96.
2 Там же, стр. 256.
653
то, что говорится шепотом в тридцати шагах от меня; ибо сквозь
кожу у меня бьется каждая жилка, и иногда в течение одной
секунды мозг мой пронизывают тысячи мыслей, образов и всякого
рода комбинаций, рассыпаясь в нем настоящим фейерверком. Но
все это лишь красивые темы для разговоров, и они волнуют. Поэзия
вовсе не немощность духа, свойственная подобной нервозности;
чрезмерная чувствительность — слабость. Сейчас я это объясню.
Будь у меня более здоровый мозг, я не заболел бы оттого, что
мне пришлось изучать право и скучать; я извлек бы из своих
занятий пользу, а не вред. Боль, отхлынув от головы, разлилась бы по
всему телу и заставила его судорожно сжаться. В этом-то и было
извращение.
Часто встречаются дети, у которых музыка вызывает
болезненные ощущения; они обладают большим предрасположением к ней,
раз прослушав, запоминают мелодию, воспламеняются, играя на
фортепьяно; сердце у них бьется, они бледнеют, худеют, и, наконец,
заболевают. Их измученные нервы извиваются, как у собак, от
страдания при звуках музыки. Это не Моцарты в будущем. Призвание
у них сместилось; идея слилась с плотью и стала бесплодной, а плоть
зачахла. В результате ни гениальности, ни здоровья. То же и в
искусстве — страсть не создает стихов, и чем больше личного в
нашем творчестве, тем мы слабее. Моя погрешность заключалась
именно в том, что я в свои произведения всегда помещал себя.
В святом Антонии, например, я отобразил себя. Искушение
относилось ко мне, а не к читателю. Чем меньше чувствуешь вещь,
тем более становишься способным выразить ее такой, какова она
в действительности (как она бывает всегда, сама по себе, без
всякого налета случайности), но нужно обладать искусством уметь ее
почувствовать; дар этот заключается в способности видеть, иметь
перед собой модель, которая вам позирует. Вот почему я ненавижу
разговорную поэзию, поэзию на разговорном языке. Есть вещи, для
которых не существует слов, достаточно взгляда; излияния души,
лиризм, описания — все должно быть выражено в стиле, иначе
получается проституция искусства и самого чувства. Это своего рода
стыдливость, всегда мешавшая мне ухаживать за женщинами. Когда
на язык напрашивались поэтические фразы, я боялся, как бы кто-
нибудь не подумал: «Вот так шарлатан!» — и страх действительно
оказаться шарлатаном каждый раз останавливал меня. Я
вспоминаю при этом г-жу Клоке: желая мне доказать, как она любит
своего мужа и как беспокоилась о нем во время его болезни,
продолжавшейся дней пять или шесть, она подняла прядь волос и
показала два-три седых волоса на виске, говоря: «Я провела три
бессонных ночи, целых три ночи ухаживала за ним». Действительно, верх
6S4
преданности! Из того же теста сделаны все те, кто говорит об
отлетевшей любви и могиле матери или отца, о блаженных
воспоминаниях; те, кто целует медальоны, рыдает, глядя на луну,
неистовствует от нежности при виде детей, млеет в театре, а на берегу
моря принимает задумчивые позы. Комедианты, комедианты!
Шуты! Трижды шуты, которым собственное сердце служит трамплином
для разных достижений.
Луизе Коле. 6 июля 1852 года.
Гюстав Флобер, Собрание сочинений в 5-ти
томах, т. 5, М., 1956, стр. 59—61. Перевод Т. Ири-
новой.
[...] Прочел сегодня несколько отрывков из комедии Ожье j. Что
за антипоэт! К чему выражать подобные идеи стихами? Какое
фальшивое искусство! Какое отсутствие истинной формы в этой чисто
внешней форме! Ах, все дело в том, что эти молодчики
придерживаются старого сравнения: форма — это плащ. Нет, форма — плоть
мысли, как мысль — душа жизни; чем шире мускулы груди, тем
легче дышится.
Луизе Коле. 27 марта 1853 года. Там же,
стр. 93. Перевод Т. Ириновой.
Если книга, которую я пишу с таким трудом, окажется удачной,
мною будут установлены одним фактом ее осуществления две
истины, являющиеся для меня аксиомами, а именно: прежде всего, что
поэзия — вещь чисто субъективная, что в литературе нет хороших
художественных сюжетов и что Ивето стоит Константинополя.
А следовательно, можно писать о чем угодно с одинаковым успехом.
Художник должен уметь все возвысить; он подобен насосу, кишка
которого доходит до недр вещей, до самых глубоких русел. Он
впитывает и гигантскими снопами выбрасывает к солнцу то, что было
расположено под землей и чего не было видно.
Луизе Коле. 25—26 июня 1853 года. Там же,
стр. 110. Перевод Т. Ириновой.
[...] «Бовари», являющаяся для меня прекрасным упражнением,
может вызвать в дальнейшем пагубную реакцию, ибо она внушит
мне (как это ни глупо и слабо) сильнейшее отвращение к сюжетам,
взятым из обыденной среды. Вот почему так трудно писать эту
книгу: мне стоит больших усилий представить себе свои персонажи
и говорить от их лица; ведь они мне глубоко противны. Зато, когда
1 «Филиберт».
655
пишешь нутром, дело идет быстро. Только вот в чем опасность:
когда пишут о своем, фразы, может быть, непосредственно хороши
(и лирические натуры легко добиваются эффекта, следуя своей
естественной склонности), недостает только цельности, в изобилии
встречаются повторения, общие места, заурядные выражения.
Напротив, если произведение представляет собой вымысел, все тогда
вытекает из концепции, и каждая запятая находится в зависимости
от общего плана, внимание раздваивается, и надо, не теряя из виду
горизонта, в то же время смотреть себе под ноги. Деталь — ужасная
штука, особенно для тех, кто, как я, любит детали. Ожерелье состоит
из жемчужин, но держатся они на нитке; в том-то и искусство,
чтобы, нанизывая жемчуг, не потерять ни одной жемчужины и не
выпустить из рук нитки [...]. По-моему, высшее достижение в
Искусстве (и наиболее трудное) отнюдь не в том, чтобы вызвать смех или
слезы, похоть или ярость, а в том, чтобы воздействовать тем же
способом, что и природа, то есть вызвать мечты. Поэтому лучшие
художественные произведения так безмятежны с виду и непонятны.
В отношении же приемов мастерства они недвижны как скалы,
неспокойны точно океан, полны, подобно лесам, листвы, зелени и
шорохов, печальны как пустыня, лазурны как небо. Гомер, Рабле, Ми-
келанджело, Шекспир, Гёте кажутся мне беспощадными. Их
творения бездонны, бесконечны, многообразны. Сквозь маленькие
просветы виднеются бездны; внизу мрак, вызывающий головокружение,
и в то же время над всем царит нечто необъяснимо нежное! Это блеск
света, улыбка солнца и такой покой, такой покой! А сколько силы!
Луизе Коле. 26 августа 1853 года. Там же,
стр. 120—121. Перевод Т. Ириновой.
[...] Меня увлекают, преследуют мои воображаемые персонажи,
вернее, я сам перевоплощаюсь в них. Когда я описывал отравление
Эммы Бовари, у меня во рту был настоящий вкус мышьяка, я сам
был так отравлен, что у меня два раза подряд сделалось
расстройство желудка, самое реальное, потому что вырвало весь обед...
Не сравнивайте внутреннее видение художника с настоящей
галлюцинацией. Мне отлично знакомы оба эти состояния, между
ними — целая бездна. К галлюцинациям в собственном смысле слова
всегда примешивается ужас: теряешь ощущение своей личности,
кажется, будто сейчас умрешь. Поэтическое видение, наоборот,
рождает радость, точно в тебе что-то растет. Правда, и тут
утрачивается сознание действительности. Иногда видение нарастает
медленно, по кусочкам, как различные части расставляемой декорации;
но так же часто оно бывает внезапно, мимолетно и подобно
галлюцинациям в гипнотическом сне.
656
Что-то проходит перед глазами, и на это надо жадно
наброситься.
Тэну, 1868 год. Там же, стр. 275. Перевод
Т. Ириновой я М. Эйхенгольца.
[...] От всего, что я переврщел, перечувствовал, прочел, у меня
осталась неутолимая жажда правды. Гёте, умирая, воскликнул:
«Света! Света!» О, да! Света! Даже если он спалит все внутри нас.
Какое огромное наслаждение — узнать, приобщиться к Правде
через посредство Прекрасного. Идеальное состояние, являющееся
результатом этой радости, кажется мне своего рода святостью,
которая, быть может, выше той, другой, потому что в ней меньше
корысти.
Мадемуазель Леруайе де Шантпи. 30 марта
1857 года. Там же, стр. 167. Перевод Т.
Ириновой и М. Эйхенгольца.
[...] Один из моих принципов: не вкладывать в произведение
своего «я». Художник в своем творении должен, подобно богу в
природе, быть невидимым и всемогущим; его надо всюду чувствовать,
но не видеть.
И потом, Искусство должно стоять выше личных привязанностей
и болезненной щепетильности! Пора с помощью неумолимого
метода придать ему точность наук физических. И все же главную
трудность для меня составляют стиль, форма, та неподдающаяся
определению Красота, которая является следствием самой концепции
и заключает в себе великолепие Истины, как говорил Платон.
Мадемуазель Леруайе де Шантпи. 18 марта
1857 года. Там же, стр. 164, 165. Перевод
Т. Ириновой и М. Эйхенгольца.
[...] Там, где нет формы,— нет и идеи. Искать одну — это значит
искать другую. Они так же неотъемлемы друг от друга, как
вещество неотделимо от цвета; вот почему Искусство — воплощение
истины. [...]
Луизе Коле. 15—16 мая 1852 года. Там же,
стр. 54. Перевод Т. Ириновой.
Вы говорите, что я обращаю слишком много внимания на форму.
Увы! Это все равно что тело и душа; для меня форма и идея —
одно целое, и я не мыслю одно без другого. Чем прекраснее мысль,
тем звучнее фраза, уверяю вас. Точность мысли создает (и есть
сама) точность слова.
Мадемуазель Леруайе де Шантпи. 12 декабря
1857 года. Там же, стр. 187. Перевод Т.
Ириновой и М. Эйхенгольца.
22 История эстетики, т. III
&57
Я неточно выразился, говоря вам, что «не следует писать своим
сердцем». Я хотел сказать: «не следует выводить на сцену свою
личность». Великое Искусство, мне кажется, научно, нелично. Надо
усилием разума перенестись в свои персонажи, а не привлекать
их к себе. [...]
Жорж Санд. 15—16 декабря 1866 года. Там же,
стр. 256. Перевод Т. Ириновой и М. Эйхенгольца.
[...] Дело не в том, чтобы громить ту или иную форму, а в том,
чтобы как следует изложить ее сущность, как она связана с другой
формой и в чем ее жизненность (эстетика ждет своего Жоффруа
Сент-Илера, этого великого человека, доказавшего закономерность
существования чудовищ). Когда в течение некоторого времени будут
изучать человеческую душу с тем же беспристрастием, с каким
изучают материю в науках физических, тогда можно будет сказать, что
сделан огромный шаг вперед; для человечества это единственный
способ немного возвыситься. Оно открыто взглянет на себя, увидит
себя, как в зеркале, в своих творениях, станет, как бог, судить
о себе сверху. Ну да, я считаю это вполне достижимым; быть может,
здесь нужно только найти метод, как в математике. [...]
Луизе Коле. 12 октября 1853 года. Там же, стр.
132. Перевод Т. Ириновой.
[...] Поэзия — предмет столь же точный, как и геометрия.
Индукция стоит дедукции; к тому же, достигнув известной ступени, можно
безошибочно судить обо всем, что относится к душевной жизни.
Наверно, моя бедная Бовари в это самое мгновение страдает и плачет
в двадцати французских селениях одновременно.
Луизе Коле. 14 августа 1853 года. Там же,
стр. 116. Перевод Т. Ириновой.
Лестное письмо, написанное Вами, вменяет мне в обязанность
откровенно ответить на Ваш вопрос.
Нет, милостивый государь, у меня не было никакой модели.
Госпожа Бовари — чистейший вымысел. Все персонажи этой книги
абсолютно выдуманы, и даже Ионвиль л'Аббэи не существует в
действительности, равно как Риейль и т. д. Это, однако, не помешало
тому, чтобы здесь, в Нормандии, нашли в моем романе множество
намеков. Если бы они на самом деле были у меня, то в моих
портретах оказалось бы мало сходства, так как я имел бы в виду те или
иные личности, в то время как я, напротив, стремился
воспроизвести типы.
Г-ну Кайето. 4 июня 1857 года. Там же, стр.
175. Перевод Т. Ириновой и М. Эйхенгольца.
658
[...] Чтобы быть писателем, надо все знать; все мы, писаки,
чудовищно невежественны, а между тем сколько идей и сравнений
дало бы нам знание! Обычно нам недостает глубины! Источники
целых литератур, как Гомер, Рабле, были энциклопедиями своего
времени; эти молодцы все знали, а мы ничего не знаем. В поэтике
Ронсара имеется любопытное наставление: он предлагает поэту
изучать искусства и ремесла — кузнечное, ювелирное, слесарное
и т. д., чтобы черпать оттуда метафоры; действительно, это
обогащает и разнообразит язык. В книге фразы должны трепетать, точно
листья в лесу, и нужно, чтобы они были различны в своем сходстве.
Луизе Коле. 7 апреля 1854 года. Там же, стр.
143—144. Перевод Т. Ириновой.
[..,] Существует два вида литературы, одну я называю
национальной (и она — лучшая), а затем — культурная, индивидуальная.
Для осуществления первой необходимо, чтобы в массе был запас
общих идеи, солидарность (которой не существует), связь; а для
полного расцвета второй нужна свобода. Но что сказать, о чем
говорить сейчас? И дальше все будет ухудшаться, я желаю этого,
надеюсь. Полное уничтожение я предпочитаю болезни,— лучше прах,
чем гниение. А потом все возродится. Вновь взойдет заря! Нас уже
не будет! Что из того?
Луизе Коле. 28 декабря 1853 года. Там же, стр.
138. Перевод Т. Ириновой.
Я совершенно согласен с Вашим мнением о «Набобе» 1.
Нескладная вещь. Дело не только в том, чтобы видеть, необходимо
обработать и соединить то, что видел. Реальное, по-моему, должно лишь
служить трамплином. Наши же друзья убеждены, что оно само по
себе является основой всего государства! Подобный материализм
возмущает меня, и почти каждый понедельник у меня делается
приступ раздражения при чтении фельетонов милейшего Золя. За
реалистами следуют натуралисты и импрессионисты. Какой прогресс!
Сборище балагуров, желающих уверить себя и нас в небылице,
будто они открыли Средиземное море.
И. С. Тургеневу. 8 ноября 1876 года. Там же,
стр. 449—450. Перевод Т. Ириновой и М. Эйхен-
гольца.
Я, как и Вы, прочел недавно несколько отрывков из «Западни».
Они мне не понравились. Золя становится вычурным в обратном
1 Роман А. Доде.
22*
659
смысле. Он думает, что существуют сильнодействующие слова,
подобно тому как Катос и Маделон думали, что существуют слова
благородные. Система вводит его в заблуждение. Его принципы
ограничивают его ум. Прочтите его понедельничные фельетоны, и
Вы увидите: он воображает, что открыл тайну «натурализма»! Ну а
поэзия и стиль — эти два вечных элемента — о них он никогда не
упоминает! Спросите также нашего друга Гонкура. Если он будет
откровенен, то признается вам, что до Бальзака французской
литературы не существовало. Вот куда ведет излишнее умничанье и
опасение стать шаблонным.
И. С. Тургеневу. 14 декабря 1876 года. Там же,
стр. 451. Перевод Т. Ириновой и М. Эйхенгольца.
МОПАССАН
1850-1893
Ученик и последователь Флобера, Мопассан ревниво оберегал свое
творчество от «тенденциозности». Однако в литературно-критических и
публицистических выступлениях Мопассан — газетный хроникер, сотрудник «Голуа»,
«Жиль Бласа», «Эко де Пари», «Фигаро» — со всей ясностью, тенденциозно,
подчас очень резко формулировал свое отношение к важнейшим явлениям
современной ему художественной жизни. Эта четкость литературной позиции
особенно примечательна на фоне бесформенности общих философских
воззрений Мопассана. Так, хотя Мопассан не раз заявлял о своем преклонении перед
Шопенгауэром, у него нигде нельзя обнаружить знакомства с
гносеологическими принципами этого философа: в словах восхищения Шопенгауэром,
самым модным тогда философом, сказывается лишь эмоциональный отклик
писателя на созвучное ему пессимистическое умонастроение,
противопоставляемое Мопассаном самодовольству буржуа «периода уверенности».
Ненависть Мопассана к господствующему строю питалась не только
отвращением к низменному корыстолюбию, прозаичности буржуазной жизни, но
также и мучительным переживанием того одиночества, на которое обречен
в этом обществе истинный художник (художник и буржуа — «извечные
враги»). Очевидное ему противоречие между двумя стремлениями художника:
быть обращенным к жизни, быть погруженным в жизнь — и в то же время
быть отъединенным от общества, «замыкаться в башне»,— писатель
преодолеть не мог.
Мопассан критически воспринимал доктрину натурализма, понимая ее
односторонность; но в полемике между «идеалистической», псевдореалистической
литературой, представленной Шанфлёри и ему подобными, и писателями
натуралистического направления Мопассан — на стороне последних, так как он
660
видел заслугу натуралистов в том, что они дают хотя и «протокольное», но
все же отражение жизни.
Лев Толстой — художник, отразивший великое революционное движение,—
упрекал Мопассана в том, что он «поддался царствовавшей не только в его
круге в Париже, но царствующей везде и теперь между художниками теории
о том, что для художественного произведения не только не нужно иметь
никакого ясного представления о том, что хорошо и что дурно, но что,
напротив, художник должен совершенно игнорировать всякие нравственные
вопросы, что в этом даже некоторая заслуга художника» К Действительно, Мопассан
требует «безличности» искусства, утверждает, что предмет изображения не
должен зависеть от моральных оценок художника; в этой объективности он
видит великое достоинство своего учителя Флобера. Вместе с тем во многих
случаях он трактует эту особенность флоберовского реализма как
вынужденное самоограничение, как позицию, избранную художником не по доброй воле,
а от отсутствия иного выхода. Поэтому характерное для эстетических
воззрений Мопассана преувеличение объективного момента не следует считать
отражением морального релятивизма писателя.
В склонности изображать «подонки общества», свойственной
натуралистической школе, Мопассан видит свидетельство кризиса этой школы, так как
«пристрастие либо к добру, либо ко злу» не имеет «ничего общего о задачей
художника изображать жизнь такой, как она есть, то есть быть более справедливым,
более точным, более правдоподобным, чем сама жизнь» 2. Мопассан ясно видел
опасность, заключенную в стремлении современных ему литераторов
«злоупотреблять микроскопом», изучать «все одних и тех же козявок людской
породы», «замечать чувства только одной категории, события только одного
порядка»3. Он не считал, однако, лекарством от «безжизненной литературы
фактов» литературу писателей-декабристов 80-х годов, которые «смотрят только
внутрь себя» и ратуют за роман, порожденный гипертрофированным
вниманием к собственному «я».
Объективность изображения, полнота и глубина жизненной правды — вот
главные критерии, с помощью которых Мопассан судит о совершенстве
художественных произведений любой эпохи и любой литературной школы — будь
то поэты XVI века, прозаики XVIII века, романтики или натуралисты.
Отстаивая художественную объективность Флобера как высшую ступень
художественности своего времени, отдавая должное чисто литературным
преимуществам Флобера перед Бальзаком, Мопассан признает превосходную силу
реализма Бальзака и бессмертие его великой традиции.
Знаменателен живой интерес Мопассана к явлениям русской литературы,
его преклонение перед гением Пушкина, восхищение Лермонтовым, его горя-
1 Л. Н. То л стой, Полное собрание сочинений, т. 30, М., 1951, стр. 14—15.
2Ги де Мопассан, Полное собрание сочинений в 12-ти томах, т. И,
М., 1958, стр. 145.
3 Там же, стр. 146.
661
чая привязанность к Тургеневу, писателю, открывшему новый тип в
общественной жизни России.
Несмотря на противоречивость своих литературных взглядов, Мопассан
ближе, чем любой другой французский писатель тех лет, к эстетике
полнокровного реализма. В столкновении реалистических и декадентских (в том
числе и натуралистических) тенденций конца века он на стороне реализма, на
стороне искусства, способного отразить жизнь во всем ее многообразии.
О РОМАНЕ
[...] Даже становясь на точку зрения художников-реалистов,
следует все же обсуждать и оспаривать их теорию, которую,
по-видимому, можно выразить в таких словах: «Только правда, и вся правда
до конца».
Так как цель их в том, чтобы делать философские выводы из
некоторых постоянных и обычных фактов, им нередко приходится
исправлять события в угоду правдоподобию и в ущерб правде,
потому что
Бывает не всегда правдоподобна правда.
Реалист, если он художник, будет стремиться не к тому, чтобы
показать нам банальную фотографию жизни, но к тому, чтобы дать
нам ее воспроизведение более полное, более захватывающее, более
убедительное, чем сама действительность.
[...] Вот почему художник, выбрав себе тему, возьмет из этой
жизни, перегруженной случайностями и мелочами, только
необходимые ему характерные детали и отбросит все остальное, все
побочное.
[...] Показывать правду — значит дать полную иллюзию правды,
следуя обычной логике событий, а не копировать рабски
хаотическое их чередование.
[...] Не будем же возмущаться ни одной теорией, поскольку
каждая из них — это лишь общее выражение анализирующего себя
темперамента.
Две из этих теорий особенно часто подвергались обсуждению,
но их противопоставляли одну другой, вместо того чтобы принять
их обе: это теория романа чистого анализа и теория романа
объективного. Сторонники анализа требуют, чтобы писатель
неукоснительно отмечал малейшие этапы умственной жизни и потаеннейшие
побуждения, которыми определяются наши поступки, а самому
событию уделял бы второстепенное значение. Событие есть лишь
отправной пункт, простая веха, только повод к роману.
Следовательно, по их мнению, нужно писать такие повести, точные и
сочинение
ные, где воображение сливается с наблюдением,— как у философа,
который стал бы писать книгу о психологии,— то есть излагать
причины, черпая их из самых отдаленных истоков, объяснять все
«почему» всех желаний и распознавать все отклики души, побуждаемой
к действию выгодой, страстями или инстинктом.
Сторонники объективности (какое противное слово!) имеют
в виду, наоборот, дать нам точное воспроизведение того, что
происходит в жизни; они тщательно избегают всяких сложных
объяснений, всяких рассуждений о причинах и ограничиваются тем, что
проводят перед нашим взором вереницу персонажей и событий.
По мнению этих писателей, психология в книге должна быть
скрыта, подобно тому как в действительности она скрыта за
жизненными фактами.
Роман, задуманный по этому принципу, выигрывает в отношении
интереса, подвижности повествования, красочности, жизненной
живости.
Итак, вместо того чтобы пространно объяснять душевное
состояние какого-нибудь персонажа, объективные писатели ищут тот
поступок или жест, который неизбежно будет сделан человеком в
определенном душевном состоянии, при определенных
обстоятельствах. Они заставляют героя вести себя с начала и до конца книги
таким образом, чтобы все его поступки, все его порывы являлись
отражением его внутренней природы, отражением его мыслей,
желаний или сомнений. Они, следовательно, скрывают психологию, вместо
того чтобы выставлять ее напоказ, и делают из нее остов
произведения, подобный тем не видимым глазу костям, которые
составляют скелет человеческого тела. Художник, рисуя наш портрет,
не показывает же нашего скелета.
Мне кажется еще, что роман, написанный таким способом,
выигрывает в отношении искренности. Прежде всего он
правдоподобнее,— ведь люди, действующие вокруг нас, отнюдь не сообщают
нам о побуждениях, которым они повинуются.
[...] Но если с точки зрения полной точности чистый
психологический анализ является спорным, он может все-таки дать нам столь
же прекрасное произведение искусства, как и всякий другой метод
работы.
Вот сейчас появились символисты. А почему бы и нет? Их мечта
как художников достойна уважения; особенно же ценно в них то,
что они сознают и не скрывают, как трудно создать произведение
искусства.
Ги де Мопассан, Полное собрание
сочинений в 12-ти томах, т. 8, М., 1958, стр. 11—15.
Перевод М. В. Соседовой.
663
ЭВОЛЮЦИЯ РОМАНА В XIX ВЕКЕ
[...] Сам великий Бальзак становится подлинным писателем лишь
в те часы, когда кажется, что он как бы несется, закусив удила,
подобно взбесившемуся коню. И тогда он находит, не ища (а ему
приходится постоянно, бесплодно и мучительно искать), ту легкость
и точность, которые во сто крат увеличивают радость чтения.
Но критиковать Бальзака мы не решаемся. Посмеет ли
верующий упрекать бога в несовершенстве вселенной? Бальзаку присуща
плодоносная, бьющая через край, чрезмерная, ошеломляющая
творческая сила, свойственная разве что богу. [...] Про него нельзя
сказать, что он был только наблюдателем или что он лишь точно
воспроизводил картину жизни, как делали некоторые романисты
после него; нет, он обладал такой гениальной интуицией и так
правдиво воссоздал целое человечество, что все в него поверили и оно
ожило перед нами. Его замечательные творения изменили мир,
вторглись в общество, утвердились в нем и из вымышленных
превратились в реальные. Персонажи Бальзака, до него не
существовавшие, казалось, вышли из его книг и вступили в жизнь, ибо он
создал полную иллюзию реальных людей, страстей и событий.
Однако он не канонизировал свою творческую манеру, как это
принято делать в наши дни. Он просто творил с поразительной
плодовитостью и бесконечным разнообразием. За ним вскоре создалась
школа, которая осмеливалась утверждать, будто Бальзак писал
плохо, а сама не писала совсем, поставив себе за правило всего-навсего
точно копировать жизнь. Одним из главарей этих реалистов был
Шанфлёри, а одним из лучших писателей — Дюранти, оставивший
нам интересный роман — «Несчастья Анриетты Жерар».
[...] Гюставу Флоберу мы обязаны слиянием стиля и
наблюдений в современной литературе.
Но поиски правды или, вернее, правдивости постепенно привели
писателей к жадной погоне за тем, что в наше время называют
человеческим документом.
Отцы современных реалистов старались писать, подражая
жизни; их сыновья пытаются восстановить самую жизнь при помощи
подлинных фактов, которые они собирают повсюду. Они собирают
их с невероятным упорством и бродят везде, выслеживая,
отыскивая, с мешком за плечами, как тряпичники. В результате их романы
часто оказываются лишь мозаикой из фактов, происшедших в
разных местах, фактов, причины которых несходны и значение
различно, что лишает роман, где они собраны, правдоподобия и того
единства, к какому прежде всего должен стремиться писатель.
664
I...J Что касается наших начинающих писателей, то, вместо того
чтобы повернуться лицом к жизни и с жадным любопытством
смотреть вокруг себя, пылко радуясь или сокрушаясь в зависимости от
своего темперамента, они смотрят только внутрь себя, наблюдают
только свою душу, свое сердце, свои инстинкты, свои достоинства и
недостатки и объявляют, что роман, в конце концов, должен быть
лишь автобиографией.
Но так как одно и то же сердце, даже показанное во
всевозможных аспектах, не дает бесконечного количества сюжетов и
изображение одной и той же души, повторяемое на протяжении десяти
томов, становится неизбежно однообразным, то эти писатели
стараются — при помощи искусственного возбуждения и изучения
всевозможных нервных заболеваний — выработать в себе
исключительные, необыкновенные, причудливые души, которые они пытаются
выразить на редкость образным и утонченным языком.
Итак, мы пришли к изображению своего «я», того
гипертрофированного напряженным наблюдением «я», которому прививают
таинственные вирусы всех душевных заболеваний.
Ги де Мопассан, Полное собрание
сочинений в 12-ти томах, т. И, стр. 356—360. Перевод
Е. М. Шишмаревой.
ВЕЧЕРА В МЕДАНЕ
[...] В романтизме, создавшем бессмертные произведения
искусства, нас отталкивают единственно его философские утверждения.
Мы жалуемся на то, что творчеством Гюго отчасти уничтожена
работа Вольтера и Дидро. Напыщенная сентиментальность
романтиков и их принципиальное нежелание признавать право и логику
почти совсем вытеснили из нашей страны старый здравый смысл
и старинную мудрость Монтеня и Рабле. Насаждая среди нас
слащавую и всепрощающую чувствительность, заменившую разум, они
подменили идею справедливости идеей милосердия.
[...] Что же касается литературы, то нас возмущают слезливые
песни старой шарманки, механику которой изобрел Жан-Жак
Руссо; ему подражал целый ряд писателей (закончившийся, надеюсь,
на Фейе), продолжавших упорно крутить ее ручку, повторяя все
те же томные и фальшивые мотивы.
Когда же начинается спор о словах «реализм», «идеализм», то я
его просто не понимаю.
Незыблемый философский закон учит нас, что человек ничего
Fie способен вообразить вне того, что он познает посредством
органов чувств; доказательством нашего бессилия в этом смысле яв-
665
ляется ограниченность так называемых идеальных представлений —
например, представлений о рае. созданных всеми религиями.
Единственно объективными являются только Человеческое существо и
Жизнь; и мы должны их понимать и воспроизводить как настоящие
художники. Если мы не можем дать их точное и в то же время
художественное изображение — значит, у нас недостает таланта.
Когда человек, которого считают реалистом, старается писать
как можно лучше и постоянно стремится совершенствовать свое
искусство, то, на мой взгляд, это идеалист. А тот, кто подчеркивает
свое стремление сделать жизнь красивее, чем она есть,— как будто
можно себе представить ее иной, чем она существует в
действительности,— кто наполняет свои книги небесной лазурью и пишет в
стиле «дамских писателей», тот, по моему мнению, либо шарлатан, либо
идиот. Я обожаю волшебные сказки и считаю, что произведения
этого рода при всем своем своеобразии гораздо более правдоподобны,
чем любой нравоописательный роман из современной жизни.
Там же, стр. 29—30. Перевод Е. М. Шиш-
маревой.
ГЮСТАВ ФЛОБЕР (1876)
[...] У него форма — это само произведение: она подобна целому
ряду разнообразных форм для литья, которые придают очертания
его идее, то есть тому материалу, из которого писатель отливает
свои произведения. Форма сообщает его творениям изящество, силу,
величие — те качества, которые, если можно так выразиться,
содержатся в разрозненном виде в самой мысли и выявляются лишь
тогда, когда они выражены словом. Форма бесконечно
разнообразна, как и тс ощущения, впечатления и чувства, которые она
облекает, будучи неотделимой от них. Она соответствует всем их
изгибам и проявлениям, находя единственное и точное слово, нужное
для их выражения, особый размер и ритм, необходимый в каждом
отдельном случае для каждой вещи, и создает в этом неразрывном
единстве то, что писатели называют стилем, причем это совсем не
тот стиль, которым принято восхищаться.
[...] У Флобера нет своего стиля, и, однако, он мастер стиля; это
значит, что, высказывая какую-нибудь мысль, он всегда находит
для нее такое выражение и композицию, которые абсолютно
соответствуют этой мысли, и его художественная манера проявляется
в точности, а не в оригинальности слова.
Там же, стр. 7—8. Перевод Е. М. Шиш-
маревой.
666
ПОСТАВ ФЛОБЕР (1884)
[...] Писатель наблюдает, старается проникнуть в глубину душ
и сердец, понять их сокровенные свойства, их наклонности,
постыдные или возвышенные, весь сложный механизм человеческих
побуждений. Он наблюдает сообразно своему личному темпераменту
и своей совести художника. Он утрачивает и добросовестность
и художественность, если систематически старается возвеличивать
человечество, прикрашивать его, смягчать те страсти, которые он
считает отрицательными, и подчеркивать те, которые считает
положительными.
Любой поступок, будь он хорошим или дурным, имеет
значение для писателя только как объект изображения, вне всякой
зависимости от его моральной оценки. Он может обладать
большей или меньшей ценностью как литературный материал — вот
и все.
Писатель может сделать только одно: честно наблюдать правду
жизни и талантливо изображать ее; все прочее — бессильные потуги
старых ханжей.
[...] Если из книги вытекает какой-нибудь поучительный вывод,
это должно получаться помимо воли автора, в силу самих
изображаемых фактов. Для Флобера эти принцршы были символом
веры.
[...] Редчайшее качество — талант постановщика, бесстрастно
выпускающего на сцену действующих лиц, и заслужило ему кличку
реалиста среди тех поверхностных умов, которые понимают
глубокий смысл произведения лишь тогда, когда этот смысл изложен
в пространных философских рассуждениях. Флобер очень сердился
на этот наклеенный на него ярлык реалиста и утверждал, что
написал «Госпожу Бовари» лишь из ненависти к школе г-на Шан-
флёри.
Хотя он был в близких, дружеских отношениях с Эмилем Золя
и восхищался его мощным талантом, называл его гениальным» он
не прощал Золя его натурализма.
[.,.] В «Госпоже Бовари» каждый персонаж является типом,
то есть обобщает в себе целый ряд людей, родственных по
внутреннему складу. [...] Все это типы тем более выпуклые, что в них
сосредоточены многочисленные наблюдения сходных явлений, и тем
более правдоподобные, что каждый из них представляет собой
наиболее характерный образец своей породы.
Но Гюстав Флобер вырос в годы расцвета романтизма; он был
вскормлен на громких, звучных фразах Шатобриана и Виктора
Гюго; он ощущал в себе жажду лиризма, которая не могла пол-
667
ностью излиться в книгах, написанных в той точной манере, как
«Госпожа Бовари».
Здесь одно из самых причудливых свойств этого великого
человека: этот новатор, прозорливец, дерзкий, неутомимый изыскатель
находился до самой смерти под властным влиянием романтизма.
Там же, стр. 207—209. Перевод Е. М. Шиш-
маревой.
ШАНФЛЁРИ
1821—1889
В пятидесятые годы XIX века признанным вождем и теоретиком
литературного направления, участники которого называли себя реалистами, был
Шанфлери (литературный псевдоним Жюля Юссона). Шанфлёри — автор ряда
романов («Страдания учителя Дейтейля», 1853; «Буржуа Моленшар», 1855;
«Наследство Лекамюсов», 1856 и др.), в которых изображена затхлая
атмосфера французской провинции и торжество фанатичных, тупых мещан. Прозе
Шанфлёри свойствен протоколизм, отсутствие творческой глубины замысла
и исполнения.
В 1857 году вышел сборник критических статей Шанфлёри, озаглавленный
«Реализм», в предисловии к которому он пытался обобщить свои теоретические
взгляды. Шанфлёри требует от искусства прежде всего искренности, понимая
под этим стенографически точный рассказ о том, что увидел писатель в жизни.
Реализм в понимании Шанфлёри — это скрупулезное описание
непосредственных впечатлений. В его концепции реализма нет места не только фантазии,
но и оценке изображенного, выраженной в гиперболе, гротеске, идеализации.
Шанфлёри призывает писателей вообще отказаться от работы над
художественной формой, дабы не впасть в усложненность и изысканность: искренности
чувства и понятности совершенно достаточно для эстетического впечатления.
Критикуя романтиков, Шанфлёри и его сторонники защищали «полезное»
искусство, призванное воспитывать людей. Они выступали также против
«объективной позиции» Бальзака и Флобера, требуя прямо выраженной в
произведении дидактической оценки событий художником. Их взгляды в общем
не отличались последовательностью. Провозглашая демократическое искусство,
они вместе с тем боролись против ранней социалистической литературы, резко
критиковали первых рабочих поэтов, полемизировали с фурьеристами. Когда
Курбе стал активно участвовать в политическом и социальном движении,
Шанфлёри разошелся с ним.
В целом деятельность направления, созданного Шанфлёри, не сравнима
с творчеством подлинно великих реалистов XIX века.
668
РЕАЛИЗМ
[...] Несколько лет тому назад одна выдающаяся женщина задала
мне следующий вопрос: «Каковы причины и средства, которые дают
произведениям искусства видимость реальности?»
В то время реализм еще не появлялся на горизонте критики.
Я ответил, что я творю инстинктивно и что разрешить этот
вопрос для меня невозможно иначе, как моими произведениями.
Реализм появился позднее, благоприятствуемый движением
1848 года, вместе с многочисленными ежедневно появлявшимися
религиями на «изм», которые рекламировали в афишах,
проповедовали в клубах, которым служили в маленьких святилищах немногие
адепты.
Все эти слова, оканчивающиеся на «изм», я считаю жалкими
переходными словами; они, мне кажется, не входят в состав
французского языка, их звуки не нравятся мне, они рифмуют одно
с другим и оттого не приобретают смысла.
[...] Таким образом, я откровенно заявляю, что чем популярнее
будет слово «реализм», тем меньше у него будет шансов на
долгое существование. Если я теперь озаглавливаю этим словом
настоящий том, то только потому, что оно принято философами,
критиками, должностными лицами, проповедниками, и я рисковал бы
остаться непонятым, если бы заговорил о «реальности».
[...] «Лучше быть за хвостом у льва, чем перед мордой у
лисицы» — говорит еврейская пословица.
Мне было бы легко спорить из-за слов и иметь опору в обоих
лагерях, крича направо «реализм» и налево «реальность».
Я не люблю школ, я не люблю знамен, я не люблю систем, я не
люблю догм; мне не поместиться в узком святилище «реализма»,
даже если бы я был его божеством.
Я признаю только искренность в искусстве: если с развитием
моих знаний я замечу в том, что называется реализмом, опасности,
ограничения, многочисленные исключения, то я хочу сохранить всю
мою свободу и дать первый удар киркой хижине, которая не
будет годна для того, чтобы служить мне жилищем.
Я иногда, может быть, употреблял слово «реализм» и угрожал
им моим противникам, как страшным оружием, но я делал это
в минуту увлечения, оглушенный воплями критики, которая
непременно желала видеть во мне систематический ум, нечто вроде
математика, рассчитывающего эффекты «реальности» и упорно
ограничивающего ее возможности.
[...] В настоящий момент слово «реализм» завоевало свое место
в словаре, и никакая сила не сможет изгнать его оттуда.
Изобрела
тенное критикой как оружие для того, чтобы возбудить ненависть
к новому поколению, это оружие — из тех, что ранит
употребляющих его. Слово «реализм» — слово переходное, которое продержится
не более тридцати лет,— представляет собой одно из тех
двусмысленных терминов, которые могут быть использованы для какой
угодно цели и служить лавровым венком так же, как и дурацким
колпаком. Нет никакого сомнения в том, что в один прекрасный
момент критики, попавшие в собственные сети, будут пытаться
делить писателей на хороших реалистов и плохих реалистов.
[...] Я всегда протестовал против этого слова, так как не очень
люблю определения. Разве не является лучшим знаменем для
писателя его творчество? Всякий, кто называет себя реалистом,
кажется мне столь же кичливым, как человек, который отпечатал бы
на своей визитной карточке после своего имени:
Г-н
умный человек
[...] Чего желает наше поколение? Знает ли оно это? Может ли
оно это знать среди социальных волнений, в которых оно получило
тяжелое воспитание?
Предположим, что вдруг появилось несколько умов, которые,
наскучив рифмованной ложью, упрямством романтического
охвостья, погрузились бы в изучение природы, спустились бы до самых
низших классов, освободили бы себя от красивого языка, который
не может гармонировать с разрабатываемыми ими сюжетами: есть ли
в этом основания для создания школы? Я никогда не думал этого.
Повсюду за границей, в Англии, Германии, Швеции, Норвегии,
Бельгии, Америке, России, Швейцарии, я вижу писателей,
подвергающихся всеобщему закону и испытывающих на себе влияние
таинственных, заряженных реальностью, токов.
Я думаю, что нет надобности называть Диккенса, Теккерея, Кор-
рер Белла, Гоголя, Тургенева, Гильдебранда, Консьянса, Ауэрбаха,
Готгельфа, м-ль Бремер и полсотни авторов, которые, если бы они
смогли собраться на каком-либо литературном конгрессе, без
колебаний объяснили бы, что их мысль и перо направлены в сторону
наблюдения словно силою судьбы, избежать которой писатели не
могут так же, как и люди.
Так хочет эпоха.
[...] Возможно, что завтра они [критики] занесут меня в ряды
идеалистов,— я нисколько не буду протестовать против этого.
670
[...] Однако попытаюсь дать представление о том, что я понимаю
под словом «искусство».
Разве искусство не есть передача толпе моих личных
переживаний?
Я должен волновать, возбуждать сердца, заставлять смеяться
или плакать людей, которых я не знаю.
Искусство служит средством единения между ними и мною.
Я долго изучал стремления, желания, радости, печали классов,
которым я симпатизирую, и я стараюсь передать эти чувства во всей
их правдивости.
Я пишу то, что написать они были бы не в состоянии: я являюсь
лишь их истолкователем.
«Литературные манифесты французских
реалистов», Л., 1935, стр. 67—73. Перевод Б. Реизова.
КУРБЕ
1819-1877
Гюстав Курбе — крупнейший художник второй половины XIX века,
отстаивавший в своих теоретических выступлениях принципы реализма,
понимаемого как точное, объективное изображение обыденной современной
действительности.
Сын богатого крестьянина из Орнана, с юных лет воплощавший в своем
творчестве скромную природу, типы и быт буржуазии и крестьянства своего
родного края, Курбе, переселившись в Париж в начале 40-х годов, вносит
в искусство того времени несвойственную ни романтизму, ни классицизму
Энгра и его школы удивительную материальность изображения, близость к
натуре, современную тематику, а главное — отсутствие идеализации, присущей
обоим соперничающим направлениям живописи этого периода.
Резко выступая против идеальности Рафаэля и Тициана, Курбе отнюдь
не порывает с традициями великого искусства прошлого, но учителей он ищет
среди реалистов XVII века. Фламандцы, Рембрандт, Веласкес помогают ему,
как пишет он сам, «почерпнуть из широкого знания традиции осмысленное
и независимое чувство своей собственной индивидуальности», для того чтобы
«быть в состоянии передать нравы, идеи, облик» 1 своей эпохи.
Под влиянием революции 1848 года Курбе постепенно приходит к
осознанию демократической и антибуржуазной природы своих художественных
устремлений. Затравленный буржуазной критикой, отвергнутый Салоном, в 1855 го-
1 «Мастера искусства об искусстве», т. II, М.—Л., 1936, стр. 452.
671
ДУ Курбе устраивает выставку своих произведений, которой он дал
демонстративное название «Реализм». В предисловии к каталогу выставки и позже,
в декларации на съезде бельгийских художников в 1861 году, он
противопоставляет всяческому приукрашиванию действительности в искусстве смелое
и правдивое изображение современности, подчеркивая революционный
характер такого искусства, отрицающего иллюзии господствующих классов.
«Отрицая идеал и все, что из него следует,— пишет Курбе в 1861 году,— я прихожу
к эмансипации личности и в конечном счете к демократии. Реализм есть,
по существу, демократическое искусство» 1.
В отличие от творчества Домье, искусство Курбе не заключает в себе
прямого разоблачения. Его единственная сатирическая антиклерикальная картина
«Возвращение с сельской конференции» (1863) не принадлежит к числу
удачных произведений. Но неприкрашенное изображение современной
действительности, достаточно прозаичной и неприглядной самой по себе, производило на
буржуазных зрителей впечатление гневной сатиры. За картину «Погребение
в Орнане» (1848) критика называет Курбе «апостолом безобразия»,
Наполеон III и императрица Евгения шокированы «вульгарностью» его
«Купальщицы» (1853), столь далекой от традиционных образцов красоты.
Но из борьбы Курбе против слащавой салонной живописи Второй империи,
из его выступлений против идеалов романтизма и классицизма не следует, что
его собственное искусство было безыдеально, то есть холодно-безразлично.
Наоборот, идеальное начало присутствует во всех произведениях Курбе.
Красота, которую ов видит и прославляет,— красота плотского здоровья, силы,
естественности и полноты бытия. И хотя крестьянские типы и сцены
крестьянского труда в жизни современного ему общества больше всего соответствовали
такому пониманию прекрасного, сам по себе идеал природной мощи не
заключал в себе ничего социального. Биологический характер идеала, сближающий
Курбе с Золя и с другими натуралистами в литературе, определил
значительную роль пейзажа и анималистики в творчестве художника. Внесоциальность
прекрасного у Курбе объясняет и те компромиссы с салонной живописью,
которые проявились в красивости и эротике его «Женщины с попугаем»
(1866).
Демократические симпатии Курбе, его конфликт с буржуазным
искусством, его художественный реализм привели его к активному и убежденному
участию в Парижской коммуне, членом которой он был избран в апреле 1871
года. После разгрома коммуны Курбе был арестован, заключен в тюрьму, а
после освобождения вынужден был бежать в Швейцарию, чтобы избегнуть
нового процесса к непомерного штрафа за низвержение коммуной Вандомской
колонны с памятником Наполеону I (инициатором этого низвержения был
Курбе). Он умер в изгнании в 1877 году.
Творчество и эстетические декларации Курбе остаются одним из самых
ярких памятников реализма второй половины XIX века.
1 «Мастера искусства об искусстве», т. II, стр. 452.
672
ПРЕДИСЛОВИЕ К КАТАЛОГУ ВЫСТАВКИ 1855 ГОДА
Звание реалиста было мне присвоено так же, как людям 30-х
годов название романтиков. Названия никогда не давали
правильного понятия о вещах; если бы дело обстояло иначе, произведения
были бы излишними. Не входя в разъяснения о большей или
меньшей правильности наименований, которых, надо надеяться, никто не
обязан точно понимать, я, чтобы предотвратить недоразумения,
ограничусь несколькими словами, касающимися моего развития.
Я изучал вне какой-либо системы или предвзятости: искусство
древних и искусство современное. Я вовсе не желал ни подражать
одним, ни копировать других. У меня также не было в мыслях
достичь праздной цели «искусства для искусства». Нет! Я просто
хотел почерпнуть в полном познании традиции осмысленное и
независимое чувство своей собственной индивидуальности.
Знать, чтобы мочь,— такова была моя мысль. Быть в состоянии
передавать нравы, идеи, облик моей эпохи согласно моей оценке;
быть не только живописцем, но также и человеком; одним словом,
создавать живое искусство — такова моя цель.
Pierre Courthion, Courbet raconté par lui-
même et ses amis, v. 2, Genève, Cailler,
1950, p. 60—61. Перевод A. Тихомирова.
ИЗ ПИСЬМА К МОЛОДЕЖИ
[...] Искусство или талант, по-моему, для художника не что иное,
как средство применить личные способности к идеям и вещам эпохи,
в которой он живет.
В частности, искусство живописи не может состоять ни в чем
ином, как в изображении предметов, видимых и осязаемых
художником. Каждая эпоха может быть воспроизведена лишь своими
художниками, я хочу сказать теми, которые в ней жили. Я считаю
художников определенного века решительно некомпетентными
воспроизводить вещи предшествующего или будущего времени, иначе
говоря, писать прошедшее или будущее.
В этом смысле я отрицаю историческую живопись в применении
к прошлому. Историческое искусство, по существу, современно.
Каждая эпоха должна иметь своих художников, которые ее
выражают и которые ее воспроизводят для будущего. Эпоха, которая не
смогла выразить себя своими собственными художниками, не имеет
права быть выраженной художниками более поздними. Это было бы
фальсификацией истории.
673
История эпохи кончается вместе с ней и вместе с теми ее
представителями, которые ее выражали. Новым временам не дано
прибавлять что-либо к выражению времен древности, возвеличить или
приукрасить прошлое. То, что было, было. Человеческий ум обязан
всегда работать наново, постоянно в настоящем, отправляясь от
ранее приобретенных результатов. Никогда не надо начинать с
начала, но идти всегда от синтеза к синтезу, от вывода к выводу.
Подлинными художниками являются те, которые берут эпоху
с той самой точки, до которой она была доведена предшествующим
временем. Идти вспять означает ничего не делать, работать впустую,
означает непонимание прошедшего и выгод его уроков. Так
объясняется то, что архаические школы всякого рода всегда сводятся
к самым бесполезным компиляциям.
Я утверждаю, далее, что живопись — искусство, по существу,
конкретное и может состоять лишь в изображении вещей реальных
и существующих. Это совершенно физический язык, который в
качестве слов пользуется всеми видимыми предметами; предмет
абстрактный, не видимый, не существующий не подлежит области
живописи. Воображение в искусстве состоит в том, чтобы уметь найти
наиболее полное выражение существующей вещи, но отнюдь не в том,
чтобы предположить или создать эту вещь.
Прекрасное заключено в природе и встречается в
действительности в формах самых разнообразных. С момента, как оно найдено,
оно принадлежит искусству или, вернее, художнику, который умеет
его видеть. Прекрасное, став реальным и видимым, само заключает
в себе свое художественное выражение. Но вымысел не имеет права
расширять это выражение. Он не может притронуться к нему, не
рискуя извратить и, следовательно, ослабить его. Прекрасное,
данное природой, выше всех условностей художника. Прекрасное,
так же как и истина,— вещь относительная, имея в виду
переживаемое время и индивидуум, способный его понять.
Там же, стр. 204-206.
ИЗ АВТОБИОГРАФИИ
[...] Он [Курбе] предал забвению идеи и наставления своей
молодости, чтобы в 1840 году стать последователем всяческих
социалистических сект. Он был фурьеристом, когда приехал в Париж. Он
следовал за учениками Кабэ и Пьера Леру. Одновременно с
живописью он продолжал свои философские занятия. Он изучал
французских и немецких философов и в продолжение десяти лет был вместе
674
с редакторами журналов «Реформ» и «Насиональ» на стороне
активной революции вплоть до 1848 года. Затем его мирные идеи
потерпели крушение перед лицом реакционных действий либералов
1830 года, якобинцев и бездарных реставраторов истории.
Осмыслив ошибки классиков и романтиков, он в 1846 году вместе
со своими друзьями Шанфлёри и Максом Бюшоном поднял знамя
«реалистического искусства». По его мысли, это было человечным
выводом, который должен пробуждать свойственные человеку
способности против язычества, греческого и римского искусства,
Ренессанса, католицизма, богов и полубогов, то есть против условного
идеала. Двадцать семь лет он последовательно работал, следуя этой
идее. Он трудился наперекор романтизму, этому «искусству для
искусства», и наперекор ученикам классицизма для того, чтобы, по
его словам, быть человеком, прежде чем быть живописцем.
Pierre Courthion, Courbet raconté par lui-
même et ses amis, v. 1, Genève, Cailler,
1948, p. 25. Перевод A. Тихомирова.
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЕЗДЕ
БЕЛЬГИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ В АНТВЕРПЕНЕ
Сущность реализма не что иное, как отрицание идеала и
идеализации. Этого не смел утверждать раньше никто, и это есть, в
сущности, то, к чему я стремился в продолжение пятнадцати лет и что
все художники боялись высказать. «Погребение в Орнане» на самом
деле стало погребением романтизма, и оно не оставило от этой
школы живописи ничего, кроме вещей Делакруа и Руссо, то есть
того, что было свидетельством человеческого разума и,
следовательно, имело право на существование. Искусство классиков и
романтиков было «искусством для искусства». Но теперь даже и в
искусстве надо мыслить; нельзя побеждать логику чувством. Разум
должен господствовать везде. Что же касается способов выражения,
то их можно выбирать и комбинировать из всех элементов, которые
нам оставлены. Мой метод выражения в искусстве — последний, так
как до сих пор он единственный сочетает эти элементы. Отрицая
идеал и все, что из него следует, я прихожу к эмансипации
личности и, в конечном счете, к демократии. Реализм есть, по существу,
демократическое искусство.
«Антверпенский вестник», август 1861 года.—
«Мастера искусства об искусстве», т. II, М.— Л.,
1936, стр. 452. Перевод А. Тихомирова.
675
ГОТЬЕ
1811—1872
Теофиль Готье начал свою литературную деятельность как
писатель-романтик. Он был одним из приверженцев романтического кружка Виктора Гюго,
принимал активное участие в «битве за «Эрнани». В 30-е годы он публикует
сборник романтических стихотворений «Альбертус» (1832), романы
«Мадемуазель де Мопен» (1835) и «Фортунио» (1838), пронизанные экзотикой,
изображающие необычайные приключения, исключительных, демонических героев.
Уже в эти годы Готье говорит о самодовлеющей ценности искусства,
отрицает его общественное или нравственное звучание, выступает с апологией
бесстрастности художника.
После революции 1848 года Готье сближается с поэтической школой
парнасцев и становится одним из ее теоретиков. К парнасскому периоду
творчества Готье относятся «Роман мумии» (1858), «Капитан Фракас» (1863) и др.
Наибольшую известность получил его поэтический сборник «Эмали и камеи»
(1852) —одно из центральных произведений парнасской школы. В отточенных
по форме стихах, своеобразных пластическо-поэтических этюдах, Готье
говорит о вечности искусства, о том, что радость и цель художника — создание
совершенной формы, преодоление сопротивления материала. Его знаменитое
стихотворение «Искусство» явилось манифестом «Парнаса».
Эстетические взгляды Готье изложены в его многочисленных статьях и
рецензиях, изданных впоследствии отдельными сборниками—«Современное
искусство» (1856), «Воспоминания о театре, искусстве и критике» (1887) и др.
В своих статьях Готье провозглашает и отстаивает теорию «чистого
искусства», «искусства для искусства». Назначение искусства — выражение
абсолютно прекрасного. Искусство бесполезно — стремясь к выражению абсолютно
прекрасного, оно вне обычных утилитарных потребностей человека. К
произведениям искусства, с точки зрения Готье, нельзя предъявлять обычные
требования морали, нравственности, оно также вне этих понятий. Теофиль Готье
настаивает на бесстрастности и холодности художника. Он резко выступает
против «поэзии сердца» романтиков. «Требовать чувства от поэзии — это
смешно, это совсем не то, что надо. Яркие светящиеся слова, звучные строки, ритм
и музыка — во! истинная поэзия. Она ничего не доказывает и ни в чем не
убеждает» *.
Отстаивая индифферентизм искусства, Готье в то же время допускал, что
современные художнику страсти, идеи, чувства могут найти отражение в его
произведениях, однако главной задачей скульптора, живописца, поэта,
романиста, всегда остается создание прекрасной и совершенной формы.
Эстетические взгляды Готье оказали влияние на формалистические школы
буржуазной эстетики конца XIX и начала XX века.
1 Цит. по кн.: Г. Б ρ а н д е с, Собрание сочинений, т. X, М., 1896, стр. 237.
676
О ПРЕКРАСНОМ В ИСКУССТВЕ
[...] Только человек, стремящийся выразить свой богатый
внутренний мир, может действительно стать художником. Подражание
природе — средство, но не цель искусства. Рафаэль, например,
художник девичьей красоты. Рубенс художник чувственного,
Рембрандт — таинственного, а Остаде — певец деревенских радостей. [...]
Рафаэль ищет в природе образы, которые наиболее приближаются
к его идеалу женской красоты. Он выбирает самые красивые
головки женщин и девушек, облагораживает их овал и черты,
удлиняет брови, красиво изгибает ресницы и губы, чтобы эти лица
соответствовали совершенному идеалу красоты, который он носит в
самом себе.
[...] Тип красоты в его идеальном выражении существует в
сознании художника, в природе же он берет те элементы, которые ему
нужны, чтобы выразить свой идеал. Он все значительное меняет,
что-то прибавляет, что-то отбрасывает в соответствии со своим
представлением о прекрасном. [...]
Таким образом, живопись — это не подражание природе, как
можно подумать. Живопись изображает внешний мир, однако
художник вначале создает картину своим внутренним видением, и его
полотно — это всегда посредник между его душой и природой. Когда
художник рисует пейзаж, его к этому побуждает не стремление
скопировать даль горизонта, то или иное дерево, тот или иной утес, но
прежде всего мечта о сельской тишине, о покое полей, о нежном
чувстве влюбленности, мысль о величественной гармонии природы,
о совершенной красоте, которую он стремится выразить
свойственным ему языком. Даже когда художник рисует совершенно
определенный пейзаж, то и тогда его настроение будет ясно
чувствоваться в картине: если он грустил, то невольно сделает более
темными краски самого радостного пейзажа, если он был счастлив, то
увидит цветы даже в безжизненной пустыне. Рисуя лес, озеро или
город, художник всегда выражает и свою душу.
Идеал прекрасного, который художник носит в душе,
вдохновляет скульптора на создание статуй, водит перо поэта, когда тот
пишет элегию, помогает композитору создать симфонию. Каждый
художник-творец стремится выразить особым языком свою грезу,
свой идеал, то высшее потрясение и волнение, которые испытывает
истинный художник, мечтая о прекрасном. [...] Совершенно ясно,
что живопись понимается обычно как искусство подражания, на
самом же деле искусство — выражение внутреннего состояния
художника, и чем картина дальше от конкретного пейзажа, тем
677
больше впечатления она производит. Живопись должна стремиться
к истолкованию, а не воспроизведению окружающего мира, должна
выражать видимость предметов, а не их реальность.
Подражание природе — не цель художника. Но тогда что же
является целью его творчества? — Прекрасное.
Что такое прекрасное? Это самый сложный, самый запутанный,
самый трудный вопрос. По этому поводу уже написаны толстые
тома, но вопрос этот по-прежнему так и не разрешен.
Тождественно ли прекрасному в искусстве прекрасное в
природе? Так же ли прекрасен дуб в лесу, как и на картине? Нередко
на картине он лучше, чем в лесу, где его подчас и не заметишь. Но
это еще пе все. Вот стоит величественный и могучий дуб с богатой
зеленой кроной, настоящий дуб долины Додона или друических
лесов, а вот рядом с ним другой, с искривленным и дуплистым
стволом, с вершиной, обожженной молнией, со сломанными ветвями,
обломанными сучьями, и что же... если этот дуб нарисован искусной
кистью, то ценитель живописи может его предпочесть первому. Но
разве красота дуба в том, чтобы быть корявым, расщепленным,
покрытым бесформенными наростами, иметь голые ветви или же
съежившиеся, порыжевшие листья? Конечно, все это противоречит
представлению о красивом дереве. Но художник своим смелым
рисунком, суровым стилем, резкими красками заставит этот ствол
выразить идею старости, величественности, одиночества и
меланхолии. Если он захочет еще сильнее потрясти своей картиной, он
придаст дереву смутные очертания человеческого профиля, намек
на какую-то призрачную фигуру. Используя пугающую
бесформенность дерева, художник достигнет прекрасного, создав
впечатляющий и красочный образ. Поэтому же мрачные картины Спаньо-
летто *, изображающие мучеников со вспоротыми животами или же
бродят в ужасных лохмотьях, так же прекрасны, а порой даже
прекраснее полотен Гвидо и Альбане, на которых смеется мифология
и где изображены изящные сцены и видишь только белоснежных
женщин на изумрудной зелени лугов да розовых амуров, парящих
в непостижимо голубом небе.
Поэтому-то стихи Вергилия, описывающие падеж скота, смерть
быка, извергающего потоки черной крови, пены и сукровицы,
обладают всеми достоинствами высокого искусства и стоят намного выше
его наивных стихов, рисующих красоты долины Тампе и
описывающих Галатею, убегающую под сень ив.
Все это непосредственно приводит нас к известной формуле
«искусства для искусства». Если правильно понимать эту теорию,
1 Риберы.
678
то следует признать, что в искусстве сюжет безразличен и ценность
его определяется лишь степенью выраженного идеала и
совершенством стиля художника. [...]
Искусство для искусства — это творчество, освобожденное от
всех стремлений, кроме стремления к совершенству выражения.
Когда Шекспир писал «Отелло», у него была только одна
задача — показать человека, охваченного ревностью, когда же Вольтер
создавал своего «Магомета», то он хотел не только нарисовать образ
пророка, но стремился также раскрыть жестокость религиозного
фанатизма вообще и пороки христианского католического духовенства
своего времени в частности. От введения этого чужеродного
элемента его трагедия проиграла. Стремясь к философскому
воздействию произведения, Вольтер не смог достичь эстетического эффекта,
свойственного только абсолютно прекрасному. Хотя трагедия
«Отелло» не уничтожила ни малейшего предрассудка, она на сто голов
выше «Магомета», несмотря на все философские тирады этого
произведения.
Современная школа в искусстве ставит своей целью выразить
прекрасное при полной бесстрастности и абсолютной
незаинтересованности художника, который не стремится добиться успеха
благодаря каким-либо тенденциозным намекам, чуждым избранному
сюжету. Мы убеждены, что только в этом состоит философское
понимание искусства. [...]
Произведение искусства не должно быть бумажной оберткой
горьковатого морально-философского драже; искать в искусстве
иной пользы кроме выражения прекрасного значит высказывать
ограниченность ума, неспособного постигнуть дыхание возвышенного
и подняться до больших обобщений, [...]
Можно ли утверждать, что искусство должно быть проникнуто
безразличием и холодным отречением от всего живого и
современного, чтобы, наподобие Нарцисса, восхищаться только своим
отражением в воде и любить только самого себя? Нет, художник прежде
всего человек, и при условии, что священное искусство всегда будет
для него целью, а не средством, он может отразить в своем
произведении — положительно или отрицательно — увлечения, страсти,
убеждения, предрассудки, ненависть своего времени. Но для будущего
ничто не будет иметь значения, кроме того, что создано в
соответствии с вечным законом прекрасного. Когда человек заканчивает
какую-нибудь работу, он отбрасывает орудия труда. Тесать камни
это не то же самое, что высекать статую. Возможно, что иногда
необходимо разломать стену, прорубить отверстие в скале, но как
только стена рухнула и в скале раздался взрыв, то, отдав должное
смелости и умению рабочих, все забывают о проделанной работе.
679
Пусть каждый художник всегда избегает ставить искусство на
службу философской школе или политической партии, пусть
повозки, груженные различными теориями, медленно тащатся по
глубоким рытвинам, художник вправе считать, что, создав
благозвучную строку, прекрасное лицо, гармоничный торс, в которых
выразились поиски вечно прекрасного, он сделал для прогресса
человечества не меньше любого практика. Стихи Гомера, статуи Фидия,
картины Рафаэля возвысили душу человека больше, чем все трактаты
моралистов, вместе взятые. Они познакомили с идеалом красоты
людей, которые до этого и не подозревали о существовании
прекрасного, и обогатили их сознание этим божественным началом.
Искусство для искусства вовсе не означает форму ради формы,
но это значит, что цель искусства — выражение прекрасного, что
оно должно быть свободным от всяких посторонних идей,
свободным от служения какой-либо доктрине, от утилитарности. Учителя
и ученики этой современной школы так и понимают эту известную
формулу, получившую извращенное толкование в многочисленных
спорах, которые нередко велись без глубокого понимания вопроса
и без необходимой благожелательности. [...]
Человеческая фантазия, которая кажется беспредельной, однако,
все же ограниченна и не может придумать какую-либо форму, не
имеющую никакого отношения к уже существующему. Самые
ужасные химеры правдоподобны, их видимая необыкновенность
происходит от соединения различных частей, каждая из которых, взятая
отдельно, вполне реальна. Лев, коза, змея — все они послужили
художнику для создания чудовищного зверя, убитого Беллерофон-
том. Ни один мастер, как бы он ни был велик, не придумал
совершенно новый образ. Когда в искусстве надо выразить абстрактные
понятия — идею бога, например, то приходится обращаться к
человеческим образам, так как нельзя придумать что-либо иное.
Невозможность создать образы, не связанные с уже существующими,
требует для выражения прекрасного употребления форм,
имеющихся в природе. Хотя понимание идеала прекрасного и
совершенного — чувство врожденное у художника, однако он должен искать
в окружающем мире элементы для его выражения. [...]
Прекрасное принадлежит духовному миру человека, а не миру
вечному. Прекрасное неизменно, так как оно абсолютно, а меняются
только понятия относительные. Понятие прекрасного, перенесенное
из высоких сфер в конкретно чувственный мир, может, однако,
изменяться, но оно меняется не в своем существе, а в форме своего
выражения, что зависит от внешних влияний. Нравы, привычки,
мода, испорченность вкуса, грубость могут нередко извратить
понимание прекрасного. Ведь иногда рушатся и храмы, но под
развалило
нами можно разыскать неподвижное и величественное мраморное
божество. [...]
Конечно, нельзя недооценивать приемов таланта, умения
художника, точности выражения окружающего его материального мира —
проявления скрытого идеала прекрасного должны подчиняться
законам конкретно чувственного мира,— но художник должен через
все изображения жизни и материального мира пронести свой идеал
прекрасного, он должен думать о небе, рисуя землю, о боге,
изображая человека, без этого его произведения, как бы интересно они
ни были выполнены, никогда не будут иметь значения общего,
вечного, непреходящего, что освящает истинные шедевры. Г...]
Если же нам все же необходимо объяснить, что такое
прекрасное, то примем определение Платона: «Прекрасное — это
великолепие истинного».
Th. Gauthier, L'art moderne, P., 1856, p. 128—
165. Перевод И. Лилеевой.
ПЛАСТИКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Прекрасное в античности и прекрасное
в современности
Художники часто жалуются на неэстетичность современной
цивилизации. С их точки зрения, прекрасное, созданное античной
цивилизацией, не смогло ее пережить, и, если не считать времени
Ренессанса, которое было возвращением к греческой и римской
культуре, чувство формы совершенно исчезло из мира.
Мы не будем здесь вдаваться в эстетические рассуждения о
существе прекрасного, которое легче понять, чем объяснить. Мы
согласны с определением Платона: «Прекрасное — это великолепие
истинного». Цивилизация, родившись в Индии, развилась затем
в Египте и дошла до Греции. Вначале она проявлялась в
уродливом и разнообразном символизме, а затем эллинами, народом, по
природе своей художественным, была приведена к нормам истинного
вкуса.
Цивилизация развивается как природа: всегда от простого
к сложному, от бесформенного к прекрасному. Представление о
многоруком боге предшествовало появлению Юпитера Фидия, как
мамонт предшествовал лошади. Экономия материала, гармония
линий — вот цель, к которой стремится совершенство. Сделать многое
из ничего — мечта природы, и это должно стать идеалом искусства.
681
Античная культура со своим политеизмом и антропоморфизмом
обладала в высокой степени чувством формы. Человеческое тело,
послужившее прообразом богов, стало предметом настоящего культа.
Скульптура достигла своего высшего расцвета, и можно утверждать,
к стыду последующих поколений, что в течение двух с половиной
тысяч лет, прошедших с того времени, это искусство не двинулось
вперед.
Многие считали даже, что оно деградировало. [...]
Если рассматривать понятие прекрасного, то естественно
возникает вопрос, действительно ли современная эпоха уступает
античности и в чем причина этого упадка. Вытеснение язычества
христианской религией нам представляется основной причиной
деградации художественной формы. Раньше человеческое тело считалось
образцом прекрасного, высшим достижением материи, служило
идеалом и основой эстетических концепций. Мысль не могла представить
себе более совершенные формы, чем тело человека. Греки все
возводили к этому эстетическому идеалу, который под резцом
скульптора обретал гармонические пропорции. Архитектура, керамическое
искусство также воплощали эту гармонию линий, и поэт мог сказать,
что Пропилеи озарены «чем-то прекрасным, напоминающим
человеческую улыбку».
Колонны Парфенона ласкают глаз грациозными волнообразными
линиями, похожими на линии тела юной девушки, а ручка амфоры
разве не напоминает линии женских рук, поднятых над головой,
чтобы поправить прическу или поддержать корзину? Заслуга греков
в поэзии и во всех искусствах в том, что они всегда сохраняли
пропорции человеческого тела, и, оставаясь верными этому образу, они
легко достигли прекрасного и смогли придать материи поистине
божественную форму. Христианство же всегда было чуждо
увлечению формой.
В католицизме тело не только не является предметом искусства,
но оно считается греховным. Вместо того чтобы им восхищаться
и его прославлять, его унижают, порочат, уродуют, убивают. Для
греков тело было дворцом души, теперь же это ее тюрьма. [...]
Эта ожесточенная война с телесным в искусстве, которую
вначале еще можно было объяснить реакцией против языческого
сенсуализма, нанесла смертельный удар всем пластическим
искусствам. К счастью, наступил момент, когда католицизм пришел на
помощь умирающей красоте и украсил роскошью наготу
евангельского учения. Вновь вспомнили традиции греческого искусства,
и политеизм подарил католической церкви свои грациозные формы,
тело же на некоторых не очень строгих условиях было освобождено
от анафемы; все это ярко проявилось во времена Возрождения,
682
однако возникшее вскорости движение Реформации приостановило
этот расцвет и возродило ненависть к художественной форме, к
красоте и совершенству. [...]
Всегда находится немало жалких умов, спекулятивных и
ограниченных, которые возмущаются всяким проявлением прекрасного
и ненавидят, как личных врагов, красивую форму и яркие краски.
Подобные люди были во все века. Эта тенденция будет особенно
ясна, если сравнить католический храм с протестантской церковью,
серую одежду квакера и расшитый золотом плащ венецианского
патриция на картинах Паоло Веронезе.
Не надо себя обманывать: хотя мы и остались католиками, но
и у нас победил дух Реформации. Эта буржуазная доктрина —
экономная и расчетливая — хорошо сочетается с духом наживы нашего
времени. Боязнь критического анализа и отсутствие эстетического
идеала значительно затруднили развитие внешних форм нашей
цивилизации. Теперь только иногда можно встретить роскошь, да и то
скрытую, тонкое великолепие, но всегда больше ценят стоимость
вещи, чем ее красоту. Исчезли величественные здания, дворцы
превратились в особняки. [...] Из уважения к чувству всеобщей зависти
каждый обзавелся теперь черным фраком и бесформенным пальто.
Красоту принесли в жертву зависти. Выдумали новое «великое»
понятие — полезность... и не сумели соединить с ним понятие
красоты.
Новые потребности, рожденные развитием цивилизации,
произвели на свет огромное количество новых предметов и неожиданных
форм, для которых искусство не успело еще выработать
определенных эстетических критериев.
Наша цивилизация имеет костяк, ее скелет обладает
необходимыми суставами, но у нее нет еще внешнего кожного покрова. У нее
полностью отсутствуют форма, чувство прекрасного. [...]
T. Gauthier, Souvenirs de théâtre, de Tart et
de critique, P., 1887, p. 197—204. Перевод И. Ли-
леевой.
ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ
1818-1894
Известный французский поэт Шарль-Мари-Рене Леконт де Лиль в первый
период своей литературной деятельности был утопическим социалистом,
колебавшимся между фурьеризмом и бланкизмом.
С 1845 года он работал в фурьеристской газете «Мирная демократия» и в
журнале «Фаланга». В этот период Леконт де Лиль мечтает о «беспощадной
683
войне тех, у кого нет ничего, против тех, кто владеет всем», пишет резкие
антикатолические статьи и принимает участие в революции 1848 года. После
поражения июньского восстания 1848 года Леконт де Лиль был арестован, но
затем его выпустили за недостатком улик.
Поражение революции поэт воспринял как катастрофу. Он не в силах
был принять ненавистный ему общественный порядок: «Я ненавижу
современность из естественного отвращения к тому, что нас убивает»,— писал он,
но изменить этот порядок революционным путем представляется ему
невозможным. Он видит вокруг себя варварство и аморализм, но воспринимает их
ныне как нечто неизбежное и даже естественное. Отсюда рождается мрачный
фатализм его стихов, трагические образы грозной и безжалостной природы,
яростной борьбы зверей, ассоциирующейся со всеобщей враждебностью в
человеческом обществе, отсюда мрачная галерея образов, рисующих муки и горести
человечества в разные эпохи у разных народов, мысли о смерти, о погружении
мира в небытие. Все эти мотивы мы находим в его сборниках «Античные
поэмы» (1852), «Варварские поэмы» (1862), «Трагические поэмы» (1884) и в
посмертно вышедших «Последних поэмах» (1895). Вступительные статьи Ле-
конта де Лиля к первым двум сборникам составили эстетический манифест
целого литературного направления, которое заявило о себе тремя
одноименными сборниками «Современный Парнас» (1866, 1871, 1876). В этих статьях
Леконт де Лиль пытается противопоставить жестокому миру реальности
идеал прекрасного, который он объявляет полностью независимым от идеалов
истины и добра. Священный язык искусства не должен, по его мнению,
служить никаким иным целям, кроме прославления красоты. Искусство
оказывается высшим началом в жизни, ему одному призван служить художник.
Произведение искусства не должно порождать гражданские доблести или
героические подвиги. Больше того, оно не должно даже служить самораскрытию
личности художника, как это было у романтиков. Поэт не должен вносить
в художественное произведение свои настроения. Он должен стремиться к
научной объективности. Искусство должно заимствовать у науки ее
«бесстрастие». Объединив научное познание мира с его художественным познанием,
писатель получает возможность раскрыть прекрасное и выразить его в
искусстве с классической ясностью, а не туманно и смутно, как это было у
интуитивистов-романтиков.
Требование «наглядной ясности» и стремление не навязывать читателю
авторского комментария способствовали победе «пластического» принципа
в лирике парнасцев. Стихи Леконта де Лиля вызывают преимущественно
зрительные ассоциации. Его образы напоминают мраморные статуи или яркие
живописные полотна. И все же за их несколько статичной картинностью, за
педантичной ученой эрудицией ощущается лирический образ самого автора,
негодующего и непримиренного. Его искренний протест против окружающего
мира преодолевает пассивность концепций бегства в царство прекрасного.
Сама эта вечная красота, переживающая царства и народы и торжествующая
684
над смертью, нужна была лишь для того, чтобы снять страх поэта перед
жизнью, перед тем миром, который был ему враждебен, но с которым он не
умел бороться.
Плеханов считал, что острая враждебность миру буржуазной пошлости
возвышала Леконта де Лиля и его учеников над апологетами Второй империи,
но их концепция ухода от активной борьбы, от великих исторических схваток
сама была порождением индивидуалистического мышления и сообщала этому
направлению элемент той самой пошлости, от которой оно пыталось укрыться
в мире чистого искусства.
ПРЕДИСЛОВИЕ К АНТИЧНЫМ ПОЭМАМ
Искусство, ярким, насыщенным и законченным проявлением
которого является поэзия,— это духовная роскошь, доступная очень
немногим.
Известно, что всякая толпа, неграмотная или образованная,
питает необузданную страсть к нелепой, честолюбивой химере полного
равенства. Она необычайно легко отвергает и оскорбляет то, что ей
недоступно. Из этого природного недостатка восприимчивости и
возникает инстинктивное отвращение к искусству.
Французский народ богато наделен этими чувствами, и нет
надежды на его исцеление. Ни его зрение, ни слух, ни разум
никогда не постигнут божественный мир красоты.
Да, это народ красноречивых ораторов, героических солдат,
язвительных памфлетистов — но и только.
Репутацию пытливости и гибкого ума, которую ему создали,
нельзя принимать всерьез. Ни один народ не является большим
рабом предвзятых мнений, большим приверженцем привычного,
ни один народ не сопротивляется с такой силой всему, с чем впервые
сталкивается его сознание.
Великие поэты, настоящие художники, которые вышли из лона
народа, не жили его жизнью, не говорили на понятном ему языке.
Они принадлежали к той ветви его семьи, духовного родства с
которой он никогда не признавал и которую он неустанно проклинал
и преследовал.
Тех же, кто по своему врожденному убожеству или по
извращенности ума льстил ему, рабски выполнял требования его
недоразвитого вкуса, упрощал для его понимания то, чего нельзя упрощать,
таких поэтов он любил и прославлял. Между этими поэтами и
народом благодаря постоянному посредничеству критики всегда было
и будет идеальное взаимопонимание. [..,]
685
[...] Мир прекрасного — единственное владение искусства — это
бесконечность, не имеющая соприкосновения ни с каким более
низким предметом.
Прекрасное не является слугой истины, потому что оно само
олицетворяет божественную и человеческую правду. Это вершина,
на которой сходятся все пути духовных устремлений. Все
остальное — только вихрь иллюзорной жизни.
Поэт, создатель идей, то есть видимых и невидимых форм,
реальных и воображаемых образов, должен выразить прекрасное в меру
своих сил и как ему подсказывает его видение мира, пользуясь
сложным, умелым, гармоничным сочетанием линий, красок и звуков
в той же полной степени, как и всем, что ему дают страсть,
размышления, знания и фантазия. Произведение, лишенное этих
необходимых качеств осязаемой красоты, не может быть произведением
искусства. Больше того, такое произведение — это низкий поступок,
подлость, преступление, нечто постыдное и крайне
безнравственное. [...]
Добродетель великого художника — его гений. Произведения
настоящего поэта, владеющего языком и техникой, всегда полны
мыслей. Он видит дальше и глубже других; за видимой красотой он
находит свой идеал и воссоздает его в точном и единственно
возможном выражении.
Он свято хранит величие искусства, и его не беспокоит молчание
или выклики толпы; он не отдаст священный язык искусства на
службу низким целям; трубу архангела нельзя отдать уличному
торговцу.
Ouvres de Leconte de Lisle, vol. 4, P., s. d., p.
238—241. Перевод А. В. Парнаха.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОЭТЫ
Хотя искусство в известной степени обобщает все, чего оно
касается, но в этом публичном оглашении сердечных тревог поэта
и его не менее горьких радостей есть какая-то доля тщеславия
и своего рода профанация.
С другой стороны, какими бы бурными ни были политические
страсти данного момента, они относятся к миру действия, и им
чуждо спокойствие философских размышлений. Отсюда и следует
безличие и нейтральность этих очерков. У обычного человека и у
поэта есть общие основы, круг идей и моральные положения, от
686
которых никто не может отвлечься. Только выражение их
разнообразно. Речь идет о том, чтобы оценить его, как таковое. Эти
стихи, может быть, станут обвинять в архаизме и рассудочной
учености, качествах, мало подходящих для выражения непосредственных
впечатлений и чувств. Но если понять их особый характер, то это
возражение отпадет. Объяснить условия и причины возникновения
идей, благодаря которым были созданы стихи, значит доказать
законность форм, в которых эти идеи выражены.
В наше тревожное время, полное беспокойных поисков, самые
стойкие и твердые останавливаются и задумываются. Остальные не
знают ни откуда, ни куда они идут. Они поддаются лихорадочным
волнениям, которые их увлекают за собой, не давая им остановиться
и сосредоточиться. Лишь немногие представляют себе, в какую
эпоху мы живем и чего она от нас требует. Наше поколение уже
умудрено опытом, интуитивная, непосредственная, слепо
плодотворная пора молодости ушла от нас.
Так обстоит дело, и ничего изменить нельзя.
Поэзия больше не будет порождать героических подвигов; она
не будет больше пробуждать гражданские доблести, потому что,
как и во все эпохи литературного упадка, даже если где-то есть
скрытое семя героизма и добродетели, священный язык поэзии
теперь доведен до того, что может выражать только мелкие личные
чувства и, наводненный произвольными неологизмами,
искалеченный и оскверненный, раб личных капризов и вкусов, он неспособен
больше просвещать человека. Поэзия теперь не будет славить
события, которые она не могла предусмотреть и которым она не могла
содействовать, потому что наш век, теоретизирующий и
практический, уделяет лишь мимолетное внимание и придает небольшое
значение тому, что непосредственно не способствует этим двум его
устремлениям. И вот комментарии к Евангелию превращаются в
политические памфлеты. В этом проявляется смятение умов и падение
теологии. Под маской религиозного поучения идет борьба и
совершается нападение на политических противников.
Но поэзия не может позволить себе пользоваться такими
приемами. Она не так гибка и не так понятна всем, как обычные виды
полемики; и, если бы она к ним прибегла, ее воздействие было бы
ничтожно, а падение окончательно.
О поэты, воспитатели души, чуждые первоосновам жизни
реальной и жизни идеальной, жертвы презрения толпы и безразличия
просвещенных людей, моралисты без принципов, философы без
теории, мечтатели подражания и предвзятого мнения, литераторы
случая, вы пребываете в полном неведении человека и мира и
презираете всякую серьезную работу; самовлюбленные, непостоянные
687
и хвастливые люди, всегда настороженная чувствительность которых
возмущается только по личному поводу и никогда — из-за вечных
принципов, о поэты, что вы можете сказать и чему вы можете
учить, кто вас облек властью говорить и действовать? Какая вера
освящает ваше творчество? Посмотрите: ведь вы трудитесь
понапрасну, и ваше время прошло. Вас больше не слушают, потому что
вы повторяете все те же мысли. Теперь этого мало, эпоха вас не
слышит больше, потому что вы ей надоели со своими бесплодными
жалобами: ведь вы не можете выразить ничего, кроме своей
собственной бессодержательности. О воспитатели человеческого рода,
ваш ученик инстинктивно знает больше вас. Он переносит муки
внутренней работы, от которых вы его не излечите, он охвачен
религиозным порывом, который вы не сможете удовлетворить, если
не будете руководить им в поисках идеальных традиций. Может
быть, вы предпочитаете под страхом собственной гибели постепенно
уйти от мира действий, чтобы спастись в жизни созерцателей
и ученых, как в святилище покоя и очищения. Но самым фактом
своего кажущегося уединения вы вовсе не уйдете с духовного пути
своего времени, а вновь вступите на него.
После Гомера, Эсхила и Софокла, которые представляют поэзию
во всей ее жизненной силе, полноте и гармоническом единстве,
человеческим духом овладели упадок и варварство. Оригинальное
искусство римского мира не поднялось выше уровня даков и
сарматов. Вся христианская эра — варварская. Данте, Шекспир и
Мильтон доказали только силу и высоту своего собственного гения; их
язык и идеи — варварские. Скульптура остановилась на Фидии и Ли-
сиппе. Микеланджело не создал своей школы. Его творения,
великолепные сами по себе, увлекли скульптуру на гибельный путь. Так
что же остается нам от веков, прошедших после упадка Древней
Греции? Несколько отдельных могучих личностей, несколько
великих произведений без связи и единства между собой. Но теперь
наука и искусство обращаются к своим общим корням. Скоро это
движение станет всеобщим. Идеи и факты, внутренняя жизнь
и внешняя жизнь древних народов, все, что составляло смысл их
существования, основу их веры, мысли, действий, привлекает теперь
общее внимание.
Назначение нашего века — найти и соединить все главные
направления человеческой мысли. Если мы безвозвратно осудим это
обращение умов к прошлому, это стремление восстановить прошлые
эпохи и те разнообразные формы, в которых они выразились, то
было бы логично отвергнуть и современную геологию и этнографию;
но, к счастью, связь умов нельзя иорвать по чьему-то личному
желанию и безрассудному капризу.
688
Можно быть спокойным; в изучении прошлого нет ничего
необычайного: знать прошлое не значит идти вспять. Воскрешать то,
чего уже нет, не значит бесплодно упиваться им.
Человеческая мысль, без сомнения, созидательна, но у нее есть
часы застоя и колебания. И надо сказать во всеуслышание, что нет
ничего глупее и печальнее этого тщеславного влечения к
оригинальности, свойственного эпохам упадка искусства. Мы как раз живем
в такую эпоху. Кто из нас открыл новый могучий источник
здорового вдохновения? Никто. Мало того, что наши источники —
мутные и загрязненные, они уже исчерпаны до дна. Надо черпать в
другом месте.
Современная поэзия — это неясный отблеск бурных страстей
Байрона, фальшивой и чувственной религиозности Шатобриана,
мистической мечтательности страны за Рейном и реализма
«озерной школы», который начинает расплываться и рассеиваться.
Ничего нет более безжизненного и менее оригинального, чем то, что
кроется под одеянием современной поэзии. Это искусство не из
первых рук, гибридное и невразумительное, новомодный архаизм,
и ничего больше. Публике надоела эта шумная комедия
прославления собственного величия, взятого напрокат.
Признанные мастера замолкли или скоро замолкнут, устав от
самих себя и уже забытые, одинокие среди своих ненужных
творений. Последние приверженцы неоромантизма тщетно пытаются его
возродить и доводят до крайности недостатки своих
предшественников.
Никогда еще мысль, взбудораженная сверх меры, не переживала
такого приступа бреда. Теперешний поэтический язык можно
сравнить только с варварской латынью галло-римских стихотворцев
V века. Правда, теперь, в противовес этой вспышке интимной
лирики, возникла новая школа, которая несколько наивно пытается
восстановить здравый смысл; но она родилась нежизнеспособной,
она не нашла новых путей и неспособна никого увлечь. Суровость
этого суждения, разумеется, не касается некоторых действительно
талантливых людей, которые обладают глубоким чувством природы
и сумели облечь свою мысль в серьезные формы. Но эти избранные
являются исключением и не опровергают приговора. Эти новые
поэты, рожденные от преждевременно состарившейся эстетики,
должны понять, что им нужно обратиться к вечно чистым
источникам и в них найти силу и свежесть для выражения своих чувств.
Личная тема со всеми ее вариациями утомила внимание; затем
наступило равнодушие. Нужно как можно скорее покинуть эту
узкую торную дорогу; чтобы идти по другому, более трудному
и опасному пути, нужно вооружиться знаниями и пройти
23 История эстетики, т. Ill
689
посвящение. Но, после того как все очистительные испытания будут
позади, после того как поэтический язык оздоровится, потеряют ли
рассуждения ума, порывы души, страсти сердца хоть частицу своей
подлинности и своей выразительности, если они будут располагать
более четкими формами? Конечно, ничего не должно быть забыто
или оставлено без внимания; разум и искусство обретут утраченные
силы, гармонию и единство. А позже, когда взбудораженные умы
успокоятся, когда вспомнят о забытых принципах и формах и
наступит очищение духа и слова — а это будет через век или два,
если только процессы нового времени не потребуют большего
периода созревания,— тогда, может быть, к поэзии вернется
вдохновенный дар выражения человеческой души.
В ожидании часа возрождения искусству остается только искать
новые пути и изучать свое славное прошлое.
Искусство и наука, с давних пор разделенные вследствие того,
что ум человека работал в разных направлениях, должны
стремиться к тесному единению, если не к слиянию. Ведь искусство
возникло как первое открытие идеала во внешнем мире, наука —
как рациональное изучение природы и ясное изложение знаний.
Но искусство потеряло эту интуитивную непосредственность или,
вернее, исчерпало ее; теперь науке предстоит напомнить искусству
смысл забытых традиций, которые оживут в свойственных ему
формах. В теперешней неразберихе бессвязных мыслей, конечно,
нельзя, сохраняя хоть крупицу разума, осуждать попытки
установить какой-то порядок и подчинить ему работу.
Что же касается произведений, созданных на такой основе, то
о них следует судить по их художественным качествам, не обращая
внимания на эстетические теории автора.
Там же, стр. 215—222. Перевод А. В. Парнаха.
БОДЛЕР
1821-1867
Биография Шарля Бодлера свидетельствует о трагическом разладе поэта
с окружающей средой. Стихийно вспыхнувшая в нем ненависть к
неправедному миру, где стоящие у власти «дети Авеля» живут за счет пота и слез «детей
Каина», вылилась на первых порах в резкую оппозицию к «буржуазной
монархии» Луи Филиппа. Бодлер принял активное участие в революции 1848
года. Член бланкистского Центрального республиканского общества, редактор
оппозиционных газет, Бодлер служил революции не только своим пером, но
в июньские дни с оружием в руках сражался рядом з восставшими рабочими.
690
однако его анархическая натура не справилась с разочарованием после
реакционного переворота Луи Бонапарта. Он отходит от политической
деятельности и сближается с группой поэтов «Современный Парнас». В последовавшую
затем эпоху политического безвременья Бодлер так и не примирился с
буржуазным обществом. Он критикует его язвы в «Цветах зла» (1857), но его
критика во многом принимает теперь субъективистский характер. Наряду со
стихами он пишет критические и эстетические статьи, в которых формулирует
свою позицию в вопросах искусства.
Романтически интерпретируя христианскую мифологию, Бодлер говорит
о наличии в жизни «сатанинского начала», которое он раскрывает как
эгоистический индивидуализм, как стремление человека возвыситься над другими
людьми, подавлять и угнетать себе подобных. Проникнув в мир вместе с
«первородным грехом», это стремление создает царство «интереса», борьбу
корыстных сил, столкновение гордынь человеческих, и каждый отдельный человек
переживает радость и страдание в зависимости от своих успехов в этой
борьбе. Этому «миру интереса», где идет драматическая борьба всех против
всех, Бодлер пытается противопоставить мир «до грехопадения» — свободное
от эгоизма сознание ребенка, наивную душу дикаря; обуянному гордыней
индивидуалисту он противопоставляет «маленького человека» с его скромными
радостями и трагически тяжелой жизнью. «Незаинтересованное» сознание
бывает и у обычного взрослого человека, когда он сталкивается с красотой.
Красота — сфера, спасенная от эгоизма, это мир высшей истины и высшей
справедливости. Красота свободна от цели и смысла, она сама есть высшая цель
и последнее убежище от уродливой реальной жизни.
Выделение красоты из реальной жизни вводит в эстетику требование
«необычности». «Обычное» запятнано злом и эгоизмом. Прекрасно лишь
особенное, редкостное, уникальное. Даже природа кажется Бодлеру банальной. Он
мечтает увидеть красные луга, желтые реки, синие деревья. Но, с другой
стороны, требование искусственной оригинальности приводит к тому, что
редкостное заслуживает изображения в искусстве даже тогда, когда оно
безобразно. Безобразное — тайные пороки города, душа развратницы, грезы наркомана,
распад и тление мертвой плоти — выступает как «цветы зла», и трудно
отрицать, что порой зло у Бодлера получает эстетическую реабилитацию. Он не
только разоблачает порок, но и эстетизирует его. Именно эти черты в
творчестве Бодлера сближают его с декадентами. Буржуазные литературоведы
на этом основании целиком готовы причислить его творчество к миру
буржуазного распада, но такие проницательные ценители искусства, как Горький
и Луначарский, отделяли Бодлера от декадентов, подчеркивали его сочувствие
к обездоленным людям парижского дна и ту ненависть к буржуа, за которую
реакционные властители Франции платили Бодлеру ответной ненавистью.
В 1857 году был затеян процесс над его сборником «Цветы зла», и книга была
осуждена как безнравственная и циничная. Да и после процесса Бодлер был
подвергнут общественной опале. Его не издавали, замалчивали, он умер в
23*
691
нищете. Только в 1946 году по требованию Коммунистической партии Франции
был отменен лицемерный приговор суда над Бодлером.
Эстетические и критические статьи Бодлера собраны в сборниках
«Романтическое искусство» и «Эстетические достопримечательности».
О ПРИРОДЕ СМЕХА И О КОМИЧЕСКОМ
В ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВАХ ВООБЩЕ
I
Я не собираюсь писать трактат об искусстве карикатуры, мне
просто хотелось поделиться с читателем кое-какими мыслями,
которые часто приходили в голову по поводу этого своеобразного
жанра. Эти мысли стали столь навязчивыми, что мне захотелось
освободиться от них. Впрочем, я приложил усилия, чтобы привести
их в определенный порядок и придать им таким путем наиболее
удобоваримую форму* Перед вами, таким образом, не более как
обычная статья философа и художника. Разумеется, создание общей
истории карикатуры во всех ее связях с волновавшими человечество
событиями, политическими и религиозными, важными и
малозначительными, связанными с национальным духом или просто с модой,
явилось бы трудом нужным и достойным всяческого признания.
Эта работа еще впереди, ибо те опыты, которые вышли в свет до на*
стоящего времени, не более чем подготовительный материал для нее;
мне, однако, представляется, что работу эту следовало бы
расчленить. Очевидно, понятый таким образом труд о карикатуре явился бы
историей отдельных событий, огромной галереей анекдотов. В
области карикатуры в значительно большей степени, чем в других
разделах искусства, существуют два вида произведений, ценных
и заслуживающих одобрения и в то же время различных и чуть ли
не противоположных друг другу в своей основе. Они ценны только
благодаря отраженным в них событиям. Они бесспорно
заслуживают внимания историков, археологов и даже философов; они
должны занять достойное место в национальных архивах, в
биографических реестрах человеческой мысли. Отрывные листки
журналистики, они исчезают, гонимые неугомонным ветром, который
приносит на их место все новые и новые; но другие, и это как раз те,
о которых я только и собираюсь здесь вести речь, содержат в себе
некий элемент загадочного, устойчивого, вечного, который и
привлекает к ним внимание художника. Любопытно и поистине
достойно внимания, что этот неуловимый элемент прекрасного
вносится даже в произведения, призванные представить человеку его
собственное моральное и физическое уродство! И не менее зага-
692
дочно то, что это плачевное зрелище возбуждает в нем веселость —
неумирающую и непреодолимую. Именно это и будет темой
настоящей статьи. [...]
II
Мудрец смеется не иначе как с трепетом. Из чьих весьма
авторитетных уст, из-под какого безупречно ортодоксального пера
вышло это поразительное и странное изречение? Пришло ли оно
к нам от иудейского царя-философа? Или его следует приписать
Жозефу де Местру, этому ревностному воину Духа святого? Мне
как будто помнится, что в одной из его книг я читал нечто подобное,
приводимое, конечно, лишь в качестве цитаты. Эта суровость
мышления и стиля больше подошла бы величественной святости Боссюэ;
однако эллиптический оборот мысли и ее рафинированная
утонченность заставляют меня приписать честь ее открытия скорей Бурдалу,
этому беспощадному психологу христрханства. Приводимое выше
своеобразное изречение то и дело приходит мне на ум, с тех самых
пор как я задумал написать эту статью, и мне хотелось прежде всего
разделаться с ним. Давайте разберем это любопытное утверждение:
Мудрец, то есть тот, кто несет в себе искру божью, кто наделен
умением осуществлять божественное предписание, смеется,
предается смеху не иначе как с трепетом. Мудрец трепещет, оттого что
он рассмеялся; мудрец боится смеха, как боится он светских зрелищ
или плотских вожделений. Он останавливается на пороге смеха, как
на краю искушения. Следовательно, мудрец полагает, что есть некое
тайное противоречие между его качествами мудреца и основным
свойством смеха. В самом деле, если хотя бы слегка коснуться
самых возвышенных наших воспоминаний, я позволю себе заметить,—
и это окончательно подтвердит официально христианский характер
вышеуказанного изречения,—- что тот, кто был подлинным
мудрецом, сын божий, вообще никогда не смеялся. Перед оком того, кто
ведает все и все может, комического не существует. А между тем
сыну божьему был известен гнев, ему ведомы были даже слезы.
Итак, давайте запомним: во-первых, перед нами автор —
несомненно христианин,— для которого очевидно, что Мудрец должен
хорошенько подумать, прежде чем позволить себе рассмеяться, как
если бы смех сулил ему бог знает какие тревоги и тяготы, и, во-
вторых, что комическое исчезает перед лицом всеведения и
всемогущества. Тогда, перевернув оба эти тезиса, мы придем к выводу,
что смех вообще есть удел безумцев и что он всегда в большей
или меньшей степени несет в себе невежество и слабость. Мне вовсе
не хочется наобум пускаться в плавание по морю теологии, не имея
ни годных для такого дела парусов, ни компаса; мне достаточно
693
подвести к нему читателя и пальцем указать на странные эти
горизонты.
Очевидно, с позиций ортодоксального мышления смех
человеческий тесно связан с древним первородным грехом, с физическим
и нравственным падением. Смех и страдание выражаются с
помощью органов, в которых живут воля и познание добра и зла:
с помощью рта и глаз. В земном раю (предполагая его в прошлом
или в будущем, воспоминанием или пророчеством, как у богословов
или как у социалистов), в земном раю, то есть в такой среде, где
человеку благим представляется все сотворенное, радость не
выражается смехом. Не удручаемое никаким страданием, лицо его
остается невозмутимым и одинаковым, а смех, который ныне
волнует целые народы, ни в какой мере не искажает его черт. Смех
и слезы не могут явиться среди райского блаженства. Они в равной
мере порождения муки, и приходят они тогда, когда возбужденный
человеческий организм не в силах их сдержать. На взгляд моего
христианского философа, смех его уст в такой же мере признак
тяжкого страдания, как и слезы из его глаз. Высшее существо,
пожелавшее умножить свой облик, не наделило рот человеческий
зубами льва, и все же человек кусается с помощью смеха; оно не
вложило в его глаза чарующего лукавства змеи, и все же человек
совращает слезами. Заметьте, однако, что слезами же человек
смывает горе другого человека и смехом смягчает, а порой и привлекает
его сердце, ибо явлениям, народившимся в грехопадении, суждено
было стать орудиями искупления.
Да разрешат мне поэтическое допущение, которое должно
подтвердить справедливость этих тезисов, ибо несомненно многие сочтут
их запятнанными мистической априорностью. Поскольку
комическое есть стихия, отмеченная проклятьем и по происхождению
связана с дьяволом, попытаемся противопоставить ей душу абсолютно
наивную, как говорится, только что вышедшую из рук природы.
Возьмем, для примера, великий и типический образ Виргинии \
превосходно воплощающий абсолютную чистоту и наивность.
Виргиния прибывает в Париж, еще вся влажная от морских туманов
и опаленная тропическим солнцем, ее взор еще полон величавых
первобытных видений волн, горных хребтов и лесов. Здесь она
попадает в беспокойный, клокочущий, нездоровый мир цивилизации,
в то время как от нее еще исходят чистые и обильные ароматы
Индии. Она связана с человечеством через узы родства и любви,
через мать и возлюбленного, ее Поля, столь же ангелоподобного,
1 Речь идет о героине руссоистской повести французского писателя Бер-
нардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1787).
694
как и она, и чей пол как бы вовсе не отличается от ее собственного
в неутоленном горении неосознанной любви. Бога она знала в Пам-
племусской церковке, весьма скромной и весьма жалкой, но также
и в огромности неописуемой тропической лазури, в бессмертной
музыке лесов и бурных потоков. Бесспорно, у Виргинии
недюжинный ум, но он нуждается лишь в немногочисленных образах и
немногих воспоминаниях, подобно тому как Мудрец нуждается лишь
в нескольких книгах. И вот в один прекрасный день случайно
в публичном месте, в Пале-Рояле, на столике за стеклянной
витриной Виргиния вдруг видит карикатуру. Карикатуру для нас весьма
забавную, полную яда и желчи, как их умеет создавать
проницательная и пресыщенная цивилизация. Пусть это будет какая-нибудь
проделка бравых боксеров, этакая британская грубая шутка, полная
сгустков крови, да еще приправленная чудовищным «goddam»; либо,
если это больше понравится вашему разыгравшемуся воображению,
представим взорам нашей девственной Виргинии какую-нибудь
очаровательную и задорную непристойность тогдашнего Гаварни, а еще
лучше какую-нибудь оскорбительную сатиру, направленную против
королевских безумств, живописный памфлет против. Оленьего парка
или грязных шашней всесильной фаворитки, или ночных проказ
пресловутой Австриячки.
Карикатура двойственна: рисунок и идея — резкий рисунок
и завуалированная разящая идея; переплетение элементов,
мучительное для наивной души, привыкшей к интуитивному восприятию
вещей столь же несложных, как она сама. До этого Виргиния видела,
теперь она всего лишь рассматривает. Почему? Она смотрит на
неведомое. Да еще и не понимает ни того, о чем это говорит, ни того,
чему это служит. И тем не менее вы видите эти внезапно сложенные
крылья, этот трепет души, которая омрачена и хочет укрыться?
Ангел ощутил нечто оскорбительное. И в самом деле, скажу я вам,
поняла она или не поняла, у нее сохранится ощущение какой-то
тревоги, чего-то похожего на страх. Само собой разумеется, если
Виргиния останется жить в Париже и если у нее появится опыт,
к ней придет и смех; мы сами увидим почему. Но в данный момент
мы, исследователи и критики, не рискующие, конечно, утверждать,
что наш интеллект превосходит интеллект Виргинии, зафиксируем
этот страх и это страдание непорочного ангела, увидевшего
карикатуру.
III
Что комическое есть один из главных признаков сатанинского
в человеке и одно из многочисленных зерен символического яблока,
доказывается единодушным согласием всех физиологов, изучающих
695
смех, по поводу главной причины этого чудовищного явления.
Впрочем, их открытие не столь уж сложно и не требует особой
глубины. Смех, говорят они, исходит из превосходства. Я бы не
удивился, если бы физиолог, прежде чем прийти к такому открытию,
рассмеялся бы при мысли о своем собственном превосходстве.
Поэтому следовало бы сказать: смех происходит от сознания
собственного превосходства. Мысль, достойная дьявола, если он когда-либо
существовал! Гордость и заблуждение! Ведь известно же, что
больные в сумасшедшем доме проникнуты сверх всякой меры сознанием
собственного превосходства. Мне никогда не приходилось слышать
о мании скромности. Заметьте, что смех есть одно из самых частых
и наиболее многочисленных проявлений безумия. И посмотрите, как
все сходится: когда Виргиния, испытав падение, станет ступенькой
ниже в своей чистоте, у нее появится мысль о собственном
превосходстве, в глазах света она станет более ученой, и она будет
смеяться.
Я сказал, что в смехе содержится симптом слабости; и
действительно, может ли быть более заметный признак бессилия, чем
нервная конвульсия, непроизвольный спазм, подобный чиханию,
причиняемый созерцанием чужой беды? Эта беда почти всегда —
скудость ума. Но не является ли наслаждение скудостью чужого
ума еще более достойным сожаления, чем сама эта скудость? А ведь
бывает и пострашней. Бывает подчас беда куда худшего свойства,
слабость физического порядка. Возьмем один из самых банальных
житейских примеров: почему мы так веселимся при виде человека,
падающего на льду или на мостовой, споткнувшись о край тротуара?
Почему лицо его брата во Христе перекашивается самым странным
образом, почему мускулы этого лица внезапно начинают играть,
как часы в полдень или как заводная игрушка? Бедняк ведь по
меньшей мере что-нибудь повредил себе, может быть, какой-нибудь
важный орган. А между тем смех возникает необоримо и внезапно.
Нет сомнения в том, что, если покопаться в причинах этого
явления, то вы обнаружите у смеющегося в глубине души неосознанную
гордость. Тут-то и кроется исходный пункт: я-то не падаю, я-то
хожу как следует, моя нога крепка и надежна, это не я, а он
настолько глуп, что не замечает, как обрывается тротуар или что
путь ему преградил булыжник.
Романтическая школа или, точнее, одно из ее подразделений —
«сатанинская школа» хорошо поняла этот примитивный закон
смеха, или, если не все ее члены поняли, то все, даже в самых
утрированных непристойностях и сумасбродствах, чувствовали его
и верно применяли. Все нечестивцы в мелодрамах, окаянные,
осужденные на муки, неизбежно отмеченные насмешливым оскалом до
696
ушей, созданы по ортодоксальным законам смеха. Впрочем, все они
законные или побочные внуки прославленного скитальца Мельт
мота *, великое сатанинское творение преподобного Мельмота. Что
может быть более возвышенным, более могучим по сравнению с
несчастным человечеством, нежели этот бледный и скучающий Мель-
мот? А все-таки и у него есть своя слабость, гнусная, омрачающая,
кощунственная. Это то, как он смеется, как смеется, беспрестанно
уподобляясь жалким человеческим червям, он, столь сильный, столь
мудрый, он, для кого не существуют столь многие из обычных
человеческих законов, физических и духовных! И этот смех — вечный
взрыв его гнева и страдания. Он является, не поймите меня
превратно, закономерной равнодействующей двойственной
противоречивой натуры Мельмота, которая бесконечно возвышенна по
сравнению с человеком и бесконечно презренна и низменна по сравнению
с абсолютными Истиной и Справедливостью. Мельмот — живое
противоречие. Он за пределами основных законов жизни, его органы
не выносят больше его мысль. Вот почему его смех леденит и
терзает. Это смех, который никогда не унимается, подобно болезни,
постоянно идущей своим путем и выполняющей волю провидения.
Так смех Мельмота, будучи высшим выражением гордости, вечно
делает свое дело, беспощадно раздирая и обжигая уста смеющегося.
IV
Подведем теперь краткий итог и попытаемся более наглядно
изложить те основные положения, которые образуют своего рода
теорию смеха. Смех сатаничен, и, следовательно, он глубоко
человечен. Он зарождается в человеке как результат идеи личного
превосходства. И действительно, поскольку смех сугубо человечен, он
сугубо противоречив, иными словами, он в одно и то же время
служит знаком бесконечного величия и бесконечного убожества,
бесконечного убожества по сравнению с абсолютным Существом, о
котором у него есть представление, и бесконечного величия по
сравнению с животными. Вечное столкновение этих двух бесконечностей
как раз и порождает смех. Комическое, способность к смеху всегда
в том, кто смеется, но ни в коем случае не в объекте смеха. Упавший
отнюдь не смеется над собственной неловкостью, если только он не
философ, не человек, благодаря привычке получивший возможность
мгновенно раздваиваться и беспристрастным зрителем наблюдать за
своим «я». Но подобное случается редко. Самые комичные
животные обычно наиболее серьезны; таковы обезьяны и попугаи.
1 Мельмот — фантастический герой романа английского писателя Чарльза
Роберта Мэтыорина «Мельмот-скиталец» (1820).
697
Вообще, если лишить человека его творческой способности, погибнет
и комическое, ибо животные не считают себя выше растений, а
растения не считают себя выше минералов. Будучи признаком
превосходства над животными, а я понимаю под этим словом множество
парий духа, смех есть признак низшего состояния по сравнению
с теми мудрецами, которые в созерцательной наивности интеллекта
близки к детству. Сравнивая в той мере, в какой мы имеем на это
право, человечество с отдельным человеком, мы увидим, что
первобытные народы, так же как и Виргиния, не понимают карикатуры
и не знают комедии (священные книги, какому бы народу они ни
принадлежали, никогда не смеются), и, лишь продвигаясь шаг за
шагом к заоблачным высям духа или погружаясь в мрачное пекло
метафизики, народы начинают смеяться дьявольским смехом Мель-
мота; наконец, если у этих же сверхцивилизованных народов их
сознание, движимое высшими притязаниями, пожелает преступить
грани светского тщеславия и устремиться к чистой поэзии, в этой
поэзии, прозрачной и глубокой, как сама природа, смех покидает
его, как душу Мудреца. [...]
V
Не думайте, однако, что все трудности уже остались позади.
Даже не слишком искушенный в эстетических тонкостях противник
без особого труда противопоставит вам коварный довод: смех бывает
разным. Не всегда люди наслаждаются видом чужой беды,
слабости, сознанием собственного превосходства. Многие зрелища,
вызывающие смех, бывают вполне невинного свойства, и не только те,
что развлекают детей, но и многие из тех, что увеселяют
художников, не имеют ничего общего с духом Дьявола.
В этом есть известная видимость истины. Но прежде всего
следует ясно различать радость и смех. Радость существует сама по
себе, но ее внешние проявления бывают различными. Иной раз она
почти неприметна, в других случаях она изливается в слезах. Смех
лишь одно из ее проявлений, ее симптом, ее диагноз. Но симптом
чего? Вот в чем вопрос. Радость едина. Смех же выражает чувство
двойственное или противоречивое; отсюда идет его конвульсивность.
Вот почему детский смех, который мне зря приводят в качестве
возражения, полностью отличен, даже по своему физическому
выражению, по форме, от смеха человека, который смотрит комедию,
разглядывает карикатуру, или от грозного смеха Мельмота;
отверженца Мельмота, стоящего между последней гранью отчизны
людской и пределами жизни высшей; Мельмота, всегда готового
избавиться от своего адского договора, живущего в вечной надежде
обменять сверхчеловеческое могущество, ставшее его несчастьем, на
698
вызывающее его зависть нетронутое сознание невежды. Детский
смех как распускающийся цветок. Это радость восприятия, радость
дыхания, радость раскрывания лепестков, радость созерцания,
бытия, созревания. Это растительная радость. Вот почему обычно это,
скорее, улыбка, нечто сходное с виляющим хвостом у собаки или
с мурлыканием кошки. И тем не менее, заметьте, если смех ребенка
все же отличается от выражения удовлетворения у животных, то
потому лишь, что и этот смех не вполне свободен от честолюбия, как
это и должно быть присуще будущим людям, этим росткам дьявола.
Но бывают случаи и посложней. Это смех зрелого человека, но
смех от души, безудержный и притом над вещами, которые не
являются признаком беды или слабости у его ближних. Нетрудно
догадаться, что речь пойдет о смехе, который вызван гротеском.
Сказочные создания, существа, причины и основания которых не
отыщешь в кодексе здравого смысла, возбуждают в нас нередко дикую
неистовую веселость, которая переходит в бесконечную душевную
боль и обмирание сердца. Ясно, что следует гротеск отличать от
обычного комического и- что в гротеске содержится нечто большее.
С художественной точки зрения комическое есть подражание,
гротеск — творчество. Комическое — это подражание, к которому
примешивается некоторая творческая способность, иначе говоря,
художественная идеализация. Гордость же человеческая, всегда
одерживающая верх и составляющая естественную основу смеха в случае
комического, становится естественной основой смеха и в случае
гротеска, являющегося творчеством, к которому примешивается
некоторая подражательная способность, имитирующая элементы, и до
того существовавшие в природе. Я хочу сказать, что в данном
случае по-прежнему наличествует мысль о превосходстве, но уже не
одного человека над другим, а человека над природой. Не следует
рассматривать эту мысль как слишком изощренную; этого
недостаточно, чтобы ее отбросить. Нужно поискать другой, более
благовидный предлог. Если эта мысль кажется притянутой издалека и
нелегкой для восприятия, то это потому, что смех, вызываемый
гротеском, содержит в себе нечто глубокое, аксиоматическое и
первобытное, которое куда ближе к наивной жизни и абсолютной
радости, чем смех, вызываемый комическим в нравах. Между двумя
этими видами смеха, если при этом отвлечься от вопроса о
полезности, существует такое же различие, как между утилитаристской
литературной школой и школой искусства для искусства. Так вот
гротеск в такой же мере выше комического, в какой последняя выше
первой.
В дальнейшем я буду называть гротеск комическим абсолютным,
в противовес обычному комическому, которое я буду называть коми-
699
ческим по значению. Комическое по значению говорит языком
более ясным, более доступным для заурядных людей, а главное,
более легко поддающимся анализу, поскольку его составные части
отчетливо двоятся: искусство и нравственная идея; тогда как
комическое абсолютное, гораздо более приближаясь к природе,
выступает в виде индивидуального, которое должно быть схвачено
интуицией. Существует лишь одна проверка гротеска—это смех, и притом
смех внезапный; тогда как, имея дело с комическим по значению,
не возбраняется рассмеяться и некоторое время спустя; это не
снижает его ценности; речь идет лишь о быстроте анализа.
Я говорю: комическое абсолютно; однако будьте осторожны!
С точки зрения подлинно абсолютного остается только радость.
Комическое может быть абсолютным только по отношению к
падшему человечеству, и так именно я его и воспринимаю.
Ch. Baudlaire, Curiositées esthétiques.P., 1889.
p. 359—376. Перевод A. Г. Левинтона.
ЗОЛЯ
1840-1902
Ранние литературные выступления Эмиля Золя относятся к 60-м годам.
Роман «Тереза Ракен» (1868) принес ему первый успех. И. Тэн, во многом
повлиявший на мировоззрение Золя, прислал ему поощрительное письмо,
рекомендуя выйти за пределы субъективных переживаний героев и попытаться
воссоздать целостную картину эпохи. Золя задумывает серию романов «Ругон-
Маккары» — «естественную и социальную историю одной семьи времен Второй
империи». На протяжении двадцати пяти лет он создает двадцать романов,
охватывающих целую эпоху из жизни Франции, от захвата власти Луи
Бонапартом до его падения в 1870—1871 годах. «Ругон-Маккары» были завершены
в 1893 году. После этого Золя написал еще две серии романов: «Три города»
и «Четыре евангелия». Последние годы жизни Золя связаны с его борьбой
за реабилитацию несправедливо осужденного Дрейфуса.
Главные эстетические работы Золя собраны в сборниках:
«Экспериментальный роман» (1880), «Наши драматурги» (1881), «Натурализм в театре»
(1881), «Кампания» (1880—1881), «Литературные документы» (1881).
Теория научного романа Золя идет в общем русле позитивистских
увлечений эпохи. Она тесно связана с успехами естественных наук, тягой к
материалистическому объяснению явлений духовного мира, она пытается сблизить
художественное познание с познанием научным, изучать страсти героев так же,
как химик и физик изучают неорганическую материю, как натуралист изучает
живую природу. Золя борется против спиритуалистического и церковного
представления о «душе», он даже к термину «характер» относится с подозрением,
700
его больше устраивает слово «темперамент», что означает, с его точки зрения,
физиологическую конституцию человека. Писателю кажется, что поступки
человека детерминированы его темпераментом и той средой, в которой этот
темперамент функционирует. По аналогии с концепциями известного
французского врача Клода Бернара, превратившего медицину в экспериментальную наукуг
Золя полагает, что и в литературе можно создать «экспериментальный роман».
Если заданы темпераменты, выбраны исходные отношения персонажей, дана
породившая их среда, то автору нет нужды прибегать к услугам воображения,
строить интригу, создавать искусственное движение фабулы. Логика и
жизненный опыт помогут ему предсказать, как будут действовать его герои.
Заимствуя из эстетики Тэна понятие «расы», Золя пытается
конкретизировать его посредством законов наследственности и связывает отдельные
романы серии «Ругон-Маккаров» тем, что некоторые его герои являются членами
одной семьи. На него оказала влияние книга Люка «Трактат об естественной
наследственности». Он хочет изучить, как действует герой с определенной
наследственностью, выросший в определенной среде и в определенную эпоху.
В отличие от Тэна, считавшего, что существующие исторические и
социальные условия создают некий единый «духовный климат эпохи» и порождают
определенный «господствующий тип», Золя полагает, что разные
общественные классы, разная социальная среда характеризуется каждая своим особым
«духовным климатом», порождающим особый социальный тип человека, на
который накладываются индивидуальные различия.
В целом эстетика Золя заключает в себе определенное противоречие; он
постоянно колеблется между обращением к физиологическому
«темпераменту», рассматриваемому как постоянная величина, и миром общественных
условий, изменчивой, исторической средой.
Золя полагал, что современный роман с его бесстрашным исследованием
самых мрачных сторон капиталистической действительности призван помочь
перестройке общества на более справедливых началах. Он писал о себе:
«Старый республиканец, каким я являюсь сейчас, и социалист, каким я, без
сомнения, когда-нибудь стану». И хотя Золя в принципе был против классовой
борьбы, романы проникнуты сочувствием к борьбе угнетенных против
угнетателей. Логика искусства вступала в конфликт с позитивистской вульгарно-
материалистической догматикой второй половины XIX века, и реализм
великого художника помогал ему отобразить главные социальные конфликты эпохи.
К концу жизни Золя уже не мог оставаться безучастным летописцем своего
времени. Дело Дрейфуса заставило его принять активное участие в
политических битвах на стороне прогрессивных сил. Обрушив на реакционеров всю
мощь своего публицистического дарования, он сумел добиться торжества
справедливости. Не случайно поэтому, как отмечает Луи Арагон, враги
демократии и сейчас «содрогаются при одном имени этого великого человека,
не случайно реакция стремится приуменьшить его заслуги в мировой
литературе.
701
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН
Глава I
Итак, обратившись к роману, мы видим, что романист — это
и наблюдатель и экспериментатор. Наблюдатель представляет
факты такими, какими он их увидел, намечает отправную точку,
воссоздает подлинную обстановку, в которой будут действовать персонажи
и развертываться события. Затем выступает экспериментатор и
ставит опыт, иными словами, приводит в движение персонажи данного
рассказа и показывает, что последовательность событий будет
именно такой, какой требует детерминизм изучаемых явлений. Это почти
всегда «наглядный опыт», как называет его Клод Вернар. Романист
ищет какую-то истину. Возьму в качестве примера образ барона
Юло из «Кузины Бетты» Бальзака. Бальзак наблюдает следующий
факт: влюбчивый темперамент разрушает личность человека, его
семью и общество. Писатель выбрал сюжет, исходя из увиденных
фактов, потом он поставил опыт — подверг Юло серии испытаний
в различной среде, чтобы показать, как действует механизм его
страсти. Ясно, что здесь имеет место не только наблюдение, но
также и эксперимент, потому что Бальзак не ограничивается, в
противоположность фотографу, собранными фактами, а открыто
вмешивается в действие и ставит своего героя в определенные условия,
которыми распоряжается сам писатель. Задача состоит в том, чтобы
узнать, какие последствия в отдельном человеке и обществе
вызовет такая-то страсть, действующая в такой-то среде, при таких-то
обстоятельствах; и экспериментальный роман, «Кузина Бетта»,
например, является лишь записью опыта, который романист
воспроизводит на глазах читателя. Словом, все дело в том, чтобы взять
факты из жизни, а затем изучить их механику, изменяя
обстоятельства и среду, ни на шаг не отступая от законов природы.
Конечный результат — знание, научное знание о человеке в его личной
и общественной деятельности.
Несомненно, мы не получаем той уверенности, которую дает
опыт в химии или физиологии. Нам еще не известны реактивы,
разлагающие страсти и позволяющие анализировать их. В данном
исследовании мне не раз придется напоминать, что экспериментальный
роман моложе, чем экспериментальная медицина, которая и сама
только что родилась на свет. Но я еще не собираюсь подводить
итоги, я хочу лишь ясно изложить метод. Пусть
романист-экспериментатор поке еще движется ощупью в самой неизведанной и самой
сложной из всех наук. Но это не означает, что не существует самой
науки. Неоспоримо, что натуралистический роман, как мы его се-
702
годня понимаем, является настоящим опытом, который романист
ставит на человеке, не переставая наблюдать за ним.
Впрочем, это не только мое мнение, но и мнение Клода Берна
ра. Он говорит: «В жизни люди только и делают, что ставят опыты
друг над другом». А вот еще более убедительное место, в нем — вся
теория экспериментального романа: «Когда мы размышляем над
нашими собственными поступками, мы не можем сбиться, потому что
мы сознаем, что именно мы думаем и чувствуем. Но совсем другое
дело, когда мы хотим судить о поступках другого человека и знать
мотивы его действий. Правда, у нас перед глазами движения,
действия этого человека, которые, как мы уверены, являются формой
выражения его чувств и воли. Более того, мы признаем, что
существует непосредственная связь между этими действиями и их
причиной. Но какова эта причина? Мы не чувствуем ее в себе, не
сознаем ее, как было в том случае, когда речь шла о нас самих,
поэтому мы вынуждены пытаться ее понять, делать предположения
на основании видимых нами движений и слышимых слов. Это
значит, что мы должны судить о действиях данного человека по другим
его действиям. Мы наблюдаем, как он действует при определенных
обстоятельствах,— одним словом, мы прибегаем к
экспериментальному методу». Все положения, выдвинутые мною выше, выражены
в этой последней фразе, принадлежащей перу ученого.
Приведу из Клода Бернара еще один образ, глубоко поразивший
меня: «Экспериментатор — это судебный следователь по отношению
к природе». Мы, романисты,— судебные следователи по отношению
к людям и их страстям.
Так посмотрите, как проясняется суть вопроса, когда для
понимания романа становишься на точку зрения экспериментального
метода и пользуешься им со всей научной строгостью. Нам, писателям-
натуралистам, бросают нелепый упрек, будто мы хотим быть только
фотографами. Сколько бы мы ни заявляли, что мы признаем и
темперамент писателя и личную манеру художественного выражения,
нам отвечают все теми же глупыми доводами, что будто бы
передать доподлинную правду невозможно, что для того, чтобы
построить какое-либо произведение искусства, необходимо
определенным образом расположить факты. Да примените вы к роману
экспериментальный метод — и все споры кончатся. Сама идея опыта
подразумевает изменения. Мы исходим из подлинных фактов, они —
наша нерушимая основа; но, чтобы показать механику фактов, нам
нужно вызвать к жизни различные явления и руководить ими;
именно здесь мы допускаем участие вымысла, таланта. Таким
образом, еще не касаясь вопросов формы, стиля, которые я буду
исследовать ниже, уже сейчас я констатирую, что, применяя в романе
703
экспериментальный метод, мы должны изменять природу, не
выходя за пределы законов природы. Возвращаясь к формуле:
«Наблюдение показывает, эксперимент учит»,— мы можем уже сейчас
потребовать, чтобы в наших книгах содержался эксперимент со
всей его поучительностью.
Писателя это нисколько не принижает, а исключительно
возвеличивает. Даже самый простой опыт всегда основан на идее, в свою
очередь рожденной наблюдением. Как говорит Клод Бернар,
«экспериментальная идея отнюдь не произвольна и не является плодом
чистого воображения; она всегда имеет точку опоры в
действительности, то есть в природе». Именно на этой идее и на сомнении Клод
Бернар и основывает весь метод. «Возникновение идеи опыта,—
говорит он далее,— совершенно непосредственно, а ее природа
совершенно индивидуальна; это особое чувство, некий guid proprium,
который и составляет оригинальность, изобразительность или талант
каждого». Из сомнения он делает могучий научный рычаг:
«Сомневающийся — это истинный ученый; он сомневается только в себе
и в своем истолковании окружающего, но он верит в науку; в
экспериментальных науках он даже принимает некий критерий или
абсолютный принцип — это детерминизм явлений, который
проявляется в живых и неживых телах». Таким образом, вместо того
чтобы связать романиста тесными путами, экспериментальный метод
предоставляет полную свободу его уму мыслителя и его таланту
художника. Ему приходится смотреть, понимать, выдумывать.
Увиденный им факт должен будет натолкнуть его на мысль о
постановке опыта, о написании романа, чтобы таким путем узнать истину
во всей ее полноте. Затем, когда план опыта будет рассмотрен и
принят, романист ежеминутно сможет судить о его результатах
с той свободой ума, которая присуща человеку, принимающему
только факты, сообразные детерминизму явлений. Он начал с
сомнения, он пришел к абсолютному знанию; и он перестает
сомневаться лишь в том случае, если разобранный и вновь собранный им
механизм страсти действовал по законам природы. Нет такой задачи,
которая давала бы больший простор и свободу человеческому уму.
Далее мы увидим, как беспомощны схоласты, систематики и
теоретики идеала в искусстве рядом с торжествующими
экспериментаторами.
Подводя итог этой первой части, я повторяю, что романисты-
натуралисты наблюдают и экспериментируют и что все их
творчество рождается из сомнения, которое возбуждают в них
неизвестные истины, необъяснимые явления, до той минуты, когда идея
опыта внезапно пробуждает их талант и заставляет их поставить
опыт и проанализировать факты, чтобы таким путем овладеть ими.
704
Глава III
Такова цель, такова мораль в физиологии и в экспериментальной
медицине: овладеть жизнью, чтобы управлять ею. Представим себе,
что ход науки принес полную победу над неизвестностью: настала
та научная эпоха, о которой мечтал Клод Бернар. Теперь врач
победил, он будет лечить наверняка, будет воздействовать на живые
тела в интересах благополучия и здоровья всего данного
человеческого рода. Мы вступим в такую эру, когда всемогущий человек
поработит природу и использует ее законы для того, чтобы на нашей
земле воцарилась величайшая справедливость и свобода. Нет цели
более благородной, высокой и величественной, чем эта. Наша роль
как одаренного разумом существа в том и заключается, чтобы
проникнуть в причину вещей, чтобы возвыситься над ними и низвести
их до положения послушных колесиков машины.
Так вот эта мечта физиолога и медика-экспериментатора
является одновременно и мечтой романиста, применяющего к изучению
человека как явления природы и общества экспериментальный
метод. У нас с ними общая цель. Мы тоже хотим овладеть явлениями
интеллектуальной и душевной жизни человека, чтобы управлять
ими. Одним словом, мы — моралисты-экспериментаторы,
показывающие путем эксперимента, каким образом проявляется страсть в
определенной социальной среде. В тот день, когда мы поймем
механизм этой страсти, можно будет воздействовать на нее, ослабить
ее или хотя бы сделать ее как можно более безобидной. Вот в чем
польза и высокая нравственная ценность наших натуралистических
произведений, которые экспериментируют над человеком,
разбирают и вновь собирают деталь за деталью человеческую машину,
чтобы заставить ее действовать под влиянием различных обстоятельств.
Когда с течением времени мы откроем законы, останется только
воздействовать на личность и среду, чтобы улучшить положение
в обществе. Таким образом, мы занимаемся практической
социологией, и наша работа помогает политическим и экономическим
наукам. Еще раз говорю, я не знаю более благородного труда, более
широкого поля деятельности. Быть хозяином добра и зла, управлять
жизнью, управлять обществом, решить в конце концов все
проблемы социализма, а в особенности поставить на прочную основу
правосудие, разрешив при помощи эксперимента вопросы
преступности,— разве не значит это быть одним из самых полезных и самых
нравственных работников человеческого труда?
Для нас, романистов-экспериментаторов, истинная задача в том
и состоит, чтобы идти от известного к неизвестному, чтобы овладеть
природой, тогда как романисты-идеалисты преднамеренно ограни-
70S
чивают себя областью неизвестного в силу всякого рода
религиозных и философских предрассудков, под тем поразительным
предлогом, что неизвестное будто бы благороднее и прекраснее
известного.
Если труд наш порой жестокий, если нарисованные нами
страшные картины нуждались бы в оправданиях, я нашел бы решающий
аргумент у того же Клода Бернара: «Вы никогда не придете к
действительно плодотворным и ясным обобщениям жизненных явлений,
если лично не экспериментировали, не перекопали в больнице, в
анатомическом театре, в лаборатории зловонную или трепещущую
почву жизни... Свое отношение к науке о жизни я выразил бы
таким сравнением; я сказал бы, что это великолепная, залитая светом
гостиная, в которую можно проникнуть только через большую
отвратительную кухню».
Я настаиваю на применении к романистам-натуралистам моего
термина «моралисты-экспериментаторы». Особенно поразила меня
одна страница из «Введения», на которой автор говорит о
жизненном цикле. Цитирую: «Мускульные и нервные органы
поддерживают активность кроветворных органов; но кровь, в свою очередь,
питает органы, ее производящие. Здесь имеет место своего рода
органическая или общественная солидарность, которая
поддерживает некое вечное движение до тех пор, пока повреждение или
прекращение деятельности жизненно необходимой составной части не
нарушит равновесие или не внесет путаницу в работу живой
машины. Задача медика-экспериментатора состоит в том, чтобы найти
в органическом нарушении простой детерминизм, иными словами,
обнаружить первоначальное явление... Мы увидим, как самые
сложные на первый взгляд расстройства или повреждения организма
могут быть сведены к простому первоначальному детерминизму,
который затем вызывает детерминизмы самые сложные». Стоит
лишь заменить слова «медик-экспериментатор» словами «романист-
экспериментатор» — и все это рассуждение можно без изменений
приложить к нашей натуралистической литературе. Социальный
цикл сходен с жизненным циклом: в обществе, как и в человеческом
теле, существует солидарность, которая связывает между собой
различные члены, различные органы, так что если поражен один орган,
то затрагиваются и многие другие органы и возникает очень
сложная болезнь. Следовательно, когда в наших романах мы
экспериментируем над серьезной язвой, отравляющей общество, мы
применяем тот же метод, что и медик-экспериментатор, мы стараемся
найти простой первоначальный детерминизм, чтобы потом
обнаружить сложный детерминизм последующих событий. Возьму тот же
706
пример, барона Юло из «Кузины Бетты». Взгляните, каков
конечный результат, развязка романа: под действием влюбчивого
темперамента Юло целая семья разрушена, произошли всякого рода
другие драмы. Здесь, в этом темпераменте, и заложен первоначальный
детерминизм. Один орган, Юло, поражен гангреной — и сейчас же
все вокруг него начинает гнить, социальный цикл нарушается,
подрывается здоровье общества. Вот почему Бальзак так выделяет
образ барона Юло, с такой скрупулезной тщательностью анализирует
его! Эксперимент прежде всего проводится над ним, поскольку
речь шла о том, чтобы овладеть явлением этой страсти и затем
управлять ею; предположим, что барона Юло можно вылечить или
хотя бы сдержать его, сделать безобидным,— и сейчас же исчезнет
всякое основание для драмы, восстановится равновесие или, вернее,
здоровье социального организма. Значит, романисты-натуралисты
действительно являются моралистами-экспериментаторами.
Теперь я подхожу к серьезному упреку, которым думают
сразить романистов-натуралистов: их называют фаталистами. Сколько
раз пытались нам доказывать, что, поскольку мы не признаем
свободной воли, поскольку человек для нас только живая машина,
действующая под влиянием наследственности и среды, мы впадаем в
грубый фатализм, мы низводим человечество до уровня стада,
бредущего под палкой судьбы! Давайте уточним: мы не фаталисты, мы
детерминисты,— а это вовсе не одно и то же. Клод Бернар
прекрасно объясняет оба термина: «Детерминизмом мы называем
непосредственную или определяющую причину явлений. Мы никогда не
воздействуем на сущность явлений природы, а только на эти причины,
и уже одним тем, что мы воздействуем на них, детерминизм
отличается от фатализма. Фатализм предполагает, что данное явление
обязательно произойдет независимо ни от каких условий, тогда как
детерминизм есть обязательное условие явления, которое само по
себе не предопределено. С той минуты, как исследование
детерминизма явлений принято в качестве основного принципа
экспериментального метода, не существует больше ни материализма, ни
спиритуализма, ни мертвой, ни живой материи; есть только явления,
условия которых требуется определить,— иными словами,
определить обстоятельства, играющие по отношению к этим явлениям роль
непосредственной причины». Это и есть наша основная формула.
Мы лишь применяем этот метод в своих романах и, следовательно,
являемся детерминистами, которые стремятся экспериментальным
путем определить условия явлений, не выходя в своих
исследованиях за рамки законов природы. Как очень хорошо сказал Клод
Бернар, раз мы можем воздействовать и воздействуем на
детерминизм явлений, например, изменяя среду, значит, мы не фаталисты.
707
Итак, роль романиста-экспериментатора ясно определена. Я часто
говорил, что нам нет нужды извлекать выводы из наших
произведений, и это означает, что наши произведения несут выводы в самих
себе. Экспериментатору нет нужды делать выводы, ибо эксперимент
как раз и делает это вместо него. Если потребуется, он сто раз
повторит опыт перед публикой, растолкует этот опыт, но ему лично
нечем возмущаться и нечего одобрять: такова уж истина, таков
механизм явлений; дело общества — решить, сохранить ли в дальнейшем
это явление, в зависимости от того, полезен или опасен его
результат. Я уже говорил однажды: невозможно представить себе
ученого, который сердится на азот за то, что азот непригоден для
жизни; когда азот вреден, он удаляет его, вот и все. Мы же, не
обладающие такими возможностями, как ученые, поскольку мы являемся
экспериментаторами, не будучи практиками, мы вынуждены
довольствоваться исследованием детерминизма социальных явлений,
предоставив законодателям — людям практической деятельности —
заботу о том, чтобы рано или поздно научиться управлять этими
явлениями, развить хорошие и устранить дурные из них с точки
зрения пользы для человечества.
Итак, наша роль моралистов-экспериментаторов состоит в
следующем: мы показываем механику полезного и вредного, мы
выделяем причины человеческих и социальных явлений, для того чтобы
в один прекрасный день можно было приобрести власть над этими
явлениями и управлять ими. Одним словом, мы трудимся вместе со
всем нашим веком над великим делом, каковым является покорение
природы, увеличение могущества человека. Сравните с нашей
работой работу писателей-идеалистов, которые опираются на
сверхъестественное и иррациональное и каждый шаг которых означает
глубокое падение в хаос метафизики. Сила на нашей стороне,
нравственность на нашей стороне.
Ε. Ζ о 1 a, Le roman expérimental, P., 1881, p. 5—12,
22—30. Перевод G. Брахман.
ЭДМОН И ЖЮЛЬ ДЕ ГОНКУРЫ
1822—1896и 1830—1870
Начало литературной деятельности братьев Гонкур совпало с
государственным переворотом Луи Бонапарта, их первый роман вышел в свет 2 декабря
1851 года, и этим же числом помечена первая запись в их «Дневнике» — заме-
708
чательном литературном памятнике, сохранившем день за днем мысли и
наблюдения писателей, описания их жизни и жизни той литературной среды, в
которой они постоянно вращались. В этом дневнике встречается немало
высказываний и по разным проблемам эстетики.
Эпоха Второй империи характеризуется настроениями политического
разочарования и утратой революционного пафоса 1840-х годов. Гонкуры с самого
начала проявляют равнодушие к политическим проблемам. В своих
сочинениях по истории французского общества XVIII века они игнорируют
решающие события этого бурного времени. Их интересует повседневный быт эпохи,
характеристика общественных нравов, частная жизнь отдельных лиц.
Искусство рококо Гонкуры воспринимают как некий эквивалент течения «искусства
для искусства», характеризуя живопись Ватто и Фрагонара как истинную
«поэзию», способную вознестись над практическими интересами эпохи.
Гонкуры создали целый ряд романов, которые они также рассматривали
как своеобразную «историю нравов». В предисловии к роману «Жермини Ла-
серте» Гонкуры заявили о необходимости изображать в литературе жизнь
простого народа, и этот их творческий манифест сыграл большую роль в
дальнейшем развитии французского романа.
Гонкуры были в числе зачинателей натурализма, того литературного
течения, где позитивистское недоверие к «сущности» и «первопричине явлений»
становится основой творческого метода художника. Натурализм интересуется
точно установленными фактами, характеризующими определенную среду, ее
нравы, ее обыденную жизнь. Перспектива развития общества в целом неясна,
поэтому общественные явления рисуются статически, их можно и должно
изучать теми же методами, какими изучают природу, методами естественных
наук. Социальный конфликт уступает место конфликту между человеком и
природой, в частности его собственной природой — отсюда изучение болезни,
патологических задатков, наследственности. Роман строится как «история
болезни» с детальным, как в клинической записи, описанием фактов из жизни
героя. Эти факты обычно основаны на реальном происшествии, на
«человеческих документах». Речь идет не о художественном правдоподобии, а о
реальном факте, доказательство организовано не по законам искусства, а по
законам науки. Воображению не доверяют, ему предпочитают реальный
жизненный опыт, лучше всего личный опыт писателя. Отсюда связь натурализма с
импрессионизмом, где тоже все строится на личном опыте, но только речь
уже идет не о предмете, а о субъективном впечатлении от предмета. У
Гонкуров были очень сильны элементы импрессионизма — остро чувствующий,
рафинированный герой с его тонкими нервами, артистизм стиля, его акцент
переносится с содержания на необычность формы, на изящество мысли, на тонкость
суждения. В творчестве Гонкуров мы можем проследить, как отход от
реализма в сторону натурализма завершается субъективистскими устремлениями
импрессионизма.
709
ИЗ «ДНЕВНИКА» ГОНКУРОВ
1856 год, 16 июля
Прочли Эдгара По и открыли для себя многое такое, о чем
критики, видимо, и не подозревают. По — это новое в литературе, это
литература XX столетия: чудеса, обоснованные научно,
художественное созидание с помощью A H-В, литература в равной мере
маниакальная и математически точная. Воображение, исходящее из
анализа, Задиг в роли судебного следователя, Сирано де Бержерак,
прошедший выучку у Араго. И вещам отводится роль более
значительная, чем живым существам. И любовь, та, которую уже у
Бальзака понемногу стали вытеснять деньги,— любовь отступает перед
новыми источниками интереса. Словом, это роман будущего,
призванный стать скорее историей того, чем занят мозг людей, нежели
историей человеческого сердца.
1857 год, 6 июля
Салон живописи. Ни живописи, ни живописцев. Целая армия
охотников за остроумной выдумкой. В любой картине интрига
возмещает и подменяет композицию. Изобретательность не в
художественной манере, а в выборе сюжета. Литература кисти. Только
два идеала и волнуют этот мирок. Один из них анакреонтический:
какие-то логогрифы на темы Эроса, нанесенные на холст пыльцой
с крылышек ночной бабочки; мифология в серых тонах пополам
с сентиментальным и неумным простодушием, о котором античный
мир и представления не имел. Словом, великовозрастные детки
развлекаются, привязывая за лапку майских жуков к мрамору
Парфенона. Другой идеал — анекдот и исторический факт в водевильном
облачении. Вершиной изобретательности считается какой-нибудь
«Мольер, читающий «Мизантропа» у Нинон де Ланкло». Ни одной
искусной руки, ни одной злодейской «лапищи», чтобы овладеть
картиной, чтобы смело покрыть ее красками.
Одни лишь ремесленники, ловко крадущие успех на окольных
путях Поля Делароша, используя драму, комедию, притчу — все,
кроме живописи. Я не удивлюсь, если, идя по такому пути,— один
из предстоящих Салонов провозгласит шедевром такую картину,
где на фоне неба возникнет плохо намалеванная стена, а на ней
плакат с какой-нибудь остроумной надписью.
1859 год, 15 ноября
В тревожные для искусства времена, на исходе утративших
молодость столетий, когда отмирают благородные доктрины, а
искусство оказывается на распутье между низвергнутой традицией и тем,
710
что еще только нарождается, появляются беспечные декаденты,
чарующие, необычные, авантюристы линий и красок, которые идут на
любой риск, и находки их воображения отмечены не только
привлекательной порочностью, но и пленительной смелостью. Таков Оноре
Фрагонар — чудеснейший импровизатор среди живописцев.
По временам мне кажется, что Фрагонар и Дидро были отлиты
в одной и той же форме. У них одинаковое кипение чувств,
одинаковый жар души. Разве живопись Фрагонара не напоминает
страницы Дидро? Картины семьи, умиление по поводу природы,
непринужденное увлекательное повествование, и повсюду растроганность
сочетается с игривостью.
1860 год, 26 июня
«Горе произведениям искусства, если вся их красота нужна
только художникам» — такова величайшая из когда-либо изреченных
глупостей: автор ее — Д'Аламбер.
1861 год, январь
Книга, если ее создал не художник и не мыслитель, вообще не
книга.
Одна из главных особенностей наших романов та, что в
настоящее время они наиболее историчны, они доставят больше всего
фактов и правдивых истин истории нравов нашего века.
1862 год, 10 января
Искусство не одинаково, или, вернее, не существует одного-един-
ственного искусства. Японское искусство полно своей особой
красоты наряду с искусством греков. В сущности, что такое греческое
искусство? Это реализм прекрасного, строжайшее соблюдение
древнего «подражания природе», лишенного той идеализации, которую
ему приписывают профессора эстетики из Французского института,
ибо ватиканский «Торс» — это торс, по-человечески
переваривающий пищу, а не торс, питающийся амброзией, как хотел нас
уверить Винкельман.
Вместе с тем прекрасное у греков не включало ни мечты, ни
вымысла, ни тайны, словом, не было в нем того зерна опиума, которое
так туманит сознание зрителя, возбуждает галлюцинации, придает
искусству дразнящую загадочность.
1864 год, 13 сентября
Наблюдать мужчин, женщин, гостиные, улицы. Вечно изучать
жизнь людей и вещей, не стремясь тут же запечатлеть ее: в этом
и состоит начитанность современного писателя.
711
1864 год, 24 октября
Начиная с Бальзака роман не имеет ничего общего с тем, что
понимали под этим наши предки. Нынешний роман строится на
устных документах или на личных наблюдениях, подобно тому как
история строится на документах письменных. Историки —
повествователи о прошлом, романисты — повествователи о настоящем.
1865 год, 22 мая
Сейчас нас в жизни привлекает одно: волнение от познания
истины. Без этого лишь скука да пустота. Да, в меру наших сил мы
гальванизировали историю и сделали это правдиво, более правдиво,
чем другие, сумев при этом восстановить реальность. Но теперь
правда, которая умерла, больше ни о чем нам не говорит. Мы
смотрим на себя как на человека, который всегда рисовал восковые
фигуры и внезапно узрел живую обнаженную натуру, вернее, самое
жизнь с ее теплым телом и трепещущими внутренностями.
1865 год, 10 октября
Все истлевает и уходит, если нет искусства. Оно бальзамирует
гибнущую жизнь, и только там возникает крупица бессмертия, куда
искусство сумело дотянуться, описать, нарисовать, изваять.
1866 год, 6 декабря
Все переходит к народу и покидает монархов. Даже сочувствие
писателей, которые спускаются от королевских невзгод к невзгодам
частных лиц: от Приама к Бирото.
1867 год, 6 мая
В Ватикане. «Торс» — единственное в мире творение искусства,
которое произвело на нас впечатление совершенного и абсолютного
шедевра. Для нас он превыше всего, на тысячу голов выше Венеры
Милосской. Он укрепил нас в том мнении, которое и до этого было
нам инстинктивно присуще, что высшая красота — в точном
воспроизведении духа природы, что идеал, который пытались
воплотить в искусстве посредственные мастера, бессильные достичь
подобного воспроизведения, всегда ниже истины. Да, величавое и
божественное искусство, этот «Торс», почерпнувший свою красоту в
воспроизведении живой жизни, с этой мощной грудью, которая
дышит, с работающими мускулами, с трепещущими внутренностями
в животе, который переваривает пищу,— ибо в этом и состоит
красота, вопреки утверждению глупца Винкельмана, который думал
возвысить и облагородить этот шедевр, утверждая, что ватиканский
«Торс» не занят пищеварением.
712
Все остальное приводит нас в уныние, мы чувствуем себя подав*
ленными. Это уникальное творение рук человеческих, и после него
уже нечего желать.
1868 год, суббота, 1 августа
Художник может рисовать свою натуру не спеша, писатель
вынужден подкрадываться, как вор, и хватать ее на лету.
1868 год, 7 августа
Чистая литература, книга, написанная художником для
собственного удовлетворения,— этот жанр, видимо, скоро отомрет. Я не
вижу вокруг нас никого, кто работал бы в подобной манере, кроме
Флобера и нас, а когда нашей троицы не станет, я не вижу, кто бы
мог ее унаследовать.
1869 год, понедельник, 16 февраля
Никому еще не удавалось охарактеризовать наше дарование
романистов. Все дело в прихотливом и почти неповторимом
сочетании, в том, что мы одновременно и физиологи и поэты.
Journal de Concourt, P., 1888. Перевод A. Г. Ле-
винтона.
БИБЛИОГРАФИЯ
/. Общая литература
«История французской литературы», т. 2—3, М., Изд-во Акад. наук СССР, 1956—
1959.
«Литературные манифесты французских реалистов». Под ред. и со вступит, ст.
М. К. Клемана, Л., Изд-во писателей в Ленинграде, [1935], 205 стр.
Пти-де-Жюльвилль Л., Иллюстрированная история французской
литературы в XIX веке. Пер. Ю. А. Веселовского. С предисл. А. Н. Весе-
ловского, М., Прокопович, 1908, VI, 824 стр.
«Французский реалистический роман XIX века». Сборник статей под ред.
В. А. Десницкого, Л.—М., Гослитиздат, 1932, 239 стр.
В а 1 d е η s ρ erger F., La critique et l'histoire littéraire en France au XIXe
et au début du XXe siècle, N. Y., Brentano, 1945, 244 p.
В e u с h a t Ch., Histoire du naturalisme français, t. 1—2, P., Corrêa, 1949.
Bornée que J. H. et С о g η y P., Réalisme et naturalisme, P., Hachette,
[1958], 192 p.
Cassagne Α., La théorie de l'Art pour l'Art en France chez les derniers
romantiques et les premiers réalistes, P., Borbon, [1959], IX, 487 p.
С a s t e χ P.-G., La critique d'art en France, t. 1—2, P., Centre de
documentation univ., s. a.
С h e r f i 1 s C, L'esthétique positiviste. Exposé d'ensemble, P., Messein, 1909.
С о g η y P., Le naturalisme, 2 éd., P., Presses univ. de France, 1963, 126 p.
713
Deffoux L., Le naturalisme, P., Œuvres représentatives, 1929, 286 p.
Dumesnil R., Le réalisme et le naturalisme, P., Gigord, [1955], 452 p.
Fosca F., De Diderot à Valéry. Les écrivains et les arts visuels, P., Michel,
[1960], 296 p.
Guérard A. L., French civilisation in the XIX century, N. Y., Century,
1918.
Guichard L., La musique et les lettres au temps du wagnérisme, P.,
Presses univ. de France, 1963, bibl. p. 325—346.
Hautecœur L., Littérature et peinture en France du XVIIe au XXe siècle,
P., Colin, 1963, 358 p.
H é r a i η F., Peintres et sculpteurs — écrivains d'art, P., nouv. éd. latines,
[1960], 222 p.
H ure t J., Enquête sur l'évolution littéraire, P., Fasquelle, 1901, XXI, 455 p.
König R., Die naturalistische Ästhetik in Frankreich und ihre Auflösung,
Lpz., 1931, VII, 233 S.
Marti no P., Le naturalisme français (1870—1895). 5 éd., P., Colin, 1951,
220 p.
Mustoxidi Th. M., Histoire de l'esthétique française (1700—1900), P.,
Champion, 1920, LXIII, 240 p.
N e e d h a m H. Α., Le développement de l'esthétique en France et en
Angleterre au XIXe siècle, P., Champion, 1926, 323 p.
Rocheblave L., Le goût en France. Les arts et les lettres de 1600 à 1900,
P., Colin, 1923, 345 p.
Van Tieghem Ph., Les grandes doctrines littéraires en France, P., Presses
univ. de France, 1963, 302 p.
V i a 1 E. e t Denise L., Idées et doctrines littéraires au XIXe siècle, P.,
Delagrave, 1918.
II. Литература к отдельным авторам
Флобер
Сочинения:
Flaubert G., Œuvres complètes, t. 1—26, P., Conard, 1910—1954.
Flaubert G., Œuvres complètes. Texte établi par R. Descharmes, t. 1—14,
P., Librairie de France, 1921—1925 (Ed. du centenaire).
Flaubert G., Lettres choisies. Recueillies et préf. par R. Dumesnil, P.,
Wittemann, 1947, 155 p.
Flaubert G., Les plus belles lettres. Présentées par F. d'Eaubonne, P., Cal-
mann-Lévy, [1952], 158 p.
Флобер Г., Собрание сочинений в 10-ти томах. Под ред. А. В. Луначарского
и М. Д. Эйхенгольца, М., «Художественная литература», 1933—1938.
Вышло 8 томов.
Флобер Г., Собрание сочинений в 5-ти томах. [Вступит, статья А. Ф. Ива-
щенко], М., «Правда», 1956. (Б-ка «Огонек»).
Литература:
Елизарова M. Е., Флобер и Чехов. К проблеме эстетики и реализма 2-й
половины XIX в. в России и на Западе.— «Ученые записки Моск. пед. ин-та
им. В. И. Ленина», 1946, т. XXXII, стр. 55—71.
Иващенко А. Ф., Гюстав Флобер. Из истории реализма во Франции, М.,
Изд-во Акад. наук СССР, 1955, 491 стр.
714
Ре из о в Б. Г., Творчество Флобера, М., Гослитиздат, 1955, 524 стр.
Bart В. F., Flaubert's landscape descriptions, Ann Arbor, Univ. of Michigan
press, [1956], VII, 70 p.
В e s с h E., L'imagination et l'intuition chez Gustave Flaubert. L'esthétique
du roman.— «Revue philosophique», 1916, t. I, p. 563—594.
Binswanger P., Die aesthetische Problematik Flauberts, Frankfurt a/M.,
Klostermann, 1934, И, 183 S.
Boursiac L. G., Gustave Flaubert critique littéraire.— «Grande revue»,
1929, 25/VI1, p. 582—606.
В r u η e a u J., Les débuts littéraires de Gustave Flaubert. 1831—1845, P.,
Colin, 1962, 638 p.
Descharmes R. et Dumesnil R., Autour de Flaubert, t. 1—2, P.,
«Mercure de France», 1952.
Dumesnil R., Gustave Flaubert, 3 éd., P., Desclée de Brouwer, 1947, 538 p.
Dumesnil R. et Demorest D.-L., Bibliographie de Gustave Flaubert, P.,
Giraud-Badin, 1937, 360 p.
Fer г ère E.-L., L'esthétique de Gustave Flaubert, P., Conard, 1913, XII,
321 p.
F u s с ο Α., La filosophia dell'arte in Gustavo Flaubert, Messina, 1907.
Grappin H., La science dans l'esthétique de Flaubert.— «Revue du mois»,
t. V, 1908, 10/11, p. 175—192.
S e ζ η e с J., Flaubert and the graphic arts.— «Journal of the Warburg and
Courteauld institutes», v. Vlll, 1945, p. 175—190.
Thibaudet Α., Gustave Flaubert. 1821—1880. Sa vie, ses romans, son style,
P., NRF, 1935, 341 p.
Τ h о г 1 b y Α., Gustave Flaubert and the art of realism, New Haven, Yale univ.
press, 1957, 63 p.
Ζ unker L. D., Flauberts Kunsttheorie in ihrem Werden, Münster i. Westf.,
Helios-Verl., 1931, 81 S.
Мопассан
Сочинения:
Maupassant G. de, Œuvres complètes, t. 1—29, P., Conard, [1907—1910].
Maupassant G. de, Œuvres complètes illustrées, t. 1—15, P., Librairie
de France, 1934—1938.
Мопассан Г. д e, Полное собрание сочинений. Под общ. ред. Ю.
Данилина и П. Лебедева-Полянского, т. 1—13. М.т «Художественная литература»,
1938—1950.
Мопассан Г. де, Полное собрание сочинений в 12-ти томах, [Общ. ред.,
вступит, ст. и коммент. Ю. И. Данилина], М., «Правда», 1958. (Б-ка
«Огонек»).
Мопассан Г., Статьи о писателях. Пер. E. М. Шишмаревой. Коммент.
С. П. Емельяникова, М., Гослитиздат, 1957, 80 стр. (Массовая серия).
Литература:
Горфейн Ем Ги де Мопассан и литературное движение 1870-х годов.—
«Ученые записки Ленингр. ун-та», 1959, № 266, серия филол. наук, вып. 51,
стр. 135—159.
Данилин Ю. И., Мопассан. Критико-био графический очерк, М., Гослитиздат,
1951, 233 стр.
«История французской литературы», т. 3, М., Изд-во Акад. наук СССР, 1959,
стр. 191—232.
715
M е н и а л ь Э., Мопассан. Его жизнь и творчество. Пер. Н. П. Кашина, М.,
Клочков, 1910, VIII, 242 стр.
А г t i η i a η Α., Maupassant criticism in France. 1880—1940, N. Y., King,
1941, VIII, 228 p.
Délaissement G., Maupassant journaliste et chroniqueur, P., Albin
Michel, 1956, 302 p.
Dumesnil R., Guy de Maupassant, P., Tallandier, 1947, 284 p.
Lacaze-Duthiers G. de, Guy de Maupassant critique d'art.— «Revue
mondiale», t. GLXVI, 1925, 15/VII, p. 169—173,
Lécuyer R., Guy de Maupassant, critique d'art.—«Gaulois», 1925, 16 juil.
Letourneau R., Maupassant et sa conception de l'œuvre d'art.— «Revue
de l'univ. d'Ottawa», t. III, 1933, juil.— sept., p. 364—390.
M a y η i a 1 E., La vie et l'œuvre de Maupassant, P., «Mercure de France», 1907,
296 p.
Neubert F., Die kritischen Essays Guy de Maupassants, Jena — Lpz., Gro-
nau, 1919, 130 S.
V i a 1 Α., Guy de Maupassant et l'art du roman, P., Nizet, 1954, 640 p.
Шанфлёри
Сочинения:
Champ fleur у J. F., Le réalisme, P., Lévy, 1857, 320 p.
Ghampfleury J. F., Les vignettes romantiques. Histoire de la littérature
et de l'art. 1825—1840, P., Dentu, 18.83, VIII, 438 p.
Ghampfleury, Œuvres posthumes. Salons 1846—1851. Introd. de J. Trou-
bat, P., Lemerre, 1894, XV, 193 p.
Литература:
«История французской литературы», т. 2, M., Изд7во Акад. наук СССР, 1956,
стр. 605—616.
Реизов Б. Г., Шанфлёри ш реализм 50-х годов.— В кн.: «Французский
реалистический роман XIX века», М.—Л., 1932, стр. 67—92.
Шиллер Ф. П., История западноевропейской литературы нового времени,
т. 2, М., 1936, стр. 75—82.
Bouvier Ε., La bataille réaliste (1844—1857). Préf. de G. Lanson, P., Fon-
temoing, s. a., VII, 358 p.
Eude.l P., Champfleury, sa vie, son œuvre et ses collections, P., Sapin, 1891,
85 p.
M a η о 1 i u L., Aperçu sur Champfleury comme éclaireur et critique d'art,
P„ 1930.
Курбе
Сочинения:
Courbet G., Courbet raconté par lui-même et par ses amis, t. 1—2, Genève,
Cailler, 1948—1950.
Courbet G., Lettres de Gustave Courbet à Alfred Bruyas. Publ. par P. Borel,
Genève, Cailler, 1951, 140 p.
Литература:
Миллер В., Гюстав Курбе, Л., Изд-во Ленингр. обл. Союза сов. худ., 1935,
140 стр.
Тихомиров А. Н., Гюстав Курбе. 1819—1877, М.—Л., «Искусство», 1948,
44 стр.
Aragon L., L'exemple de Courbet, P., Cercle d'art, [1952], 211 p.
716
Boas G. ed., Courbet and the naturalistic movement, Baltimore, Hopkins,
1938, X, 140 p.
Gabelentz H.-G.r Courbet und der Realismus, Dresden, Verl. der Kunst,
[1956], 26 S.
Léger Ch., Courbet et son temps (Lettres et documents inédits), P., Ed.
universelles, [1948], 204 p.
Готье
Сочинения:
Gautier Th., Critique artistique et littéraire, P., Larousse, 1929.
Gautier T., Ecrivains et artistes romantiques, P., Tallandier, 1929.
Gautier T., Emaux et camées. Texte définitif suivi de Poésies, choisies. Avec
une esquisse biogr. et des notes par A. Boschot, P., Garnier, [1954], LXXXVII,
349 p.
Gautier T., Histoire du romantisme, P., Hatier, 1930.
Gautier T., Les plus belles lettres de T. Gautier. Présentées par P.
Descaves, P., Calmann-Lévy, [1962], 157 p.
Gautier T., La préface de Mademoiselle de Maupin. Ed. critique par G. Ma-
toré, P.. Droz, 1946, LXXVI1I, 105 p.
Готье T., Избранные стихи. Пер. В. Рождественского, Пг., «Мысль», 1923,
64 стр.
Готье Т., Золотое руно.·— Даниэль Жовар, или Обращение классика. Пер.
Г. В. Рубцовой.—В кн.: «Французская новелла XIX века», т. 1, М.—Л.,
1959, стр. 623—673.
Готье Т., Искусство (L'art).— Гиппопотам.— В кн.: Брюсов В., Поли.
собр. соч., т. XXI, Спб., 1913, стр. 61—64.
Готье Т., Капитан Фракас. Сокр. пер. Н. Касаткиной. [Вступит, ст.
А. Дейча], М., Детгиз, 1957, 318 стр.
Готье Т., Шарль Бодлер. Биография-характеристика. Пер. В. Изразцова,
Пг., 1915^ 69 стр.
Готье Т., Омали и камеи. Пер. Н. Гумилева, Спб., Попов, 1914, 246 стр.
Литература:
Белецкий А. И., Из истории шекспиризма. Теофиль Готье о комедиях
Шекспира, Харьков, 1916, 20 стр.
«История французской литературы», т. 2, М., Изд-во Акад. наук СССР, 1956,
стр. 326-329, 594-597.
Du Camp M., Théophile Gautier, 3 éd., P., Hachette, 1907, 200 p. (Les grands
écrivains français).
Larguier L., Théophile Gautier, P., Tallandier, 1948, 251 p.
L u i t ζ F., Die Aesthetik von Théophile Gautier, Freiburg i. В., Günter u.
Renner, [1913], 154 S.
Patch H., The dramatic criticism of Th. Gautier, Bryn Mawr, 1922, VIII,
165 p. Diss.
Spink G. W., Théophile Gautier architectural tastes.— «Modern language
review», 1960, July, № 3, p. 345—350.
Spoelberch de Lovenjoul Ch., Histoire des œuvres de Théophile
Gautier, т. 1—2, P., Charpentier, 1887.
Stavinohova Z., Gautier — critique de Delacroix (une page de la
critique d'art comme genre littéraire).— «Zagadnienia rodzajow literackich»,
t. 3, z. 2(5), 1960, s. 77—93.
Van der Tuin H., L'évolution psychologique, esthétique et littéraire de
Théophile Gautier, P., Nizet et Bastard, 1934, 309 p.
717
Леконт де Лиль
Сочинения:
Leconte de Lisle, Œuvres, t. 1—6, P., Lemerre, 1929.
Леконт де Лиль, Из четырех книг. Стихи. Пер. И. Поступальского.
[Под ред. Д. Бродского. Вступит, ст. Н. И. Балашова], М.,
Гослитиздат, 1960, 216 стр.
Литература:
Балашов Н. И., Леконт де Лиль.— В кн.: Леконт де Лиль, Из
четырех книг. Стихи, М., 1960, стр. 5—24.
Брюсов В. Я., Очерк французской лирики XIX века.— В кн.: Б ρ го-
сов В., Поли. собр. соч., т. XXI, Спб., 1913, стр. 252—253.
«История французской литературы», т. 2, М., Изд-во Акад. наук СССР, 1956,
стр. 582—594.
Рыкова Н., Леконт де Лиль. 1818—1894.— В кн.: 9 τ к и н д Е. Г. (сост.),
Писатели Франции, М., 1964, стр. 489—496.
Behrens R., Three poets in search of beauty.— «Midwest quarterly», 1962,
oct., № 1, p. 11—21.
Boris R., Leconte de Lisle et les musiciens.— «Revue d'histoire littéraire
de la France», 1958, avril —juin, N 2, p. 215—220.
Cassagne Α., La théorie de l'Art pour l'Art en France chez les derniers
romantiques et les premiers réalistes, P., Borbon, [1959], IX, 487 p.
Desonay F., Le rêve hellénique chez les poètes parnassiens, P., Champion,
1928, XXXII, 429 p.
Flottes P., Leconte de Lisle, P., Hatier-Boivin, 1954, 159 p.
G u y a u J.-M., L'art au point de vue sociologique, P., Alcan, 1926, 388 p.
Martino P., Parnasse et symbolisme (1850—1900), 4 éd., P., Colin, 1935,
220 p.
Putter L., Leconte de Lisle et l'hellénisme.— «Cahiers de l'Association
internationale des études françaises», 1958, mai, N 10, p. 174—199.
Rosenbauer Α., Leconte de Lisle's Weltanschauung, Bd. 1—2,
Regensburg, Meyer, 1911—1912.
Vincent F., Les parnassiens. L'esthétique de l'école. Les œuvres et les
hommes, P., Beauchesne, 1933, 318 p.
Бодлер
Сочинения:
Baudelaire Gh., Œuvres complètes, éd. par J. Crépet et G. Pichois, t. [1—
19], P., [1922] — 1953.
Baudelaire Ch., Baudelaire critique d'art. Textes et documents
présentés et rassemblés par B. Gheerbrant, P., Club des libr. de France, 1956.
(Coll. Destins de l'art. 3).
Baudelaire Ch., Critique littéraire et musicale. Texte établi et présenté
par С Pichois, P., Colin, [1961], 483 p.
Baudelaire Ch., Curiosités esthe'tiques. L'art romantique et autres œuvres
critiques, P., Garnier, 1962, LXXXII, 956 p.
Baudelaire Gh., Correspondance générale, recueillie, classée et annotée
par J. Crépet, t. 1—6, P., Conard — Lambert, 1947—1953.
Литература:
Балашов H. И., Творчество Бодлера.— В кн.: «История французской
литературы», т. 2, М., 1956, стр. 567—582.
718
Горький Α. M., Несобранные литературно-критические статьи, M., 1941,
стр. 234—235.
Г о τ ь е Т., Шарль Бодлер. Биография-характеристика. Пер. В. Изразцова,
Пг., 1915, 69 стр.
G a s t e χ P.-G., La critique d'art en France au XIXe siècle, t. I. Baudelaire,
P., Centre de documentation univ., s. a., 80 p.
F e r r a η Α., Baudelaire et la musique.— In: «Mélanges de philologie et d'histoire
littéraire offerts à Edmond Huguet», P., 1940, p. 387—393.
F e r r a η Α., L'esthétique de Baudelaire, P., Hachette, 1933, XII, 734 p.
Oilman M., Baudelaire. The critic, N. Y., Columbia univ. press, 1943, VII,
264 p.
Horner L., Baudelaire, critique de Delacroix, Genève, Droz, 1956, X, 200 p.
Huyghe R., L'esthétique de l'individualisme à travers Delacroix et
Baudelaire, Oxford, Clarendon press, 1955.
Lévy О., Baudelaire, jèho estetika a technika, Brno, 1947, 414 s. (Spisy filo-
sof. fak. Masarykovy univ. ν Brne. Ç. 45).
Mauclair C, Le génie de Baudelaire. Poète, penseur, esthéticien, [P.],
Nouv. rev. critique, [1933], 235 p.
May G., Diderot et Baudelaire critiques d'art, Genève, Droz, P., Minard, 1957,
195 p.
M о u q u e t J. et В a η d y W. T., Baudelaire en 1848, P., Emile-Paul, 1946,
340 p.
R u f f M.-Α., L'esprit du mal et l'esthétique baudelairienne, P., Colin, 1955,
491 p.
Sartre J.-P., Baudelaire, 22 éd., [P.], Gallimard, [1946], 223 p.
T a b a r a η t Α., La vie artistique au temps de Baudelaire, [P.], «Mercure de
France», [1963], 457 p.
Van Tieghem Ph., Baudelaire, théoricien de l'art.— In: V a η Τ ι e g-
hem Ph., Les grandes doctrines littéraires en France, P., 1963, p. 243—
250.
Золя
Сочинения:
Zola E., Œuvres complètes, P., Bernouard, 1928—1929 (Correspondance.—
Mélanges. Préfaces et discours.— Le roman expérimental.— Documents
littéraires.— Mes haines.— Le naturalisme au théâtre.— Nos auteurs
dramatiques.— Les romanciers naturalistes).
Zola E., Salons. Recueillis, annot. et présentés par F. W. J. Hemmings et
R. J. Niessetpréc. d'une étude sur Emile Zola critique d'art de F. W. J.
Hemmings, Genève, Droz; P., Minard, 1959, 279 p.
Золя Э., Полное собрание сочинений. Под ред. М. В. Лучицкой, т. 44—48,
Киев, Фукс, 1903—1904.
Золя 9., Избранные произведения. [Предисл. А. Пузикова. Ред. пер. и лит.
коммент. М. Эйхенгольца], М., Гослитиздат, 1953, 715 стр.
Литература:
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., 1957, стр. И.
«В. И. Ленин о литературе и искусстве», М., Гослитиздат, 1960, стр. 620,
626.
Алейникова Н., О некоторых вопросах натурализма и об отношении
к ним Э. Золя.— «Ученые записки Киргиз, ун-та, филол. фак.», вып. 4,
1957, стр. 3-30.
719
Барбюс Α., Золя. Пер. Т. И. Глебовой. Вступит, ст. А. В, Луначарского,
М., Гослитиздат, 1933, 222 стр.
Буров А И., Марксистско-ленинская эстетика против натурализма в
искусстве.— «Вопросы философии», 1950, № 1, стр. 117—138.
Гальперина Е., Золя и его эпоха.— «Красная новь», 1940, № 7—8,
стр. 242—255.
Гоффеншефер В., Поль Лафарг и критика натурализма.— «Вопросы
литературы», 1957, № 5, стр. 8—39.
Клеман М. К., Эмиль Золя. Сборник статей, Л., Гослитиздат, 1934, 304 стр.
Клеман М. и Реизов Б., Эмиль Золя. 1840—1940, Л., Гослитиздат,
1940, 176 стр.
Клеман М., Творчество Эмиля Золя и теория научного романа.—
«Литературная учеба», 1931, №7, стр. 34—52.
M е ρ и н г Ф., Эмиль Золя.—В кн.: Мерин г Ф.,
Литературно-критические статьи, т. II, М.—Л., 1934, стр. 244—248.
Португалова М. Г., Золя о романтическом театре.— В кн.: «О театре»,
Л.—М., 1940, стр. 74—86.
Реизов Б. Г., Вопросы эстетики Золя.— «Ученые записки Ленингр.
ун-та», № 181, сер. филол. наук, вып. 22, 1955, стр. 197—234.
Тихомиров Α., Золя и импрессионизм.— «Искусство», 1939, № 5,
стр. 83—101.
Э йхенгольц М., Творческая лаборатория Золя (Творческий опыт
классиков), М., «Советский писатель», 1940, 232' стр.
В ai Ilot Α., Emile Zola. L'homme, le penseur, le critique, P., Vrin, 1924,
190 p.
Carol-Bérard, L'intelligence musicale de Zola.— «Revue des revues»,
1923, 155, p. 187—193.
D о u с e t F., L'esthétique de Zola et son application à la critique, La Haye,
1923, 360 p., bibl. p. 347-355.
Fréville J., Zola, semeur d'orages, P., Ed. sociales, [1952], 162 p.
H e 1 f e r i с h H., Zola, als Kunstkritiker.— «Zukunft», Bd. 41, 1902, S. 65—75.
Hemmings F. W., Emile Zola, Oxford, Clarendon press, 1953, 308 p.
Rewald J., Cézanne et Zola, P., Sedrowski, 1936, XIII, 202 p.
Robert C, Emile Zola. Principes es caractères généraux de son œuvre, P.,
Belles lettres, [1952], 205 p.
Schober R., Zola's ästhetische Auseinandersetzung mit
Balzac—«Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Geselschafts-
und Sprachwissenschaftliche Reihe», 1955—1956, H. 2, S. 123—138.
S ο η d e 1 В. S., Zola's naturalistic theory with particular reference to the drama,
Chicago, univ. press, 1939, p. 14—71. Diss.
Vicaire G., L'esthétique d'Emile Zola.—«Revue des deux mondes», 1924,
21, p. 810—832.
Гонкуры
Сочинения:
Goncourt E. et J., L'art du dix-huitième siècle. Ed. définitive, publ. sous
la direction de l'Acad. Goncourt, t. 1—3, P., Flammarion, 1927—1928.
Goncourt E. et J., Gavarni, l'homme et l'œuvre. Postface de G. Geffroy.
Ed. définitive, publ. sous la direction de l'Acad. Goncourt, P., Flammarion,
1925, 377 p.
Goncourt E., Hokousaï. L'art japonais au XVIIIe siècle. Postface de L. Hen-
nique. Ed. définitive publ. sous la direction de l'Acad. Goncourt, P.,
Flammarion, 1922, 308 p.
Goncourt È., Outamaro, le peintre des maisons vertes. L'art japonais au
720
XVIIIe siècle. Postface de J.-H. Rosny jeune. Ed. définitive publ. sous la
direction de l'Acad. Goncourt, P., Flammarion, 1924, 276 p.
Goncourt E. et J., Préfaces et manifestes littéraires. Postface de J. Ajal-
bert. Ed. définitive publ. sous la direction de l'Acad. Goncourt, P.,
Flammarion, 1926, 248 p.
Goncourt E. et J., Journal. Mémoires de la vie littéraire. Avant-
propos de l'Acad. Goncourt, t. 1—22, Monaco, Ed. de l'impr. naL, 1956—
1958.
Goncourt J., Lettres. Introd. d'H. Céard. Ed. définitive, publ. sous la
direction de l'Acad. Goncourt, P.7 Flammarion, 1930, 357 p.
Γ ο h к y ρ Э. и Ж., Дневник братьев Гонкур. Пер. Е. К., Спб., ред. журн.
«Северный вестник», 1898, II, 220 стр.
Гонкур Э. и Ж. д е, Дневник. Записки о литературной жизни. Избранные
страницы. [Сост. и коммент. С. Лейбович. Вступит, ст. В. Шора. Ред.
пер. В. Дынник], т. 1—2, М., «Художественная литература», 1964.
Гонкур Э. и Ж. д е, Жермини Ласерте.— Актриса.— Отрывки из
«Дневника». [Пер., вступит, ст. и примеч. Н. Я. Рыковой], Л., Лениздат,
1961, 663 стр.
Литература:
Л о к с К., Реализм и эстетика.— «Литературный критик», 1933, № 5, стр.
139—141.
Михайлов К. К., Братья Гонкуры.— В кн.: «Французский
реалистический роман XIX века», Л.—М., 1932, стр. 123—141.
Шор В. Е., Гонкуры и «Неистовая словесность».— «Ученые записки Ленингр.
ун-та», № 64, сер. филол. наук, вып. 8, 1941, стр. 172—185.
Billy Α., Les frères Goncourt. La vie littéraire à Paris pendant la 2-me moitié
du XIXe siècle, P., Flammarion, 1954, 518 p.
Billy Α., Vie des frères Goncourt, t. 1—3, Monaco, Ed. de Pimp, nat., 1956.
Cast ex P.-G., La critique d'art en France t au XIXe siècle, t. II, P., Centre
de documentation univ., s. a., p. 141—157.
D e 1 ζ a η t Α., Les Goncourt, P., Charpentier, 1889, 378 p.
Fosca F., Edmond et Jules de Goncourt, P., Michel, [1941], 460 p.
Friedrich H., Die literarischen Theorien der Goncourt, Lahr, Schauenburg,
1910, 75 S. Diss.
К о e h 1 e r E., Edmond und Jules de Goncourt, die Begründer des
Impressionismus. Eine stilgeschichtliche Studie zur Literatur und Malerei des
neunzehnten Jahrhunderts, Lpz., Xenien-Verl., 1911, 284 S.
La lo Ch., L'art et la vie, t. 2, P., Vrin, 1947, 323 p.
Leçon te G., Les Goncourt critiques d'art.—«Revue de Paris», 1894, N 11,
p. 201—224.
Ricatte R., La création romanesque chez les Goncourt, P., Colin, 1953, 494 p.
S a b a t i e r P., L'esthétique des Goncourt, P., Nizet et Bastard, 1934, 632 p.
ΚΤΕΤΚΚΑ
ФРАНЦУЗ С КОГО
Π03ΚΤ"ΗΓΒΚ|3ΜΑ
олоссальный прогресс науки в XIX веке стихийно
толкал общественную мысль к
материалистическим выводам. С другой стороны, растущая
реакционность буржуазной идеологии, ее страх перед
организованным революционным движением
пролетариата ставит на этом пути большие
препятствия. Возникала потребность в «партии
середины», такой философской школе, которая по
видимости боролась бы с идеализмом и религией, а по
существу конкурировала с подлинно научным мышлением,
последовательным материализмом. Такой «партией середины» и оказался
позитивизм, зародившийся во Франции в 1820—1830-е годы и
ставший впоследствии одной из наиболее влиятельных школ
буржуазной философии.
Родоначальник позитивизма Огюст Конт полагал, что основной
философский вопрос об отношении бытия и сознания является
праздной метафизикой, продуктом умственной незрелости.
Человека?
чество, по мнению Конта, должно ставить перед собой лишь такие
проблемы, решение которых носит безусловный характер, не
выходя из сферы чувственного опыта, подвергнутого рациональной
обработке. Истины, добытые математикой, бесспорны. Так же
бесспорны законы естественных наук: астрономии, физики, химии,
биологии. Между тем вопрос о первопричине и конечной цели
различных процессов, вопрос о сущности этих процессов не могут быть
решены с той же бесспорностью. По мнению Конта, их и ставить
не следует. Надо оставаться в кругу явлений и фактов, отмечая
в качестве законов функциональные отношения последовательности
и подобия отдельных явлений. Тем самым философия утрачивает
свой обобщающий характер и, по существу, перестает быть
философией. Она сводится к сумме частных наук, вернее, к системе этих
наук, ибо для Конта принципиально важной была их
последовательность. Он полагает, что познавательный процесс должен идти от
математики, через естественные науки, к наукам общественным.
Последние должны усвоить методологию и опыт первых и как бы
перенять их обоснованность и точность. Конт стремился открыть
«социальную физику», которую он иначе назвал «социологией»
(позднее этот термин вошел во всеобщее употребление). Когда наука
об обществе приобретет столь же бесспорный характер, какой уже
сейчас имеют, думал Конт, науки естественные, откроется путь к
идеальной организации общества. Тогда человечество могучей рукой
двинет вперед технический прогресс, раскроет неисчерпаемые
кладовые природы и придет ко всеобщему изобилию. В этих условиях
борьба между классами и отдельными людьми за земные блага
утратит всякий смысл. На смену нынешнему эгоизму придет новая
мораль, основанная на гармонии интересов, на «духе целого», то есть
на примате общих целей над частными, на альтруизме. Слово
«альтруизм» было введено Контом и означало «жизнь для других»,
полный отказ от эгоистических интересов.
В этих идеях еще ощущается влияние утопического социализма.
Конт некоторое время работал секретарем у Сен-Симона, и
общение с великим утопистом оказало заметное влияние на будущего
главу позитивистской школы. Однако у Конта идеи Сен-Симона
принимают специфически буржуазную интерпретацию. Согласно
учению позитивистов, в предвидении будущей эволюции
пролетариат должен уже сейчас отказаться от классовой борьбы и, следуя
принципу «жить для других», самоотверженно приносить свои
интересы в жертву прогрессу. «Любовь как принцип, порядок как
основа и прогресс как цель» — таков девиз основателя этой
философской школы. Борьба против революционного мировоззрения
проводилась с неумолимой последовательностью. Выступая против тео-
24*
723
логии, борясь против власти религии над умами людей, Конт
создает свою собственную позитивистскую религию, где божеством
является человечество, а святыми — великие деятели науки.
Возникает позитивистская церковь со своими обрядами, и во имя этой
организации Конт готов был вступить в союз с реакционными
монархами Европы и даже с орденом иезуитов. Борясь против старого
идеализма, Конт объективно подрывал позиции материалистического
учения. Не случайно на основе позитивизма вырос впоследствии
субъективный идеализм Маха и Авенариуса.
В области эстетики Конт ратует за искусство, отражающее
современность, реалистическое по своим приемам. Он полемизирует
с эпигонами классицизма, объявляет устаревшим античный идеал
человека-воина, превозносит Байрона как первого поэта,
отразившего в своем творчестве проблемы нового времени. Конт выступает
за отражение в искусстве труда, успехов науки, борьбы человека
против стихийных сил природы. Однако главное острие
позитивистской эстетики направлено против революционного бунтарства,
общественной критики и социальной борьбы в искусстве, то есть, в
сущности, против критического реализма. Конт, правда, требует
от искусства верности факту, но это бескрылый факт, не
одухотворенный идеей борьбы. Подобно тому как в теории познания
полемика с «метафизикой», отказ от философского обобщения приводят
Конта к отказу от философии вообще, так и в эстетике, а вслед
за тем и в художественной практике его последователей поиски
человеческих документов, частных наблюдений, слепое накопление
фактического материала приводят к отказу от художественного
обобщения, к натуралистическому копированию поверхности
явлений. Позитивизм стал философской основой натурализма, который
при всей противоречивости его практики является шагом назад по
сравнению с классическим реализмом.
Другое требование Конта — перенесение в эстетику метода
естественных наук — было широко использовано его учениками и
продолжателями Ипполитом Тэном и Фердинандом Брюнетьером.
Более поздние, еще более консервативные, чем Конт, эти философы
совершенно чужды идеям утопического золотого века. Весь
исследовательский пафос Тэна заключается в подчеркнуто бесстрастном
объективизме, приверженности фактам, стремлении объяснить
эти факты по аналогии с явлениями естественной истории.
Произведение искусства он сравнивает с растением, пытаясь уяснить
природу его из «окружающей среды». Подобно тому как характер
растения определяется климатической зоной, в которой оно
произрастает, сочетанием обычных для этой зоны температуры и
влажности, так и появление тех или иных произведений искусства связано
724
с соответствующей «духовной температурой», с тем «состоянием
умов и нравов», в котором пребывает данный народ в данную эпоху.
Именно это «состояние умов и нравов» определяет собой
мировоззрение как целых художественных направлений, так и отдельных
художников и даже каждого отдельного порождения их таланта.
Аналогичным образом апеллирует к естествознанию и Брюне-
тьер, сравнивая историю жанров в литературе или в искусстве с
эволюцией животных и растительных видов в природе и утверждая, что
среди жанров, так же как и среди живых существ, наличествуют
«борьба за существование», «естественный отбор» и «выживание
наиболее приспособленных».
Эстетику позитивизма Тэн сравнивает с ботаникой, подчеркивая
ее полнейший объективизм. Эстетика не судит и не дает никаких
оценок. Она излагает факты истории искусств, не отдавая
предпочтения одному течению перед другим, как ботаник, бесстрастно
регистрирующий отдельные роды и виды растений. Эта концепция,
подкупавшая умы своей борьбой против догматизма в эстетике, на
деле лишала эстетическую мысль ее общественного содержания,
оружия критики.
А. Г. ЛЕВИНТОН
конт
1798—1857
Основатель позитивизма Огюст Конт родился в Монпелье в семье
сборщика податей и обучался в местном лицее. В 1814 году он переехал в Париж
и поступил в Политехническую школу, где изучал математику, естественные
и политические дисциплины. В результате конфликта студентов с
администрацией Конт был исключен из Политехнической школы и завершил свое
образование самостоятельно. Он жил частными уроками, затем работал
экзаменатором в Политехнической школе, но поссорился с влиятельными профессорами
и вынужден был в дальнейшем жить на пожертвования, собираемые
почитателями его учения.
В 1827 году Конт читает у себя на дому лекции, в которых были
сформулированы основные черты его будущей системы. С 1830 по 1842 год печатается
его основная работа — «Курс позитивной философии» в шести томах, где эта
система получила развернутое выражение. В 1845 году он приходит к мысли,
что его система наилучшим образом дойдет до людей, если ее дополнит
проповедь новой позитивистской религии, которая строится на культе человека.
Род человеческий эта религия мыслит как коллективное «великое
существо», начало которого находится в отдаленном прошлом, а конец в не менее
725
отдаленном будущем. Эти идеи изложены в четырехтомном труде «Система
позитивной политики». Среди сторонников Конта его неожиданный поворот
к религии вызвал раскол. Одна группа, во главе с Пьером Лафитом (1823—
1903), восприняла полностью все учение Конта; другая, во главе с Эмилем Литре
(1801—1881), принимает Конта только до 1845 года, отвергая все последующее.
В приводимом ниже отрывке из «Курса позитивной философии» Конта
речь идет о роли искусства в истории человечества и о его грядущей судьбе.
Конт утверждает, что мышление человеческое в своем развитии проходит через
три стадии: теологическую, метафизическую и научную. На первой стадии оно
пытается определить «первопричину» всех явлений и находит ее в образе
божественной силы. На второй стадии внимание человека привлекает «сущность»,
которая должна объяснить природу явления. И только на третьей, научной
или позитивной стадии человек убеждается в недостижимости абсолютного
познания, отказывается от постижения первопричины и конечных целей, от
исследования внутренней сущности вещей и начинает изучать один только мир
явлений в его доступных чувству фактах и связях. История человечества
также распадается на три периода: военный, переходный и
научно-промышленный. В первую эпоху господствует теологическое мышление, и эта эпоха в свою
очередь распадается на три периода: фетишизм, политеизм и монотеизм. В
период фетишизма человеческое мышление наделяет жизнью все внешние
предметы — это период расцвета подражательных искусств и танца, что
символизирует победу чувства над животным инстинктом. На следующей стадии чувство
вытесняется воображением, что влечет за собой расцвет изящных искусств.
Это эпоха античного политеизма, где формы общественной жизни приняли, по
выражению Конта, отчетливый и устойчивый характер. Поэтому искусство,
которое призвано изображать нравственную и социальную жизнь человека, не
только имело в эту эпоху благодарный материал и отличных исполнителей, но
играло видную роль в общественной структуре, идеализируя доблести героя
античного полиса и сложившиеся формы жизни. В дальнейшем, в средние
века, в эпоху христианского монотеизма, искусство утрачивает свою власть над
человеческим разумом. Под угрозу ставится самое существование искусства,
хотя и в этот период и в последующую, переходную эпоху создается пемало
превосходных художественных произведений. В наступивших неблагоприятных
условиях художники то и дело с тоской вспоминают об античности и пытаются
втиснуть в устаревшие формы живой материал современности. Зато с
наступлением новой, промышленной эпохи, в период торжества науки и позитивной
философии перед искусством открываются самые заманчивые перспективы.
Оно будет воспевать уже не доблесть и силу военных героев, но красоту
мирного труда, победу человека над силами природы и те чудеса социальной
организации, к которым приведет человека позитивное мышление. Идеализация
новых общественных отношений превратится в гражданскую функцию
искусства, благодаря ей оно будет нужно обществу и займет законное место в его
структуре, в одном ряду с другими формами идеологии.
726
Совершенно очевидно, что эти предсказанные Контом перемены, равно
как и вся утопия Конта по поводу будущего развития капиталистического
общества, не имели под собой никакой научной почвы и совершенно не
соответствовали реальной участи искусства в эпоху капитализма. Однако в
косвенной форме они отражают подъем буржуазной демократии, науки и техники
как предварительную ступень к великим социальным переворотам нашего
времени и назревшую потребность в новых условиях для развития
художественного творчества.
КУРС ПОЗИТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ
Том 6. Глава шестидесятая и последняя
Рассматривая общий ход истории человечества, я достаточно
подчеркнул, особенно в главах пятьдесят третьей и пятьдесят
шестой, ту ведущую роль, как статическую, так и динамическую,
которая отводится эстетическим переживаниям во всей совокупности
нашего бытия, касается ли это отдельного индивидуума или целого
коллектива, где их благотворное воздействие, как бы
промежуточное между теоретическим интересом и практическим побуждением,
должно постоянно захватывать и вести к совершенству как самые
заурядные, так и наиболее выдающиеся натуры, возвышая первые
и смягчая последние. В этом простейшем аспекте, который
становится все более и более важным по мере развития новейшей
философии, изящные искусства несомненно многое выиграют от
окончательного торжества позитивного строя, ибо он подыщет им до-
стойное место в социальной структуре, тогда как до сих пор они, по
существу, оставались за ее пределами. Мы, впрочем, согласились
в главе пятьдесят восьмой, что полное господство гуманных
взглядов и сопутствующее этому высокое развитие духа целого создадут
исключительно благоприятные условия для всеобщего расцвета
эстетических способностей как в той умеренной степени, которая
необходима для развития хорошего вкуса, так и в той интенсивной мере,
которая образует подлинный талант.
Завершая исторический обзор, мы отметили у древних и у
новых авторов, что для полноты подобного развития общественная
жизнь должна удовлетворять двойному условию, а именно,
необходимо, чтобы развивающиеся общественные связи были в одно и то
же время четко выраженными и глубоко устойчивыми. Все эти
разнохарактерные факторы, а их влияние в дальнейшем может
лишь возрасти, приведут к тому, что, вопреки предубеждениям,
которые удержатся, впрочем, лишь на стадии предварительной
работы, передовые умы уже очень скоро почувствуют, какие огромные
эстетические ресурсы скрыты в нашем реальном будущем.
727
До сих пор, как я уже объяснял, многочисленные духовные и
социальные условия подлинного расцвета изящных искусств могли
встретить необходимое сочетание лишь во времена античного
политеизма, где им особенно благоприятствовала общественная жизнь,
сформировавшаяся в отчетливых и весьма устойчивых формах,
характеризующаяся энергичным развитием военного строя,
идеализация которого в наше время уже исчерпала себя во всех отношениях.
Зато не исчерпана еще идеализация мирной и трудовой
деятельности, присущая современной цивилизации; до сих пор эту едва
развернувшуюся деятельность не успели должным образом эстетически
оценить, ибо не было соответствующего ее природе философского
направления и отсутствовала необходимая политическая
устойчивость. Таким образом, современное искусство, так же так
современная наука и даже промышленность, не только далеки от старости,
но, по существу, не успели еще сформироваться, ибо не могли в
достаточной мере высвободиться от античных норм, и эти последние,
несмотря на весь свой анахронизм, сохраняют временное
преобладание в условиях нашего затянувшегося переходного периода.
Блистательные творения последних пяти столетий, без всякого
сомнения, неопровержимо доказывают, что, вопреки существующим
нелепым предрассудкам, эстетические способности человечества не
только не убывают, но еще более совершенствуются, несмотря на то,
что окружающая среда для них в высшей степени неблагоприятна.
Тем не менее по сравнению с будущим мы должны всю сумму этих
творений оценить всего лишь как некую естественную подготовку,
тем более что самые оригинальные и наиболее популярные из них по
необходимости сводились к изображению частной жизни, поскольку
общественная жизнь не давала для их создания подходящего
материала. По мере того как ближайшее будущее раскроет наконец
подлинный характер современного строя, интеллектуальный,
нравственный и политический, можно с уверенностью предсказать, что
этот новый строй обретет вскоре устойчивую идеализацию. Нельзя
последовательно пропагандировать двоякое чувство истины и добра,
не вызывая в то же время чувства красоты, которое, во всех его
видах, есть ведь не что иное, как инстинктивная способность
мгновенно различать совершенство. Вот почему это чувство также
возникает повсеместно, ибо это последнее из главных следствий
позитивной философии по своей природе теснейшим образом связано
с тремя другими, рассмотренными выше. Впрочем, систематическое
возрождение всех гуманных концепций несомненно создаст новые
философские пути, способствующие расцвету эстетики, уже ныне
обретшей возвышенную цель и устойчивый стимул. Чтобы лучше
почувствовать всю* важность этого утверждения, следует признать
728
откровенно, что теологическая философия с ее стихийным
универсальным возвеличиванием человеческого образа — а в этом и
кроется ее истинный внутренний смысл,— по-видимому, долгое время
благоприятствовала непосредственному взлету воображения. Однако
эта первичная способность держалась лишь в эпоху политеизма. Как
я уже подробно объяснял, монотеистический упадок настолько
подорвал ее, что она могла сохраниться лишь с помощью особых
уловок, позволивших в разгар воинствующего христианства сохранить
столь противоречащее ему влияние главной религиозной эпохи.
Поэтому можно считать, что концепция божества или, точнее, богов
в эстетическом отношении уже давно оказалась еще более
немощной, чем она представляется нам в плане интеллектуальном или
даже социальном.
Что же до пустой абстракции природы, которой метафизика
пыталась заменить эту первоначальную веру, то органически
присущая ей полная бесплодность столь же очевидна в поэзии, как и в
философии или в политике. Не удивительно, если смутное
ощущение этого двойного пробела часто приводило к тому выводу, что
духовные ресурсы искусства, по существу, исчерпаны. Так
полагали люди, которые в глубине души не были по-настоящему
убеждены в несокрушимой внутренней необходимости эстетических
переживаний и поэтому вынуждены были преувеличивать роль
интеллектуальных стимулов, о которых они, впрочем, также имели
совершенно недостаточное представление.
Поверхностное наблюдение не воспринимало положительных
сторон современного прогресса с той отчетливой ясностью, с какой
оно видело его отрицательные стороны, которыми до сих пор и
ограничивалось его изучение; вот почему в этом вопросе, как и во
всех остальных, оно слишком часто заводило в своеобразный
философский тупик тех мыслителей, которые были к тому же достаточно
проницательны, чтобы ощутить полную невозможность реального
возврата к старому. Напротив, рассматриваемая в целом здравая
историческая доктрина, которой всегда, в том числе и по
настоящему вопросу, открыто придерживались мы, предполагает наряду
с процессом разрушения и нарастающий процесс созидания.
Главный философский итог этого двойного процесса заключается в
естественном слиянии всех современных концепций в одно великое
понятие «человечество», которое в своем окончательном торжестве
должно во всех отношениях возместить утрату античного теолого-
метафизического сочетания. Ведь эта новая духовная общность,
неизбежно более полная и устойчивая, чем всякая иная, после того
как она по-настоящему восторжествует, как мы только что
объяснили, должна без всяких уловок привести к неслыханному расцвету
729
эстетических способностей. Такая высокая сила воздействия должна
вскоре превысить все, что было создано теологической доктриной
даже в период ее политеистического расцвета. Ибо если искусство,
которое повсюду видит или ищет человека, должно было на этом
основании долгое время сочувствовать первичной философской
системе, которая подсунула ему во всех отношениях ложную идею,
оно в конечном итоге гораздо лучше воспримет хорошо
обоснованную доктрину, где вместо этого химерического и косвенного
представления ему будет дано действенное и прямое понятие
превосходства человека над всеми прочими объектами наших обычных
умозрений, к тому же ограниченное ранее не известным требованием
реальности.
Для умеющих это оценить, бесспорно, возникнет неисчерпаемый
источник нового поэтического величия в позитивистской концепции
человека как верховного владыки царства природы, которое он все
время изменяет в своих интересах с мудрой решимостью, будучи
начисто свободен от всяких пустых угрызений и от подавленного
страха, не признавая никаких общих ограничений, за исключением
системы положительных законов, открывшихся его деятельному
разуму, тогда как до сих пор человечество, напротив, во всех
отношениях пассивно покорялось произволу внешней направляющей
силы, от которой зависело любое его начинание. Воздействие
человека на природу, пока еще, впрочем, весьма несовершенное, смогло
по-настоящему проявиться лишь в нашу современную эпоху как
конечный результат мучительной социальной эволюции, спустя
долгое время после того как эстетический расцвет, соответствующий
первичной философии, видимо, в основном исчерпал себя, так что
она уже ныне неспособна поддержать какую бы то ни было
идеализацию. Безрассудно имитируя поэзию древних, современное
искусство продолжает воспевать чудесную мудрость природы даже
после того, как естественные науки прямо установили крайнее
несовершенство во всех важнейших аспектах этого столь
превозносимого порядка. Сейчас, когда теологическое или метафизическое
ослепление не мешают истинному суждению, каждый видит, что
человеческие творения, от простейших механизмов до величавых
политических учреждений, в общем значительно превосходят по своей
целесообразности и простоте все, что может предложить самое
совершенное стихийное созидание, при котором и прежде лишь
внушительные размеры оказывались обычно главным поводом для
восхищения. Дивные творения человека, покорение природы, чудесную
организацию общества — вот что должен воспевать ныне истинный
эстетический гений, находящийся под активным воздействием
позитивного духа, обильного источника нового могучего вдохновения,
730
которое способно обрести невиданную ранее популярность, ибо оно
придет в полное согласие как с благородным инстинктом нашего
исконного превосходства, так и со всей системой наших
рациональных убеждений. Один только великий Байрон, самый выдающийся
поэт нашего столетия, который по-своему, лучше чем кто-либо иной
до настоящего времени, предвосхитил истинный характер
современной жизни как интеллектуальный так и моральный, самочинно
пытался осуществить это смелое возрождение поэзии,— уникальный
случай в современном искусстве. Конечно, здравая философия в ту
пору не была еще настолько разработана, чтобы его гений мог
разобраться по-настоящему в основах нашего строя, за исключением
чисто негативного аспекта, который он, впрочем, замечательно
идеализировал, как я это отметил в главе пятьдесят седьмой. Но
уже глубокие достоинства его бессмертных сочинений и их
внезапный неслыханный успех у всех избранных умов, невзирая на
нелепые национальные предрассудки, неопровержимо доказали как
эстетическую силу нового общества, так и общую тенденцию к
такого рода обновлению. Все истинно философские умы могут теперь
убедиться в том, что неотвратимое наступление всеобщей
реорганизации само по себе принесет новому искусству и неистощимый
материал в виде общего зрелища чудес человеческих и важную
общественную функцию: оно должно будет заставить по достоинству
оценить структуру нового общества.
Хотя догматическая философия всегда обычно главенствует в
процессе непосредственной разработки различных
интеллектуальных и нравственных образцов, необходимых для новой духовной
организации, тем не менее не обойтись и без эстетики, которая
примет участие как в активной популяризации этих образцов, так
и в их окончательной отделке. Таким образом, в позитивистском
будущем искусство снова обретет важную политическую функцию,
по существу, не менее значительную, если отвлечься от различий
в общественном строе, чем та, которую оно играло в прошлом, в
политеистическую эпоху, и которой оно лишилось в период мрачного
господства монотеизма. Нам приходится здесь избегать всяческих
общих указаний по поводу будущих технических приемов
искусства, ибо они слишком далеки от нас, чтобы можно было ныне хоть
сколько-нибудь верно их оценить. Но, не вступая по этому поводу
в преждевременный и неуместный спор, следует тем не менее уже
сейчас заметить, что основное обязательное условие нового
искусства, равно как и науки и промышленного производства,
заключается в том, чтобы подчинить все свои замыслы системе законов
реальности, и это ни в какой мере не лишит его драгоценного
источника вымысла, а лишь заставит его придать этому могучему логи-
731
ческому приему новое направление, соответствующее тому, что он
получит в двух других упомянутых выше общих аспектах. Я,
например, говорил уже раньше, в главе сороковой, о том, какое
полезное применение в науке и даже в логике может ныне
осуществить здравая биологическая философия, введя понятие
воображаемого организма в полном согласии со всеми существующими
представлениями о жизни. Я не сомневаюсь, что, когда позитивный дух
восторжествует, такого рода прием, в основном сходный с теми,
которыми ныне в ряде важных случаев пользуются геометры, и в
самом деле облегчил бы развитие разумно систематизированных
концепций в биологии. Но ведь ясно, что цель и условия искусства
допускают куда более обширное применение подобных приемов,
тогда как их теоретическое использование может легко повести
к злоупотреблению. Всякий, впрочем, чувствует, что и в искусстве
эти приемы должны применяться, сообразуясь с возможностями
человеческого организма, с небольшими отклонениями в худшую,
а преимущественно в лучшую сторону, чтобы соответственно
повысить эстетическое воздействие, ни в коем случае не насилуя, однако,
основных законов реальности.
В этом беглом обзоре эстетических результатов торжества
позитивной философии мне поневоле приходилось оставаться в пределах
лишь одного из всех изящных искусств, первенствующего по своей
полноте и высокому уровню обобщения и всегда обычно
возглавлявшего всю систему искусств. Ясно, однако, что возрождение
современного искусства не ограничится одной поэзией, что оно
неизбежно распространится и на четыре других главных средства
идеального выражения соответственно порядку, продиктованному их
естественной иерархией (см. главу пятьдесят третью). Таким
образом, позитивный дух первоначально, в своей математической
фазе, казалось бы, заслуживает те обычные упреки в
антиэстетической тенденции, которые и ныне столь несправедливо обрушивают
на него рутинеры, но в окончательном итоге, напротив, становится
согласно своей социологической системе главной опорой
эстетического формирования, столь же необходимого, как и неразрывно
связанное с ним умственное и социальное обновление. Это троичное
позитивное построение, всегда подчиненное одному и тому же
верховному принципу, несомненно приведет человечество к
всеобъемлющему строю, наиболее сообразному его природе, где все наши
характерные признаки в одно и то же время и наилучшим
способом упрочатся и обретут наиполнейшую взаимную гармонию и
достигнут наисвободнейшего общего расцвета.
А. С о m t е, Cours de philosophie positive, P., 1869,
p. 757—765. Перевод A. Г. Левинтона.
732
тэн
1828-1893
Литературная деятельность Ипполита Тэна началась в конце 50-х годов
XIX столетия. Уже в «Этюдах о французских философах XIX века» (1857) он
заявил себя сторонником позитивизма и провозгласил величайшими
мыслителями нового времени Конта, Милля и Спенсера — вождей первого поколения
позитивистов.
В «Истории английской литературы» (1863—1865) и в «Философии
искусства» (1865—1869) он разрабатывает позитивистскую эстетику и закладывает
теоретические основы натурализма во французской литературе. В книге «Об
уме» он создает свой вариант позитивистской теории познания. После 1871
года Тэна привлекают историко-социальные темы, которые он трактует с
консервативных позиций. В его работе «Происхождение современной Франции»
сказался страх перед Парижской коммуной. Тэн утверждает, что Франция уже
прошла через революционный период и сформировавшееся ныне общество не
нуждается в дальнейших социальных превращениях. Буржуазный режим
Третьей республики объявлялся вечным и заслуживающим всяческого
уважения.
Основные концепции Тэна отражают характерную для позитивизма
непоследовательность и противоречивость. Его теория познания, изложенная
в книге «Об уме», не отрицает реального существования вещей и все же
называет ощущения субъекта «галлюцинацией». По мнению Тэна, не важно,
лежит ли в основе ощущений объективная реальность, или они являются чистой
иллюзией. Важна взаимная согласованность «галлюцинаций». Именно этим
способом субъект отличает «истинную галлюцинацию» от «ложной».
В своей «Философии искусства» Тэн справедливо подчеркивает
общественную природу искусства. Он отыскивает связи отдельного произведения с
творчеством художника в целом, прослеживает связь этого творчества со средой,
породившей художника, с его эпохой, условиями его жизни. Вместе с тем связь
эту Тэн понимает упрощенно, исходя из концепции «господствующего типа»
эпохи. «Господствующий тип» определяется тремя факторами — расой, средой
и моментом. При этом раса понимается как сумма наследственно
передаваемых врожденных склонностей и качеств; среда состоит из совокупности
условий географических, политических и социальных, а момент означает
определенную историческую эпоху. В силу закономерностей, которые Тэн именует
«законом пропорциональных влияний» и «законом взаимной зависимости» эти
три фактора обусловливают характер всей общественной жизни данного
коллектива, всю его идеологию и с необходимостью формируют психологию его
наиболее типичных представителей. Так, например, в древней Греции
художники изображали обычно юношу с нагим и прекрасным телом, искушенным.
733
во всех физических упражнениях, а в Англии эпохи Реставрации —
расслабленного развратом щеголя.
Механическое понимание воздействия трех факторов на писателя и
художника оставляет в стороне общественную борьбу, игнорирует проблему
индивидуального мировоззрения писателя и не может объяснить, почему в одну
и ту же эпоху существует величайшее разнообразие
литературно-художественных процессов, борьба различных направлений.
Наряду с механистической теорией трех факторов у Тэна встречается,
однако, и спиритуалистская концепция духовного абсолюта красоты, что еще
раз свидетельствует об эклектизме всей позитивистской эстетики.
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА
ЧАСТЬ 1
Глава I. О природе художественного произведения
Наш метод строится на признании того факта, что
художественное произведение не есть нечто изолированное и что необходимо
поэтому определить ту систему явлений, которая включает в себя
это произведение и помогает уяснить его смысл.
Первый шаг в этом направлении не составит особого труда.
Сразу же видно, что любое произведение искусства — картина,
трагедия, статуя — входит в определенную систему,— я имею в виду все
творчество автора этого произведения, рассматриваемое в целом.
Это не вызывает сомнения. Каждый знает, что разные произведения
одного и того же мастера, подобно детям от общего отца, обладают
чертами заметного родового сходства. Вы знаете, что каждому
художнику присущ свой особый стиль, который проявляется во всех
его созданиях. Если это живописец, он пользуется особым
колоритом, пышным или скудным, у него есть свои излюбленные образы,
возвышенные или низменные, он предпочитает определенное
расположение фигур, характерные позы, даже свои особые рабочие
приемы: у него своя пастозность, своя лепка форм, свои краски,
своя фактура. Если это писатель, ему присущи определенные
персонажи, пылкие или бесстрастные, установившийся тип фабулы,
простой или сложный, у него свои развязки, трагические или
комические, свои речевые обороты, свои периоды, даже свой особый
словарь. Все это настолько бесспорно, что если вы покажете
опытному специалисту неподписанное творение мало-мальски
значительного художника, он немедленно и притом безошибочно установит
имя его автора, а если у него достаточно знаний и интуиции, он
определит еще и к какому периоду жизни художника, к какому
734
этапу его творческой эволюции относится интересующее вас
художественное произведение.
Такова первая система, в которую включается художественное
произведение. Перейдем ко второй.
Сам художник со всеми его творениями ведь также не
обособлен от окружающего мира. Он входит в некую более обширную
систему явлений. Такой системой оказываются возникающие в той
же стране и в ту же эпоху школа или художественное направление,
к которым примыкает данный художник. Скажем, вокруг
Шекспира, который представляется на первый взгляд слетевшим с небес
чудом, подобным болиду, пришельцу из других миров,
группировалась целая дюжина превосходных драматургов: Вебстер, Форд,
Мессенджер, Марло, Бен Джонсон, Бомонт и Флетчер, которые
обладали сходным стилем и писали в том же духе, что и сам
Шекспир. Их театр отличался теми же приемами: вы обнаружите у них
таких же героев, яростных и грозных, такие же развязки,
кровавые и неожиданные, такие же страсти, внезапно вспыхивающие и
не знающие удержу, тот же стиль, неупорядоченный, прихотливый,
необузданный и блистательный, то же ощущение природы и
сельской жизни, изысканное и поэтичное, те же образы женщин,
утонченных и поглощенных любовью.
Точно так же и Рубенс может показаться одиночкой, не
имевшим предшественников и последователей. Но стоит нам отправиться
в Бельгию и походить по соборам Гента, Брюсселя, Брюгге или
Антверпена, как мы откроем для себя целую плеяду живописцев, чье
дарование сходно с дарованием Рубенса. Это прежде всего Крейер,
который в свое время считался его соперником, это Адам Ван-Но-
орт, Герард Зигерс, Ромбоутс, Абрахам Янсенс, Ван-Роозе, Ван-
Тульден, Ян Ван-Оост, а также известные вам Иордане и Ван-Дейк,
которые все одинаково понимали живопись и, несмотря на
некоторые существенные различия, обладали отчетливо выраженным
групповым сходством. Всем им, так же как и Рубенсу, нравилось
изображать цветущую, пышущую здоровьем плоть, могучий и
трепетный ритм жизни, багровый чувственный румянец, обильно
окрасивший кожу живого существа, образы грубо реальные, а зачастую и
низменно животные, взлет и затухание необузданных страстей,
блеск и пестроту драгоценных тканей, целую галерею драпировок,
свернутых и развевающихся. Сейчас эти художники отошли в тень,
подавленные славой их великого современника, но и сейчас
очевидно, что полностью уяснить Рубенса можно, лишь снова
восстановив этот сноп дарований, в котором сам он был лишь наиболее
рослым колосом, эту семью художников, где он был самым
прославленным отпрыском.
735
Таков второй шаг. Теперь нам осталось ступить третий. Сама эта
плеяда художников в свою очередь является частицей еще более
обширного круга явлений, ее окружает целый мир, и вкусы этого
мира воздействуют также и на ее собственный вкус. Ибо состояние
нравов и умов публики формирует внутренний мир художника. Он
не обособлен от прочих людей. И хотя нынче из глубины веков
до нас доносится один только его голос, но за этими властными
проникновенными звуками мы различаем как бы ропот и глухой
гул, тот великий в своей беспредельности и множественности глас
народа, который звучал вокруг художника в унисон его творениям.
Лишь благодаря этому слиянию с народом художник обретает свое
величие. Да иначе и быть не могло: Фидий и Иктин — создатели
Парфенона и Зевса Олимпийского — ничем не отличались от
прочих афинян. Они были свободными гражданами и язычниками,
обучались в палестре, боролись и упражнялись в гимнастике
голышом, совещались и голосовали обычно на открытой площади,
обладали теми же интересами, идеями, верованиями, были людьми
той же расы, того же воспитания, того же. языка, что и их
соотечественники, и во всем существенном не отличались от своих
зрителей.
Такого рода совпадение еще более ощутимо, когда речь заходит
об эпохах менее удаленных, скажем, о временах величия Испании,
которые тянутся с XVI века до середины XVII, об эпохе Велас-
кеса, Мурильо, Сурбарана, Франциско Гереры, Алонзо Кано, Мора-
леса, времени великих мастеров слова: Л one де Беги, Кальдерона,
Сервантеса, Тирсо де Молины, Луиса де Леона, Гильена де Кастро
и стольких других. Вам известно, что Испания в те времена была
истово католической и монархической страной, что она разбила
турок при Лепанто, наложила руку на Африку и установила там
свои порядки, что она разгромила протестантов в Германии,
преследовала их во Франции, нападала на них в Англии, обращала
в христианство и порабощала язычников Нового света, что она
очистила свою землю от мавров и евреев и собственную веру укрепляла
кострами аутодафе и преследованиями, что она не пощадила своей
армии и флота, золота и серебра Америки, драгоценной жизни
лучших сынов своих, живой крови сердца, тратя все это в бесконечных
и неисчислимых крестовых походах с таким упорством и
фанатизмом, что через полтора столетия она пала, изнуренная, к ногам
Европы, но все это делалось с подлинным энтузиазмом, блеском
славы и таким национальным воодушевлением, что подданные этой
страны, влюбленные в монархию, на которую они тратили все свои
силы, и в те цели, которым они посвятили всю жизнь, питали лишь
одно желание — возвеличить короля и религию своей покорностью
736
и окружить престол и церковь хором преданных слуг, воинов и
поклонников. В этой монархии инквизиторов и крестоносцев с их
рыцарскими чувствами, мрачными страстями, свирепостью,
мистикой и нетерпимостью средневековья величайшие художники в
полной мере разделяли склонности, чувства и страсти окружающей
их публики. Наиболее прославленные поэты Лопе де Вега и
Кальдерой были участниками военных авантюр, добровольцами Великой
армады, бретерами и волокитами, столь же экзальтированными и
мистичными в своих любовных увлечениях, как поэты и донкихоты
феодализма; они были убежденными католиками, столь
ревностными, что один из них к концу жизни сблизился с инквизицией,
другие же стали священниками, а самый прославленный из них,
великий Лопе, совершая мессу, однажды упал без чувств при мысли
о жертвенных муках Иисуса Христа.
Впрочем, мы повсюду встретимся с подобными примерами
слияния и внутренней гармонии, возникающей между художником и его
современниками; и мы с полной уверенностью приходим к
заключению, что, для того чтобы проникнуть во вкусы художника, понять
его дарование и причины, побудившие его выбрать тот или иной
жанр живодиси либо драматургии, избрать именно этот образ или
колорит, выразить такие, а не иные чувства, следует направить
наши поиски на изучение общего состояния умов и нравов эпохи.
Таким образом, мы приходим к выводу, что понять произведение
искусства, художника или художественное направление можно лишь
в том случае, если мы разберемся в идеях и нравах эпохи, которая
породила их. В этом как раз и кроется окончательный ответ, та
главная причина, которая определяет все прочее. Этот вывод,
господа, подтверждает и наш исторический опыт; в самом деле,
припомним главные периоды расцвета изящных искусств, и мы
увидим, что искусства возникают и гибнут в те же исторические
сроки, что и породившие их направления идей и нравов.
К примеру, греческая трагедия, рожденная Эсхилом, Софоклом и
Еврипидом, появилась под влиянием победы греков над персами,
в героическую пору, когда небольшие городские республики с
величайшей энергией отстояли свою независимость и утвердили свое
влияние во всем цивилизованном мире. И мы видим, как она
исчезает вместе с утратой этой независимости и этой энергии, когда
падение нравов и македонское завоевание отдали Грецию
чужеземцам. Сходным образом готическая архитектура переживала свой
расцвет во времена полной победы феодального уклада, в эпоху по-
лувозрождепия в XI веке, когда общество, освободившись от
викингов и разбойников, постепенно приобретает устойчивость; а конец
ее совпадает с тем временем, когда к исходу XV столетия эта воин-
787
ственная среда мелких независимых баронов вместе с
порожденными ею нравами терпит крушение, уступая место современным
монархиям.
Равным образом и голландская живопись расцветает в славную
эпоху, когда Голландия в упорной и отважной борьбе освобождается
от испанского владычества, как равная сражается с Англией,
превращается в самую богатую, самую свободную, самую индустриально
развитую, самую преуспевающую среди всех стран Европы; и мы
видим, как она приходит в упадок к началу XVIII столетия, когда
Англия оттесняет Голландию на второй план, когда Голландия
превращается всего лишь в банкирский и торговый дом, мирный,
образцово управляемый и хорошо налаженный, где человеку живется
вольготно и удобно, где царит буржуазное благоразумие и нет
больше честолюбивых устремлений и высоких чувств. Точно так же,
наконец, и французская трагедия возникает при Людовике XIV,
когда чинная аристократическая монархия устанавливает культ
благопристойной чопорности, придворных нравов, изящных
представлений, элегантной аристократической челяди, и умирает в тот
момент, когда дворянское общество и нравы королевской передней
были сметены революцией.
Мне бы хотелось пояснить путем сравнения это воздействие
идей и нравов на развитие изящных искусств. Если вы, покинув
южные страны, отправитесь на север, в различных климатических
зонах вам встретятся совершенно определенные земледельческие
культуры и другие растения. Сначала это будут алоэ и апельсин,
несколько позже появятся виноград и сливы, затем пойдут дуб
и овес, еще северней — сосна, а дальше мхи да лишайники. У
каждой зоны свои культуры и своя растительность. Они начинаются
при въезде в эту зону и кончаются с выездом из нее. Они присущи
этой зоне. Она является условием их существования. Там, где она
есть, появляются и они, если ее нет, они исчезают. Но что такое
климатическая зона, как не наличие определенной температуры,
то есть определенного уровня тепла и влаги, иными словами,
комплекса господствующих условий, в своем роде аналогичного тому,
что мы недавно назвали общим состоянием умов и нравов?
Подобно тому как существует физическая температура, изменение которой
определяет появление той или иной растительности, точно так же
существует и духовная температура, изменения которой определяют
появление тех или иных видов искусства. И так же как изучают
физическую температуру, чтобы уяснить себе возникновение того
или иного вида растений: кукурузы или овса, алоэ или сосны,
следует изучать духовную температуру, чтобы выяснить причины
возникновения таких видов искусства, как языческая скульмура или
738
реалистическая живопись, мистическая архитектура или
классицистическая литература, сладострастная музыка или
идеалистическая поэзия. Произведения человеческого ума, как и порождения
живой природы, можно объяснить, только исходя из окружающих
условий.
Именно эти вопросы и будут поставлены в нынешнем году
в моем курсе истории живописи в Италии. Я попытаюсь
представить вам ту мистическую среду, в которой творили Джотто и Беато
Анжелико. Для этого я прочту здесь некоторые фрагменты в
стихах и прозе, которые пояснят вам, каковы были у людей того
времени представления о счастье и несчастье, о любви, о вере, о рае
и аде, о главных интересах всей человеческой жизни. Эти
пояснения мы найдем в стихах Данте и Гвидо Кавальканти, у
благочестивых францисканцев, в «Золотой легенде», в «Подражании Иисусу
Христу», в «Цветочках» Франциска Ассизского, у таких историков,
как Дино Кампаньи, в обширной коллекции исторических хроник,
собранной Муратори, где так наивно отразились свирепые раздоры
и насилия, царившие в этих маленьких республиках. Затем я
попытаюсь тут же представить вам языческий мир, в котором полутора
веками позже творили Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль,
Тициан, а для этого мне придется прочесть вам довольно большие
выдержки из мемуаров современников, скажем, из Бенвенуто Чел-
лини, или из хроник, которые изо дня в день описывали жизнь Рима
и других важнейших центров Италии, или из донесений послов,
или, наконец, из описаний городских празднеств, карнавалов и
торжественных встреч. Эти выдержки покажут вам всю животную
грубость, чувственность и энергичность господствовавших тогда
нравов, но наряду с этим также и живое ощущение поэзии и
литературы, вкус ко всему живописному, декоративный дар и тягу
к внешнему блеску, которые в ту пору были присущи даже
простым людям и невежественной толпе, а не только аристократии и
ученым.
А теперь, господа, допустим, что наше исследование увенчается
успехом и что нам удастся с полной ясностью охарактеризовать те
различные стадии в состоянии умов, которые вызвали к жизни
итальянскую живопись и обусловили ее развитие, расцвет, различие
в направлениях и упадок. Допустим, далее, что мы успешно
завершили аналогичные исследования и для других эпох, для других
народов, для разных видов искусства, архитектуры, живописи,
скульптуры, поэзии и музыки. Допустим, что в результате всех
этих исследований нам удастся постигнуть природу и необходимые
условия для каждого искусства: в этом случае мы располагали бы
исчерпывающим объяснением всех изящных искусств и любого ис-
739
кусства вообще, иными словами, философией искусства или тем,
что обычно именуется эстетикой. Именно к такой, а не к какой-либо
иной эстетике мы и стремимся, господа. Наша эстетика современна
и, в отличие от прежней, не догматична, а исторична. Это означает,
что она не предписывает правил, а описывает закономерности.
Старая эстетика прежде всего устанавливала определение
прекрасного и утверждала, к примеру, что прекрасное выражает
нравственный идеал, или же что прекрасное есть воплощение невидимого,
или еще — что прекрасное есть выражение страстей человеческих;
затем, пользуясь этим определением как статьей кодекса, она
выносила оправдательный или обвинительный приговор, отчитывала
и наставляла. Как я рад, что передо мной не возникает столь
ответственная задача. Мне не приходится вас наставлять, что было бы
для меня весьма затруднительно. Скажу вам, впрочем, по секрету,
что наставлений в области искусства существует всего два. Первое
из них — родиться гением; это не от меня зависит, а от ваших
родителей. Второе же — как можно больше трудиться, чтобы хорошо
овладеть своим искусством. Это опять-таки зависит не от меня, а от
вас. Моя единственная задача состоит в том, чтобы изложить вам
факты и показать, как эти факты возникли. Современный метод,
которому я пытаюсь следовать и который начинает постепенно
входить в обиход во всех общественных дисциплинах, заключается
в том, чтобы рассматривать творения человека и в первую очередь
произведения искусства как факты и предметы, которые следует
охарактеризовать и которым нужно подыскать объяснение,— только
и всего. В таком понимании наука не знает ни гонений, ни
отпущений; она всего лишь описывает и разъясняет. Она не требует от
вас: «Презирайте голландское искусство, ибо оно грубо,
наслаждайтесь одним лишь итальянским искусством!» Тем более не
требует она от вас: «Презирайте готику, ибо она болезненна, любите
одних только греков!» Она предоставляет каждому свободно
следовать его личным вкусам, выбирать то, что соответствует его
темпераменту, и уделять все свое внимание тому, что больше пришлось
ему по душе. Сама же она одинаково сочувствует всем видам
искусства и всем направлениям, даже таким, которые, казалось бы,
резко враждебны друг другу; она все их воспринимает как
проявления человеческого духа; она считает, что чем более они
многочисленны и противоречивы, тем лучше показывают обширность и
многообразие человеческого духа; она подобна ботанике, которая с
одинаковым интересом изучает апельсин и лавр, сосну и березу; да это
и есть своеобразная ботаника, только занята она не растениями,
а человеческими творениями. Благодаря этому сходству она входит
в общее русло движения, которое ныне стремится сблизить
общего
ственыые и естественные науки; передав первым основные
принципы, тщательность в исследовании и общее направление
последних, это движение сообщает им такую же основательность, как
у естественных наук, и обеспечивает им столь же значительный
прогресс.
Η. Τ a ine, Philosophie de Tart, v. I, P., 1865,
p. 1—15. Перевод А. Г. Левинтона.
БРЮНЕТЬЕР
1849-1906
Видный французский историк и теоретик литературы Брюнетьер родился
в Тулоне, в семье морского офицера. С 1875 года он начал сотрудничать в
журнале «Revue des deux mondes», a в 1893 году стал его редактором. В 80-е годы
он был назначен профессором Высшей нормальной школы. В 1893 году его
избрали во Французскую Академию.
Деятельность Брюнетьера лишь вначале была связана с позитивизмом,
позднее он отошел от этого течения и стал одним из самых яростных
противников «экспериментального романа» Золя, который считал себя
последователем Тэна. Позитивизм увлек Брюнетьера идеей применения категорий
дарвиновской теории эволюции к вопросам искусства и литературы. С его точки
зрения, отдельный шанр в искусстве подобен живому существу —он так же
проходит через стадии зарождения, роста, кульминации, упадка и смерти.
Жанры изменяются, порождают новые жанры, борются друг с другом за место
под солнцем, подобно тому как это бывает в живой природе.
Эти идеи выражены Брюнетьером в его главном теоретическом труде
«Эволюция жанров в истории литературы» (1890). Брюнетьер собирался
иллюстрировать свои теории на материале французской трагедии, лирики и
романа, но замысел этот не был осуществлен, и вышел только первый том,
посвященный общим рассуждениям об эволюции жанров, а также истории
французской критики, начиная с эпохи Возрождения и кончая школой Ипполита
Тэна.
Брюнетьер не во всем согласен с Тэном. Он считает, что Тэн преувеличил
значение среды, в особенности расы, недооценивая, с другой стороны, роль
индивидуальности автора. Эти расхождения впоследствии еще усилились, и под
конец Брюнетьер вовсе отошел от теории трех факторов. Он развивает идею
внутренней взаимозависимости литературного ряда — влияния одних
произведений на другие,— а смену художественных направлений выводит из личных
устремлений авторов. В этом духе написаны его работы «Руководство по
истории французской литературы» (1898), «История французской литературы
классического периода» (1904—1912) и др.
Плеханов в своей книге «К истории развития монистического взгляда на
историю» подверг глубокой критике идеалистическую доктрину позднего
741
Брюнетьера и доказал, что внутренние закономерности литературного ряда,
в том числе и эволюция формы, имеют лишь относительную
самостоятельность. В конечном счете они определяются экономическим и политическим
развитием общества.
Следует отметить, что во второй период в мировоззрении Брюнетьера
усиливаются католические и монархические тенденции. Он становится
откровенно реакционной фигурой во французской критике.
ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРОВ В ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
Вводная лекция. Общая идея, программа и разделы курса.
Господа, в этом году я собираюсь исследовать вместе с вами эволюцию
жанров в истории литературы. Название это несколько длинно, но тем не
менее может показаться вам непонятным, и поэтому мне придется его пояснить.
Всем вам, по крайней мере в общих чертах, известно слово и понятие
«эволюция», вы знаете, какой успех оно снискало и как за два десятка лет
оно вторглось в одну за другой во все области знания и науки, видоизменяя
их и способствуя их обновлению.
«Эволюция живых существ», «эволюция философии», «эволюция морали»,
«эволюция семьи», «эволюция брака» и бог его знает чего еще. Только повсюду
и разговоров что об эволюции. Ведь если всегда следует несколько остерегаться
новшеств и выжидать, чтобы они сперва стали достоянием учебника, чтобы
они, согласно крылатому словцу Мальбранша, сперва обросли бородой, то
сейчас, когда прошло двадцать пять — тридцать лет, мы можем с
уверенностью сказать, что, видно, есть кое-что в этой доктрине, что оправдывает ее
успех. Быть может, она и не полностью выражает истину, и, вероятно, так
оно и есть. Согласимся даже, что в будущем она может в один прекрасный
день лишиться своей популярности, будучи вытеснена другой доктриной или
другой гипотезой,—хотя в глубине души я не верю в это. Но в ожидании
этого, раз уж она господствует, я не вижу особых преимуществ в том, чтобы
делать вид, что ее не существует; и, поскольку нам известно, что общее
естествознание, история и философия уже извлекли пользу из нее, мне хочется
попробовать, не смогут ли воспользоваться ею в свою очередь история
литературы и критики. Таков мой замысел. Несколько примеров при этом помогут
вам лучше понять его, если мы обратимся к истории искусства или истории
литературы и проследим главные пути развития жанра или развития самого
искусства.
Теоретически у самых истоков изобразительного искусства, по крайней
мере в истории новой живописи, находится религиозная живопись — в том
виде, как ее понимали, например, Чимабуэ и Джотто в Италии или ван Эйк
и Мемлинг во Фландрии. Как для тех, так и для других живопись, прежде чем
существовать, как таковая, для услады взора, чуть ли не прежде чем стать
искусством, является благочестивым подвигом, орудием воспитания,
средством сообщить толпе, собравшейся в соборе, возвышенные истины религии или
агиографические легенды; да еще способом для самого живописца «послужить
господу» и таким-то образом благодаря своему таланту добиться спасения.
Однако соблазны линий и красок настолько живы и сильны, что уже очень
скоро их воспринимают, ощущают и любят ради них самих, и тогда от
религиозной живописи спешит отделиться живопись мифологическая, при том что
742
ее предшественница не прекращает своего существования и даже не уступает
ей первого места, она только не царит уже самодержавно, ограничивает свое
единовластие и делит с другим жанром влияние, почести и популярность. Вам
известно, что автор «Тайной вечери» или «Мадонны в скалах» был также
создателем «Леды». А творец «Сикстинской мадонны» создал также фрески
Фарнезины; известно и то, что с замечательными «Венерами» Тициана могут
сравниться и даже превзойти их лишь его же «Благовещения» да «Успения».
Каким же образом мифологическая живопись в свою очередь превратилась
в живопись историческую? При желании и при наличии времени этому можно
было бы подыскать не одну причину. Но, не вступая на путь поисков, мы
удовлетворимся тем, что именно так произошло в действительности и что
сцены языческого Олимпа как во Фландрии, так и в Италии уступили место
зрелищам великих исторических событий. Еще несколько переплетаясь друг
с другом во флорентийской школе, эти два жанра разделяются и
отграничиваются в школе венецианской. Теперь каждый из них будет жить своей
жизнью. И, словно красота сама по себе не в силах более насытить и
удовлетворить взор, с этого времени требуется, чтобы она подкрепила свой
собственный авторитет авторитетом объекта, который существует, который реален,
который, наконец, имеет сословие и имя в истории. Так из исторической
живописи выделяется портретная живопись; во всяком случае, она отвоевывает
свою особую область, выкраивает свое царство; и даже, как вам известно,
в некоторых школах, например в голландской, под рукой Франца Гальса и
Рембрандта она одна воплощает почти всю историю. «Урок анатомии» или
«Ночной дозор», в сущности, лишь собрание портретов; и столь много других
таких же портретов рассыпано по европейским музеям и в частных собраниях,
что, если бы они были здесь у нас перед глазами во всей их
последовательности, вы бы увидели, что они представляют всю историю Голландии.
Но вместе с портретом, а особенно если их на полотне несколько, в
живопись входит рассказ и частная жизнь. В самом деле, уже не довольствуются
тем, чтобы портрет был живым и похожим; хотят, чтобы он, так сказать,
действовал; и чтобы наряду с чертами оригинала он напоминал о его профессии,
привычках, окружении, воспроизводил героическую или памятную страницу
из его биографии. С другой стороны, если сцены будничной жизни, если даже
неживые предметы также имеют свой облик, свою
индивидуальность,—выходит, и с них можно написать портрет. Можно думать, что именно этим путем
жанровая живопись поначалу стала высвобождаться, а затем и вовсе
отделилась от живописи портретной, чтобы в свою очередь обрести независимое
существование и нечувствительно для самой себя выработать собственные
правила и законы, то, что среди юристов зовется «частный статут».
Наконец, сделаем и последний шаг: отсечем те связи, которыми
неодушевленные предметы соединяются с нами. Представим их такими, как мы их
видим, конечно, ибо иначе мы и не можем их представить, но забудем о том,
какое мы им даем употребление; будем с ними обращаться, как если бы они
существовали в себе и для себя: это и будет анималистическая живопись,
пейзажная живопись, живопись натюрморта... Цикл завершен, и мы в какой-то
мере исчерпали возможные варианты: всякая живопись является либо
религиозной, либо мифологической, либо исторической, либо иконографией, либо
жанром, либо пейзажем, либо натюрмортом; и каждая из этих
последовательно возникших форм, которые можно сочетать все вместе, предстала перед
нами —по происхождению как расчленение предшествующей, а по ходу
развития как ее обогащение.
Возьмем другой пример, более частный, более определенный, более
показательный и именно поэтому более красноречивый: пусть это будет история
или последовательное развитие форм французского романа
743
Он выступает перед нами вначале в форме эпопеи или героической поэмы:
«Песня о Роланде», «Алискан», «Рено де Монтабан»; и в этой форме, как вам
известно, это почти история. У нас, как и в Греции, история в форме мемуаров
или хроник кажется как бы выделившейся из героической поэмы. Но, с другой
стороны, по мере того как она освобождается от своего исторического
содержания и для того, чтобы заполнить возникшую пустоту, эпопея добровольно
предоставляет более значительную роль легенде или мечте: это эпоха «романов
Круглого стола»: «Парсифаль», «Тристан и Изольда» и др., где главный интерес
уже не в том, чтобы питать культ воспоминаний, но в том, чтобы раздразнить
любопытство. Это еще яснее видно в романах об Амадисе, которые следуют
за «романами Круглого стола» и которые уже являются не эпопеей в точном
смысле слова, но, скорее, тем, что могло бы носить название романа
приключений. Невероятность составляет их основное украшение. Их пишут, чтобы
полностью распустить поводья воображения, а читают их, чтобы вырваться из
мира реальности, чтобы пуститься в мечты о великих приключениях, чтобы
вместе с героем оседлать Гипогрифа или Химеру, о которой нам повествуют
эти романы.
Романы об Амадисе относятся к XVI веку; в следующем столетии их
сменяет новый жанр, моделью или типом которого может послужить «Астрея»,
или, быть может, с еще большим основанием романы Гомбервиля, де ла Каль-
пренеда, мадемуазель де Скюдери: «Полександр», «Кассандра», «Кир»,
«Клелия».
Назовем их эпическими романами: они этого заслуживают и своими
внушительными размерами, и манерой привязывать эпизоды к главному
повествованию, и характером происходящих в них приключений, столь же
невероятных, сколь героических, и знатным или даже царским саном главных героев,
и бесконечной расплывчатостью стиля, и эмфатическим тоном, который его
приподнимает или оживляет. Но есть тут и нечто иное. «Полександр» — роман
морской и географический. Ла Кальпренед в своем «Фарамоне» ставит себе
в заслугу то, что он повествует, «украсив изложение некоторыми вымыслами,
отнюдь не умаляющими его достоверность», о закате империи и «наряду с
основанием нашей прекрасной монархии» описывает раннюю историю испанцев,
вандалов, гуннов: это роман «исторический». Наконец, в своем «Кире» или в
«Клелии» под этими громкими именами, заимствованными из истории,
мадемуазель де Скюдери, отнюдь не скрывая этого, а даже, напротив, этим хвастая,
изобразила своих «живых» современников, рассказала их историю,
увековечила выражение их чувства. Что это как не роман нравов, пускающий свои
первые ростки? То есть такой жанр романа, где интерес уже не сосредоточен
на невероятных приключениях или на ирреальности персонажей, а, наоборот,
строится на их сходстве с современной жизнью.
А там уже «Великого Кира» сменяет «Принцесса Клевская», а ее в свою
очередь сменят «Жиль Блас», «Манон Леско», «Марианна»; затем роман
обычных нравов, роман интимных нравов, роман экзотических нравов... Но давайте
остановимся на этом, чтобы не прихватить того, к чему, как вы увидите, нам
придется обратиться еще в этом году; к тому же, я полагаю, достаточно этих
двух примеров, в том виде как они вам представлены, чтобы теперь уже
с полной определенностью выяснить общую идею курса. Итак, речь идет о том,
чтобы установить, как соотносятся между собой эти формы и как называются
те еще не выясненные причины, которые, видимо, заставляют их
последовательно выделяться одна из другой. Имеем ли мы дело с игрой случая, с чисто
случайной последовательностью? Не могла ли бы при других обстоятельствах
жанровая живопись предшествовать живописи религиозной? Или,
соответственно в другом примере, мог ли роман нравов предшествовать эпопее? Но если
это не случайность, если .последовательность этих форм закономерна, то чем
744
она определяется? Или, может быть, она порождена историей? Каковы связи,
объединяющие эти формы: хронологические они или генеалогические? Иными
словами, является ли их последовательность результатом обстоятельств,
внешних условий? Или же, напротив, речь идет о порождении в полном смысле
слова? Таков первый вопрос, который мы постараемся решить.
Когда мы выясним, каким образом связаны эти формы друг с другом —
хронологически или генеалогически, возникает второй вопрос; каковы их, так
сказать, эстетические отношения? Обязательно ли должна религиозная
живопись, чтобы возникнуть первой, превосходить, скажем, пейзажную живопись?
И в каком отношении? А если имеет место обратный случай, в чем последняя
превосходит первую? Или еще такой вопрос: если каждая из них может
похвалиться достоинствами, отсутствующими у другой, можно ли утверждать,
и если можно, то на каком основании, что при переходе от одной формы
к другой мы имеем дело с обогащением искусства, с его усилением, прогрессом
или же, наоборот, с его постепенным упадком, обеднением, ослаблением? Таков
наш второй вопрос.
Наконец, помимо генеалогических и эстетических отношений между этими
формами каковы их научные отношения, если таковые имеются? Иными
словами, существуют ли законы, управляющие сменой форм, и откуда исходят
эти законы? Как и какими средствами могли бы мы их определить? Или в
терминах другой науки, отыщем ли мы здесь нечто аналогичное той
«прогрессивной» дифференциации,- которая в живой природе способствует переходу
однородной формы в разнородную и постоянно помогает, если можно так
выразиться, рождению противоположного из сходного? Таков наш третий вопрос,
в котором вы найдете, я полагаю, достаточную аналогию с общей проблемой
эволюции.
[...] Вопрос эволюции жанров [...] распадается, если я не ошибаюсь, на пять
других вопросов:
1. О существовании жанров: то есть не являются ли жанры всего лишь
пустым словцом, произвольной категорией, измышленной критиками, чтобы
облегчить себе ориентировку и самим разобраться в груде произведений,
бесконечное разнообразие которых иначе подавило бы их своей массой, или,
напротив того, жанры реально существуют в природе и в истории? Обусловлены ли
они природой и историей? Наконец, живут ли они своей особой жизнью,
независимой не только от потребностей критиков, но даже и от прихоти писателей
и художников? Таков первый вопрос.
2. О дифференциации жанров. Предположим, что жанры существуют; а
priori говоря, я не вижу, как это можно опровергнуть,— ведь ясно же, что ода,
которую в крайнем случае можно еще спутать с песней, не является, скажем,
комедией характеров; так же как пейзаж не есть статуя; так вот, если
допустить, что жанры существуют, возникает вопрос, каким образом
высвобождаются они из первоначального синкретизма? Как осуществляется среди них
дифференциация, которая сперва разделяет их, затем определяет их
свойства и, наконец, индивидуализирует? Таков второй вопрос, и вы уже увидите,
что он существенно схож с вопросом о том, как в естествознании из глубин
бытия или из общей и однородной субстанции выделяются отдельные особи
с их своеобразными формами и становятся, таким образом, наследственными
основателями разновидностей, родов и видов.
3. Об устойчивости жанров. Но так же как в природе при благоприятных
условиях отдельные виды не лишены известного постоянства и некоторой
устойчивости признаков, так и жанры, по крайней мере временно, могут
стабилизироваться. Заметим, что как раз это и могло иногда навести на мысль,
что они отделены друг от друга непроходимыми границами или
непроницаемыми перегородками.
745
Третий вопрос, таким образом, является вопросом устойчивости жанров
или условий такого их постоянства, которое обеспечивает им не только
теоретическое, но и историческое бытие, то есть бытие от одной даты до другой,
бытие индивидуальное, сравнимое с вашей жизнью или с моей, имеющее
начало, середину и конец.
4. О видоизменяющих факторах. Тем не менее историческое бытие жанра
не вечно, именно поэтому оно и сравнимо с человеческой жизнью. Так же как
и в природе, в эволюции жанра наступает однажды момент, когда сумма
изменчивых признаков превышает сумму признаков устойчивых и общий их состав,
если так можно выразиться, подвергается распаду. Под воздействием каких
факторов? Иными словами, что видоизменяет жанр? Таков четвертый вопрос,
наиболее, видимо, сложный и запутанный, на котором нам придется особенно
долго задержаться; но зато решение этого вопроса внесет наибольшую ясность
в проблему, которая нас занимает; к тому же этот вопрос будет завершающим
во второй части нашего курса.
5. О трансформации жанров. Здесь мы исследуем, существуют ли общие
законы этого явления или, напротив, как считали первоначально, эволюция
каждого жанра имеет свои собственные законы и не существует общей
закономерности в эволюции жанров.
Тут нам придется прибегнуть к примерам; среди множества их я выбрал
три, каковые и попытаюсь изложить со всей полнотой, которую они
заслужили сами по себе и в соответствии с предметом, подлежащим разъяснению.
Первый пример дает нам история французской трагедии, жанр
достопримечательный, в прошлом прославленный, ныне же мертвый, и притом
по-настоящему мертвый; будучи рожден к тому же в историческую эпоху, о которой
нам известно все существенное, он может служить превосходным, даже, можно
сказать, уникальным примером того, как жанр рождается, возвышается,
достигает расцвета, клонится к упадку и, наконец, умирает!
На втором примере мы увидим, как один жанр переходит в другой; для
этого я постараюсь показать вам, как в истории нашей литературы и под
влиянием каких внутренних и внешних факторов кафедральное красноречие,
каким его знал XVII век, превратилось в наши дни в лирическую поэзию Ла-
мартина, Гюго, де Виньи и де Мюссе. Наконец, в качестве последнего примера
я предложил бы историю французского романа; и, если я не ошибусь, вы
увидите тут, каким образом с наступлением определенного срока жанр
формируется из осколков нескольких других; как он добровольно подчиняется тому,
что я бы назвал внутренней сущностью его определения; и как после
множества попыток и нащупываний, осознав свой предмет, он в то же время достигает
полноты и совершенства в своих средствах.
[...] 1. По поводу первого вопроса о существовании жанров, решая,
существуют ли жанры или нет, мы докажем, что они должны существовать, ибо это
соответствует: 1) Своеобразию средств в каждом искусстве. Например, законы
ваяния из мрамора не могут быть тождественны с законами скульптуры в
фонзе. 2) Это соответствует и своеобразию предмета каждого искусства,
которое, может быть, не бросается в глаза, когда мы не ищем одинакового
удовольствия от исторического сочинения и от романа, но которое зато выступает
весьма отчетливо, когда мы ходим в театр с иными запросами, чем на
церковную проповедь. 3) Наконец, это отвечает своеобразию интеллектуальных типов;
ибо можно сказать, что каждый из них избирал и всегда избирает в качестве
выражения своих потребностей и своих идеалов в искусстве, кто живопись,
кто музыку, кто поэзию; и даже в поэзии ведь у каждого свои вкусы, которые
могут быть совершенно исключительными. Всегда найдутся ценители и
знатоки, предпочитающие Горация Вергилию, а в наши дни готовые предпочесть
«Песни» Беранже «Размышлениям» Ламартина или «Одам» Гюго.
746
2. Отвечая на второй вопрос: как дифференцируются жанры, мы
позаимствуем из области теории эволюции наши аргументы и само расчленение
проблемы. Несомненно, дифференциация жанров в истории литературы и
искусства происходит аналогично дифференциации видов в природе, прогрессируя
путем перехода от единицы к множеству, от простого к сложному, от
однородного к разнородному, в согласии с принципом, который именуется
«изменчивостью признаков» и на котором сейчас незачем настаивать, ибо формулировка,
не подкрепленная фактами, покажется нам чистой абстракцией.
3. Я говорю об этом с точки зрения устойчивости или постоянства жанров.
И все-таки уже сейчас я покажу вам, что в этом одном вопросе содержатся
по меньшей мере три других. По какому достоверному признаку можно
определить юность жанра? А по какому упадок, дряхлость и его близкую смерть?
Но прежде всего — ибо это, как вам известно, и есть самый острый момент
в споре — по какому признаку судить о расцвете или зрелости жанра? И,
подобно тому как, по словам Лабрюйера: «Есть лишь один момент блага или
зрелости в природе», так, быть может, и в искусстве есть лишь один момент
расцвета, единый и неделимый? Как видите, это ни больше и ни меньше как
проблема классицизма; и в литературе, как и повсюду, как в живописи, как
в скульптуре, вы чувствуете или почувствуете в будущем всю ее сложность,
трудность и обширность.
4. Четвертый вопрос, вероятно, еще более широк, и, чтобы не завязнуть
в нем, нужно начать с разграничения видоизменяющих факторов. Под этим
именем я понимаю мало изученные влияния, воздействующие на жанры,
иногда при этом способствуя их стабилизации, иногда же, напротив,
ослабляя ее.
A. Прежде всего это наследственность или раса; именно она способствует
тому, что такой жанр, как эпопея, всегда естественно присущий, например,
Индии, всегда, вероятно, готовый там возродиться, оказывается всегда более
или менее литературным и, следовательно, искусственным у нас.
B. Почему у семитов и китайцев нет эпопеи? Почему германцам не
свойственно искусство драмы? Если этого не объяснит нам раса, может быть,
поможет влияние среды, а под средой мы понимаем:
1. Географические или климатические условия, чьи свойства и влияния
мы попытаемся определить.
2. Социальные условия, которые определяются общественным строем, и,
в зависимости от того, далеко ли он продвинулся по пути цивилизации,
принимают тот или иной характер: теократический, аристократический или
демократический.
3. Исторические условия, которые влияют изнутри и извне на
общественный строй, но которые сами независимы от него. Например, не существовало
необходимости для Людовика XIV вести войну на протяжении половины
столетия, и если, что не вызывает сомнения, войны в эпоху его царствования
повлияли на общественный строй, то в этом и заключается различие между
историческими и социальными условиями.
C. Наконец, еще одно влияние, важность и могущество которого, как я
попробую вам доказать, трудно переоценить, это индивидуальность, то есть
совокупность достоинств и недостатков, которая делает личность в своем роде
неповторимой, позволяет ей внести в историю литературы и искусства нечто
такое, чего не существовало до нее, не существовало бы без нее и что
останется существовать после нее. Я думаю, что мне удастся привести вам по
этому поводу убедительные примеры. Не впадая в преувеличение Карлейля,
вы увидите, что достаточно иногда появиться одному-единственному человеку,
чтобы изменить весь ход событий; и вы увидите также, что нет ничего более
соответствующего доктрине эволюции, чем настаивать на этом факторе видо-
747
изменения жанров, ибо, по правде говоря, согласно «происхождению видов»
именно идиосинкразия кладет начало всякой новой разновидности.
5. Продолжив эту параллель, мы разберем в рубрике «Трансформация
жанров», встречается ли в истории литературы и искусства нечто
аналогичное тому, что в естествознании именуется борьбой за существование,
выживанием наиболее приспособленных или вообще естественным отбором. И уже
сейчас зададим вопрос: если появление определенных видов на определенном
отрезке пространства и времени приводит к исчезновению некоторых других
видов; или если верно, что борьба за существование нигде не достигает
такого обострения, как между близкими видами, то не найдем ли мы множество
примеров, доказывающих, что точно так же обстоит дело и в истории
литературы и искусства? Но на этот вопрос мы сможем ответить лишь тогда,
когда нам удастся на конкретных примерах доказать вероятность и
достоверность наших теорий.
F. Brunetière, Evolutions des genres dans
l'histoire de la littérature, P., 1890, p. 1—13, 19—23.
Перевод A. Г. Левингтона.
БИБЛИОГРАФИЯ
I. Общая литература
Cherfils С, L'esthétique positiviste. Exposé d'ensemble, P., Messein, 1909.
fi. Литература к отдельным авторам
Конт
Сочинения:
Comte Α., Cours de philosophie positive. Ed. nouv. avec une introd. par Ch.
Le Verrier, t. 1—2, P., Gamier, [1949].
Comte Α., Sociologie. Textes choisies par J. Laubier, P., Presses univ. de
France, 1957, XVI, 212 p.
Ko ht О., Курс позитивной философии, т. 1—2, Спб., 1912—1913.
Литература:
Асмус В. Ф., Огюст Конт.— «Вестник Акад. наук», 1957, № 9, стр. 61—
70.
Б а с к и н М., О. Конт и его место в истории мировой культуры.— «Вестник
истории мировой культуры», 1957, № 6, стр. 3—13.
Вишневский А. Ф., Критические заметки о социологии Огюста Конта.—
«Известия Сев.-Кавказ. ун-та», 1927, т. 1 (12), Общ.-лит., стр. 34—56.
Г у л ы г а . А. В., Возникновение позитивизма.— «Вопросы философии», 1955,
№ 6, стр. 57—69.
Кечекьян С. Ф., Социологические взгляды Огюста Конта.— «Советское
государство и право», 1957, № 12, стр. 84—96.
Расулов Т. Α., О философских и социологических взглядах Огюста
Конта.— «Известия Акад. наук Азербайдж. ССР, серия обществ, наук», 1959,
№ 3, стр. 103—117.
Субботин А. Л., Философские идеи Огюста Конта.— «Вопросы
философии», 1957, № 6, стр. 72—79.
748
Harris M. S., The aesthetic theory of Comte.— «Philosophical review», 1927,
v. 36, p. 226-236.
Kühnert H., Auguste Comtes Verhältnis zur Kunst, Jena, 1910, 65 S. Diss.
Lévy-Bruhl L., La philosophie d'A. Comte, P., Alcan, 1900, 417 p.
Roux Α., La pensée d'Auguste Comte, P., 1920, 434 p.
Τ эн
Сочинения:
Τ a i η e H., Pages choisies, t. 1—2, P., Hachette, 1953.
Τ a i η e H., Histoire de la littérature anglaise, 12—14 éd., t. I—V, P., Hachette,
1911—1916.
Τ a i η e H., Introduction à l'histoire de la littérature anglaise avec des
remarques préliminaires, Princeton, univ. press, 1944, XIX, 29 p.
Τ a i η e H., Philosophie de l'art, t. 1—2, P., Hachette, 1948.
Τ a i η e H., Voyage en Italie, t. 1—2, P., Hachette, 1900—1901.
«Taine H., sa vie et sa correspondance», t. I—IV, P., Hachette, 1902—1907.
Τ э h И., Новейшая английская литература в современных ее представителях,
Спб., 1876, 383 стр.
Τ э н И., О методе критики и об истории литературы, Спб., Юровский, 1896,
64 стр.
Τ э н И., Путешествие по. Италии. Пер. П. Перцова, т. 1—2, М., «Наука»,
1913—1916.
Τ э н И., Философия искусства. Пер. Н. Соболевского, [М.], Изогиз, [1933],
360 стр., ил л.
Τ э н И., Чтения об искусстве, изд. 6, Спб., Губинский, 1912, 453 стр.
Литература:
Барбюс Α., Тэн и литература XIX века.— «Интернациональная
литература», 1940, № 9—10, стр. 162—167.
Деревицкий А. Н., Тэн как эстетик, [Харьков, 1893].
Ott. из газ.: «Харьковские губ. ведомости», 1893, № 77 и 78.
Borsdorf Α., Science of literature. On the literary theories of Taine and
Herbert Spencer, Lond., Nutt, 1903, 67 p.
С a s t e χ P.-G., La critique d'art en France au XIXe siècle, t. II, P., Centre
de documentation univ., s. a., p. 84—116.
С h e ν r i 1 1 ο η Α., Taine. Formation de sa pensée, P., 1932, VIII, 415 p.
Cresson Α., Hippolyte Taine. Sa vie, son œuvre, avec un exposé de sa
philosophie, P., Presses univ. de France, 1951, 151 p.
Kahn S. J., Science and aesthetic judgement. A study in Taine's critical
method, Lond., Routledge, 1953, XII, 283 p.
Kessler L., Hippolyte Taines Kunstphilosophie.— «Zeitschrift für Ästhetik
und allgemeine Kunstwissenschaft», 1911, Bd. 6, S. 337—354.
La m ρ 1 Α., Taine und die Ästhetik der Zukunft.— «Archiv für systematische
Philosophie», 1921—1923, В d. 26, S. 55—62, 118—129; Bd. 27, S. 60—66.
Lenoir R., L'esthétique de Taine et son siècle.— «Revue de métaphysique
et de morale», 1931, t. 38, p. 569—598.
Lindemann Th., H. Taines Philosophie der Kunst.— «Zeitschrift für
Philosophie und philosophische Kritik», 1906, Bd. 127, S. 144—156.
Rosea D. D., L'influence de Hegel sur Taine, théoricien de la connaissance
et de l'art, P., Gamber, 1928, 431 p.
Schlaf J., Kritik der Taineschen Kunsttheorie, Wien, 1906, 66 S.
Ζ e i 11 e r J., Die Kunstphilosophie von Η. A. Taine, Lpz., Seemann, 1901,
VIII, 206 S.
749
Брюнетьер
Сочинения:
Brunetière F., L'art et la morale, 3 éd., P., Hetzel, 1898, 100 p.
Brunetière F., Etudes critiques sur l'histoire de la littérature française,
t. 1—9, P., Hachette, 1880—1925.
Brunetière F., Evolution des genres dans l'histoire de la littérature, P.,
Hachette, 1890, XIV, 283 p.
Brunetière F., Histoire et littérature, t. 1—3, P., Calmann-Lévy, 1884—
1886.
Brunetière F., Le roman naturaliste, P., Calmann-Lévy, s. a., V, 393 p.
Брюнетьер Φ., Европейская литература XIX века. Пер. А. Веселовскоц,
М., 1900, 76 стр.
Брюнетьер Ф., Искусство и нравственность, Спб., 1900, 46 стр.
Брюнетьер Ф., Отличительный характер французской литературы,
Одесса, Бейленсон и Юровский, 1893, 30. стр.
Литература:
В е 1 i s. Α., La critique française à la fin du XIXe siècle, P., 1926, 280 p.
Gurtius E. R., Ferdinand Brunetière. Beitrag zur Geschichte der
französischen Kritik, Strassburg, 1914, 138 S.
Giraud V., Brunetière, P., 1932, 221 p.
Haenni R., Aus Brunetières Ideenwelt, Samen, 1931, 88 S.
Hocking Ε., Ferdinand Brunetière. The evolution of a critic, Madison, univ.
of Wisconsin, 1936, 273 p.
Jéquier W., Ferdinand Brunetière et la critique littéraire, Lausanne, 1922,
154 p. Thèse.
АН ГАИЛ
ΚΤΕ Τ Κ ΚΑ
АНГЛИЙСКОГО
РОМАНТИЗМА
История английской культуры не знает времени,
когда бы проблемы искусства обсуждались с
такой страстностью, как в период господства
романтизма.
Еще в 80—90-е годы XVIII века
романтическая концепция искусства стала складываться в
творчестве Уильяма Блейка (1757—1827). Его
лирика, поэмы и картины (преимущественно
иллюстрации к собственным сочинениям) были
разрывом с классицистической традицией, выражали вдохновенную
веру в способность поэтического воображения.
В одном мгновеньи видеть вечность,
Огромный мир — в зерне песка,
В единой горсти — бесконечность
И небо — в чашечке цветка.
Перевод С. Маршака.
25 История эстетики, т. III
753
В этом знаменитом четверостишии Блейка исследователи
увидели как бы самую краткую и ясную формулу романтизма. Намного
опередив свою эпоху, Блейк был одинок в своих исканиях и
открытиях. Не многие знали его, и он не оказал никакого влияния на
развитие эстетической мысли своего времени. Его имя воскресло
только в 60-е годы XIX века в работах прерафаэлитов и задним
числом было восстановлено среди зачинателей романтизма.
Романтическое движение отразило стихийный, не всегда до
конца осознанный протест против социальных сдвигов, вызванных
бурным развитием капиталистических отношений; отразило оно
также сложное отношение английских демократов к Великой
французской революции: разделяя идеалы революции, они в большинстве
своем отвергли ее методы.
Литературным манифестом романтизма в Англии традиционно
считается предисловие к сборнику «Лирических баллад»,
опубликованному поэтами Вордсвортом и Кольриджем в 1798 году. Время,
когда они увлекались революцией и мечтали о счастливом будущем
свободного человека, было позади. Вордсворт и Кольридж потеряли
веру не только в осуществимость земного рая, но и вообще в
возможность благотворных социальных преобразований. Оба поэта
приходят к заключению, что исцеление человечества может наступить
только как следствие длительного процесса нравственного
совершенствования. Важнейшую роль в этом процессе они отдавали
искусству.
Именно искусство призвано открыть людям, духовно гибнущим
«в противоестественной толчее городов» *, красоту природы,
показать, что в ней отражена красота бога, без постижения которой
невозможно нравственное возрождение. Такую роль искусство, по
убеждению Вордсворта и Кольриджа, может играть только потому,
что воображение поэта позволяет ему проникать в истинную
сущность явлений гораздо глубже, чем это доступно ограниченному
формальной логикой разуму ученого или государственного деятеля.
Сущностью поэтического воображения является его способность
познать красоту мира, скрытую от обыкновенных людей, которые
«имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат». Поэт
просвещает, одухотворяет их, раскрывая перед ними красоту
обыденного; он учитель, пророк, на его плечи возлагается тяжелое бремя
моральной ответственности.
Эстетическая теория Вордсворта и Кольриджа является, таким
образом, частью их нравственного и социального учения и насквозь
' Письмо Кольриджа к Т. Пулу от 23 марта 1801 года,—S. T. Colerid-
g е, Collected letters, v. II, Oxford, 1956, p. 388.
754
пропитана этическими и религиозными тенденциями. Она
решительно противостоит философии и общественно-политическим
взглядам просветителей XVIII века. Считая, что завершение революции
военной диктатурой Наполеона наглядно продемонстрировало
иллюзорность веры просветителей в способность людей построить
справедливое и свободное общество по законам разума, английские поэты
отвергают материализм и рационализм Просвещения. Просветители
в своих построениях исходили из материалистического толкования
человеческой природы, ее потребностей и интересов. По убеждению
Вордсворта и Кольриджа, они пренебрегали «идеальной», духовной
стороной, а потому не могли стимулировать и направлять доброе
начало, заключенное в каждом человеке; они возлагали слишком
большие надежды на разум, и надежды эти не оправдались, ибо
разум ограничен, склонен к заблуждениям. Между тем чувство,
непосредственный инстинкт никогда не могут обмануть.
«Философское положение, которое не говорит сердцу, вряд ли может быть
истинным» 1,— писал Кольридж в письме к другу. Поэзия тем
и замечательна, что основана исключительно на чувстве, обращена
к чувству и потому заключает гораздо больше инстинктивной
мудрости, чем самая изощренная философская система. Мудрость ее, по
Кольриджу, заключается в том, что она абстрагируется от
случайного, мелкого и сосредоточивается на высоком и идеальном,
добиваясь с помощью символов, чтобы общее проглядывало через
частное, вечное — через временное, множественное — через единичное.
В этом диалектическом соотношении заключена тайна прекрасного.
Для Вордсворта прекрасное совпадает с нравственным и
возвышенным, а Кольридж, хотя тоже склонен к отождествлению красоты
и добра, подчеркивает специфику эстетического наслаждения и
значения художественной формы. Он различает органическую форму,
растущую из содержания и развивающуюся вместе с ним, и
механическую форму, извне навязываемую содержанием. В
догматической приверженности к такой внешней форме Кольридж обвиняет
классицистов. Вордсворт и Кольридж обрушиваются на поэтику
классицизма, на ее систему правил и запретов. Поэзия должна быть
свободным проявлением воображения, чуждого каким бы то ни
было заранее установленным нормам и ограничениям. Язык поэзии
должен быть прост, естествен и, в противоположность высокому
стилю классицизма, близок к живой речи. Вордсворт и Кольридж,
развивая тенденции, зародившиеся еще в так называемый предро-
мантический период, призывают к изучению народного творчества.
1 Письмо Кольриджа к Р. Саути от 17 августа 1803 года.— S. Т. С о 1 е-
ridge, Collected letters, ν. Il, p. 961.
25*
755
Теоретические положения эстетики Вордсворта и Кольриджа,
отчетливо отразившиеся в их поэтической практике, имели очень
большое значение для развития эстетической мысли в Англии. Они
подчеркнули познавательную функцию искусства, они теоретически
обосновали критику (не всегда, впрочем, справедливую)
ограниченности классицистической поэтики, они положили начало
романтической философии искусства в Англии, до сих пор влиятельной на
Западе, они способствовали расширению возможностей поэтической
речи, освобождению ее от нормативности, диктуемой правилами
классицизма.
В теоретических работах Кольриджа, не без влияния немецких
мыслителей эпохи романтизма, заложены основы исторического
и диалектического понимания искусства.
Вместе с тем в своей борьбе против рационализма и
материализма просветителей Вордсворт и Кольридж абсолютизировали
противоречие между разумом и чувством, прославляли интуитивное
воображение в противовес рассудку, рассматривали совершенство
природы как проявление мудрости творца, проповедовали веру,
смирение и покорность судьбе 1.
С резкой критикой эстетических взглядов Вордсворта и
Кольриджа выступил Байрон. Он осмеивал мистицизм «лекистов»,
мелочность их тематики, их недоверие к разуму и претензии на создание
новой философской и поэтической системы. Защита рационализма
классицистической поэтики у Байрона неотделима от защиты
философского рационализма Просвещения, идеалам которого он, в
противоположность Вордсворту и Кольриджу, остался верен до конца.
Байрон выступает в защиту искусства, которое ставит перед собой
прямые общественные задачи. Он борется за искусство
универсального значения, которое вместило бы в себя интересы и стремления
передового человечества, и за эстетику, которая была бы
отражением поисков эстетической и социальной правды.
В этом отношении его литературные воззрения близки Вальтеру
Скотту, родоначальнику европейского исторического романа. В
своих статьях и предисловиях, а в особенности в своей художественной
деятельности, Скотт отстаивает принципы реализма в искусстве,
ратует за создание произведений крупных исторических масштабов,
произведений, раскрывающих смысл переживаемых миром
социальных потрясений. Байрон и Вальтер Скотт при всем различии своих
1 Другом и единомышленником поэтов-«лекистов» (от lake — озеро) —
так называли Вордсворта и Кольриджа враждебные им рецензенты, потому
что они жили в озерном крае Северной Англии,— был эссеист и
литературный критик Томас Де Квинси (1785—1859), автор ряда интересных
теоретических статей («О стиле», «О риторике» и др.).
756
политических убеждений, при зсем несходстве своих общественных
и литературных позиций приходили к близким теоретическим
взглядам, выводившим их за пределы эстетики романтизма.
Большинство же участников романтического движения, даже категорически
отвергая религиозный и политический консерватизм Вордсворта
и Кольриджа, не соглашаясь с многими их оценками и
положениями, сходились с ними в своих основных теоретических
выводах.
Это особенно очевидно на примере Шелли. Революционер,
утопист, враг религии и церкви, воспитанный на политических и
нравственных идеях Просвещения, Шелли, однако, тоже возражает
против механицизма философов XVIII века. Сохраняя, вопреки
реакционной проповеди «лекистов», доверие к разуму, Шелли тем не
менее, так же как они, утверждал, что разум уступает
воображению, которое с инстинктивной верностью воспроизводит правду
жизни. Поэтому Шелли считает поэтов большими благодетелями
человечества, чем ученых: они провидят истину, скрытую от
обыденного человеческого взора и недоступную рационалистическому
познанию ученых. Шелли, так же как Вордсворт и Кольридж, не
приемлет систему классицизма, порывает с господствующей
традицией, и его поэзия во многом определила пути развития английской
лирики XIX и даже XX века.
Несмотря на ощутимое сходство во взглядах Шелли и
«лекистов», различие между ними гораздо значительнее. Прежде всего,
в эстетике Шелли нет религиозного смиренномудрия, он не ищет
во всем видимом мире отражения божественной красоты.
Принципиально иначе понимает Шелли задачи искусства. Вордсворт и
Кольридж считают, что поэт, раскрывая красоту окружающего мира,
учит довольствоваться этой красотой и предаваться духовному
совершенствованию ценой отказа от совершенствования общества.
Шелли, напротив, уверен, что поэт, приподнимая завесу,
скрывающую от обыкновенных людей мир прекрасного, призван вместе
с тем просветить их, научить их бороться за торжество на земле
справедливости, красоты, любви и добра. Если у Вордсворта и
Кольриджа функции поэтического воображения сводятся к тому, чтобы
призвать людей довольствоваться духовной свободой и пренебрегать
свободой реальной, материальной, то у Шелли поэтическое
воображение должно вдохновлять людей и заставлять их стремиться к
подлинной свободе.
Далее, Кольридж и в особенности Вордсворт считают
необходимым заставить искусство служить распространению пуританских
идеалов, утверждению религиозно окрашенной добродетели
самоограничения. Шелли же видит задачу искусства в том, чтобы стоять
757
на страже «естественной» морали, то есть морали, основанной на
влечении сердца, которое побуждает человека стремиться лишь
к тому, что составляет его законнейшее право — к свободе и
радости. Эстетика Шелли, таким образом, была эстетикой
революционной в своем понимании искусства как важнейшего рычага
освобождения человечества от политического, религиозного и нравственного
угнетения. В этом ее коренное отличие от системы Вордсворта
и Кольриджа.
В эстетике Шелли, в духе основных законов романтической
теории искусства, требование предельной конкретности изображения
своеобразно сочетается с убеждением, что наиболее совершенной
является поэзия, освобожденная от временной оболочки и
посвященная вечным, общечеловеческим темам и идеалам. «Поэт относится
к порокам своих сограждан как к временному одеянию, которое
лишь окутывает то или иное его творение... Не многие поэты, даже
из числа величайших, осмелились явить миру истинную красоту
своих замыслов во всем ее нагом великолепии» *.
Эстетическая система Шелли имеет поэтому черты
отвлеченности, свойственные романтической теории искусства. Эти черты еще
резче выражены в литературных взглядах младшего современника
Шелли — Китса и близких к нему критиков и эссеистов — Хэз-
литта (1778-1830), Лэма (1775-1834), Хента (1784-1859).
В отличие от Шелли, поэзия которого и в прямой и в
символической форме призывала к борьбе за равенство и братство людей,
Ките считал, что поэзия может оказывать нравственное воздействие
одной лишь силой своей красоты и величия. Ките, Хэзлитт, Лэм
осуждали искусство, слишком непосредственно возвещающее о своих
общественных задачах. Отличительной чертой художника должна
быть не идущая от разума целеустремленность, а творческое
воображение, то есть способность интуитивного познания подлинной
сути всякого предмета. Развивая теории Вордсворта и Кольриджа,
Ките и Хэзлитт считали, что, в отличие от разума, который
занимается разграничением понятий, а тем самым невольно
способствует разделению людей, придерживающихся этих различных
понятий, воображение поэта обладает «симпатическими»
свойствами, схватывая ту подлинную сущность каждого явления
действительности, которая одинаково близка и дорога любому человеку,
независимо от его взглядов и даже от эпохи.
Ките объявляет воображение поэта «способностью негативной»,
то есть противоположной сознательному усилию мысли или воли.
Поэт не только не должен навязывать свою мысль, волю, самую
1 См. ниже, стр. 785—786.
758
личность свою читателю, но должен вообще забыть о себе,
раствориться в своей теме, перевоплотиться в изображаемых им людей —
словом, уподобиться Шекспиру, великому именно тем, что он, по
формулирование Хэзлитта, был как бы духом, обитавшим
последовательно в разных телах.
Личность самого поэта, по мнению Китса и Хэзлитта, проявляется
только в характере тех разнообразных ассоциаций, которыми он
умеет окружить любой предмет, пусть даже самый незначительный.
Учение об ассоциативных свойствах воображения подробнее всего
разработано у Хэзлитта. Он считал, что обыденному восприятию
доступен только предмет, как таковой. Задача поэта сводится к тому,
чтобы показать, какое множество ассоциаций воображение
связывает с этим предметом под влиянием чувства (или страсти, как
чаще выражались романтики), и тем самым вызвать у читателей
сильное движение души, заставить их увидеть предмет в новом для
них свете 1.
По убеждению Китса и его друзей, поэт, познавший подлинную
сущность предмета, выражает эту сущность в конкретных образах,
подчиненных той правде чувства, которую открыл поэт. Однако эти
конкретные образы, определенные ассоциативной способностью
воображения, должны возникать естественно, стихийно, вытекать из
сущности изображаемого, а не быть «приданными» ему прихотью
авторской фантазии. Такие образы Хэзлитт и Ките считали
внешними, механическими, а потому антипоэтическими.
Трактовка ассоциаций у Хэзлитта и Китса раскрывает различие
между их теорией искусства и теорией Кольриджа: Хэзлитт,
который обосновал и сформулировал эту концепцию, настаивает на
внутренней необходимости ассоциативного процесса, на его
зависимости от объективной сущности предмета. Он следует в трактовке
этой проблемы за английским философом Хартли, которому принад-
1 Хент, следуя мысли Хэзлитта, приводит в качестве примера строчку
из Чосера: «Встало солнце и встала Эмилия» («Up rose the sun and up rose
Emily»). Путем простого сопоставления, ритмического и синтаксического, без
традиционных, навязчивых приемов сравнения или олицетворения, поэт
дает понять, что под влиянием сильного переживания движения небесного
светила и прелестной девушки сливаются в его воображении и кажутся
одинаково достойными почтительного внимания. Такое отношение поэта
передается читателю (L. Hun t, Preface to stories in verse. Leigh Hunt's literary
criticism. Ed. by L. Hg. C. W. Houtchens, N. Y., 1956, p. 358). Co своей
стороны Лэм в прославлении поэтического воображения доходит до того,
что считает порождаемое им богатство ассоциаций невоспроизводимым и
возмущается грубыми, с его точки зрения, попытками сценической
интерпретации лучших трагедий Шекспира (Ch. Lamb, On the tragedies of
Shakespeare.—Complete works and letters of Ch. Lamb, N. Y., 1935, p. 358,
358—359, 363).
759
лежало материалистическое толкование ассоциаций. Между тем
Кольридж, в юности почитатель Хартли, впоследствии подверг его
идеи суровой критике и занял в этом вопросе идеалистическую
позицию 1 (позицию гораздо более последовательную и непримиримую,
чем Вордсворт, который до конца не отрешился от некоторых
материалистических тенденций, воспринятых им в период его раннего
философского и политического радикализма).
Задача воображения для Китса и Хэзлитта — познание,
расширение духовных возможностей человека, необходимое не для
примирения его с действительностью, как учили Вордсворт и Кольридж,
а для формирования независимой, смело чувствующей и мыслящей
индивидуальности.
Такое освобождающее воздействие искусство может иметь
потому, что силой проникновенного воображения создает поэтический
мир, более прекрасный, чем реально существующий, и воплотивший
в себе все то, чем должно было быть, но не стало из-за тирании
и неравенства человеческое общество. Создание такого мира, не
соответствующего своему реальному прообразу, ни Хэзлитт, ни Ките
не считают отступлением от правды. Напротив, с их точки зрения,
именно этот мир и является истинным. Поэзия, запечатлевающая
убожество, приниженность современного человека, то есть поэзия,
следующая эмпирической правде фактов,— это поэзия ложная.
«Истинной» они считают только такую, которая угадывает подлинную,
то есть естественную и прекрасную, сущность человека — его жажду
свободы и полноты жизни. Вот почему «истинное» и «прекрасное»
(«truth», «beauty») для Китса и Хэзлитта тождественны.
Понятие красоты человека для Китса и Хэзлитта, как и для
большинства романтиков, не исключало трагической противоречивости
души. Но сама эта противоречивость, свидетельствующая о силе
страстей, владеющих человеком и обрекающих его на жизнь, в
которой страдание переплетается с блаженством, победа с
поражением, казалась им прекрасной. Творя по законам воображения, поэт
даже ненависть, злобу и порок втягивает в орбиту красоты и,
возбуждая в читателе жажду противоположных чувств, тем самым
возвышает его. Представление о диалектике души соединяется
у английских романтиков со своеобразным сенсуализмом, который
проявляется в обостренном интересе к материальному бытию,
к жизни природы.
Несмотря на идеалистические черты эстетики английского
романтизма, в его отказе от рационалистической прямолинейности
1 См. S. Т. Coleridge, Biographia literaria.— Complete works, ν, III, N.
Y., 1854, p. 245 a. o.
760
классиков XVII—XVIII веков было прогрессивное содержание,
связанное с развитием диалектического мышления. Эти достижения
романтиков не прошли бесследно для реалистического искусства
XIX века.
Я. Я. ДЬЯКОНОВА
БЛЕИК
1757-1827
Уильям Блейк — английский поэт, гравер, художник, своеобразный
мыслитель, первый провозвестник романтической эстетики, почти неизвестный при
жизни и признанный классиком английской поэзии и искусства несколько
десятилетий спустя после смерти.
В ранний период у Блейка преобладает лирика. Позднее страстный протест
против насилия не укладывался больше у него в сжатую форму коротких
стихов-песен. Блейк стремится создать грандиозный цикл так называемых
«пророческих» поэм «нового мифа», объемлющий всю сложность и противоречивость
бытия, с его ожесточенной борьбой, падениями и конечной победой светлого
начала. Традиции народных революционных еретических учений XVII века,
подспудно таившихся среди беднейших слоев английского общества, к
которым принадлежал и Блейк, во многом определили содержание и формы его
творчества. Поэтому и слово «пророк» означает для Блейка «голос честного
негодования» простого человека.
Всю жизнь Блейк оставался верен своему глубокому убеждению, что в
борьбе за светлое будущее человечества, за его обновленную свободную жизнь
главным оружием является искусство. Вера в действенную, преобразующую
силу искусства пронизывает все его творчество. В этом он перекликается с
некоторыми излюбленными идеями Шелли — о том, что поэты и художники
должны быть законодателями и наставниками народов. Но Блейк принадлежал
все же к более раннему, чем Шелли, поколению, примерно соответствовавшему
эпохе «Бури и натиска» на континенте. Отсюда восхищение Блейка готикой,
друидами и бардами; противопоставление воображения и энтузиазма — расчету
и рассудку; политической свободы — незыблемому старому порядку под сенью
столь же незыблемых, «железных» законов; первобытного безмятежного
бытия — бессмысленному изнурительному механическому труду на заводах;
отсюда же ожидание последнего апокалиптического катаклизма, который должен
обновить землю, уничтожить насилие и осчастливить человечество.
Б лейку было сорок лет, когда появились «Лирические баллады» Вордсвор-
та с их манифестом романтизма, он отнесся к ним внимательно, но
критически. Тем не менее многие черты объединяют Блейка с романтизмом: в нем
761
та же замена логического анализа мечтами и фантазией; та же пластическая
сила воображения, вулканическая накаленность чувств и возвышенное
благородство стремлений; та же попытка преодолеть трагедию действительной
жизни хотя бы мысленным разрешением противоречий в поэтическом творчестве.
Но Блейк отличается от романтиков прежде всего своим последовательным
оптимизмом, а также страстной убежденностью в необходимости для каждого
человека-творца активного вмешательства в жизнь.
Подобно просветителям XVIII века, Блейк обращает острие своей критики
прежде всего против уходящего старого мира, против его косных пережитков
в общественной и духовной жизни. Колоссальные социальные и политические
сдвиги, совершавшиеся на его глазах, привели Блейка к мысли о непрерывной
изменчивости мира. Блейк отбрасывает абстрактно-рационалистические
представления о незыблемой вселенной, которой должно соответствовать столь же
неизменное общественное устройство, где каждый навеки прикован к своему
месту. Такая вселенная казалась Блейку мертвой, а неподвижные законы,
управляющие ею,— нестерпимым угнетением.
Блейк остро чувствовал враждебность капитализма поэзии и искусству.
В отличие от индивидуализма XIX века противоречие между личностью и
обществом решается Блейком в пользу общества. В титанических образах его
поэм нет культа гениев и воспевания сверхчеловека, а только страстная
симпатия к обездоленным и ненависть к денежному мешку. Положительный идеал
грядущего царства свободы остается у него абстрактным и утопичным,
поскольку Блейк не мог конкретно представить его воплощение. Но он твердо
верил в будущую борьбу и победу.
ИЗ «БРАКА НЕБА И АДА»
Без противоположностей нет прогресса. Притяжение и
отталкивание, Разум и Энергия, Любовь и Ненависть — необходимы для
человеческого существования. Из этих контрастов проистекает то,
что религия называет Добром и Злом. Добро — пассивно, оно
повинуется Разуму; Зло — активно, оно рождается из энергии. Добро
есть Небо, Зло есть Ад.
The complete writings of William Blake, L., 1957,
p. 149—150. Перевод Ε. А. Некрасовой.
ИЗ РАЗНЫХ ПОЭМ
Пророки в современном смысле слова никогда не существовали.
Каждый человек — пророк: он высказывает свое мнение о частных
и общественных делах. Например: если вы будете продолжать
762
делать то-то, последствия будут такие-то. Он никогда не скажет,
что то-то случится, что бы вы ни делали. Пророк — провидец, а не
произвольный диктатор. [...]
Основа государства — искусства и науки.
Воинственное государство никогда не создаст искусства, оно
будет грабить, и разорять, и нагромождать в одном месте, и тащить
в другое, и копировать, и покупать, и продавать, и критиковать,—
но не творить, не созидать.
Возвышение государства, как и человека, зависит от внутреннего
развития или интеллектуальных приобретений. Человек не делается
лучше, причиняя боль другому, государства не совершенствуются
за счет чужеземцев.
Искусство и науки суть уничтожение тирании и дурных
правительств.
Настоящее дело человека — это искусство, и все должно быть
общим.
Коммерция совсем не покровительствует ни искусству, ни
государству и действует разрушительно на обоих.
Когда искусство угнетено, воображение отвергнуто,— война
управляет народами.
Машина не человек и не произведение искусства... она
уничтожает человечность.
ИЗ ПИСЬМА ТРЕССЛЕРУ ОТ 29 АВГУСТА 1799 года
[...] Мне жаль, что ваши и мои представления о живописи столь
расходятся. Вы говорите, что мне нужен некто, кто должен
разъяснять мои идеи. Но вы должны были бы знать, что все великое
кажется темным для мелких душонок. То, что можно растолковать
идиоту, не стоит моих усилий. Греческие мудрецы считали то, что
не слишком очевидно, наиболее пригодным для поучения, так как
оно пробуждает способности... Я хорошо понимаю, что мой мир —
мир воображения и духовного видения. Я вижу все, что я
изображаю из этого мира, но не каждый видит его таким же. В глазах
скупца золотая монета гораздо красивее солнца, и потертый от
ношения денег кошелек обладает более прекрасными формами, чем
Там же, стр. 961, 445, 431, 402, 970, 771,595, 775,
451. Перевод Е. А. Некрасовой.
763
лоза, увешанная гроздьями. Дерево, которое может иного
растрогать до слез, для других будет лишь мешающим на дороге зеленым
предметом. Некоторые видят в природе только странное и
уродливое, и не по ним я буду регулировать свои пропорции; а некоторые
вообще не видят природы. Но для взора человека с воображением
природа и есть воображение. Каков человек, таков и взгляд. И как
сделан глаз, таковы и его возможности.
Там же, стр. 793—794. Перевод
Е. А. Некрасовой.
ИЗ «ОБРАЩЕНИЯ К ОБЩЕСТВУ»
Жалкое положение искусства в этой стране, коренящееся в
жалком состоянии политической науки, которая есть наука наук,
требует твердого и решительного поведения со стороны художников,
чтобы противостоять презренным псевдоискусствам, установленным
таким презренным политиканом, как Людовик XIV, а до того
пущенным в ход венецианскими торговцами картинами, музыкой
и рифмой к уничтожению всякого истинного искусства. [...]
До тех пор, пока произведения Попа и Драйдена будут
рассматриваться как равные искусству Шекспира и Мильтона, пока
произведения Стрэнджа и Вулетта ставятся наравне с Рафаэлем и
Дюрером,— не может существовать в нации другого искусства, кроме
искусства, подчиненного интересу торговца-монополиста. [...]
Спрос в Англии не на то, чтобы человек обладал талантом или
гением, а на то, чтобы он был пассивным, поэтичным и
добродетельным ослом и был послушен мнениям знати об искусстве и науке.
Если он таков — он хороший человек; если нет — пусть подыхает
с голоду. [...]
Англичане, проснитесь от фатального сна, в который вас
погрузили книгопродавцы и торговые дельцы под искусно
пропагандированным предлогом, что переводы и копии всякого рода делают нации
такую же честь, как оригиналы; оскорбляя английский характер
известной поговоркой, что англичане совершенствуют то, что другие
изобретают. Что это отвратительная ложь, доказывают хотя бы
произведения Хогарта. Никто не может улучшить оригинальное
создание, так же как оригинальный замысел не может существовать
без должного выполнения, организованного, очерченного и
расчлененного. [...] Оригинальность и характерность — вот два великих
достоинства большого стиля. [...]
764
Выразительности не может быть без характерности как ее
основы, и ни характера, ни выражения не будет без твердого и
определенного контура. [...] Выкиньте линию — и вы выкинете самую
жизнь, все снова станет хаосом. [...]
Нам следует сотни раз нарисовать с натуры то, чем мы хотим
овладеть,— пока мы не выучим это наизусть. [...]
Разница между хорошим и плохим художником та, что плохой —
только кажется, что копирует, а хороший это делает
действительно. [...] Техническое совершенство есть единственное оружие гения.
Замысел целиком зависит от выполнения или организации. В
зависимости от их правильности или неправильности и замысел будет
совершенным или несовершенным. Без мелочной тщательности
выполнения не может существовать высокое. Величие идей основано
на их точности.
Практика и упражнения очень скоро научают языку искусства,
но его дух и поэзия, сконцентрированные в воображении, никогда
не могут быть преподаны, а только они делают художника.
Живописцев Англии не привлекают к общественным работам,
а скульпторы завалены заказами. [...] Живопись, ведущее искусство,
почти не имеет места среди наших общественных заказов. Я
предлагаю рассмотреть мой план общественных мероприятий по развитию
изящных искусств. [...] Такие памятники сделали бы Англию,
подобно Италии, завидным кладезем интеллектуальных ценностей.
[...] Художнику (автору) хотелось бы, чтобы сейчас существовал
обычай ставить монументальные памятники [...] тогда он не
сомневался бы в получении национального заказа [...] на выполнение
законченных фресок, соответствующих величию нации, породившей
своих героев. [...]
Там же, стр. 600. Перевод Е. А. Некрасовой.
ВОРДСВОРТ
1770-1850
Юношеские произведения Вордсворта исполнены пафоса социального
негодования и сострадания — поэмы «Вина и скорбь» (1791—1794), «Разоренная
хижина» (1797), трагедия «Пограничные жители» (1796). Сочувствие бедности,
тяжелым испытаниям, выпавшим на долю народа, живет и в зрелых
произведениях Вордсворта, написанных после его отказа от идей французской
революции. Вордсворт считал, что наиболее здоровую в моральном отношении
часть современного общества составляют крестьяне: они трудятся на лоне при-
765
роды и близки ей. Многие стихи Вордсворта (в том числе знаменитые
лирические баллады «Люси Грей», «Нас семеро», «Саймон Ли» и др.) написаны
нарочито простонародным языком, безыскусственность которого Вордсворт считает
гораздо более поэтической, чем условная риторика книжной, преимущественно
классицистической поэзии.
В попытках «опрощения» поэтической речи Вордсворт в ряде случаев
опускался до чрезмерного примитивизма, за что его критиковал Кольридж и
высмеивал Байрон. Помимо поэм, посвященных сельской жизни, Вордсворту
принадлежат также лирико-философские произведения — замечательные образцы
романтической исповеди (поэмы «Прогулка», 1814; «Прелюдия», 1798—1805,
опубл. 1850, «Тинтернское аббатство»), а также многочисленные баллады и
сонеты.
Эстетические взгляды поэта изложены в нескольких предисловиях к его
стихотворениям. Особенно большое значение имело написанное Вордсвортом
предисловие ко второму изданию «Лирических баллад» (1800). В отличие от Коль-
риджа, испытавшего сильное воздействие немецкой идеалистической эстетики,
Вордсворт сохраняет тесную связь с эмпирической и сенсуалистической
теорией искусства, выработанной его английскими предшественниками. Критерием
прекрасного остается для него верность природе, хотя само понятие «природа»,
по мере углубления его разрыва с воззрениями просветителей, приобретает все
более спиритуалистический характер, превращаясь в воплощение бога. Поэт,
который с наибольшей правдивостью передал впечатление, производимое
природой на чувство и воображение, по мысли Вордсворта, верен жизни и
приближается к постижению бога. Вордсворт считал, что наибольшую
чувствительность к красоте природы человек проявляет в детстве. Поэтому поэт,
воскрешая в своих произведениях впечатлительность и наивную мудрость ребенка,
познает истину и красоту.
ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЛИРИЧЕСКИМ БАЛЛАДАМ»
[...] Создавая «Баллады», я почитал своею главною целью выбрать
из повседневной жизни положения и события и пересказать или
описать их с начала до конца языком, на котором в действительности
говорят люди; осветить все лучом воображения, которое представило
бы нам обычное с неожиданной стороны; и далее — что всего
важнее — сообщить этим положениям и событиям интерес и
значительность, выявив естественным образом их связь с первичными
законами природы — во всяком случае, так, как она представляется
в моменты, когда мы воспринимаем эти явления и ассоциируем их
с другими в состоянии повышенной эмоциональности. Как предмет
изображения выбиралась обычно смиренная сельская жизнь,
потому что она дает более благоприятную почву для созревания пер-
766
возданных страстей человеческого сердца, которые могут расти на
свободе и изъясняться языком простым и выразительным; потому
что в такой жизни наши чувства сосуществуют в большей
непосредственности, не чураются пытливого взора и могут быть переданы
с большей силой; потому что обычаи сельской жизни рождаются
из этих простых чувств, крепнут в исконных крестьянских занятиях
и отличаются бесхитростностью и большим постоянством и,
наконец, потому, что в сельской жизни людские страсти существуют
в слиянии с прекрасной и вечной природой. В «Балладах» был
принят и язык крестьян (разумеется, очищенный от его действительных
пороков, могущих вызвать справедливое негодование и надолго
отвратить читателя), потому что они изо дня в день соприкасаются
с тем, что есть лучшего в природе и что было когда-то источником
всего лучшего в языке; и еще потому, что их место на общественной
лестнице, их постоянный и узкий круг уберегает их от суеты и
тщеславия и они передают свои чувства и мысли словами простыми
и ненадуманными. Такой язык, подсказанный многократным опытом
и выражающий правдивые чувства, есть язык долговечный и более
философский, нежели тот, что частенько измышляют поэты,
полагающие, будто они возвышают свое искусство и себя самих,
отгораживаясь от общечеловеческого и склоняясь к речи прихотливой
и произвольной, в угоду изменчивым вкусам и ветреным
желаниям 1.
При всем этом я не могу остаться равнодушным к раздающимся
в наши дни протестам против банальности и мелочности, заметной
в языке и замыслах иных стихотворцев; согласен я и с тем, что
этот недостаток, коль скоро он действительно существует, наносит
куда больший ущерб репутации автора, чем ложная изощренность
или прихотливые новшества,— хотя в то же время берусь
утверждать, что последствия упомянутого недостатка не в пример менее
пагубны. Надеюсь, от подобного рода стихов читатель отличит
стихотворения, вошедшие в эту книгу,— хотя бы по одному
признаку, а именно: каждое из них написано с определенной моральной
целью. Я не хочу этим сказать, что всякий раз брался за перо, имея
в голове заранее намеченную цель; но привычка к размышлению,
как мне представляется, умела направить и упорядочить мои
чувства таким образом, что описания предметов, эти чувства
возбуждающих, сами по себе подсказывали нравственный вывод. Если это
мое мнение ошибочно, я навряд ли заслужил имя поэта. Всякая
1 Здесь уместно будет заметить, что самые сильные места в сочинениях
Чосера написаны языком ясным и доступным каждому, вплоть до сего дня.—
Прим. Вордсворта.
767
поэзия есть непосредственное излияние могучих страстей; но, хоть
это и справедливо, я не найду среди создателей сколько-нибудь
ценных поэтических произведений — независимо от того, о чем они
написаны,— ни одного человека, у которого к незаурядной
чувствительности, полученной им в дар от природы, не
присоединялась бы способность мыслить глубоко и сосредоточенно. Ведь
приливы и отливы наших чувств подвержены действию мыслей,
которые суть не что иное, как итоги чувств, дотоле нами испытанных;
сопоставляя эти итоги, мы открываем некие общечеловечески
важные истины,— и точно так же, простирая это сопоставление в
область чувств, мы выделяем среди них самые важные; так что в конце
концов, если природа наделила нас живой чувствительностью, весь
склад ума будет побуждать нас к творчеству, и, повинуясь его
приказам слепо и механически, мы станем создавать описания и
повествования, насыщенные такими страстями и мыслями, которые
непременно просветят разум читателя и сделают его душу сильнее
и чище.
Уже говорилось о том, что каждое мое стихотворение имеет
в виду некую моральную цель. Должно упомянуть еще об одном
обстоятельстве, отличающем эти стихи от модной в наше время
поэзии, а именно: чувство, запечатленное в них, придает ценность
событиям и действиям, а не события и действия — чувству.
Ложная скромность не помешает мне сказать, что причиной,
побудившей меня обратить внимание читателя на упомянутое
отличие, были не столько сами стихотворения, сколько важность
проблемы вообще. Это проблема поистине важная! Духовные
способности человека могут прийти в движение и без грубых
возбуждающих средств; натуры более и менее возвышенные в разной мере
обладают этой прекрасной, достойной восхищения способностью;
и как же недальновидны те, кто не признает этого! Я всегда
держался мнения, что одна из самых благородных задач писателя
любой эпохи — стараться развивать эту способность в людях; и
теперь его миссия становится важнее, чем когда бы то ни было.
Множество причин, неведомых прошедшим временам, соединенными
усилиями тщатся притупить в человеке способность к сознательному
мышлению, вывести его из состояния волевой и умственной
активности и возвратить к почти что первобытному оцепенению. Самые
влиятельные из этих причин — грандиозные события, сотрясающие
нашу страну, и усиленное скучивание людей в больших городах, где
однообразие занятий порождает жажду чего-то необычного — жажду,
которую в избытке удовлетворяют нынешние газеты. К этой
перемене нравов и образа жизни уже приспособились у нас и
литература и театральные зрелища. Бесценные творения классиков —
768
я чуть было не сказал Шекспира и Мильтона — предаются
забвению ради безумных романов, тоскливых и глупых немецких драм
и целых океанов праздной и многословной рифмованной писанины.
Когда я думаю об этой недостойной погоне за низменными
возбуждающими средствами, меня охватывает чувство, близкое к стыду,—
как мог я решиться противопоставить всему этому собственные
жалкие усилия? От мыслей об устрашающих размерах бедствия у меня
должны были бы опуститься руки, не будь я в глубине души
убежден в том, что человеческий дух, подверженный воздействию
великой и вечной природы, таит в себе врожденные и непреходящие
силы, и не будь все это подкреплено верой в то, что недалек день,
когда люди более могучего таланта объявят злу беспощадную войну
и добьются большего, чем я, успеха.
[...] Что такое поэт? К кому обращает он свое творчество? Каким
языком он должен писать? Поэт — человек, который говорит с
людьми; правда, это натура, одаренная большей чувствительностью, более
восторженная и нежная; он обладает более проникновенным
знанием человеческой природы и большей душевной широтой, чем
обыкновенно присуще людям; он получает наслаждение от
собственных желаний и страстей — и более других счастлив оттого,
что его кровь кипит огнем жизненных сил; он радуется, встречая
в мире родственные желания и страсти, и дух творчества
повелевает ему порождать их там, где их нет. Ко всем этим качествам
поэт присоединяет способность так живо вдохновляться
отсутствующим, как если бы оно было рядом, и волшебный талант вызывать
в своей душе страсти, которые, хотя и не повторяют точь-в-точь
страстей, рождаемых реальными событиями, все же (в особенности
поскольку они способны доставлять радость и наслаждение) гораздо
ближе стоят к подлинным страстям, нежели слабые отблески чувств,
выпадающие на долю прочих людей с их будничным воображением.
Все это развивает в поэте повышенную, привычную готовность
к выражению своих мыслей и чувств, прежде всего тех, которые
возникают то ли по его свободному выбору, то ли вследствие особых
свойств его сознания, без внешних побудительных причин.
Но в какой бы степени ни обладал этой способностью поэт, даже
величайший,— язык, которым он пишет, вне всякого сомнения,
будет уступать в выразительности и правдивости тому, который
льется из уст людей, на деле обуреваемых теми страстями, чьи
отражения возникают в уме поэта и выливаются на бумагу.
Какой бы возвышенный образ Поэта ни лелеяли мы в душе,
признаемся, что подражать страстям — занятие в известной мере
механическое по сравнению с могуществом и свободой подлинных
поступков и страданий. Поэт, естественно, стремится к полному эмо-
769
циональному сближению со своими героями, более того, к
совершенному отказу от собственного «я», который граничит с
перевоплощением и на какое-то время переплетает и сливает воедино
чувства поэта и героя, оставляя поэту только право слегка изменить
рожденный общими чувствами язык, сообразно со своей конечной
целью — приобщением к наслаждению. И здесь поэт обязан
применить принцип отбора, о важности которого уже говорилось.
Руководствуясь этим принципом, он устранит из описания страсти то,
что есть в ней болезненного или неприятного, памятуя, однако, что
природа не нуждается в возвеличивании или мелочном
приукрашивании; и чем старательнее станет он следовать этому принципу, тем
глубже уверится, что никакие слова, которые сможет подсказать
его фантазия или воображение, не выдержат сравнения с теми,
в чьих звуках слышится правда жизни.
Люди, в общем согласные с духом предлагаемых замечаний, могут
возразить, что коль скоро язык поэта, описывающего страсти,
уступает в выразительности языку подлинных страстей, поэт должен
представить себя в положении переводчика, который ничтоже сум-
няшеся подменяет невоспроизводимые иноязычные образы другими,
им самим сочиненными, и в иных местах стремится превзойти
оригинал, чтобы как-то возместить потери, проистекающие из разницы
языков. Но давать такой совет поэту означало бы поощрять в нем
нерадивость и неверие в свои силы. Подобный совет могли бы
подать люди, не ведающие, о чем говорят, люди, для которых
Поэзия лишь одно из многих развлечений и праздных забав, которые
с самым серьезным видом разглагольствуют про вкус к поэзии —
именно так они выражаются,— словно поэзия доставляет им всего-
навсего приятные ощущения, так же как ловкость канатоходца или
рюмка хереса после обеда. Известны слова Аристотеля о том, что
в поэзии больше философии, чем где бы то ни было еще; слова эти
справедливы: цель поэзии — истина, не мелкая и частная, но
всеобщая и действенная; истина, которая открывается не благодаря
чьему-то свидетельству, но проникает в сердце вместе со страстью;
истина, существующая благодаря самой себе: суд, перед коим она
предстает, сообщает ей уверенность и правомочность и сам
получает свою власть из ее рук.
Поэзия есть отражение человека и природы. На первый взгляд
историк и биограф, если они хотят соблюсти верность
действительности — лишь в этом случае их сочинения принесут пользу людям,—
вынуждены преодолевать несравненно более серьезные препятствия,
чем те, что стоят на пути поэта, сознающего свой высокий долг.
Поэт ограничен в своем творчестве только одним — именно
необходимостью доставить непосредственное наслаждение читателю при
770
помощи тех знаний, которыми он располагает,— не как юрист,
медик, мореплаватель, астроном или естествоиспытатель, а как
Человек. Кроме этого непременного условия, ничто не сковывает руки
поэту в его стремлении воспроизвести действительность, между тем
как на пути историка или биографа стоят тысячи преград.
Однако пусть обязанность доставлять удовольствие не будет
сочтена для поэта унизительной. Она отнюдь не такова.
Удовольствие, к которому поэт приобщает читателя, есть признание красоты
Вселенной, признание тем более искреннее, что оно высказывается
не прямо, а через посредство поэтических образов; и долг этот
необременителен для того, чей взгляд на мир преисполнен любви:
напротив, он превращается в добровольную дань поэта человеческому
достоинству в его первозданной наготе, тому великому, исконному
началу наслаждения, которое движет человеком, дает ему знание,
чувство и жизнь.
[...] Поэзия — дух и сущность познания; это исполненное страсти
выражение, оживляющее холодный лик Науки. К поэту должно
прежде всего отнести слова, сказанные Шекспиром о человеке,—
«глядит он и вперед и вспять» 1. Поэт, как утес, стоит на страже
человечности; он неусыпный защитник и хранитель, он повсюду
несет с собой единение и любовь. Невзирая на разницу стран
и цвета кожи, языка и нравов, законов и обычаев, вопреки тому, что
в мире ежечасно одно предается забвению, а другое свирепо
уничтожается, Поэт силой своего знания и чувства связует воедино на
протяжении всех времен неисчислимое человеческое общество,
рассеянное на просторах земли. Устремления его не знают пределов;
и, хотя поэт по преимуществу доверяется зрению и прочим
человеческим чувствам, он пойдет, не задумываясь, куда угодно в поисках
живительной атмосферы страстей, в которой он мог бы расправить
крылья. Поэзия есть начало и конец всякого знания — как
человеческая душа, она бессмертна.
[...] Я говорил выше, что поэзия есть непосредственное излияние
могучих страстей: она берет начало в ранее испытанном чувстве,
оживающем в нашей памяти; мы начинаем рассматривать его в
спокойном состоянии — но вскоре в силу некоей реакции спокойное
состояние сменяется иным: возникает чувство, близкое к тому, о коем
мы недавно вспоминали, и чувство это обретает как бы свое второе
существование. При таком душевном настрое начинается
обыкновенно успешное творчество, некоторое время сопровождающееся
похожим состоянием; поскольку же всякому чувству, независимо
1 Слегка измененная цитата из «Гамлета» (акт IV, сцена 4. Перевод М.
Лозинского) .
771
от его причин и напряженности, всегда сопутствует наслаждение,
то душевное состояние человека, описывающего по своей воле
какие-то сильные чувства, можно определить как радостное
вдохновение. Если Природе угодно будет ниспослать поэту вдохновение
на долгий срок, он должен извлечь из этого пользу — и прежде всего
постараться сделать так, чтобы его читатель, коль скоро он обладает
душой отзывчивой и сильной, с не меньшим наслаждением
воспринял рассказ о страстях, доставлявших наслаждение самому поэту.
При этом гармония музыкальной, ритмической речи, сознание
достигнутой цели, смутное сходство с наслаждением, когда-то
доставленным похожими рифмованными или напевными строками, свежее,
почти безотчетное обаяние необычного языка, столь близкого
к языку повседневной жизни и в то же время благодаря законам
стихосложения столь от него далекого,— все это вместе исподволь
рождает у читателя многообразное чувство восторга, которое одно
только в силах умерить боль, неизменно сопутствующую
гениальным описаниям глубоких страстей.
Wordsworth, Poetry and prose, selected by
W. M. Merchant, Cambridge, Massachusetts, 1955,
p. 222—225, 227—229, 230, 231. Перевод И.
Комаровой.
КОЛЬРИДЖ
1772-1834
Раннее творчество Сэмюэля Тейлора Кольриджа, как и творчество Ворд-
сворта, было вдохновлено Великой французской революцией 1789 года (ода «На
разрушение Бастилии» и др.). Якобинский террор и завоевательные войны
Франции заставили Кольриджа отшатнуться не только от революции и ее
методов (ода «Франция», «Уныние» и др.), но и от провозглашенного ее
идеологами культа разума. Противопоставляя разуму чувство и веру, Кольридж
стремился пробудить в читателях восторженную любовь к красоте природы и
добродетели. Сближение с Вордсвортом подсказало мысль о совместном
поэтическом сборнике, в котором Вордсворт «ставит себе целью придать очарование
новизны явлениям повседневности и вызвать чувство почти
сверхъестественное, пробуждая внимание от летаргии обычая и направляя его на чудесную
прелесть мира, открытого перед нами» 1. Кольридж, напротив, должен был
описать мир фантазии, в котором события и отчасти действующие лица должны
были быть сверхъестественными. Вошедшая в сборник поэма Кольриджа «Ста-
1 S. Т. Coleridge, Biographia literaria.— The complete works of S.' T.
Coleridge, v, III. New York, 1854, p. 365.
772
рый моряк» — сочетающая фантастику с реальной конкретностью описания
мистическая повесть о муках раскаяния и искупления, пережитых человеком,
который нарушил священный закон природы.
Во вторую половину своей жизни Кольридж пишет преимущественно
прозаические сочинения — религизно-этические, политические и
литературно-критические. Последние представляют наибольший интерес и сохраняют свое
значение в наше время, в особенности «Литературная биография» (1817),
содержащая изложение философско-эстетических взглядов Кольриджа, и «Лекции
о Шекспире» (1818) с их теоретическим обоснованием шекспировского культа
в эпоху романтизма. Полемика Кольриджа с материалистами XVIII века, его
возвеличение чувства и веры находят яркое выражение в его эстетической
теории. В искусстве он ищет выход из противоречий действительности,
противопоставляя методы искусства бездушному, с его точки зрения, рационализму.
В изложении своих взглядов Кольридж подчас близко следует Шеллингу,
Августу Шлегелю, Канту, а также учениям Платона, Плотина и английских
неоплатоников XVII века. Но Кольридж стремился из разнородных элементов
построить целостную систему, сливая воедино философию, поэзию, религию
и этику. Поэзия, считал он, устремлена к истине, которая должна стать
источником наслаждения, а вместе с тем добра и красоты. Она универсальна по
своей природе и представляет весь мир в символических или аллегорических
образах.
ЛИТЕРАТУРНАЯ БИОГРАФИЯ
Глава XI
Обязанность философского изыскания состоит в строгом
разграничении исследуемого материала; однако философ — ив этом его
преимущество — должен помнить, что разграничение не
предполагает механического разделения. Для того чтобы получить
своеобразное представление о какой-либо истине, нужно прежде
мысленно выделить те ее части, которые подлежат разграничению:
такова техника философского процесса. Но затем мы должны
умозрительно восстановить единство всех частей — единство, в коем
они сосуществуют в действительности; и это будет результат
философского процесса. Поэтическое произведение содержит те же
элементы, что и прозаическое; следственно, различие между тем и
другим коренится в разном способе сочетания этих элементов в
зависимости от заданной цели. Цель может быть весьма ограниченной —
например, облегчить запоминание какой-то совокупности фактов или
наблюдений, придав им некую искусственную последовательность.
Подобное произведение с известным правом можно будет назвать
поэтическим — хотя бы по одному тому, что от прозы его отличает
773
присутствие метра, или рифмы, или того и другого вместе. В таком,
самом упрощенном смысле слова мы назовем поэтическим
произведением детский стишок о том, сколько дней в каждом месяце:
Ровцр тридцать в сентябре,
На день больше в октябре...
и другие ему подобные непритязательные вирши. Поскольку наш
слух находит удовольствие в привычном повторении определенных
звуков, в закономерном чередовании ударных и неударных слогов,
произведения, которые обладают этой дополнительной прелестью,
независимо от своего содержания могут быть названы поэтическими.
До сих пор речь шла о внешней форме. Добавочной основой для
разграничения послужит различие целей и содержания.
Непосредственной целью пишущего может быть приобщение читателя к
некоей истине — либо к истине конкретной и наглядно доказуемой,
как в научных сочинениях, либо к истине свершившихся и
запечатленных событий, как в сочинениях исторических. Если цель эта
достигнута, она может стать источником Самого высокого и
непреходящего наслаждения; но само по себе наслаждение не будет
здесь целью. В сочинениях иного толка непосредственной целью
может быть именно приобщение к наслаждению; и хотя перед
читателем в конце концов должна открыться некая истина —
интеллектуальная или нравственная,— наличие или отсутствие такого
результата говорит скорее о свойствах автора произведения и никоим
образом не влияет на отнесенность самого произведения к
определенному роду литературы. Поистине благословенно будет такое
состояние общества, когда непосредственное наслаждение окажется
зависимым от моральной ценности итога и когда никакое
очарование стиля и поэтических образов не спасет от справедливого
возмущения и презрения Анакреонова «Батилла» или «Алексиса»
Вергилия!!
Однако приобщение к наслаждению может быть
непосредственной целью произведения, не организованного метрически,— цель
эта не без успеха достигается в романах и повестях. Спрашивается,
не даст ли им право именоваться поэтическими простое добавление
ритмического начала — с рифмой или без нее? На это я отвечу так:
доставить длительное наслаждение способно лишь то создание
искусства, в котором все элементы внутренне обусловлены и не могут
быть подменены другими. Коль скоро мы прибавляем метр, мы
должны привести в соответствие с ним все прочие составные части.
Ведь на них будет сосредоточено повышенное внимание, внимание
1 Намек на безнравственный, с точки зрения Кольриджа, характер 29-й оды
Анакреона и 2-й эклоги «Буколик» Вергилия.—Ярил, перев.
774
особого рода, связанное со стройным чередованием ударений и
звуков,— и все элементы должны обрести такой вид, чтобы выдержать
эту проверку. Итак, окончательное определение, выведенное из
всего, о чем говорилось выше, может быть формулировано
следующим образом. Поэтическое произведение есть вид литературного
творчества, отличающийся от научного трактата своей
непосредственной целью, которая состоит в приобщении к наслаждению,
а не к истине; от остальных же видов литературы, имеющих
одинаковую с ним цель, поэтическое произведение отличается тем, что
доставляет наслаждение всей совокупностью своих составных частей
и каждой частицей в отдельности.
Споры возникают нередко как следствие того, что разные люди
различным образом толкуют одно и то же слово; и мало найдется
примеров, которые доставили бы тому лучшее доказательство, чем
словопрения о поэзии. Если кому-либо угодно именовать
поэтическим всякое произведение, в котором есть размер, рифма или то и
другое вместе,— я не стану его переубеждать. Подобное
определение, во всяком случае, отдает должное намерению автора. Если к
тому же такое сочинение затронет наши чувства и пробудит
интерес — то ли занимательностью рассказа, то ли любопытными
мыслями,— я с готовностью признаю, что и эти элементы составляют
часть произведения и принадлежат к его достоинствам. Но если мы
хотим определить произведение истинно поэтическое, ответ может
быть только один: в поэтическом произведении все части
взаимосвязаны и взаимообусловлены — и при этом естественно соотносятся
с могущественным по своему воздействию ритмическим началом,
стремясь к единой с ним цели.
Философы и критики всех времен придерживаются мнения,
совпадающего обыкновенно с конечным приговором, который каждая
страна выносит своей литературе: с одной стороны, они
отказываются признать поэтическими произведения, в которых содержатся
отдельные замечательные строки или двустишия,— отрываясь от
контекста, такие строки приковывают к себе внимание читателя и
тем самым приобретают некую самостоятельность, вместо того
чтобы оставаться частицей гармонического целого; с другой стороны,
не признаются поэтическими скороспелые сочинения, при чтении
которых мы стремимся только получить общее впечатление, не
задерживаясь на элементах, его определяющих. Читатель должен
двигаться вперед не только побуждаемый чисто механическим
любопытством или непоседливым желанием поскорее добраться до места
назначения,— как странник, открывающий неведомые края, он
должен получать удовольствие на протяжении всей дороги. Его
продвижение напоминает неторопливый ход змеи, почитавшейся у егип-
775
тян символом мысли, или извилистый путь эха в горах: сделав шаг,
он замирает, готовый воротиться, и в своем отступлении
накапливает силы, которые вновь поведут его вперед. [...]
Но если все это можно почесть удовлетворительной
характеристикой поэтического произведения, нам остается еще найти
определение самой поэзии. Сочинения Платона, Джереми Тейлора,
«Теория земли» Бернета дают неоспоримые доказательства того, что
самая высокая поэзия мыслима без метра и не всегда имеет в виду
цель, отличающую отдельно взятое поэтическое произведение.
Первая глава Книги пророка Исайи, как, впрочем, и большая часть
этой книги, вне всякого сомнения, преисполнена поэзии; но было бы
в равной степени неразумно и нелепо предположить, будто бы
непосредственной целью пророка Исайи являлась не истина, но
наслаждение. Иными словами, какой бы особый смысл мы ни
придавали слову «поэзия», мы обнаружим одно неизбежное следствие:
поэтическое произведение, значительное по своим размерам, не
может и не должно быть сплошь поэзией. Однако если поэзия
присутствует там как основное начало, то в интересах гармонического
целого все прочие элементы должны быть ей подчинены, а достигнуть
этого возможно лишь путем столь тщательного отбора и
распределения выразительных средств, который удовлетворил бы одно из
основных, хотя и не единственное, требование поэзии. Последнее
выражается в том, что поэзия в большей мере, чем проза —
разговорная или книжная,— призвана возбуждать внимание читателя и
поддерживать его в состоянии непрерывной активности.
Собственные мои выводы относительно природы поэзии отчасти
содержались уже в заметках о Воображении и Фантазии в первом
томе настоящего труда. «Что такое поэзия?» — этот вопрос
чрезвычайно тесно связан с другим вопросом: «Что такое поэт?», а потому
ответ на один из них неотделим от разрешения другого. Поэзия —
плод творчества поэтического гения, созидающего и преобразующего
в душе поэта идей, образы и эмоции.
Рисуя идеального поэта, мы скажем, что он приводит душу
человека в состояние высокого напряжения и пробуждает все
душевные способности, соподчиняя их в соответствии с их сравнительной
ценностью и достоинством. Единая поэтическая интонация, единое
одухотворяющее начало пронизывает и сливает воедино все, до чего
касается поэт, благодаря той неповторимой, магической силе, имя
которой — Воображение. Сила эта, коей первый толчок дают воля
и разум, сохраняющие над ней постоянный, хотя и не назойливый
контроль, быстро приобретает размах — Iaxis effertur habenis I —
1 —несется вперед, не сдерживаемая поводьями (латин.).
776
и являет нам свое могущество, приводя в равновесие и примиряя
друг с другом противоположные или несовместимые качества:
монотонность и разнообразие; общее и конкретное; мысленное
представление и видимое воплощение; индивидуальное и типическое;
чувство свежести и новизны — со старым и привычным; более
напряженное, чем обыкновенно, эмоциональное состояние — с более
строгим, чем обыкновенно, порядком; ясную трезвость суждения и
неизменное самообладание — с восторженным порывом, с глубоким
и страстным чувством; при этом воображение, гармонически
сочетая начала природы и искусства, подчиняет искусство природе,
оболочку— содержанию; и, восхищаясь поэтом, мы прежде всего
отдаем благоговейную дань поэзии. [...]
Итак, здравый смысл есть душа поэтического гения, фантазия —
его наряд, движение — его жизнь и воображение — душа, которая
всемогуща и вездесуща; она одна способна создать исполненное
изящества и мысли целое.
Глава XIII
[...] Я рассматриваю воображение как первичное либо как
вторичное. Первичное воображение я полагаю животворной силой и
первостепенным фактором всякого человеческого восприятия,
повторением в конечных пределах ума вечного процесса созидания,
совершающегося в бесконечности нашего «я». Вторичное воображение
я рассматриваю как эхо первого, которое сосуществует с
сознательной волей и притом схоже с первым по своему действию, отличаясь
от него лишь степенью и способом проявления. Оно растворяет,
разлагает, расчленяет явления, чтобы затем воспроизвести их; а там,
где этот процесс невозможен, воображение все же стремится
объединить разрозненное и приблизить его к идеалу. Оно по сути своей
жизненно, точно так же как все внешние предметы по сути своей
неподвижны и мертвы.
Фантазия, напротив того, имеет в своем распоряжении только
что-то определенное и отлившееся в устойчивую форму. Фантазия,
собственно говоря, есть не что иное, как особый вид памяти,
освобожденный от пут пространства и времени и подверженный
постоянному преобразующему влиянию того эмпирического волевого
феномена, который мы обозначаем словом «выбор». Однако наравне
с обычной памятью фантазия получает весь свой материал в
готовом виде благодаря закону ассоциативного мышления.
The complete works of Samuel Taylor Coleridge
in seven volumes, New York, 1854, v. Ill, p. 363—
364, 370—375. Перевод И. Комаровой.
777
О ПРЕКРАСНОМ
Единственное необходимое — но при этом совершенно
необходимое — предварительное условие того, чтобы во всей полноте
постигнуть прекрасное в доступных взору предметах, состоит в
сознательном направлении действия наших собственных мыслей, до конца
неясных нам самим. Любой человек поймет это, воскресив
мысленно хотя бы те минуты, когда он пытается припомнить какое-то имя,
наверняка ему известное, но никак не может извлечь его на
поверхность из бессознательных глубин памяти. Эту область идей,
смущающих наш разум своей неуловимостью, можно представить
в виде постепенного подъема — от самых общих ассоциаций,
связывающих всякое зримое движение с жизненными перипетиями и
страстями (так, покинув шумный город в июньский день, мы
видим в полях зелень и цветы, которые кивают нам головками и
танцуют при дуновении ветерка), далее к безотчетным и мгновенным
внешним связям какого-то явления с определенным, строго
классифицируемым предметом: сходство, которое обостряет в нас чувство
прекрасного, но которое при малейшем нажиме способно разрушить
отчасти или полностью собственный эффект и, обернувшись
бесцеремонным вторжением чего-то случайного и произвольного, способно
уничтожить красоту. Это можно было бы подтвердить многими
примерами из живописи Сальватора Розы.
Я употребляю здесь термин «красота» в самом широком смысле,
включая в него не один только видимый результат, но и процесс
создания,— иными словами, не одну только конечную гармонию,
сотворенную художником, но и все сопутствующие ей моменты,
которые, даже нарушая в какой-то мере равновесие произведения
искусства, необходимы для того, чтобы оно, обновляясь, продолжало
жить. Я попытаюсь теперь показать, что прекрасное в предмете
можно низвести к двум основам — линии и цвету: первая дает
общие очертания (forma, formalis, formosus 1) и составляет
организующее, разумное начало; второй же дает жизнь — это начало
свободное, непосредственное, в самом себе несущее свое оправдание.
Что касается характера линий, то прямые сами по себе
безжизненны и предопределены ab extra 2, но они легко переходят в
изогнутые, то есть линии, выражающие борьбу сил. Недаром кривая
есть принятый символ воздействия внешней силы на силу
внутреннюю, или спонтанную. Это не произвольные знаки, но язык самой
природы, интуитивный и всеобъемлющий, подчиняющийся тому же
1 — форма, наружность; внешний; стройный, прекрасный (латин.).
2 — извне (латин.):
778
закону, по которому человек склонен объяснять всякое видимое
движение вмешательством сверхъестественных сил, подобных разумным
существам,— всевозможных наяд, дриад и так далее.
Лучшим подтверждением справедливости этих принципов был
бы краткий очерк истории изящных искусств — он показал бы, что
доля прекрасного, вложенная природой в создания человеческого
таланта, пребывает в зависимости от того, насколько душевная
настроенность самого художника сближалась с субъективной
красотой. Определите, перевес каких чувств в душе человека был
предпосылкой возбуждения всех его способностей в живом
взаимодействии,— и вы найдете точное соответствие этому в его творениях.
Там ж е, т. IV, стр. 370—372. Перевод И.
Комаровой.
БАЙРОН
1788-1824
Творчество великого английского поэта Джорджа Гордона Байрона было
тесно связано с передовым общественным движением своего времени. В эпоху
феодально-аристократической реакции он не отказался от демократических
идеалов XVIII века, идеалов свободы и независимости народов.
Байрон защищал искусство, верное жизни, пронизанное этическим
пафосом. Но при всем стремлении к реализму он все же остается романтиком: его
«универсализм» — то есть стремление к гигантским масштабам, к соотнесению
частных жизней с судьбами вселенной, «максимализм» его требований к
действительности, всеобщность отрицания, своеобразный пантеизм,
противопоставление прекрасного мира природы — воплощения великого целого — дурному
миру человека, трагическое ощущение разлада между сущим и должным, его
лиризм и индивидуализм характеризуют его как романтика.
Сам поэт, однако, только ранние свои произведения, написанные до
изгнания из Англии («Чайльд Гарольд», 1812—1816; так называемые «восточные
поэмы» — «Гяур», «Корсар», «Лара», «Паризина», 1813—1816), считал
романтическими; в сатирических поэмах — «Беппо» (1817) и «Дон Жуан» (1818—1823) —
он осуждал и пародировал романтизм. В немногочисленных статьях, а также
в своей переписке он отстаивал принципы рационалистического искусства,
искусства с открытой гражданственной тематикой, воплощение которого Байрон
видел в поэзии классицизма.
Байрон особенно подчеркивал заслуги главы английского классицизма
Александра Попа, противопоставляя его творчество субъективизму и
фантастичности романтиков. В этом отношении характерно открытое письмо Байрона
к издателю Джону Мерри (1821), где он отвечает на статью поэта У. Л. Баулса
779
«Неизменные принципы поэзии» (1819), вызвавшего негодование Байрона
своими нападками на его любимого поэта Попа. В том же году в ответ на новые
письма и статьи Баулса Байрон написал второе письмо к Мерри. Оно было
опубликовано лишь в 1835 году.
[ИЗ ПИСЬМА ДЖОНУ МЕРРИ
ОТНОСИТЕЛЬНО КРИТИЧЕСКИХ ЗАМЕЧАНИЙ У. Л. БАУЛСА
ПО ПОВОДУ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПОПА]
[...] Прекрасные нагие склоны Гимета 1 и все Аттическое
побережье с его холмами и долинами [...] поэтичны сами по себе; они не
утратили бы своей поэтичности, даже если бы название Афин,
имена афинян и самые афинские развалины были стерты с лица земли.
Но значит ли это, что природа Аттики была бы поэтичнее без
искусства, воплощенного в Акрополе? или в храме Тезея? или во всех
великолепных, насквозь греческих памятниках творчества ее
гениальных художников? Спросите у путешественника, какое зрелище
представляется ему более поэтическим — Парфенон или скала, на
которой он высится? Колонны на мысе Колон или сам этот мыс?
Скалы у его подножия или воспоминание о том, что на них
разбился корабль Фалконера? 2 Есть сотни мысов и холмов куда более
живописных, чем Суниум3 или холм, на котором воздвигнут
Акрополь; что они в сравнении с сотнями прекрасных пейзажей в
менее известных частях Греции, в Малой Азии, в Швейцарии или
даже в португальской Синтре4, в сравнении с видами Италии и
испанской Сьерры? Нет, именно благодаря «искусству» — колоннам,
храмам, обломкам разбитого судна — оживает связанная с -этими
местами древняя поэзия и они продолжают оставаться поэтичными
и в наши дни: сами места тут ни при чем. Не будь поэтических
ассоциаций, эти места пребывали бы в забвении и в запустении,
погребенные в смутном хаосе, как Вавилон и Ниневия,— лишенные
поэзии и лишенные жизни. Но прославившие их памятники
древности, даже если бы они были увезены в другие края — как
перевезли в Лондон обелиск Клеопатры, сфинкс и колосс Мемнона,— на
новом месте продолжали бы существовать во всем совершенстве
своей красоты, в полном блеске своей поэтичности. Я противился —
1 Гора в Аттике, к югу от Афин, знаменитая своим мраморным карьером.
2 Уильям Фалконер (1732—1769)—английский поэт и
путешественник, погиб при крушении фрегата «Аврора» у берегов Греции.
3 Другое название мыса Колона.
4 Старинное название Лиссабона.
780
и всегда буду противиться — тому, чтобы Афины подвергались
грабежу во имя обучения англичан искусству ваяния (к ваянию мои
соотечественники способны не больше, чем египтяне к катанью на
коньках) ; но почему я этому противился? Античные памятники так
же поэтичны на площади Пикадилли, как в Парфеноне; но сам
Парфенон и скала, на которой он высится, без этих памятников теряют
какую-то долю поэтичности. Такова поэзия искусства. [...]
Мне представляется, что собор св. Петра, Колизей, Пантеон,
холм Палатин в Риме, статуя Аполлона, Лаокоон, Венера Медицей-
ская, Геркулес, Умирающий гладиатор, Моисей Микеланджело и
лучшие творения Кановы (я уже говорил о памятниках Древней
Греции, находящихся там или перевезенных в Англию) — предметы
в такой же степени поэтичные, как Монблан или Этна; быть может,
даже более поэтичные, поскольку они являются непосредственным
воплощением творческого духа и в самом своем замысле несут
поэзию; будучи результатом творчества человека, они вобрали в себя
какую-то частицу действительной жизни — то, чего нет и не может
быть в неживой природе, если только мы не примем деистическую
систему Спинозы, утверждавшего, что весь мир — божество.
[...] В целом о скульптуре можно сказать, что она поэтичнее
самой природы, поскольку она представляет и воплощает ту
идеальную, возвышенную красоту, которую нельзя отыскать в реальной
действительности. [...]
По-настоящему великий художник-пейзажист не предлагает нам
буквальной копии какой-либо местности — он изобретает и заново
компонует свой пейзаж. Природа в своем естественном состоянии
не может предложить ему готовый набор ландшафтов, которые он
хотел бы написать. Даже если на его полотнах запечатлен
знаменитый город, или всем известный горный пейзаж, или еще какой-
нибудь уголок природы,— все это изображается под особенным
углом зрения, с таким распределением светотени, с таким расчетом
перспективы, чтобы не только подчеркнуть красоты этого пейзажа,
но и затушевать его несовершенства. Поэзия, содержащаяся в самой
природе и открытая глазу художника, для его целей оказывается
недостаточной. Самое небо в его картине — не просто копия того
неба, которое освещало приглянувшийся художнику пейзаж в
какой-то определенный день: это композиция из разных небес,
увиденных в разное время. Почему это так? Да потому, что природа
не слишком щедро рассыпает свои дары; ее красоты разбросаны
тут и там и являются взору лишь время от времени — их
надлежит тщательно отбирать и бережно складывать в памяти.
[...] Умаление заслуг Попа частично связано с неверным
представлением об относительной ценности избранного им рода поэзии;
781
он сам дал к этому некоторые основания, определив свой путь в
следующих памятных словах:
Не уносясь в заоблачную даль,
Спускался к Правде и читал мораль.
Ему следовало бы написать — «поднимался к Правде». По моему
убеждению, высочайший из всех видов поэзии — это поэзия
этическая, потому что высочайшее на земле вообще — нравственная
истина.
[...] В наше время вошло в моду ставить во главу угла то, что
именуют «воображением» и «изобретательностью» — качества как
нельзя более заурядные: любой ирландский крестьянин, глотнув
виски, изобретет и навоображает вам столько, что хватит на целую
современную поэму.
[...] Попытки нынешней поэтической черни подвергнуть Попа
остракизму так же легко объяснимы, как ответ афинянина, который
подошел со своим черепком к Аристиду: всем им надоело слушать,
как его называют Справедливым 1. И, кроме того, они дрожат за
собственную шкуру: ведь если он удержится на своем пьедестале,
его завистникам тоже придется занять подобающее им место —
внизу, у его ног. [...] К стене греческого храма, образца чистейшего
зодчества, они пристроили мечеть; и, превосходя в варварстве даже
тех варваров, у которых я позаимствовал этот образ, они не
довольствуются своей уродливой постройкой: они стремятся уничтожить
здание, к которому она прилепилась,— здание, чьи прекрасные
стены высились там до них и поныне остаются для них укором. Мне
скажут, что к этому делу был причастен (а быть может, все еще
причастея) и я,— это правда, и я стыжусь этого. Действительно,
я участвовал в этом вавилонском столпотворении, в этом смешении
языков, но никогда я не посягал на классический храм нашего
предшественника: я восхищался именем и почитал славу этого
блестящего, не имеющего соперников поэта — почитал ее гораздо
более, чем собственную жалкую известность, и презирал все это
дрянное скопище «школ» и пустозвонов-выскочек, которые
осмеливались с ним соперничать и порывались ее превзойти.
1 Имеется в виду легенда, связанная с изгнанием из Афин Аристида,
знаменитого военачальника и государственного деятеля (VI—V вв. до н. э.). В день,
когда совершалась процедура остракизма, некий житель, не умевший писать,
попросил Аристида, которого он не знал в лицо, начертать на черепке
(своеобразном «бюллетене») его имя. На вопрос самого Аристида, какой вред ему
причинил тот, кого он хочет подвергнуть остракизму, афинянин ответил:
«Никакого, но мне надоело слушать, как его называют Справедливым».
782
[...] Самая сильная сторона Попа — что он этический поэт [...]·,
а, по моему убеждению, такая поэзия — высочайший вид поэзии
вообще, потому что она в стихах достигает того, что величайшие
гении стремились осуществить в прозе. Если сутью поэзии должна
быть не истина, а ложь,— вышвырните такую поэзию на свалку,
лишите ее прав гражданства, как это сделал бы Платон в своей
республике. Человек, который способен объединить поэзию с
истиной и мудростью,— вот настоящий поэт, поэт в полном смысле
слова, «созидатель», «творец». Почему слово «поэт» должно означать
«обманщик», «притворщик», «выдумщик»? Человек способен
созидать и творить большее.
The works of Lord Byron, ed. by Rowland Ε. Prot-
hero, Lond.—New York, 1904, v. V, p. 545, 549—
550, 554, 559. Перевод И. Комаровой.
ШЕЛЛИ
1792-1822
Выдающийся английский поэт Перси Биш Шелли с отроческих лет
возненавидел неравенство и тиранию. Рано прочитанная им книга Годвина
«Политическая справедливость» дала направление его мыслям о путях к свободе,
социальной и духовной. За написание трактата «Необходимость атеизма» Шелли
был исключен из университета и изгнан из родного дома. Юношеские идеалы
Шелли, его отвращение и ненависть к угнетению нашли выражение в поэме
«Королева Мэб» (1813). Поэма «Возмущение в Исламе» (1818) прославляет
юных революционеров Лаона и Цитну, пожертвовавших любовью и жизнью
ради революции. Полнее всего талант Шелли раскрылся в его лирике; наиболее
известными его произведениями являются лирическая драма «Освобожденный
Прометей» (1819) и трагедия «Ченчи» (1819).
Шелли принадлежит самая красноречивая в XIX веке «Защита поэзии»
(1821), оставшаяся, к сожалению, незавершенной. Здесь Шелли излагает
краткую историю поэзии, связывая ее возникновение с потребностями развиваю*·
щегося общества, и характеризует ее роль и значение для человечества.
Взгляды Шелли на искусство, изложенные им в предисловиях к поэмам,
свидетельствуют о том, что поэт с годами все более стремился избавиться от
романтического субъективизма, видя главное достоинство поэзии в объективности, в
верности природе и вместе с тем — в силе этического воздействия.
В целом эстетические воззрения Шелли представляют собой своеобразное
сочетание материализма эпохи Просвещения и элементов идеалистической
диалектики, заимствованных у Платона и неоплатоников.
783
В ЗАЩИТУ ПОЭЗИИ
Если предположить, что существуют два вида умственной
деятельности, которые называются разумом и воображением, можно
рассматривать первый как ум созерцательный, занятый
взаимоотношениями между идеями независимо от способа их возникновения,
второй же — как ум деятельный, озаряющий эти идеи собственным
светом и создающий из них, как из элементов, новые идеи,
целостные и последовательные. Одно есть не что иное, как το ποιξιν1,
или процесс синтеза; сфера его действия обнимает формы, в равной
мере присущие всей природе и бытию; другое — это τό λογίζξιν2,
или процесс анализа; он касается только взаимоотношений между
явлениями, выраженных в виде идей, которые безотносительно к их
внутреннему единству, подобно алгебраическим выражениям, ведут
к неким общим результатам. Разум включает перечисление уже
известных количественных категорий; воображение — это
восприятие их значимости как в частных, так и в общих случаях. Разум
почитает за главное различия между явлениями, воображение —
сходство между ними. Разум играет для воображения ту же роль, что
орудие для деятеля, тело для духа или тень для материальной
субстанции.
Поэзия в общем смысле слова может быть определена как
«воплощенное воображение»; поэзия родилась на земле вместе с
человеком.
[...] В отдаленном прошлом поэты назывались у разных народов,
соответственно особенностям эпохи, законодателями или
пророками; по самой природе своей поэт сочетает в себе оба эти призвания.
Ибо он не только напряженно созерцает настоящее таким, каково
оно есть, и открывает законы, которым должен отвечать
существующий порядок вещей, но также провидит будущее в настоящем, и его
идеи оказываются зачатком цветений и плодов позднейших времен.
Я отнюдь не хочу сказать, что поэты являются пророками в
обычном смысле слова, то есть что они способны предсказать облик
грядущего с той же уверенностью, с какой они предчувствуют его
дух,— подобное нелепое суеверие скорее обратило бы поэзию в
атрибут пророчества, нежели пророчество в атрибут поэзии. Поэт
вступает в союз с вечным, единым и бесконечным; его замыслы не
ведают пределов времени, пространства и числа. Когда мы имеем
дело с высокой поэзией, то убеждаемся, что грамматические
формы, передающие взаимосвязь времен, отношения персонажей и
1 — созидание (греч.).
2 — размышление, (греч.).
784
смену места действия, могут быть сдвинуты без ущерба для самой
поэзии; свидетельством тому послужили бы хоры из Эсхиловых
трагедий, Книга Иова и «Paradiso» 1 Данте, если бы рамки нашего эссе
позволили привести из них примеры. Еще более убеждают нас
в этом творения музыкантов, живописцев и ваятелей.
Слова и краски, внешние черты, религиозный ритуал и мирские
привычки — все это составляет орудия и материал поэзии; можно
было бы сказать, что они и есть поэзия, прибегнув к риторической
фигуре, которая отождествляет следствие с причиной. Но в более
узком смысле слова поэзией мы называем особую, организованную
ритмическим началом словесную ткань, которую создает
величественный талант, царствующий в тайниках человеческой натуры.
Это проистекает из существа языка, который способен самым
непосредственным образом воспроизводить все порывы и страсти
нашего внутреннего бытия и передавать более гибкие и тонкие его
нюансы по сравнению с цветом, формой, движением, а потому
оказывается более пластичным и послушным в руках созидательного
таланта. Ибо язык возникает по воле воображения и связан только
с идеями, тогда как остальные материалы, орудия и законы
искусства зависят друг от друга, что сковывает художника и воздвигает
преграду между замыслом и его воплощением. Замысел, подобна
зеркалу, отражает свет воображения; воплощение, подобно облакуг
затуманивает его, но и то и другое в равной мере необходимо
творчеству. Поэтому, хотя великие мастера в других сферах искусства
могут не уступать по силе таланта тем, кто избрал для выражения
своих идей словесные иероглифы,— однако слава живописцев,
ваятелей и музыкантов никогда не сможет сравниться со славой
истинных поэтов; так два одинаково искусных исполнителя будут
извлекать аккорды разного звучания из гитары и арфы.
[...] Поэт относится к порокам своих сограждан как к
временному одеянию, которое лишь окутывает то или иное его творение,
однако не может скрыть заключенных в нем вечных канонов
красоты. Принято считать, что душа эпического или драматического
персонажа облекается в пороки, подобно тому как тело его может
быть облечено в старинные доспехи или в мундир новейшего
образца,— между тем легко было бы вообразить и более
привлекательные одеяния. Случайный покров не в силах утаить красоту
человеческой натуры, ибо духовная сущность передается даже
обманчивой драпировке, и манера, в какой ниспадают складки,
позволяет угадать прекрасные контуры. Величественная осанка и
благородные движения проступят сквозь самые варварские и безвкусные
1 «Рай» (итал.).
26 История эстетики, т. III
785
одежды. Не многие поэты, даже из числа величайших, осмелились
явить миру истинную красоту своих замыслов во всем ее нагом
великолепии,— и, быть может, примесь нарядов, обычаев и прочего
в самом деле необходима чистому металлу поэзии, дабы сделать
небесную музыку доступной для ушей простых смертных.
Поэзию обвиняют в безнравственности, однако это проистекает
из неверного понимания того, каким образом поэзия способствует
нравственному совершенствованию человека. Этика упорядочивает
элементы, созданные поэзией, организует их в некую систему и
предлагает примеры из жизни общества и частной жизни; и если
люди тем не менее ненавидят, обманывают, презирают, осуждают и
угнетают друг друга, это совершается отнюдь не из-за недостатка
в превосходных теориях. Поэзия же находит иной, близкий к
божественному способ воздействия. Она пробуждает мысль и расширяет
пределы нашего ума, делая его вместилищем тысячи неожиданных
сочетаний идей. Поэзия приподнимает завесу над таинственной
красотой мира, и знакомые предметы предстают перед нами словно
впервые; она воссоздает заново все, что изображает; в ее элизийском
свете живые образы запечатлеваются в душе тех, кто однажды
их видел, и память об их благородном и возвышенном содержании
пронизывает все людские помыслы и поступки. Тайна всякой
добродетели — любовь, или забвение собственного «я» и
отождествление нашей личности с идеей прекрасного, воплощенной в чьих-
то чужих мыслях, поступках или облике. Человек воистину
добродетельный должен обладать напряженным и всеобъемлющим
воображением; он должен уметь представить себя на месте другого —
или других — и научиться воспринимать горести и радости
ближних как свои собственные. Воображение является великим орудием
добродетели; и поэзия, стремясь к моральному воздействию,
совершенствует свои средства. Поэзия расширяет сферу воображения,
пополняя его идеями, пленительными в своей немеркнущей
новизне; они властно притягивают и впитывают все новые и новые
идеи, которые в свой черед жаждут пищи для заполнения
образующихся между ними пустот. Поэзия развивает в человеке некий
нравственный орган, подобно тому как гимнастика развивает
мышцы конечностей. Неправ будет тот поэт, который в своих творениях
попытается воплотить собственные представления о добре и зле, ибо
последние обычно ограничены местом и временем, а истинная
поэзия не знает пределов. Приняв на себя низменную обязанность
толкователя поэзии — обязанность, с которой к тому же едва ли
справится поэт,— он тем самым вынужден был бы отказаться от славы
ее создателя.
786
[...] Поэтический талант проявляется двояким способом: прежде
всего он создает некую совокупность новых знаний, приносит
новое наслаждение и уверенность в собственной силе; сверх того, он
порождает в душе поэта желание воссоздать эти элементы в
стройном виде, сообразно с известным ритмом и системой, которые могут
быть названы красотой и добром. Расцвет поэзии как нельзя более
уместен во времена, когда возобладание себялюбивого расчета
приводит к накоплению жизненных благ в размерах, превышающих
возможности их приспособления к внутренним законам
человеческой природы. Телесная оболочка тогда становится слишком
громоздкой для одухотворяющего ее начала.
В поэзии поистине заключено нечто божественное. Она
представляет собой одновременно центр и окружность знаний — она
объемлет все науки и она же является их исходной точкой. Поэзия
есть корень и в то же время цветок всех остальных систем
мышления; начало всего живущего — и его лучшее украшение; если
зачахнет поэзия, то плоды и семена будут обречены на гибель, мир
лишится благодетельных соков и завянут молодые побеги древа
жизни. Поэзия предстает перед нами как совершенный лик и
высший расцвет всего земного; в сравнении с жизнью поэзия то же,
что запах и цвет лепестков розы в сравнении с составляющей ее
растительной тканью или дивные формы нетленной красоты — в
сравнении с тайнами анатомии и разложения. Что значили бы
добродетель, любовь, патриотизм и дружба; что значили бы картины
прекрасной вселенной, в которой мы живем; наконец, что значили бы
наши утехи в этом бренном мире и упования на загробную жизнь,—
если бы поэзия не устремлялась в поисках огня и света в заоблачные
края вечности, куда не дерзают вторгаться совиные крылья
себялюбивой расчетливости? Поэтический дар, в отличие от рассудка,
есть способность, которая не повинуется волеизъявлению.
Человек не может провозгласить: «Хочу быть творцом поэзии».
Даже величайший из поэтов не может так сказать, ибо ум в процессе
созидания подобен тлеющему углю, который вспыхивает на
мгновение под воздействием чего-то невидимого, как от мимолетного
ветра; эта способность рождается в глубине души, подобно тому как
бледнеет и меняется окраска лепестков распускающегося цветка,—
и наше сознание не в силах предугадать ее приближение или
исчезновение. Будь это таинственное воздействие длительным и сохрани
оно при этом всю чистоту и силу — величие результатов превзошло
бы все наши ожидания; однако вдохновение начинает гаснуть, едва
забрезжит луч творчества, и даже самые прославленные творения
поэзии, когда-либо подаренные человечеству, вероятно, являются
лишь слабой тенью первоначальных замыслов поэта. Пусть великие
26*
787
поэты скажут мне, правы ли те, что утверждают, будто бы
великолепнейшие образцы поэзии — итог кропотливого труда и учения.
Проповедуемую критиками тщательность и неторопливость можно
толковать всего лишь как повышенное внимание к моментам
вдохновения и заполнение вынужденных пробелов между ними с
помощью общепринятых слов и фраз; необходимость эта навязана
исключительно ограниченностью поэтического таланта, ибо замысел
«Потерянного рая» возник у Мильтона полностью прежде, нежели
тот осуществил его по частям. У нас есть также свидетельство самого
поэта о том, что муза «нашептала» ему «заранее не сложенную
песнь» 1. И да послужат его слова ответом тем, кто ссылается для
подтверждения своих взглядов на пятьдесят шесть вариантов
первой строки «Неистового Роланда». Сочинения, написанные подобным
образом, состоят с поэзией в таком же отношении, как мозаика
с живописью. Инстинктивная и интуитивная природа поэтического
дара еще более явственно выступает в искусстве ваяния и
живописи; великая статуя или картина вынашивается талантом художника
как дитя в материнской утробе; и самый ум, направляющий руку
при ее созидании, бессилен объяснить зарождение, причины и ход
этого процесса.
Поэзия запечатлевает прекраснейшие и счастливейшие моменты
в жизни счастливейших и прекраснейших умов. Мы знакомы с
мимолетными проблесками мыслей и ощущений, сопряженных то с
каким-нибудь лицом или местом, то с нашими собственными
переживаниями; они возникают всегда непредвиденно и так же
нежданно исчезают, но вызывают в нас возвышенное и восторженное
чувство, которое не выразить словами; и в самой грусти
расставания с ними таится наслаждение, связанное с тем, о чем они
напомнили нам. В этом как бы заключается слияние нашей собственной
природы с иной, более божественной; но поступь ее подобна
пробегающему над морем ветру — зыбь разглаживается в час утреннего
безмолвия, и о ней напоминают лишь борозды на песчаном ложе
дна. Такое же сходное с ним состояние души — по преимуществу
удел натур, одаренных тончайшей чувствительностью и
необычайно богатым воображением; оно не совместимо ни с единым
низменным желанием. Восторги добродетели, любви, патриотизма и
дружбы по своей сущности относятся к возвышенным душевным
порывам, и, пока они длятся, наше собственное «я» предстает в своем
истинном виде — в виде мельчайшей вселенной. Поэты, как
наиболее изысканные души, не только сами испытывают подобные
чувства, но окрашивают все, с чем они соприкасаются, отблесками сво-
1 Слегка измененная цитата из «Потерянного рая» Мильтона, песнь IX,
ст. 23-24.
788
его эфемерного мира; единым словом или черточкой в изображении
какой-нибудь сцены или страстного порыва они могут затронуть
волшебные струны сердца у тех, кто некогда испытывал подобные
чувства, и пробудить погребенный на дне души спящий, холодный
образ прошлого. Так поэзия делает бессмертным все, что есть самого
доброго и прекрасного на земле; она удерживает являющиеся нам
в темные часы нашей жизни летучие видения и, облекая их в
словесные или живописные покровы, распространяет среди
человечества, неся радостную весть тем, в чьих душах заточены
родственные видения,— заточены, ибо для них нет выхода из затаенных
душевных глубин во вселенную. Поэзия избавляет от гибели
проявления божественного в человеке.
Поэзия наделяет прелестью все окружающее; она возвеличивает
красоту в прекрасном и делает красивым уродливое; она сочетает
воедино ликование и ужас, горе и радость, вечность и превратность;
она скрепляет своими легкими узами все, что было доселе
непримиримо. Она преображает все, к чему прикасается, и предметы,
озаренные ее сиянием, как бы по мановению волшебства становятся
воплощением ее духа; таинственная алхимия поэзии обращает в
искристый напиток ядовитые воды, струящиеся в жизнь из царства
смерти; она срывает с мира завесу привычности, и перед нашим
взором, как спящая красавица, предстает нагая красота — душа
всех земных форм.
Вещи существуют в таком виде, в каком они воспринимаются,
по крайней мере таковы они для воспринимающего субъекта.
В самом себе живет бессмертный дух.
Внутри себя создать из ада небо
Способен он, и небо сделать адом 1.
Но поэзия снимает тяготеющее над нами проклятье, и мы
перестаем быть рабами случайных впечатлений. Опускает ли она на
сцену жизни свой собственный узорчатый занавес или
приподнимает скрывавшую ее дотоле темную завесу, она равным образом
создает для нас иное бытие внутри нашего собственного бытия. Она
делает нас обитателями иного мира, по сравнению с которым
привычный мир кажется хаосом. Она воссоздает обыденную вселенную,
частицами и созерцателями которой мы являемся, и снимает с
нашего внутреннего ока пелену привычности, мешающую нам видеть
повседневное чудо бытия. Она заставляет нас ощутить то, что мы
созерцаем, и вообразить то, что мы познаем. Она вновь возрождает
в наших умах вселенную, уничтоженную многократным
повторением притупившихся впечатлений. Поэзия оправдывает дерзновен-
1 Мильтон, Потерянный рай, песнь I, ст. 254—255. Перевод О. Чюминой.
789
ные и справедливые слова Тассо: «Non mérita nome di Creatore, se
non Iddio ed il Poeta» l. Поэту, ибо он — по отношению к остальным
людям — является творцом высочайшей мудрости, наслаждения,
добродетели и славы, надлежит быть самым счастливым, мудрым,
добрым и почитаемым среди людей. Что касается до его славы, то
пусть рассудит время, может ли слава какого-нибудь иного
законодателя человеческой жизни сравниться со славой поэта.
[...] Поэзия — самый надежный провозвестник пробуждения
всякого великого народа, которое направлено к благотворным
переменам в образе мышления или общественном устройстве; она
сопутствует этому пробуждению и подводит его итоги. В такие времена
зреют силы, способные передать и воспринять могучие и страстные
идеи о человеке и природе. Натура тех, в ком живут эти силы,
многообразна, и не всегда в ней можно уловить видимую связь с духом
добра, чьими посланцами они оказываются. Однако, даже
отрекаясь от нее, они вынуждены служить царственной силе,
завладевшей престолом их собственной души. Невозможно читать
сочинения знаменитейших поэтов наших дней, не поражаясь тому,
какая электрическая жизнь горит в их словах. Всеобъемлющий и
вездесущий поэтический дух проникает во все тайные сферы и глубины
человеческой натуры, и сами поэты, быть может, более всех
изумляются его проявлениям, ибо это не столько их дух, сколько дух
времени. Поэты — иерофанты 2 непостижимого вдохновения; зеркала,
в которых отражаются гигантские тени, отбрасываемые будущим
в настоящее; слова, которые выражают нечто, подчас неведомое им
самим; трубы, которые сигналят к бою, не сознавая, к чему они
зовут; побудительная сила, которая воздействует на других -и не
подвержена ничьим влияниям. Поэты — непризнанные
законодатели мира.
Thee prose works of Percy Bysshe Shelley, ed.
by R. Shepherd, Lond., 1888, v. II, p. 1—2, 5-6,
10—12, 31—35, 38. Перевод M. Арнольд.
ките
1795-1821
Вместе с Шелли и Байроном Джон Ките принадлежал к младшему
поколению английских романтиков. Двадцати лет он оставил профессию врача,
избрать которую его заставили раннее сиротство и стесненные материальные
1 — «только бог и поэт достойны имени творца» (итал.).
2 — наставник (греч.) в религиозных обрядах; верховный жрец,
посвящающий в таинства культа. ж
790
обстоятельства, и твердо решил посвятить себя поэзии. Тогда же он вошел
в круг критически настроенных литераторов, в котором бывали Шелли,
Хэзлитт, поэт и публицист Ли Хент, Годвин и другие так называемые радикалы.
В ранней лирике Китса вольнолюбивые мечты перекликаются с элегически
окрашенными воспоминаниями о Древней Греции, когда красота свободно
обитала на земле. Античные мифы были восприняты Китсом через посредство
английской поэзии эпохи Возрождения, оказавшей решающее влияние на его
творчество. Идеалом для Китса был Шекспир; неустанно изучая его трагедии
и сонеты, поэт вырабатывает при сильной теоретической поддержке Хэзлитта
свои взгляды на искусство. В поэме «Эндимион» (1817) Ките говорит о
трудном пути, который должен пройти поэт, прежде чем ему откроется сущность
прекрасного, прежде чем он поймет, что красота — здесь, на земле, но постичь
ее может только тот, кто полон альтруистической любви к ближним и прича-
стен к их страданиям. В более сложной, философской форме мысли Китса об
эволюции человечества, о неизбежности жертв, борьбы и мук и о месте поэта
в этом процессе высказаны в двух версиях поэмы «Гиперион» (1818—1819),
основанной на мифе о свергнутых богами Олимпа титанах. Гуманистические
мотивы звучат и в поэме «Изабелла, или Горшок с базиликом» (1818) на сюжет
новеллы Бокаччо (Декамерон, IV, 5) и в поэме «Канун св. Агнесы» — поэмах
о любви, которая сильнее сословных и денежных интересов, сильнее вековой
вражды, сильнее смерти. Наиболее совершенными образцами поэзии Китса
являются его сонеты и оды. Он воспевает в них красоту природы и чувства,
скорбит о быстротечности счастья, о бессилии фантазии вырваться за пределы
беспощадной реальности.
Ките не был теоретиком и написал всего несколько критических очерков
и рецензий; но в письмах к друзьям, в особенности к поэту Дж. Рейнольдсу,
к художнику Б. Р. Хейдону, к своим издателям, он подробно писал о том, что
составляло содержание и смысл его жизни,— о поэзии, о задачах и
обязанностях поэта, сущности воображения, о понятии прекрасного. Его письма,
впервые изданные в 1848 году, приобрели широчайшую известность и
рассматриваются как интереснейшие теоретические документы английского романтизма.
ИЗ ПИСЕМ
[...] Я не убежден ни в чем, кроме святости привязанностей
сердца и истинности воображения. То, что воображение постигает как
красоту, по-видимому, и есть истина, независимо от того,
существовала ли она ранее или нет. У меня совершенно такое же
представление обо всех наших страстях, как о любви: все они в своем
предельном выражении порождают красоту в высшем понимании слова.
Короче говоря, ты сможешь понять эту мою заветную идею, если
791
вспомнишь мою первую книгу 1 и песенку, которую я послал тебе
в последнем письме 2. Здесь видно, как фантазия подсказывает
возможные пути решения этих вопросов.
Воображение можно сравнить со сном Адама3 — он проснулся
и увидел, что его сон оказался явью. Я потому с таким пылом
говорю обо всем этом, что никогда не мог представить себе, как
можно постигнуть какую бы то ни было истину с помощью
последовательного рассуждения. И однако же, видимо, это возможно. Но
неужели даже величайший философ был когда-либо в состоянии
добиться цели, не преодолевая великое множество внутренних
сомнений? Так или иначе — если б только можно было жить чувством,
а не мыслью! Такая жизнь — «призрачное воплощение юности»,
неясные очертания будущего. Это соображение убедило меня еще
и потому, что с ним связана другая моя заветная идея: в будущей
жизни мы вновь будем наслаждаться повторением того, что на
земле мы называли счастьем; только оно будет более совершенно. А
ведь такой жребий может выпасть лишь тем, кто находит
удовольствие в ощущениях, а не жаждет, как ты, истины. Сон Адама —
вполне подходящий пример, ибо он подтверждает, что воображение
и его отблеск в эмпиреях то же самое, что человеческая жизнь и ее
духовное возобновление. Но, как я уже сказал, и обыкновенный
человек испытывает радость, когда молчаливая работа его
воображения, долго совершающаяся в тишине, время от времени с
чудесной внезапностью возобновляется в его сознании.
[...] Я понял, каким качеством, необходимым для успеха в
особенности в литературе, обладал Шекспир. Я имею в виду
«негативную способность», то есть способность пребывать в неуверенности,
неопределенности, сомнении без лихорадочных попыток цепляться
за факты и рассуждения. Так, Кольридж из-за своего неумения до*
вольствоваться полузнанием пренебрег бы единичной истиной, хотя
бы она была прекрасна и исходила из самых глубин тайны. Если
бы даже написать об этом не один том, все равно пришлось бы
признать, что у великого поэта чувство красоты побеждает все иные
соображения или, вернее, уничтожает какие бы то ни было
соображения.
1 Речь идет о первом сборнике стихов Китса, опубликованном в начале
1817 года.
2 В предыдущем письме, от 3 ноября 1817 года, Ките переписал «Песенку
о скорби» из четвертой книги поэмы «Эндимион».
3 Намек на описание сна Адама в поэме Мильтона «Потерянный рай»
(1667), песнь VIII, ст. 460—490: Адаму снится, что бог из его ребра создал
совершенную женщину; он проснулся и увидел ее наяву.
792
[...] Характер поэта (то есть такой характер, который присущ
мне, если мне вообще присущ какой бы то ни было характер; такой,
который не похож на вордсвортовскую эгоистическую
возвышенность и стоит сам по себе) лишен всякой определенности. Поэт не
имеет собственного «я», он все и ничто. У него нет характера. Он
наслаждается светом и тенью, он приходит в упоение от дурного
и прекрасного, высокого и низкого, богатого и бедного, ничтожного
и возвышенного. Он с одинаковым удовольствием создает Яго и
Имогену. То, что оскорбляет добродетельного философа, восхищает
поэта-хамелеона. Его тяга к темным сторонам жизни приносит не
больше вреда, чем пристрастие к светлым сторонам; и то и другое
не выходит за пределы умосозерцания. Поэт — самое непоэтическое
существо на свете. У него нет постоянного облика, но он все время
стремится его обрести — и вселяется в кого-то другого. Солнце,
луна, море, мужчины, женщины — существа импульсивные, а потому
поэтичные; они обладают неизменными признаками — у поэта их
нет, как нет у него постоянного облика; он, безусловно, самое
непоэтическое из всех творений господа.
[...] В поэзии я придерживаюсь нескольких аксиом. [...] Первая:
я думаю, что поэзия должна поражать своей прекрасной
чрезмерностью, но не странностью. Она должна впечатлять читателя как
словесное выражение его собственных сокровенных мыслей и
казаться почти воспоминанием. Вторая: в ее красоте не должно быть
недоговоренности, от которой у читателя перехватывает дыхание,
но не остается чувства удовлетворения; образы должны
подниматься, двигаться и заходить перед ним естественно, как солнце,
должны озарять его и угасать в строгой торжественности и великолепии,
оставляя его в роскошном полумраке. Но легче придумывать, какой
должна быть поэзия, чем создавать ее, и это приводит меня к
следующей аксиоме: если поэзия не появляется так же естественно,
как листья на дереве, то лучше, если ее не будет вовсе.
The letters of John Keats, ed. by M. В. Forman,
Oxford univ. press, 1948, p. 67—68, 72, 227—228,
108. Перевод H. Дьяконовой.
хэзлитт
1778-1830
Уильям Хэзлитт был выдающимся стилистом, публицистом-художником,
одинаково блестящим как в своих очерках, посвященных бытовым,
нравственным, автобиографическим темам (сборники: «Круглый стол», 1817; «Застоль-
793
ные беседы», 1823; «Откровенный разговор», 1826), так и в
историко-литературных сочинениях («Герои шекспировского театра», 1817; «Лекции об
английских поэтах», 1818; «Лекции об английских юмористах», 1819, и др.). Сын
священника, известного своей прогрессивностью, с детства восторженный
почитатель французской революции и просветительской литературы, Хэзлитт рано
вступил в круг вольнодумцев и материалистов, настроенных враждебно по
отношению к правительству и церкви. В юности Хэзлитт хотел стать
художником, усердно работал в Лувре и в известных картинных галереях Англии. Он
достиг значительных успехов в живописи, но оставил ее, убедившись, что
никогда не сможет стать первоклассным мастером. Интерес к искусству он
сохранил на всю жизнь. Став в короткий срок одним из самых видных
английских журналистов, он с одинаковым пылом писал очерки и статьи по
вопросам экономики, политики, литературы и искусства, горячо защищал права
английского народа, называл его «головой, руками и сердцем республики».
Однако в связи с победой реакции в Европе он пессимистически оценивал
перспективы политической борьбы в ближайшем будущем и считал, что в
развращенном и жестоком обществе единственной абсолютной, вечной ценностью
является искусство — живопись и поэзия. Они призваны волновать, потрясать
людей, воспитывать в них любовь к свободе, способность к независимому
суждению и чувству, презирающему всякие общественные ограничения.
Хотя Хэзлитт был многим обязан Кольриджу, он сурово критиковал его
за приверженность к кантианству, за мистицизм и метафизичность. В своей
эстетике Хэзлитт ближе к Вордсворту, к идеям его «Предисловий». Он не
порывает с литературной теорией английских и французских просветителей. Так,
Хэзлитт неоднократно подчеркивает связь поэзии с общественной средой, видит
величие поэта одновременно в его близости к «духу века» и в способности
выйти за его пределы. Формулируя понятие идеала в искусстве, Хэзлитт, в
отличие от Кольриджа, указывает, что идеал не является плодом субъективного
воображения, а формируется благодаря созерцанию природы и означает
«предпочтение более совершенного в природе менее совершенному в ней же».
Понятие прекрасного для Хэзлитта совпадает с морально возвышенным;
однако мораль не должна внедряться в сознание с помощью назидания или
дидактики. Она должна возникать благодаря тому, что прекрасное приводит
в волнение наши чувства, а они пробуждают в нас жажду истины и добра.
О ПОЭЗИИ ВООБЩЕ
Из общих определений поэзии наиболее совершенным мне
представляется следующее: поэзия — это непосредственное впечатление
о предмете или событии, которое своей яркостью пробуждает
невольный порыв воображения и страсти, вызывая ответные модуляции
голоса или звуков, это впечатление выражающих.
794
Рассматривая поэзию, я буду говорить сперва о предмете ее,
затем о создаваемых ею формах выражения и, наконец, о связи ее
с гармонией звуков.
Поэзия есть язык воображения и страстей. Она связана со всем,
что доставляет нам непосредственное наслаждение или причиняет
страдание. Она находит дорогу ко всем нашим чувствам и
интересам; ибо только то, что открывается нам в самой общей и
понятной форме, может быть предметом поэзии. Поэзия есть
универсальный язык, на котором сердце говорит с природой и с самим собой.
Тот, кто презирает поэзию, не может уважать ни самого себя, ни
что бы то ни было другое. Это не просто светский талант (как
воображают некоторые лица), не пустая забава, которой предаются
немногие праздные читатели и которая заполняет нам часы досуга,—
поэзия была предметом изучения и восторга человечества во все
века. Многие полагают, что поэзия существует только в книжках,
в десятисложных строчках с одинаковыми окончаниями; на самом
же деле всюду, где мы чувствуем красоту, силу или гармонию, как
в беге волн морских или в распускающейся почке, которая все
«нежные листки свои раскрыла, чтоб солнцу красоту свою
отдать» *,— всюду живет поэзия. Если история серьезное занятие, то
поэзия, на наш взгляд, еще серьезнее, ибо источники ее таятся
глубже и разливаются шире. История по большей части имеет дело
с бесформенным, обременительным скоплением фактов; она
громоздит один на другой пустые ящики, в которых под ярлыком
«интриги» или «войны» заключены дела всех государств нашего мира из
века в век; но все мысли и чувства, которые нас когда-либо
посещали, которые нам хотелось бы разделить с другими и которые
были бы восторженно выслушаны,— все это достойный предмет
поэзии. Это не вид сочинительства,— она «создана из вещества того же,
что наша жизнь»2. Все остальное — «пустота», мертвая буква;
ибо все, что в жизни достойно памяти, это поэзия жизни. И страх —
поэзия, и надежда — поэзия, и любовь, и ненависть — поэзия;
презрение, ревность, раскаяние, восхищение, изумление, жалость,
отчаяние, безумие — все это поэзия. Поэзия — это та прекрасная частица
внутри нас, которая расширяет, очищает, облагораживает,
приподнимает все наше существо; без нее «и человек сравняется с
животным» 3. Человек — создание поэтическое, и те из нас, кто не изучает
законов поэзии, всегда действуют в согласии с ними, подобно моль-
еровскому «Мещанину во дворянстве», который, сам того не зная,
1 Шекспир, Ромео и Джульетта, акт I, сцена 1. Перевод Т. Щепкиной-
Куперник.
2 Искаженная цитата из «Бури» Шекспира, акт IV, сцена 1.
3 Шекспир, Король Лир, акт II, сцена 4. Перевод Б. Пастернака.
795
всю жизнь говорил прозой. Поэт просыпается в ребенке, когда он
играет в прятки или твердит сказку про Джека — победителя
великанов; поэтом становится пастух, когда он увенчивает цветами свою
возлюбленную; поселянин, когда он прерывает свой труд, чтобы
взглянуть на радугу, и городской подмастерье, когда он смотрит
вслед шествию лорд-мэра; и скряга, когда он перебирает свое
золото; и царедворец, в душе которого улыбка царя пробуждает надежду;
и дикарь, который мажет своего идола кровью; и раб, боготворящий
тирана, и тиран, который мнит себя богом. Тщеславный и гордый,
честолюбивый и раздражительный, герой и трус, король и нищий,
богач и бедняк, молодой и старый — все живут в созданном ими
самими мире, а поэт всего лишь описывает то, что думают и делают
другие. Если искусство его безумно и сумасбродно, то безумие и
сумасбродство эти — отраженные. «Для них есть причина» 1.
Поэты — не единственные, у кого «кипит мозг», и «воображенье их
всегда сильней холодного рассудка».
Безумные, любовники, поэты —
Все из фантазий созданы одних.
Безумец видит больше чертовщины,
Чем есть в аду. Безумец же влюбленный
В цыганке видит красоту Елены.
Поэта взор в возвышенном безумье
Блуждает между небом и землей.
Когда творит воображенье формы
Неведомых вещей, перо поэта,
Их воплотив, воздушному «ничто»
Дает и обиталище и имя.
Да, пылкая фантазия так часто
Играет 2.
Если поэзия пустая греза, то и жизнь наша стоит не многим
больше. Если это вымысел, созданный из воображаемого и
желаемого по образу нашей мечты, то нет другой и лучшей реальности.
Ариосто описал любовь Анжелики и Медоро: но разве Медоро,
вырезая на деревьях имя своей возлюбленной, не был так же
влюблен в ее очарование, как сам автор? Гомер прославил гнев Ахилла:
но разве герой не был так же безумен, как поэт? Платон изгнал
поэтов из своей республики, опасаясь, как бы их описания
естественного человека не повредили придуманному им идеалу человека
математического, которому, как он полагал, должны быть чужды
1 Несколько искаженная цитата из хроники Шекспира «Ричард III», акт I,
сцена 4.
2 Шекспир, Сон в летнюю ночь, акт V, сцена 1. Перевод Т. Щепкиной-
Куперник.
796
страсти и привязанности, слезы и смех, скорбь и гнев, уныние и
воодушевление. Этот идеал, однако, был химерой, существовавшей
лишь в воображении изобретателя; поэтому поэтический мир певца
«Илиады» пережил философскую республику Платона.
Итак, поэзия следует природе, но воображение и страсти сами
являются частью природы человека. Мы и без поэзии творим мир,
соответствующий нашим желаниям и фантазиям, но нет языка
выразительней поэзии для воплощения созданий нашего духа, в
порождении которых «умоисступленье весьма искусно» 1. Без
возвышающего влияния воображения простое описание естественных явлений,
простое воспроизведение естественных чувств, как бы оно ни было
отчетливо и сильно, не может быть конечной целью и предметом
поэзии. Она светит не только прямым, но и отраженным светом,
показывая нам предмет и распространяя окрест свое сияние:
пламя страсти, сообщенное воображению, подобно молнии, озаряет
самые потайные уголки мысли и пронизывает все наше существо.
Поэзия по преимуществу воспроизводит представления,
порождающие у нас новые представления, и чувства, порождающие новые
представления и новые чувства.
Поэзия несет в мир дух жизни и движения. Она описывает все
в процессе становления, а не покоя. Она не выясняет пределы
человеческого восприятия, не анализирует разграничения, проводимые
рассудком, но являет собой избыток воображения, идущего далее
действительного или обычного впечатления от предмета или
чувства. Поэтическое впечатление от любого предмета и есть то
беспокойное, утонченное ощущение красоты или силы, которое, ломая
все преграды, вырывается наружу и, подобно тому как пламя
тянется к пламени, стремится слиться с другим родственным образом
красоты или величия; то ощущение, которое как бы стремится
воплотиться в высших формах фантазии и облегчить граничащее с
болью чувство наслаждения, выразив его с предельной смелостью
в самых поражающих примерах, рисующих иные проявления того
же чувства. В поэзии, по мнению Бэкона, именно потому
«заключено нечто божественное, что она поднимает дух и мчит его к
предельным высотам, приспосабливая внешние формы явлений к
желаниям души, вместо того чтобы подчинять душу внешним
явлениям, как это делают разум и история» 2. Поэзия в строгом смысле
слова есть язык воображения, а воображением я назову
способность представлять предметы не такими, каковы они сами по себе,
1 Шекспир, Гамлет, акт III, сцена 4. Перевод М. Лозинского.
2 Несколько искаженная цитата из Ф. Бэкона.— Fr. Bacon, Advancement
of Learning and Novum Organum, second book, chapter XIII, N. Y., 1900, p. 63.
797
а в том бесконечном и могущественном разнообразии форм и
сочетаний, в какие облекают их чужие мысли и чувства. Этот язык не
менее верен природе оттого, что он не соответствует языку фактов;
напротив, он тем более правдив и естествен, когда передает
впечатление, которое предмет производит на наше сознание под
влиянием страсти. Если, например, какой-нибудь предмет попадется нам
на глаза, когда мы находимся в состоянии волнения или страха,
наше воображение исказит или увеличит его и сообщит ему черты
того, что наиболее способно внушить страх. Наши чувства «порой
дурачат наше зренье» *. Таков универсальный закон воображения.
...Ждет ли радости она (фантазия.— Дерев.),
Ей чудится той радости предвестник.
Напротив, иногда со страха ночью
Ей темный куст покажется медведем2.
Когда Якимо говорит об Имогене:
Огонь свечи к ней клонится и хочет
Взглянуть под сень ресниц и увидать
Покровом нежных век прикрытый свет3,—
это подсказанное чувством страстное истолкование движения
пламени есть подлинная поэзия.
Влюбленный вместе с поэтом называет каштановые волосы
своей возлюбленной сверкающим золотом, потому что он увлечен ее
красотой, и золотистая прядка в ее кудрях ослепляет его
воображение сильнее, чем блеск благороднейшего металла. Мы сравниваем
человека гигантского роста с башней не потому, что он
действительно так высок, но потому, что его фигура, во много раз
превосходя обычные размеры, по контрасту вызывает более
внушительное ощущение величины и громоздкой силы, чем любой другой
предмет в десять раз больший. Интенсивность чувства примиряет с
диспропорцией, возникающей при подобном сопоставлении.
Перед воображением равные права имеет все то, что в равной
с ним мере способно поразить сознание ужасом, восхищением,
восторгом, любовью. Когда Лир призывает небеса отомстить за него,
«потому что они, как он, стары» 4, то в грандиозности такого
отождествления его старости со старостью небес нет ничего
чрезмерного или кощунственного, ибо нет иного образа, который бы с
1 Искаженная цитата из «Макбета» Шекспира, акт II, сцена 1.
2 Шекспир, Сон в летнюю ночь, акт V, сцена 1.
3 Шекспир, Цимбелин, акт II, сцена 2. Перевод П. Мелковой.
4 Шекспир, Король Лир, акт II, сцена 4.
798
такой полнотой выразил его чувство смертельной обиды и
отчаяния.
Поэзия — это предельный взлет фантазии и чувства. Описывая
реальные предметы, она соединяет возбуждаемые ими впечатления
с образами фантазии; точно так же, описывая чувства наслаждения
и страдания, она сливает их с сильнейшими движениями страсти
и с самыми поражающими образами внешнего мира.
Трагическая поэзия — самая эмоциональная форма поэзии —
всеми силами сравнения и контраста стремится довести чувство до
высшей точки величия и пафоса; она ослабляет действительное
страдание, преувеличивая его в воображении; отдавая нас
безраздельно во власть ужаса и жалости, она тем самым отнимает у них
силу; совершенно не терпя каких бы то ни было ограничений, она
кидается навстречу непреодолимому; она бросает нас назад в
прошлое и вперед в будущее; она открывает нашим изумленным взорам
то, что вне нас,— и каждое мгновение нашей собственной жизни;
в быстром водовороте событий она возносит нас из глубин скорби
к самому возвышенному созерцанию человеческого бытия. Когда
Лир говорит об Эдгаре: «Кроме злых дочерей, никто не мог довести
его до такого» !,— какое горестное недоумение в этих словах, какой
излом воображения, которое не умеет представить себе другой
причины несчастья, кроме той, что сразила его и поглощает собственной
скорбью всю чужую скорбь. Кажется, будто его горе, подобно
наводнению, сливает воедино источники всех чужих горестей. Когда
же он в сцене безумия восклицает: «Все маленькие шавки, Трей,
и Бланш, и Милка лают на меня» 2 — воображение по подсказке
страсти объединяет против него весь мир, страсть вызывает в
памяти самые неожиданные и оскорбительные проявления
неблагодарности и наглости; она исследует все уголки, все складки сердца
Лира и выискивает в глубине его души последние остатки добрых
чувств лишь для того, чтобы раздавить и убить их!
Сильная сторона драматического изображения страсти, которое
возбуждает наше сочувствие, не вызывая отвращения, в том и
состоит, что оно, обостряя наше ощущение катастрофы и
разочарования, в такой же мере усиливает наше стремление к добру. Оно
помогает нам ощутить благо во всей полноте, заставляя осознать
необъятность его потери. Бури страсти обнажают полные сокровищ
глубины человеческой души: все наше существование, вся
совокупность наших страстей и стремлений, наших желаний и страхов
1 Шекспир, Король Лир, акт III, сцена 4. Хэзлитт, по обыкновению,
цитирует неточно, подчиняя слова поэта собственной мысли.
2 Шекспир, Король Лир, акт JII, сцена 6.
799
предстает перед нами в противоборстве. Сила воздействия
соразмерна с оказанным на нас действием; острота непосредственного
страдания заставляет нас лишь еще более усердно искать
приобщения к миру добра, противостоящего этому страданию; она
заставляет нас пить более полными глотками из чаши жизни, она
ослабляет натянутые струны нашего сердца и удесятеряет наши
способности мыслить и чувствовать.
Во всех своих проявлениях поэзия — это язык воображения и
страстей, желаний и фантазии. Ничто поэтому не может быть
нелепее требований сухих педантичных критиков, которые хотят
низвести язык поэзии до некоего среднего уровня здравого смысла и
благоразумия: ведь назначение и цель поэзии «как прежде, так и
теперь была и есть — держать как бы зеркало перед природой» \
созерцаемой при посредничестве страсти и воображения —
посредничестве, которое нельзя подменить буквальной правдой или
умозрительным рассуждением.
Так же как живописец не может изобразить человека, только что
наступившего на змею, с тем застывшим выражением лица, какое
обычно бывает на портретах, так и поэт не может описать самые
яркие и поражающие из всех своих впечатлений на языке
повседневной беседы. Любые из нас при желании могут лишить
природу богатства красок и фантазии,— поэт не должен к ним
присоединяться; впечатления, воспринятые здравым смыслом и
воображением, то есть равнодушием и страстью, не могут быть одинаковы
и нуждаются каждый в особом языке. Различные впечатления,
которые предмет вызывает в нашем сознании, зависят не столько от
его сущности, сколько от того, как мы подходим к нему и с каких
точек зрения на него смотрим — издали или вблизи (в буквальном
или переносном смысле слова), представляется ли он нам новым
или, напротив, давно знакомым, неведом ли он нам или таит в себе
угрозу, вызывает ли он мысли о контрасте с другим предметом или
поражает неожиданным сходством.
Отказаться от воображения — это то же самое, что видеть
предметы без света и тени. Одни ослепляют нас своим
сверхъестественным светом, другие держат в напряжении, вызывая
любопытство и желание исследовать их темные стороны. Вряд ли можно
счесть мудрыми тех, кто пытается рассеять многообразные иллюзии
и поставить на их место унылую серость. Пусть
естествоиспытатель, если пожелает, поймает светлячка и унесет к себе домой в
коробочке; на другое утро он увидит лишь серого червячка; но пусть
поэт или почитатель поэзии посмотрят на него вечером, когда он из
1 Шекспир, Гамдет, акт III, сцена 2.
800
изумрудного сияния строит свой дворец под пахучим кустом
боярышника, в лучах молодого месяца. Ведь светлячок и в таком своем
виде — частица природы, и притом немаловажная; так и поэзия
есть часть истории сознания, хотя она не является ни наукой, ни
философией.
William Hazlitt, Lectures on the English
Poets.— The complete works of William Hazlitt,
ed. by P. P. Howe, v. V, Lond., 1930—34, p. 1—5, 6,
8—9. Перевод H. Дьяконовой.
В. СКОТТ
1770-1832
Литературная критика шотландского романиста представляет наименее
исследованную часть его огромного творческого наследия. Между тем
многочисленные историко-критические статьи Вальтера Скотта, его очерки,
рецензии, предисловия к романам и поэмам ! и в особенности анализ
художественных принципов, которые проявились в его произведениях, позволяют судить
о глубине его эстетической мысли. Хотя среди работ Скотта нет сочинений
теоретического и обобщающего характера, совокупность его суждений создает
известную систему взглядов, представляющую интерес для изучения как
самого Скотта, так и эстетики английского романтизма.
Так же как и другие романтики, писатель отвергает нормативную поэтику
классицизма, отстаивая творческую свободу художника; он высказывается за
отмену классицистической иерархии жанров, за смешение трагического и
комического, за нарушение так называемых вечных канонов прекрасного. Скотт
берет под защиту роман, представляющий с точки зрения классицизма низший
жанр, и указывает на широту его изобразительных возможностей.
Вместе с тем Скотт, так же как и Байрон, чужд романтического
иррационализма. Даже фантастика, по его мнению, должна привлекаться поэтом в
ограниченных пределах, играть роль допустимой условности, после которой в
полные права вступают логика и здравый смысл. Главной задачей искусства он
считает верность природе и моральное воздействие на читателей. Последнее,
однако, не должно быть навязчивым, нарочитым, оно должно доставлять
непосредственное удовольствие. Историческое чувство писателя подсказывает
ему социальную и национальную обусловленность эстетического наслаждения
и заставляет его не только рассматривать каждое произведение в связи с
породившими его особенностями и нравами эпохи, но и последовательно приме-
1 Романы: «Веверлей», 1814; «Гай Маннеринг», 1815; «Пуритане», 1816; «Роб
Рой», 1817; «Эдинбургская темница», 1818; «Айвенго», 1819; «Кенильворт», 1821;
«Квентин Дорвард», 1823; «Вудсток», 1825, и др. Поэмы: «Песня последнего
менестреля», 1805; «Дева озера», 1807; «Мармион», 1810.
801
нять этот принцип в своей художественной практике. Романы Скотта,
раскрывающие историческую основу психологии, действий, чувств, явились новым
словом как в истории литературы, так и в развитии эстетических
представлений. Историзм Скотта, растущий из свойственной романтикам критики
догматизма просветительской мысли, создает предпосылки для реалистического
истолкования природы человека и его общественных связей.
О КНИГЕ ЭЛЛИСА «ОБРАЗЦЫ
РАННИХ АНГЛИЙСКИХ РЫЦАРСКИХ РОМАНОВ»
История, законы и даже религиозные предания у мало
цивилизованных народов обычно излагаются в стихах. Отдается ли
предпочтение поэзии ввиду той легкости, с которой она становится
достоянием памяти там, где еще неизвестно искусство летописания, или
предполагается, что торжественность самих сюжетов требует
наиболее далекого от обыденной жизни способа выражения,
установить было бы трудно, а доискиваться было бы излишне. Однако
вполне очевидно, что все сохраняющееся только в устной традиции рано
или поздно должно претерпеть изменения и искажения,
разрастись или сжаться в объеме, чтобы наилучшим образом закрепиться
в памяти повествователя и безотказно привлекать внимание тех,
кому он стремится угодить cbopim заученным рассказом. Так, на
протяжении жизни всего нескольких поколений поэма на
религиозный сюжет превращается в мифологическое сказание, а история
низводится до уровня романа, полного невероятных приключений.
Тем не менее поэзия отдаленных времен сохраняет интерес и для
нынешнего читателя, невзирая даже на подчас полное отклонение
ее от первоначального замысла. Певец волен изменить тему и
вместо событий, происходивших на его собственной памяти или при
жизни его отца, представить подвиги иноземных или воображаемых
героев; но все же его творение запечатлит обычаи той эпохи, в
которую оно создавалось. Средневековый поэт, так же как и
средневековый художник, отказывается от всякого воссоздания местного
колорита и рисует героев, нравы и пейзаж по образцу героев, нравов
и пейзажа своего времени. Поэтому не имеет решительно никакого
значения, где происходит действие — в Греции или в Тапробане 1:
с местом действия картина связана весьма отдаленно, но зато она
всегда правдиво живописует нравы феодальной Франции или
Англии. Недаром, с тех пор как внимание наших любителей старины
начали привлекать английские и нормандские стихотворные рома-
1 Тапробана — греческое, а также латинское название острова Цейлон.
802
ны, нам посчастливилось глубже проникнуть в исконные обычаи,
язык и характер наших предков, живших в мрачные, воинственные
и романтические времена средневековья, чем это удалось Леланду
и Херну с помощью всех скучных и унылых монастырских
летописей, трудолюбиво ими собранных и терпеливо изученных. В
сущности, если мы хотим составить правильное представление о нашей
древней истории, плоды поэтического вымысла помогут нам,
пожалуй, не менее, чем труды ученого историка. Поэт расскажет нам,
что думали наши предки, как они жили, что побуждало их
действовать, на каком языке они изъяснялись; и, познакомившись так
близко с их чувствами, нравами и обычаями, мы, разумеется,
лучше будем подготовлены к тому, чтобы понять рассказ ученого о
подлинных событиях, запечатленных в летописях тех времен. Из
рыцарских романов мы узнаем о самих людях прошлого, из истории —
о том, что с ними происходило; и если бы нам предстояло лишиться
какого-нибудь одного из этих двух источников сведений, то
позволительно было бы задать вопрос: который же для нас более
полезен или интересен?
Walter Scott, The Miscellaneous prose works,
v. VI, P., 1838, p. 9—10. Перевод M. Арнольд.
МОЛЬЕР
Все согласятся, что в драматическом искусстве нет законов
более несхожих, чем те, которые царят на французской и на
английской сцене. Пропасть между ними настолько велика, что
представитель одной из этих наций, даже отличающийся беспристрастием
и широтой взглядов, должен сначала внимательно ознакомиться с
литературой другой нации, чтобы, посетив соседнее королевство,
хотя бы досидеть до конца спектакля, не говоря уже о том, чтобы
получить от него удовольствие. Чувства какого-нибудь
парижского критика оскорбило бы представление «Гамлета» au naturel \ а
самый терпеливый зритель из театра Друри Лейн подвергся бы риску
вывихнуть себе челюсти, зевая во время представления одного из
шедевров Расина или Корнеля. Это различие во вкусах двух высоко
цивилизованных народов не должно удивлять нас, если мы
вспомним, что английская трагедия по времени своего существования
опередила французскую по меньшей мере на целое столетие: она
до известной степени впитала в себя варварскую грубость,
присущую эпохе королевы Елизаветы, и потому порицается нашими
1 — в естественном виде (франц.).
803
соседями. Между тем перед двумя великими мастерами
французской трагедии стояла задача развлекать изысканный и необычайно
церемонный двор, в чьих суждениях утонченность господствовала
над здравым смыслом и в чьих глазах нарушение норм этикета
считалось виной более тягостной, чем недостаток живости или
таланта.
Таким образом, на английской сцене слово и действие выражали
«свою жизнь в многообразной пестроте» \ здесь переплеталось
трагическое и комическое, смешное и ужасное; под взрывы
аплодисментов на суд полуизумленной, полуиспуганной публики
преподносилось хаотическое смешение прекрасного с гротеском, подобное
пейзажам Сальватора; при этом возбуждались страсти столь
бурные, что не оставалось времени для выяснений, часто ли попираются
правила хорошего вкуса. Французская сцена, напротив того, скована
нерушимыми канонами приличия, жесткое соблюдение которых
превращается в тиранию хорошего вкуса. Драматический кодекс
французов гласит, что спектакль может доставлять удовольствие не иначе
как при следовании некоторым обязательным правилам и не
должен вызывать у зрителя более глубокий и напряженный интерес,
чем тот, который предусмотрен в заповедях Аристотеля и его
нынешних толкователей, коим надлежит неукоснительно повиноваться.
Поэтому английские драматурги предпочитали изображать
потрясающие события и необычайные характеры в резком столкновении,
не боясь оскорбить чувства зрителя неправдоподобием; и даже
самые ярые приверженцы этих авторов вынуждены признать, что они
часто выглядели смехотворно — именно тогда, когда пытались быть
особенно возвышенными. Французы, напротив того, избравши для
себя по преимуществу форму длинных драматических диалогов,
в которых страсть скорее анализируется, чем выявляется, порой
нагоняли тоску хитроумными рассуждениями, в то время как
зритель ожидал проблесков чувства. Отсюда естественно следует, что
каждая страна, склонная к развлечениям привычного ей стиля
и остро ощущающая погрешности сочинений совершенно
противоположного рода, бывает настолько же сурова в осуждении
иноземного театра, насколько снисходительна она в оценке своего
собственного. В связи с этим возникают два важных вопроса:
во-первых, если принять в расчет множество различий в национальных
и индивидуальных вкусах, вправе ли каждая из обеих стран
предавать проклятию лучших писателей другой лишь за то, что они не
попали в цель, в которую никогда и не направляли своих стрел; и,
во-вторых, не существует ли среднего пути, коим суждено пойти
1 Цитата из «Пролога к открытию театра Друри Лейн» Самюэля Джонсона.
804
какому-нибудь еще не родившемуся блистательному гению,— пути,
который, возможно, явится как раз золотой серединой между
английской свободой, граничащей с распущенностью, и жестокой
системой французской критики, которая иногда сковывает и
порабощает дух, хотя ее обязанность — только вести и направлять его?
Там же, стр. 73—75.
РОМАНЫ МИСС ОСТЕН
[...] Существует известное различие между противоестественным
и просто неправдоподобным: художественное произведение бывает
противоестественно, когда можно указать на определенную причину,
которая помешала бы событиям развиваться описываемым образом;
когда действия героев произведения вступают в противоречие с
характером, коим наделил их автор, или находятся в несоответствии
с человеческой природой вообще; например, когда юная
семнадцатилетняя девица, воспитанная в праздности, роскоши и не знающая
иного общества, кроме общества людей ограниченных и
невежественных, обнаруживает (как это обычно присуще героине) в самых
тяжелых обстоятельствах такую мудрость, силу духа и знание
жизни, каких редко могут добиться даже самые лучшие наставники,
дающие пример для подражания, пока на помощь им не придут
зрелый возраст и житейский опыт. С другой стороны,
художественное произведение все же неправдоподобно, хотя и не
противоестественно, если мы, утверждая, что события не могли происходить
изображаемым путем, не представим никаких доводов, кроме одного,
а именно, что нагромождение случайностей говорит не в пользу
хода событий,— герой, находясь в крайне бедственном положении,
как нельзя более своевременно встречает того самого человека,
которому он некогда оказал исключительную услугу и который теперь
весьма кстати сообщает ему нечто важное, благодаря чему все
недоразумения быстро улаживаются. Почему же, однако, герою не
встретиться именно с этим человеком? На это возможен лишь один ответ:
для этой встречи нет решительно никакой причины.
[...] Каждое хорошо построенное повествование должно
сопровождаться в той или иной степени моральным наставлением.
Добродетель следует изображать так, чтобы она в конце концов
счастливо вознаграждалась, порок должен наказываться, а те случайные
события в реальной действительности, которые расходятся с этой
тенденцией, представляют собой отклонения и, имея право на
существование в каждом конкретном случае, должны быть отвергнуты
в широком плане — подобно случайным физическим уродствам,
805
искажающим иногда нормальный человеческий облик. В
вымышленном повествовании они были бы так же неуместны, как жировик
на теле академического натурщика. Однако любая прямая попытка
преподать нравственный урок или сообщить какие-то сухие
сведения, если только она не будет осуществлена с величайшим тактом,
может помешать романисту и поэту в их непосредственной и
присущей лишь их искусству цели — доставлять читателю
удовольствие.
Там же, стр. 311, 315. Перевод М. Арнольд.
«ФРАНКЕНШТЕЙН» МЕРИ ШЕЛЛИ
[...] В вымышленных произведениях того типа, которые мы
имеем в виду, автор совместно с читателем заводит своеобразный
текущий счет: сперва он заручается доверием последнего ко всем
тем чудесам, которые намерен ввести в свой рассказ, но затем он
оказывается полностью связан этим полученным в кредит доверием,
ибо его персонажам приходится в необычайных обстоятельствах
вести себя в соответствии с законами правдоподобия и природой
человеческого сердца. В свете этого правдоподобие отнюдь не
отодвигается на задний план, несмотря на разгул авторского
воображения; напротив, мы предоставляем автору право положить в
основу повествования самые невероятные постулаты — при условии,
однако, что все события у него будут вытекать одно из другого
с безукоризненной логической последовательностью.
Там же, стр. 332. Перевод М. Арнольд.
БИБЛИОГРАФИЯ
Λ Тексты
Bernbaum Ε., Anthology of romanticism and guide through the romantic
movement, v. 1—5, N. Y., Nelson, 1930.
«English romantic poets». Ed. by M. H. Abrams, N. Y., Oxford univ. press,
1960, VIII, 384 p.
II. Общая литература
Гильберт К. и Кун Г., История эстетики, М., Изд-во иностр. лит.,
1960, 684 стр.
Елистратова Α. Α., Наследие английского романтизма и
современность, М., Изд-во Акад. наук СССР, 1960, 505 стр.
Клименко Е. И., Проблемы стиля в английской литературе первой трети
XIX века, Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1959, 302 стр.
806
A b r a m s M. H., The mirror and the lamp. Romantic theory and the critical
tradition, Lond., Oxford univ. press, 1960, 406 p.
Beers H., A history of English romanticism in the 19th century, Lond., Trench,
Triibner, 1902, 424 p.
Bowra G. M., The romantic imagination, Lond., Oxford univ. press, [1961],
LII, 306 p.
Gérard Α., L'idée romantique de la poésie en Angleterre, P., «Les belles
lettres», 1955, 416 p.
Pelican guide to English literature, v. 5, from Blake to Byron, Lond., Ford,
1957, 314 p.
Richter H., Die Geschichte der englischen Romantik, Bd. I—II, Halle
(Saale), Niemeyer, 1911—1916.
Saintsbury G., A history of English criticism. Being the English
chapters of a history of criticism and literary taste in Europe, Edinburgh— Lond.,
Blackwood, 1936, XIII, 551 p.
Wellek R., A history of modern criticism, v. II. The romantic age, New
Haven, Yale univ. press, 1955, V, 459 p.
III. Литература к отдельным авторам
Блейк
Сочинения:
Blake W., The complete writings. Ed. by G. Keynes, Lond., Nonesuch press,
1957, XVII, 937 p.
Blake W., Prophetic writings. Ed. with a general introd. by D. J. SIoss a.
J. P. R. Wallis, t. 1—2, Oxford, univ. press, 1926.
Blake W., The letters. Ed. by G. Keynes, Lond., Hart-Davis, 1956, 261 p.
Литература:
Елистратова Α. Α., Наследие английского романтизма и
современность, М., Изд-во Акад. наук СССР, 1960, 504 стр.
Елистратова Α. Α., Уильям Блейк, М., «Знание», 1957, 28 стр. (Всесоюз.
о-во по распростр. полит, и науч. знаний).
Некрасова Ε. Α., Творчество Уильяма Б лейка, [М.], Изд-во Моск. ун-та,
1962, 182 стр.
Некрасова Ε. Α., Уильям Блейк (1757—1827), М., «Искусство», 1960,
72 стр.
Adams Η., The Blakean aesthetic.— «Journal of aesthetics and art criticism»,
1954, dec, v. XIII, N 2, p. 233—248.
Blackstone A. M., English Blake, Cambridge, univ. press, 1949, XVIII,
456 p.
Blunt Α., Art of William Blake, N. Y., Columbia univ. press, 1959, 122 p.
Bowman M., William Blake. A study of his doctrine of art— «Journal of
aesthetics and art criticism», 1951, v. X, N 1, p. 53—66.
Bowra СМ., Romantic imagination, Oxford, univ. press, 1950, XII, 306 p.
Bronowski J., William Blake. A man without mask, Lond., Seeker a.
Warburg, 1943, 153 p.
Damon F., William Blake. His philosophy and symbols, Boston — N. Y.,
Houghton, 1924.
D i g b y G. W., Symbol and image in William Blake, Oxford, Clarendon press,
1957, XX, 143 p.
807
Erdman D V., Blake. Prophet against empire. A poet's interpretation of
the history of his own times, Princeton, uni v. press, 1954, XX, 503 p.
Frye N., Fearful symmetry. A study of William Blake, Boston, [1962], 462 p.
(Beacon paperback).
Gardner Gh., Vision and vesture. A study of William Blake in modern
thought, N. Y., Dutton, 1929, XI, 226 p.
Gardner S., Infinity of the anvil. A critical study of Blake's poetry, Oxford,
Blackwell, 1954, VII, 160 p.
Gaunt W., Arrows of desire. A study of William Blake and his romantic world,
Lond., Museum press, [1956], 200 p.
Keynes G., Bibliography of William Blake, N. Y., Grolier, 1921, XVI, 516 p.
Larrabee S. Α., English bards and Grecian marbles, Oxford, univ. press,
1943, IX, 312 p.
Lindsay J., William Blake. Creative will and the poetic image, Lond., Fan-
frolice, 1929, 90 p.
Moore T. S., William Blake and his aesthetic— In: Μ о о re T. S., Art and life,
Lond., [1910].
Morton A. L., The everlasting Gospel. A study in the sources of William Blake,
Lond., Lawrence a. Wishart, 1958, 64 p.
Ρ e 11 e r H., Enitharmon. Stellung und Aufgabe eines Symbols im
dichterischen Gesamtwerk William Blakes, Bern, Francke, [1957], XII, 161 S.
Ρ e г с i ν a 1 Μ. О., William Blake's Circle of Destiny, N. Y., Columbia univ.
press, 1938, VIII, 334 p.
Russell A. G. В., Die visionäre Kunstphilosophie des William Blake. Deutsch
v. S. Zweig, Lpz., Zeitler, 1906, 30 S.
S a u r a t D., Blake and the modern thought, Ν. Y., Dial press, 1929, XV, 200 p.
S a u r a t D., William Blake, P., Ed. du vieux colombier, 1954, 125 p.
S h о re г M., William Blake. The politics of vision, N. Y., Holt, [1946], XVI,
524 p.
Tinker Ch., Painter and poet. Studies in the literary relations of English
painting, Cambridge, Harvard univ. press, 1938, XIV, 195 p.
Wicksteed J. H., Blake's innocence and experience, Lond., Dent, 1928,
301 p.
Wicksteed J. H., Blake's vision of the book of Job, Lond., Dent, 1924,
248 p.
Wicksteed J., William Blake's Jerusalem, Lond., Trianon press, 1954,
264 p.
W i t с u t t W. P., Blake. A psychological study, Lond., Hollis a. Carter, 1946,
127 p.
Вордсворт
Сочинения:
Wordsworth W., The prose works. For the first time coll. with add. from
unpubl. mss, ed. by A. B. Grosart, v. 1—3, Lond., Moxon, 1876.
Wordsworth W., The poetical works From the mss with text. a. critical
notes ed. by E. de Selincourt a. H. Darbishire, v. 1—5, Oxford, Clarendon
press, 1940—1949.
Wordsworth W., Letters. Selected with an introd. by Ph. Wayne, Lond.,
Oxford univ. press, 1954, 322 p.
Литература:
Елистратова Α. Α., Вордсворт.— В кн.: Елистратова Α. Α.,
Наследие английского романтизма и современность, М., 1960, стр. 107—
196.
808
Abercrombie L., The art of Wordsworth, Lond., Oxford univ. press, 1952,
VI, 157 p.
Bars tow M. L., Wordsworth's theory of poetic diction, New Haven, Yale
univ. press, 1917.
В e a 11 y Α., William Wordsworth. His doctrine and art in their historical
relations, Madison, univ. of Wisconsin, 1927, 310 p.
В e a t ty T., William Wordsworth. An account of the poet and his friends in
the last decade, N. Y., Dutton, 1939, XI, 307 p.
Burra P., Wordsworth, N. Y., [1962], 158 p.
Calvert G. H., Wordsworth. A biographic aesthetic study, Boston, Lee,
1878, 232 p.
Campbell O. J. and Mueschke P., Wordsworth's aesthetic
development (1795—1802), Ann Arbor, 1933.
Chapman J. Α., Wordsworth and literary criticism, Lond., Oxford univ.
press, 1932, 28 p.
Clarke G.C., Romantic paradox. An essay on the poetry of Wordsworth, Lond.,
Routledge, [1962], VII, 101 p.
Gar rod H. W., Wordsworth's lectures and essays, Oxford, Clarendon press,
1923, 211 p.
Harper G. M., William Wordsworth. His life, works and influence, v. 1—2,
N. Y., Russell, 1960.
Havens R. D., The mind of a poet. A study of Wordsworth's thought. With
particular reference to the prelude, Baltimore, Hopkins, 1941, XVIII, 670 p.
Henley E., Wordsworthian criticism. An annotated bibliography, N. Y.,
New York publ. libr., I960, 61 p.
Moorman M., William Wordsworth. A biography. The early years 1770—
1803, Oxford, Clarendon press, 1957, XVI, 632 p.
Ρ a g η i η i M., La poesia di W. Wordsworth, Milano, Feltrinelli, [1959], 155 p.
Peacock M. L., The critical opinions of W. Wordsworth, Baltimore,
Hopkins, 1950, XXVI, 468 p. Diss.
Shackford M. H., Wordsworth's interest in painters and pictures Welle-
sley (Mass.), Wellesley press, 1945, 80 p.
Viebrock H., Erlebnis und Gestaltung des Schönen in der Dichtung von
Wordsworth. 1798—1808, Marburg, Bauer, 1937, VIII, 68 S. Diss.
Кольридж
Сочинения:
Coleridge S. T., The complete poems Ed. with introd. a. notes by M. Bishop,
Lond., Macdonald, 1954, XLVI, 650 p.
Coleridge S. T., Inquiring spirit. A new presentation of Coleridge from
his publ. a. unpubl. prose writings. Ed. by K. Coburn, Lond., Routledge,
1951, 454 p.
Coleridge S. T., Poetry and prose. Introd. a notes by H. W. Garrold,
Oxford, Clarendon press, 1925, XIX, 184 p.
Coleridge S. T., Collected letters. Ed. by E. A. Griggs, v. 1, Oxford,
Clarendon press, 1956. Изд. продолжается.
Coleridge S. T., The notebooks. Ed. by K. Coburn, v. 1, Lond.,
Routledge, 1957. Изд. продолжается.
Литература:
Елистратова Α. Α., Кольридж.—В кн.: Елистратова Α. Α.,
Наследие английского романтизма и современность, М., 1960, стр. 197—
809
Жерлицы н M., Кольридж и английский романтизм, Одесса,
«Экономическая» тип., 1914, XVI, 300 стр.
Клименко Е. И., Реформа поэтического языка у английских романтиков
(Вордсворт и Кольридж).— «Ученые записки 1-го Ленингр. пед. ин-та
иностр. яз.», 1940, т. 1, стр. 227—241.
Baker J. V., The sacred river. Coleridge's theory of imagination, Louisiana,
univ. press, 1957, XIV, 308 p.
Fer.rando G., La critica letteraria di S. T. Coleridge, Firenze, Aldino, 1909,
63 p.
Fogle R. H., The idea of Coleridge's criticism, Berkeley—Los Angeles, univ.
of California press, 1962, XIV, 185 p.
Hanson L., The life of S. T. Coleridge. The early years, N. Y., Russell, 1962,
575 p.
McKenzie G., Organic unity in Coleridge, [Berkeley], univ. of California
press, 1939, 107 p.
Raab Ε., Die Grundanschauungen von Coleridge's Ästhetik mit besonderer
Berücksichtigung seiner Lehre von «Fancy and imagination», Giessen, 1934,
86 S. Diss.
Read H., Coleridge as critic, Lond., Faber, 1949, 40 p.
Richter H., Die philosophische Weltanschauung von S. T. Coleridge und ihr
Verhältnis zur deutschen Philosophie.— «Anglia». Zeitschrift für englische
Philologie (Halle), Bd. 44, S. 261-297.
Sherwood M., Coleridge's imaginative conception of the imagination, Mass.,
Wellsley press, 1937, 47 p.
Байрон
Сочинения:
Byron G. G., The works. A new rev. and enlarged ed., v. 1—13, Lond.,
Murray, 1898—1904.
Byron G. G., The works. Ed. by E. H. Coleridge, v. 1—7, Lond.—N. Y.,
1903—1904.
Byron G. G., Letters and diaries. A self portrait, 1789 to 1824. Ed. by P. Quen-
nell. v. 1—2, [Lond.], Murray, 1950.
Byron G. G., The Letters. Selected and ed. by R. G. Howarth. Introd. by
A. Maurois, Lond., Dent, [1962], XXI, 393 p.
Байрон Д. Г., Сочинения, т. 1—3. Спб., Брокгауз — Ефрон, 1904—1905 (Б-ка
великих писателей, под ред. С. А. Венгерова).
Байрон Д. Г., Избранные произведения. Вступит, статья А. А. Елистра-
товой, М., Гослитиздат, 1953, 501 стр.
Байрон Д. Г., Из дневников и писем. [Предисл. Б. Кузьмина]. Пер. М.
Богословской.— «Интернациональная литература», 1940, № 1, стр. 88—119.
Литература:
Энгельс Ф., Положение рабочего класса в Англии.— Маркс К. иЭн-
гельс Ф., Соч. т. 2, стр. 462—463.
Алексеев М. П., Байрон и английская литература,— В кн.: Алексеев
М. П., Из истории английской литературы, М.—Л., 1960, стр. 347—389.
Елистратова Α. Α., Байрон, Мм Изд-во Акад. наук СССР, 1956, 264 стр.
Клименко Е. И., Байрон и проблемы традиции.— В кн.: Клименко
Е. И., Проблемы стиля в английской литературе первой трети XIX века,
Л., 1959, стр. 92—128.
Кургинян М. С, Джордж Байрон. Критико-биогр. очерк, М.,
Гослитиздат, 1958, 216 стр.
810
Ромм А. С, Джордж Ноэл Гордон Байрон. 1788—1824, Л.—М., «Искусство»,
1961., 139 стр.
Фрадкин И., Байрон и XVIII век. (К вопросу о мировоззрении Байрона).—
«Ученые записки Моск. пед. ин-та им. В. И. Ленина, кафедра зап. лит.»,
1941, т. XXXI, вып. 5, стр. 105—133.
Beach J. W., A romantic view of poetry. Being lectures given at the John
Hopkins university press. On the Percy Turnbull memorials in no ν 1941,
Minneapolis, univ. of Minnesota press, [1944], 133 p.
Bigland Ε., Lord Byron, Lond., Gassell, [1956], 278 p.
Calvert W. J., Byron: the romantic paradox, Oxford, univ. of North
Carolina press, 1935, 235 p.
Donner J. О., Lord Byrons Weltanschauung, Helsingfors, 1897, 135 S. (Acta
societatis scientiarium fennicae, t. 22, N 4).
Ε i s s e r M., Lord Byron als Kritiker, Würzburg, 1932, 60 S. Diss.
G о о d e СТ., Byron as critic, Weimar, Wagner, 1923, 312 S.
Lo ν e 1 1 E. Y., Byron: the record of a quest. Studies in a poet's concept and
treatment of nature, Austin, univ. of Texas press, 1949, 270 p.
Marchand L. Α., Byron. A biography, v. 1—3, N. Y., Knopf, 1957.
Moore L. L., The late lord Byron. Posthumous dramas, Lond., Murray.
[1961], VIII, 542 p.
Richter Η., Byron. Persönlichkeit und Werk, Halle (Saale), Niemeyer, 1929, XII,
582 S.
Richter H., Byron. Klassizismus und Romantik.— «Anglia». Zeitschrift
für Englische Philologie, 1924, Neue Folge, Bd. 48 (36), H. 3, S. 209—257.
Rutherford Α., Byron. A critical study, Edinburgh—Lond., Oliver
and Boyd, 1961, 253 p.
Шелли
Сочинения:
Shelly Р. В., The complete works. Ed. by R. Ingpen a W. E. Peck, v. 1—10,
Lond., Bonn, 1926—1930.
„Shelley's literary and philosophical criticism". Ed. by J. Shawcross, Lond.,
Frowde, 1909, XIV, 244 p.
Shelley P. В., Poetry and prose, Oxford, Clarendon press, 1942, XVI, 199 p.
Shelley P. В., Poetry and prose. [Сост. сб., автор, предисл. и коммент.
И. Г. Неупокоева], Moscow, Foreign lang. publ. house, 1959, 459 p.
«New Shelley letters». Ed. by W. Scott, New Haven, Yale univ. press, 1949, 169 p.
Шелли П. В., Полное собрание сочинений в перев. К. Д. Бальмонта, т. 1—3,
Спб., «Знание», 1903—1907.
Шелли П. В., Лирика. [Предисл. Б. И. Колесникова], М., Гослитиздат,
1957, 136 стр.
Литература:
Энгельс Ф., Положение рабочего класса в Англии.— Маркс К. и
Энгельс Ф., Соч., т. 2, стр. 462.
Елистратова А. А. Шелли.— В кн.: Елистратова Α. Α.,
Наследие английского романтизма и современность, М., 1960, стр. 341—430.
Клименко Е. И., Стиль Шелли.— В кн.: Клименко Е. И., Проблемы
литературного стиля в английской литературе первой трети XIX века,
Л., 1959, стр. 215—271.
Колесников Б. И., Революционная эстетика П. Б. Шелли, М.,
«Высшая школа», 1963, 114 стр.
Неупокоева И. Г., Революционный романтизм Шелли, М., Гослитиздат,
1959, 471 стр.
811
Barrel J., Shelley and the thought of his time. A study in the history of ideas,
New Haven, Yale univ. press, 1947, 210 p.
Cameron K. N., The young Shelley. Genesis of a radical, N. Y., Macmillan,
1950, XII, 437 p.
Ebbinghaus W., Das ästhetische Einheits- und Vollkommenheitsproblem
bei Shelley, Marburg, Enker, 1931, 93 S. Diss.
G r a b о С, The magic plant. The growth of Shelley's thought, Oxford, univ.
of North Carolina press, 1936, IX, 450 p.
H a ρ ρ e 1 Ε., Das Verhältnis von Wirklichkeit und Kunst am Werke P. B.
Shelley, Düsseldorf, Nolte, 1937, XI, 67 S. Diss.
Hughes Α. M., The nascent mind of Shelley, Oxford, Clarendon press, 1947,
VII, 272 p.
King-He le D., Shelley. His thought and work, Lond., Macmillan, 1960,
VII, 390 p.
Lea F. Α., Shelley and the romantic revolution, Lond., Routledge, 1945, 289 p.
Richter Η., Zu Schelley's philosophischer Weltanschauung.— «Englische
Studien», 1902, Bd. 30, S. 224—265.
Rush P., The young Shelley, Ν. Y., Roy, [1961], 135 p.
Solve M. T., Shelley: his theory of poetry, Chicago, univ. of Chicago press,
1927, XV, 207 p.
Wilson M. T., Shelley's later poetry. A study of his prophetic imagination,
N. Y., Columbia univ. press, 1959, VIII, 332 p. *
Ките
Сочинения:
Keats J., The complete works. Ed. by H. Buxton-Forman, v. 1—5, Lond.,
1900—1901.
Keats J., The poetical works. Ed. by H. W. Garrod, 2 ed., Oxford, Clarendon
press, 1958, XCIV, 578 p.
Keats J., The letters. Ed. by M. B. Forman, Lond., Oxford univ. press, 1952,
LXX, 570 p.
Литература:
Викторовська LB., Естетичний щеал Кгтса.— В кн.: «Питания мови
та лггератури заруб1жних краш», вип. II, Льв1в, 1958, стр. 18—29.
Дьяконова Н. Я., К вопросу о литературной теории английского
романтизма (Эстетические взгляды Китса).— «Вестник Ленингр. ун-та, серия
истории языка и литературы», 1959, № 8, вып. 2, стр. 104—117.
Дьяконова Н. Я., Эстетические взгляды Китса.— «Вопросы литературы»,
1963, № 8, стр. 91—103.
Елистратова Α. Α., Ките—В кн.: — Ε л и с τ ρ а τ о в a Α. Α.,
Наследие английского романтизма и современность, М., 1960, стр. 431—493.
Bate W. I., The stylistic development of Keats, Lond., Routledge, 1958, XI,
214 p.
Caldwell J. R., John Keats' fancy, Ithaca — N. Y., Cornell univ. press,
1945, IX, 206 p.
Finney С L., The evolution of Keats' poetry, v. 1—2, Cambridge, Harvard
univ. press, 1936.
MacGillevray J. R., Keats. A bibliography and reference guide with
an essay on Keats reputation, [Toronto, 1949], IXXXI, 210 p.
M u r r у J. M., Keats, N. Y., Noonday press, [1962], 322 p.
Ρ e 11 e t E. C, On the poetry of Keats, Cambridge, univ. press, 1957, VIII,
395 p.
812
X э з л и τ τ
Сочинения:
H a ζ 1 i 11 W., The complete works. Ed. by P. P. Howe, v. 1—21, Lond.,
Centenary ed., 1931—1933.
Литература:
Дьяконова Η. Я., Уильям Хэзлитт публицист.— «Ученые записки Ле-
нингр. ун-та, зарубежная лит.», 1959, вып. 51, № 266, стр. 50—79.
Baker Η., William Hazlitt, Cambridge, Harvard univ. press, 1962, XIV, 530 p.
Maclean С, Born under Saturn. A biography of W. Hazlitt. Lond., Collins,
1943, 631 p.
Priestley J. В., William Hazlitt, Lond., Longmans, 1960,38р.
Schneider E., The aesthetics of W. Hazlitt: a study of the philosophical
basis of criticism, [2 ed.], Philadelphia, univ. of Pennsylvania, 1953, VIII,
205 p.
Скотт
Сочинения:
Scott W., Critical and miscellaneous essays, v. 1—3, Philadelphia, Carey
a. Hart, 1841.
Scott W., The miscellaneous works, v. 1—30, Edinburgh, Black, 1870—1882.
Scott W., The journal. The text rev. in the Nat. Library W. Scott.
Foreword by W. Parker, Pref. by J. Tait, v. 1—3, Edinburgh, Oliver a. Boyd,
1939—1946.
Scott W., The letters. Ed. by H. Grierson, D. Cook a. W. Parker, v. 1—12,
Lond., Constable, 1932—1937.
Скотт В., Собр. соч. в 20-ти томах. Под общ. ред. Б. Г. Реизова, М.— Л.,
Гослитиздат, 1960— 1965.
Литература:
Клименко Е. И., История и теория литературы в сочинениях Вальтера
Скотта.— В кн.: Клименко Е. И., Традиции и новаторство в
английской литературе, Л., 1961, стр. 16—69.
Орлов С. Α., Исторический роман В. Скотта. Предшественники и
современники. Литературно-эстетические взгляды. Проблемы историзма. — В кн.:
Орлов С. Α., Исторический роман Вальтера Скотта, гл. III, г. Горький,
1960, стр. 83—148.
Ре изо в Б. Г., Предисловие.—В кн.: Скотт В., Собр. соч., т. 1, М.— Л.,
1960, стр. 5—44.
Bail M., Walter Scott as a critic of literature, N. Y., Columbia univ. press,
1907, X, 188 p.
Corson I. C, A bibliography of sir Walter Scott. A classified and annotated
list of books and articles relating to his life and works, Edinburgh — Lond.,
Oliver and Boyd, 1943, XV, 428 p.
Williams A. M., Scott as a man of letters.— «Englische Studien», 1907,
Bd. 37, S. 100—124.
английская
0 С Τ Ε Τ "ИГК А
1830-1860гг.
нглийская эстетическая мысль средних десяти-
Алетий XIX века носит явную печать
эмпиризма. Мы не встречаем здесь ни философских
глубин, которые характерны для эстетической
мысли Германии того же времени, ни
художнических откровений французских мыслителей.
Зато нигде в Европе размышления об
искусстве не были столь тесно связаны с оценкой
положения духовной культуры в условиях
буржуазного развития, как в Англии. Своеобразие английской
эстетической мысли данного периода было предопределено реальными
общественными условиями — бурным процессом утверждения
промышленного капитализма. Классический характер развития
капитализма в Англии сказался в той исключительной ясности, с какой
в жизни страны проявились классовые противоречия. Концентрация
814
богатства и власти на одном полюсе общества и нищета,
обездоленность на другом приняли столь очевидный характер, что скрыть это
стало невозможным. Литература того времени без конца открывает
все новые проявления социальных антагонизмов.
Острота противоречий приводит к ожесточенной классовой
борьбе. Мощное революционное движение пролетариата,
возглавляемое первой массовой партией рабочего класса — чартистами,
сотрясает все здание общества. Бои то затихают, то разгораются,
и вся духовная жизнь проникнута ощущением острейших
общественных противоречий.
Прогрессивная роль буржуазии закончилась с ее утверждением
в качестве господствующей силы общества. Иссякли и духовные
ресурсы этого класса, полностью погрязшего в своекорыстных
интересах. Все сколько-нибудь интересное и значительное в духовной
жизни английского общества рождается из духа оппозиции к
торжествующей буржуазии.
Первые проявления этой оппозиции в данный период мы видим
в деятельности представителей позднего романтизма, и прежде
всего в трудах шотландского мыслителя и публициста Томаса Кар-
лейля, испытавшего в молодости несомненное влияние немецкого
романтизма. Антикапиталистические идеи немецких романтиков
нашли как нельзя лучшее применение в условиях обнаженных
противоречий английского буржуазного общества. «Томасу Карлейлю,—
писал Ф. Энгельс,— принадлежит та заслуга, что он выступил в
литературе против буржуазии в то время, когда ее представления,
вкусы и идеи полностью подчинили себе всю официальную
английскую литературу; причем выступления его носили иногда даже
революционный характер. Это относится к его истории французской
революции, к его апологии Кромвеля, к брошюре о чартизме,
к «Прошлому и настоящему». Но во всех этих произведениях
критика современности тесно связана с на редкость антиисторическим
апофеозом средневековья» 1.
Карлейль возмущался тем, что капитализм приводит к
нивелировке человеческой личности, подавлению ее духовных интересов,
к тирании интересов практических и господству «чистогана».
Духовная культура, считал он, важнее материального процветания,
и никакие сокровища Британской империи не сравнятся с
духовным богатством творений Шекспира. Великие художники
принадлежат к тем героям человечества, которые двигают вперед развитие
жизни. Их отличает не только огромное художественное дарование,
но и величие личности, состоящее в нерасторжимости красоты
1 «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., 1957, стр. 461,
815
и духовного благородства. Прекрасное не может быть
безнравственным.
Идеи Карлейля оказали огромное вляние на духовную культуру
середины XIX века. В частности, нетрудно заметить духовное
родство между ним и самым значительным представителем
критического реализма в литературе — Чарльзом Диккенсом. Страстный
обличитель пороков буржуазии, защитник всех обездоленных и
эксплуатируемых, Диккенс показал духовное убожество и нравственное
уродство класса капиталистов. Классовые антагонизмы эпохи
обнаженнее всего изображены им в романе «Тяжелые времена», где
Диккенс показал не только классовую борьбу между буржуазией
и пролетариатом (хотя сам он был противником революционного
насилия, поддерживая идею постепенного преобразования
общества), но и то, что существующий порядок вещей враждебен
свободному развитию таких сторон личности, как фантазия,
воображение, любовь к искусству.
Критика несправедливости и бездушия буржуазного общества
составила пафос всей блестящей литературы критического реализма,
в первую очередь творчества Диккенса, Теккерея, Шарлотты Бронте
и Элизабет Гаскелл. Но не только реалисты, поздние романтики
также сыграли свою роль в осуждении духовного убожества
буржуазного уклада жизни. В этой связи следует особенно упомянуть
мастерское творение Эмили Бронте «Грозовой перевал».
Революционные народные массы находили выражение близких
им настроений в творчестве великих английских революционных
поэтов-романтиков. Как отмечал Ф. Энгельс, «Шелли, гениальный
цророк Шелли и Байрон со своей страстностью и горькой сатирой
на современное общество имеют больше всего читателей среди
рабочих ...» К Романтика и утопизм характерны для передовой
революционной идеологии домарксистского периода, что весьма заметно
в Англии, где этим духом проникнуто и творчество и теоретические
высказывания первых представителей пролетарской литературы —
поэтов-чартистов. Однако, в отличие от Карлейля, поэты-чартисты
видели свой идеал не в средневековом прошлом, а в социальной
утопии будущего. В этом отношении существует неразрывная связь
между революционным романтиком Шелли, социалистом-утопистом
Оуэном и революционным чартистом Эрнестом Джонсом.
Эстетический идеал сливается у них с идеалом социальным: свободное
общество, основанное на коммунистической собственности, полном
равенстве и свободе, создает условия для достижения наивысшей
красоты жизни.
3 «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, стр. 233.
816
После разгрома революционного движения 1948 года на
континенте Европы и в Англии перспектива революционного
преобразования общества отдаляется. На первый план выдвигаются идеи
борьбы с буржуазным обществом изнутри. Однако умеренность
мыслителей 1850—1860-х годов в отношении к проблеме
революционного насилия не должна расцениваться как примирение с
буржуазным обществом. Не призывая к революционным действиям,
продолжатели романтического направления безоговорочно отвергают
мещанско-буржуазный уклад жизни, противопоставляя ему свой
нравственный и эстетический идеал, стремясь, так сказать,
отторгнуть от буржуазии челореческие души.
В этом отношении исключительно большое значение имела
деятельность Джона Рескина, которому впервые удалось вывести
эстетику из академической среды и привлечь к ней внимание
широчайших слоев английского общества.
Рескин выдвигает искусство как тот элемент действительности,
в котором осуществляется слияние природы, красоты и
нравственности. Он развивает идею романтиков о средневековье как
эпохе органического слияния практической жизнедеятельности и
художественного творчества. Рескин создал теоретическую
предпосылку для движения прерафаэлитов в живописи и поэзии, считая,
что уже Ренессанс был эпохой отчуждения искусства от жизни,
тогда как в средние века оно служило средством духовного единения
людей в процессе коллективного творчества.
Рескин протестовал против капиталистического общества,
превратившего человека в придаток машины и лишившего его «души»*
способности творить и наслаждаться красотой. Он хотел, чтобы
жизнь каждого человека стала прекрасной. Осуществление своего
идеала прекрасной жизни Рескин мыслил вне капиталистических
условий, но, как и многие утописты, он думал направить
человечество на новый путь средствами эстетической пропаганды.
Предпосылкой эстетической теории Рескина является твердое
убеждение в существовании объективных эстетических фактов,
воплощенных в прекрасных явлениях природы. Чувство прекрасного
также есть нечто присущее человеческому духу вообще. Природа
эстетических фактов не исследуется Рескиным, а принимается как
данное. Они — нечто столь же безусловное, как понятия подлинной
нравственности. Задачу критики искусства он видит в том, чтобы
сделать здравые и благородные понятия доступными всем.
Большое место в эстетике Рескина занимает принцип духовности
прекрасного. Подлинная красота проявляется не во внешних
формах, а в благородных идеях, одушевляющих художника и вносимых
им в организуемое его деятельностью единство прекрасного и нрав-
27 История эстетики, т. III
817
ственного, которое и дает в итоге подлинное произведение
искусства. Идея не только является душой произведения искусства,—
она и есть основа прекрасного, ибо совершенное художественное
произведение есть произведение прекрасное по своим идеям. Рескин,
таким образом, выступает как противник формального понимания
красоты. В основе понятия красоты у Рескина лежит
нравственность, что сделало его эстетику близкой Л. Толстому в последние
годы жизни русского писателя. В этом отношении Рескин выступает
как продолжатель давней английской традиции, восходящей еще
к Шефтсбери с его концепцией единства красоты и добра.
Но не только в теории существовала эта традиция. Она прочно
вошла в практику английской литературы. Морализаторство
составляло душу всей английской просветительской литературы XVIII
века, оно получило свое выражение и в изобразительном искусстве
(Хогарт). В XIX веке идея нравственного совершенствования людей
составляет пафос всей литературы критического реализма в Англии.
Эстетическая теория Рескина обычно сопоставляется с
произведениями изобразительного искусства его эпохи. Между тем в
суждениях Рескина мы найдем немало положений, которые находятся
в прямом соответствии с творчеством корифеев английского
социального романа, особенно Диккенса.
Рескин полагал, что существуют три признака человеческой
красоты: 1) отражение в чертах лица интеллекта, 2) проявления
нравственного чувства, 3) моральный энтузиазм, столь прекрасный, что
он оказывается существеннее внешнего облика человека. Эти
принципы находят прямое соответствие в художественной структуре
романов Диккенса и особенно в его методе изображения человека.
Уже самый внешний облик его персонажей всегда служит прямым
отражением их характеров, которые оцениваются с точки зрения
нравственных критериев. Особенно же типично для Диккенса
создание образов, наделенных моральным энтузиазмом, как, впрочем,
и образов, воплощающих крайнюю степень безнравственности.
Если, с одной стороны, Рескин близок к эстетике критического
реализма Диккенса и его школы, то, с другой стороны, он заложил
основы движения прерафаэлитов, провозгласив ряд положений,
составивших платформу их творчества. Влияние Рескина на
прерафаэлитов было двойственным: его теория обусловила
антибуржуазную направленность эстетики прерафаэлитов, но в то же время
прямолинейное понимание нравственного начала в искусстве
привело к дидактичности творчества прерафаэлитов, к
иллюстративности и подмене живописных принципов литературностью.
Рескин один из немногих теоретиков искусства, обладавший
подлинно художественным стилем. Его речь красочна, живописна,
818
эмоциональна. Но логической точностью и последовательностью его
труды не отличаются. Строгий анализ обнаруживает у него иногда
преобладание патетики над убедительностью, подмену логики
эффектами стиля.
Взгляды Рескина оказали непосредственное влияние на Уильяма
Морриса. Эстетическая критика капитализма также определяла
позиции Морриса. Натура активная, Моррис не ограничивался
проповедью эстетических взглядов. Он стремился к осуществлению их
в жизни. Восприняв идею Рескина о принципиальной важности
художественного ремесла как единства труда и искусства, Моррис
создал мастерские, где культивировался такого рода ремесленный
труд. Если, с одной стороны, эти мастерские мыслились им как
восстановление средневекового жизненного синтеза, то, с другой
стороны, он рассматривал их как некий прообраз общества, в котором
будет господствовать свободный труд, содержащий эстетическое
начало как в самом процессе работы, так и в продукте,
создаваемом ею.
Но глубоко новаторская и в чем-то даже пророческая теория
и практика Морриса в условиях капитализма обнаружила главным
образом свои слабые стороны. Эстетическая концепция Морриса
была искренне демократичной по своему замыслу. И все же ее
практическое воплощение вступало в противоречие с намерениями
благородного реформатора. Его художественные мастерские
изготовляли предметы, которые могли быть доступны только богатым, ибо
стоимость их производства была велика. Ремесленный труд не мог
конкурировать с массовым производством капиталистического типа.
Весь этот эпизод практического претворения в жизнь
эстетического идеала романтиков и филантропов со всей очевидностью
обнаружил коренной порок всех эстетических построений
идеалистического толка. Напомним, что основные идеи, вдохновлявшие
Карлейля, Рескина и Морриса, были впервые выдвинуты Фридрихом
Шиллером. От него и была воспринята идея эстетического
воспитания человечества как средства в борьбе против обесчеловечивания
людей в капиталистическом обществе.
В итоге своей идейной эволюции Уильям Моррис пришел к
социализму. Он вступил в ряды социалистического движения и
принимал под конец жизни активное участие в классовой борьбе.
Энгельс отмечал его искренность и назвал его «социалистом
чувства» К При всем этом было бы неверно недооценивать тот факт,
что в конце концов Моррис пришел к правильному выводу. Он
понял главное: эстетическому перевороту должен предшествовать
1 К. Маркс и Ф. Эн.гельс, Сочинения, [изд. 1-е], т. XXXVII, стр. 555.
27*
819
переворот социальный. Тем самым он понял верность того
решения вопроса, которое задолго до этого было найдено К. Марксом
и Ф. Энгельсом.
Социальная сторона эстетики получила наибольшее развитие
у романтиков-идеалистов. В противоположность им позитивистская
эстетика сосредоточила свое внимание на биологических корнях
искусства. Возникновение позитивистской эстетики относится к
периоду после 1848 года, когда наступила относительная стабилизация
капиталистического общества. Развитие этого направления было
тесно связано с успехами научного естествознания во второй
половине XIX века. Позитивисты стремились положить конец
декларативности в вопросах эстетики и построить ее на основе
неопровержимых научных данных.
Непосредственным толчком к возникновению позитивистской
эстетики послужила теория Дарвина, хотя создатель учения о
происхождении видов не ставил себе задачи решения проблем
эстетики и коснулся их лишь между прочим в общем комплексе
интересовавших его вопросов. Дарвин открыл, что не только человек, но
и низшие животные способны испытывать эстетическое
наслаждение. Он разбил тем самым построения идеалистической эстетики,
выводившей понятие прекрасного у человека из сферы «духа».
Наука доказала физиологические основы прекрасного. Однако из
этого отнюдь не проистекала однородность эстетических
представлений у людей. Наоборот, как показал Дарвин, понятие
прекрасного является не одинаковым у разных рас и наций.
Дает ли теория Дарвина основание для того, чтобы решать весь
круг проблем эстетики исключительно в физиологическом плане?
На это правильно ответил Г. Плеханов: «Природа человека делает
то, что у него могут быть эстетические вкусы и понятия.
Окружающие его условия определяют собой переход этой возможности в
действительность; ими объясняется то, что данный общественный
человек (то есть данное общество, данный народ, данный класс) имеют
именно эти эстетические вкусы и понятия, а не другие» 1.
Сам Дарвин не претендовал на то, что им открыты решения всех
проблем эстетики. Однако у него нашлись последователи,
считавшие, что физиология дает ключ к загадкам эстетического вкуса. На
этой почве возникла физиологическая эстетика, исходившая из
того, что, изучая реакции организма на те или иные факторы
действительности — цвет, линии, звуки и их сочетания,— можно
установить определенные эстетические закономерности. Следует со всей
определенностью подчеркнуть, что сам Дарвин неповинен в таком
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XIV, стр. 11.
820
одностороннем выводе из его предварительных, как он считал,
наблюдений относительно зачатков эстетического чувства у животных.
В Англии позитивистская эстетика получила разработку в
трудах ученых психологической школы (А. Бейн, Грант Аллен и
другие), которые искали компромисса между идеализмом
романтической эстетики и натуралистической или физиологической эстетикой.
Ученые этого направления стремились соединить данные
психологии с показаниями физиологов относительно простейших
физиологических реакций организма.
Если идеалисты и романтики рассматривали проблемы эстетики
в свете социальных противоречий эпохи, то позитивисты совершенно
игнорировали этот аспект. Одной из предпосылок позитивистской
эстетики является признание неизменности человеческой природы
и незыблемости основ социального бытия. Развитие как
диалектический процесс уступает место в их теориях принципу
эволюции, допускающему лишь количественное накопление способностей.
Позитивистская эстетика носила преимущественно
эмпирический характер. Своего наиболее полного выражения этот
эмпиризм достигает у Герберта Спенсера. Показательный пример этого мы
находим уже в самом начале его рассуждения об эстетических
чувствах, где он пишет о том, что не помнит, у какого «немецкого
писателя» нашел рассуждение об искусстве как игре. Как известно,
создателем этой теории был Фридрих Шиллер. Трудно сказать, чем
объясняется отношение Спенсера к предшествующей теоретической
эстетике — просто ли незнанием ее или нарочитым пренебрежением
к ней. Во всяком случае, позитивисты почти совсем игнорировали
классическую идеалистическую эстетику, ее мысли об искусстве
и прекрасном, считая их метафизическими.
Чувство восхищения прекрасным чуждо Спенсеру и
окружающим его теоретикам. В этом отношении позитивисты являются
полной противоположностью романтикам. Позитивисты равнодушны
к искусству. Грант Аллен откровенно признался в этом, когда писал
предисловие к своей «Физиологической эстетике»: «Я сам не
являюсь чрезмерным поклонником изящного искусства в какой бы то
ни было форме» К
Если для романтиков центральной была проблема искусства
и общества, то для позитивистов главный вопрос — отношение
искусства и эстетических чувств к природе человека вообще, вне
времени и пространства. Но если позитивистская эстетика теряла то,
что относилось к социальной стороне искусства, то, с другой сто-
1 Цит. по кн.: К. Гилберт и Г. Кун, История эстетики, М., 1960,
стр. 551.
821
роны, она покончила с обособлением искусства от других видов
человеческой деятельности. Эстетика романтиков еще была тесно
связана с культом гениальности. Недаром Карлейль выделяет
поэтов и художников как героев человечества. Мессианской,
пророческой роли художника у романтиков позитивистская эстетика
противопоставляет общераспространенность эстетического чувства и
общедоступность художественной деятельности. Для романтиков
искусство — деятельность, составляющая ядро жизненного процесса,
ибо в творческом акте наиболее полно раскрывается человек и
осуществляется активное воздействие прекрасного на всю
действительность. Позитивизм проводит разграничение между
жизнедеятельностью человека и искусством. Герберт Спенсер принял концепцию
об искусстве как игре. В этом была несомненная положительная
сторона — Спенсер не довольствовался позицией вульгарного
утилитаризма, его отношением к искусству. Но, отвергая практическую
или моральную пользу как высшую цель художественного
творчества, он обедняет общественную функцию искусства, делает ряд
уступок идеалистической эстетике.
Английская позитивистская эстетика, как и соответствующая ей
немецкая школа Гербарта, Фехнера и других, стремится установить
физиологическую обусловленность эстетического чувства. Ученые
этого направления связывают восприятие прекрасного с ощущением
физического удовольствия. Последователь Спенсера Грант Аллен
считал, например, что сочетание красок в определенной ритмической
последовательности, вызывающей то напряжение зрения
смотрящего, то ощущение отдыха, доставляет удовольствие, которое мы
называем эстетическим. Такое же воздействие оказывает гармония
звуков. Физиологическая и психологическая школы
отождествляют чувственно приятное с прекрасным, отвлекаясь от всего
богатства духовного содержания произведений искусства. Не
приходится отрицать того, что достоинством позитивистской эстетики
была тенденция к научному детерминизму, сама по себе
положительная. Но стремление опереться на факты, подлежащие
физическому измерению, приводило ученых этого направления к
игнорированию всей сложности как процесса творчества, так и процесса
восприятия произведений искусства. Верно понимая, что искусство
связано с природой человека, позитивизм сводил, однако, сознание
к простейшим рефлексам. Поэтому материализм позитивистов
оказывался в конечном счете вульгарным.
Односторонность позитивистов проявилась и в чрезмерном
акцентировании гедонистического отношения к искусству. Эстетические
построения такого рода служили обоснованием художественной
практики, преследовавшей цель доставить удовольствие и развлечь
822
публику. В конечном счете эта школа давала теоретическое
обоснование развлекательного и идеализирующего буржуазное общество
искусства.
Эстетическая мысль Англии в средние десятилетия XIX века
характеризуется резко выраженной борьбой двух противоположных
течений. Их справедливая оценка невозможна без
конкретно-исторического подхода к особенностям теоретических построений
каждого из них. Наряду с противоречиями между разными школами —
романтической и позитивистской — имели место и противоречия
в учении каждой из них. В целом этот период следует оценить не
столько как время великих теоретических открытий, сколько как
период исканий, показавших, что при всем богатстве наследия
классической эстетики конца XVIII —начала XIX века перед
наукой о прекрасном стояло еще немало неразрешенных проблем.
А. А. АНИКСТ
ОУЭН
1771-1858
В произведениях великого английского социалиста-утописта Роберта
Оуэна мало высказываний, прямо посвященных проблемам искусства или
положению искусства в обществе.
Однако, несмотря на это, Оуэн был одним из видных представителей
теории эстетического воспитания. Основные убеждения Оуэна, прожившего
большую, деятельную жизнь, сложились уже к 1820 году. В последующие
десятилетия мыслитель вносил лишь несущественные коррективы в свою систему
взглядов.
Для мировоззрения Оуэна характерен рационализм, в котором он даже
более последователен, чем его учителя, просветители XVIII века.
Оуэн исходит из того, что в обществе, в отношениях между людьми должна
господствовать истина. Истина, а вместе с ней единение и счастье людей —
результат точного и глубокого знания фактов. Невежество и заблуждения для
Оуэна — источник всякого зла, всяких бедствий. К числу заблуждений,
порождающих зло, Оуэн относит фантазии, не проверенные опытом,
противоречащие всем известным фактам и постоянно меняющиеся. Поэтому воспитание
будущих членов рационального и гармоничного общества — а воспитание в
системе Оуэна имеет первостепенное значение — должно быть построено так,
чтобы давать «меньше всяких отвлеченных и фантастических представлений,
но больше правильных мыслей» х. Исходя из тезиса утилитарной школы «чело-
1 Роберт Оуэн, Избранные сочинения, т. II, М.—Л., 1950, стр. 64.
823
век — творение обстоятельств», Оуэн разрабатывает такую систему
воспитания и образования, которая предполагает, что каждый член общины с
возрастом переходит из одной возрастной группы в другую и тем самым приобретает
новые навыки и профессии. Каждая возрастная группа должна заниматься
таким делом, для которого данный возраст лучше всего пригоден по своей
природе. В общине, полагал Оуэн, не будет таких занятий, которые должны
исполняться одним человеком и не исполняться другими людьми. В результате
такой рациональной системы воспитания вырастет новый в физическом,
нравственном и умственном отношении человек: воспитание научит его
чувствовать, мыслить, действовать рационально.
В педагогическом плане Оуэна непосредственно изящными искусствами
занимаются часть дня члены шестой возрастной группы (возраст от двадцати
пяти до тридцати лет). В начальной возрастной группе необходимыми
элементами воспитания являются музыка и танцы. При этом Оуэн ставит на первый
план критерий полезности. Музыка, архитектура, как и одежда, обувь,
предметы быта, прежде всего должны быть полезными, удобными, экономически
целесообразными, и уже потом — красивыми и изящными. Недаром Энгельс
подчеркивал практический характер коммунизма Оуэна К Жизненную практику
Оуэн считал пробным камнем своей системы. «Опыт покажет,— писал он,— что
нет ни одного более неосновательного возражения против новой общественной
системы, чем утверждение, что она неспособна вести человека к
усовершенствованию в искусствах, науках и знаниях...» 2.
Влияние идей Оуэна о направленном формировании человеческого
характера было значительным как в самой Англии, так и в других странах.
[...] Главное дело жизни будет заключаться в производстве
богатств, в пользовании ими и в создании у всех людей разумного
характера, причем население будет знать только одно занятие и одно
удовольствие, которое сведется к постоянному увеличению радости и
красоты в мире. Это будет единственным занятием общества, за
исключением постоянного накапливания разнообразных знаний,
позволяющих сократить все нездоровые или неприятные занятия на
протяжении человеческой жизни. Уже теперь научные знания так
выросли, что при правильном устройстве общества, его научной организации
и должном управлении можно сделать радостным существование
каждого индивидуума в отдельности, а также приступить к
превращению земного шара по мере роста народонаселения в земной рай,
в котором будут неизменно господствовать мир и счастье.
1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 30, стр. 273.
2 Роберт Оуэн, Избранные произведения, т. I, стр. 125.
824
При организации таких больших общин, которые, объединенные
десятками, сотнями, тысячами и т. д., будут всеми способами
помогать и содействовать друг другу, при полном отсутствии условий,
вызывающих взаимные противодействия или вражду, рост знаний
приведет к таким открытиям и усовершенствованиям, которые
превзойдут все, что можно себе теперь представить; все люди будут
так образованны и поставлены в такие условия, что сумеют самым
совершенным образом прилагать свои силы ко всем искусствам
и наукам, притом без необходимости соблюдать тайну, которая не
допускает оказания им широкой помощи в их открытиях.
Роберт Оуэн, Избранные сочинения, т. II,
М.— Л., 1950, стр. 42—43. Перевод С. А. Фейгиной.
[»..] Если бы люди воспитывались с детства, чтобы стать
рациональными существами, и были бы поставлены в такие
внешние условия, при которых они после получения ими надлежащего
воспитания и образования с самого детства могли бы свободно
проявлять способности своего разума, они никогда не ошибались бы
в вопросе о надлежащем упражнении сил и способностей своего
организма. Как рациональные существа, они знали бы, в какой степени
нужно упражнять свои органы, чтобы обеспечить себе наилучшее
состояние здоровья и высшее наслаждение жизнью, наиболее
продолжительной, какая только возможна человеку при
индивидуальных особенностях его организма. [...]
Счастье человека не может быть достигнуто, если все его
наклонности не будут получать умеренное удовлетворение, как
повелевает природа. Добродетель заключается в том, чтобы давать
им это удовлетворение, порок — в препятствовании этому,
справедливость — в том, чтобы позволять и поощрять это удовлетворение,
несправедливость — в том, чтобы этому мешать или отклонять от
этого.
Все мужчины, женщины и дети, чтобы быть здоровыми,
добродетельными и счастливыми, должны упражнять все свои
наклонности с надлежащей умеренностью, соответственно индивидуальным
особенностям их организмов. И единственный способ научить их,
как это делать с пользой для себя и для общества, заключается
в том, чтобы создать надлежащие и благоустроенные учреждения
для воспитания каждого ребенка со дня его рождения так, чтобы он
стал разумным существом как в области мысли, так и поведения;
кроме того, нужно окружить всех людей в продолжение всей их
жизни учреждениями и внешними условиями, соответствующими
825
их природе, прилагая при этом все старания, чтобы ничего не
оставить и не допустить из того, что противоречит изученным и
достоверно установленным законам человечности.
«Педагогические идеи Роберта Оуэна», М., 1940,
стр. 228—229. Перевод А. Анекштейна.
[...] Детей с двух лет начинали обучать танцам, а с четырех
лет — пению под руководством хороших учителей. Их учили
также — мальчиков и девочек — военным упражнениям, и они
маршировали, разделенные на отряды, с маленькими флейтистами
и барабанщиками во главе, делая большие успехи в этих
упражнениях. [...]
Как я уже говорил, танцы, музыка и военные упражнения,
преподаваемые и проводимые при самом мягком и добром обращении
со всеми детьми без исключения, принадлежат к лучшим и
наиболее действенным средствам образования доброго и счастливого
характера, какой только возможен [...].
Они укрепляют здоровье, развивают естественную грациозность
тела и самым незаметным и приятным образом приучают к
повиновению и порядку, создают мирное и счастливое душевное
настроение, наилучшим образом подготовляя детей для успехов в
умственных занятиях. [...]
Мягкое, доверчивое обращение со стороны учителей, полное
отсутствие не только всякого застращивания, но даже грубого слова
содействовало развитию в детях благовоспитанности и учтивых
манер, удивлявших и очаровывавших посетителей и гостей.
Невиданный характер этих детей и их поведение были настолько для них
непостижимы, что они не находили слов, чтобы выразить свое
удивление, которое они не могли скрыть.
Там же, стр. 169—170.
[...] Шестая группа будет состоять из людей в возрасте от
двадцати пяти до тридцати лет включительно.
Занятия этой группы будут заключаться в сохранении богатства,
созданного ранее описанными группами, для того чтобы не было
никаких потерь и чтобы все его виды хранились в хороших
условиях и употреблялись в наилучшем состоянии на пользу всем. Эта
группа должна также руководить распределением благ, когда они
будут требоваться со складов для повседневного употребления
членами объединения» При тех мерах, которые должны быть и,
несомненно, будут приняты в этих целях, окажется, что два часа в день
более чем достаточно для систематического выполнения людьми этой
группы их обязанностей самым совершенным образом. [...]
826
Другую часть дня они, вероятно, посвятят своим любимым
занятиям, например, приложат свои силы к изящным искусствам и
наукам или займутся чтением, беседами или поездками в соседние
общины для получения и передачи информации или для посещения
друзей. Это будет лучший период деятельного пользования жизнью;
благодаря указанному расчленению общества все будут иметь
полную возможность радоваться ей. Все люди будут пользоваться
прекрасным физическим и умственным здоровьем; они всегда будут
в бодром настроении. К этому периоду своей жизни они приобретут
разнообразные полезные знания как теоретические, так и
практические — знания, более широкие и глубокие, чем люди имели до сих
пор; они будут хорошо знакомы с новейшими достижениями,
которые в добавление ко всему, что ими сделано полезного в области
теоретической и практической, превратят их в интересных
собеседников друг для друга и для всех, с кем они могут вступить
в соприкосновение. [...]
Роберт Оуэн, Избранные сочинения, т. II,
стр. 74—75. Перевод С. А. Фейгиной.
ДЖОНС
1819-1869
Эрнест Чарльз Джонс — крупнейший чартистский поэт, романист,
публицист и литературный критик, видный деятель английского рабочего движения,
близкий друг Маркса и Энгельса.
Джонс происходил из аристократической семьи, получил юридическое
образование в Германии. В 1846 году Джонс примкнул к чартизму, став вождем
его левого крыла, вошел в редакцию газеты «Северная звезда». В том же году
вышел сборник его «Чартистских стихов». В 1847—1848 годы совместно
с Ф. О'Коннором издавал журнал «Труженик», в котором были опубликованы
многие его революционные стихи, статьи и литературные обозрения, а также
романы «Исповедь короля» и «Роман о народе». В 1848 году он вступил в Союз
коммунистов и вскоре за революционную пропаганду был заключен на два
года в тюрьму, где написал поэму «Новый мир» (1851), в которой в
аллегорической форме воспроизводится история классовой борьбы в Англии. Выйдя из
тюрьмы, Джонс порвал с буржуазно-утопическими идеями О'Коннора и начал
издавать журнал «Заметки для народа» (с 1852 года выходил под названием
-«Народная газета»), где печатались многие статьи К. Маркса и собственные
произведения Джонса. В 1854 году Джонс пытался добиться возрождения
чартизма, но потерпел неудачу и отошел от рабочего движения.
827
Эстетические взгляды Эрнеста Джонса формировались в условиях
революции 1848 года и растущего воздействия на него идей марксизма. Краеугольным
камнем его эстетики была идея о связи искусства с современной общественной
жизнью, с наиболее животрепещущими вопросами жизни народа:
«Произведение, чтобы иметь право на будущее, должно быть правдивым выражением
настоящего» 1. Революционная чартистская критика боролась за создание новой
литературы, выражающей, по словам Джонса, «самую моральную тему века»—
борьбу рабочего класса за свое освобождение. Чартистов не удовлетворяют
принципы художественного осмысления действительности в романах
Диккенса и Теккерея, и они пытаются выработать собственный метод изображения
жизни и борьбы рабочего класса Англии, существенной особенностью которого
является изображение нового героя — рабочего-революционера, сражающегося
за социальную справедливость.
Выдвигая понятие народности в качестве основного критерия оценки
художественной литературы настоящего и прошлого («Народ создает поэта, поэт
же руководит народом» 2), Джонс разрабатывает вопрос о национальной
специфике литературы. В 1847 году в журнале «Труженик» он публикует серию
статей под общим названием «Национальные литературы», в которых
рассматривается ряд европейских литератур и те произведения, «по которым читатель
наилучшим образом сможет судить о национальных особенностях данного
народа, ибо, как общее правило, длительную популярность завоевывают только
те произведения, которые являются выражением народного ума и чувства»3.
Чартистская критика проделала большую работу по освоению
классического наследия литературы прошлого от Рабле, Шекспира и Мильтона до Берн-
са, Беранже и Фрейлиграта. В статьях о творчестве крупнейших писателей
Европы и Америки (Пушкин, Гюго, Жорж Санд, Лонгфелло, Веерт, Петефи
и другие) чартистские критики поднимали существенные вопросы живой
литературной практики. Особенно значительны в этом отношении статьи
Джеральда Масси (1828—1907), Томаса Фроста. В статье о Беранже, появившейся
в журнале «Друг народа» («The Friend of the people») 6 марта 1852 года, Масси
так определяет задачи народного поэта, каким он считает великого
французского песенника: «Возжечь в сумрачной и тяжелой жизни масс огонь
понимания удивительного очарования красоты и величия этого мира, внести
священный светоч поэзии в дом и сердца бедняков, поднять их понимание гуманного,
объявить войну всем видам угнетения, которые препятствуют установлению
любви и братства на земле, быть выражением социальных и политических
устремлений масс, сделать прозрачной маску, которую носит на своем лице
лицемерие, чтобы его отвратительные черты были видны всем, сорвать покро-
1 «История английской литературы», т. II, вып. 2, М., Изд-во АН СССР,
1955, стр. 115.
2 «The Labourer», 1847, v. Π, № 8, p. 96.
3 «The Labourer», 1847, v. II, № 12.
828
вы с привычного мошенничества и ухмыляющегося ханжества, занявших
привилегированные места в обществе,— таковы задачи народного поэта».
Поражение чартизма в 50-е годы прервало развитие чартистской критики
и литературы. Эстетическая концепция нового реализма осталась
незавершенной. Идеи чартистов оказали влияние на формирование эстетики Уильяма
Морриса в 1880-х годах и в творчески переработанном виде были усвоены
передовой литературой Англии XX века.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
[...] Бывают времена, когда полезно выступить против
заблуждений противников и опровергнуть их старые доводы. Когда истина
утвердилась в умах миллионов, обременять наших читателей
повторением давно рассказанной сказки уже невозможно, если только
не возобновился спор против правильности наших принципов.
Мы снова получили произведения, исполненные таланта, но
лишенные какой бы то ни было идеи — политической, социальной
или религиозной. Их талантливым авторам, которые способны были
сделать многое, мы всерьез посоветовали бы сделать нечто
большее — большее в отношении тех вопросов, которых они касаются,
большее в отношении морали, которую они выводят.
Где Бульвер 1 чартизма? Где Нолис 2 демократии? Разве нельзя
вдохнуть новую жизнь в то, что ныне именуется «умирающей
драмой»? Да, умирающей, ибо она посвящена «умирающему делу», ибо
она служит богатству и угождает моде, вместо того чтобы быть
поборником мужества и трудолюбия. И действительно, когда она
высмеивает и обличает пороки аристократии, она проделывает это
игриво и добродушно, выставляя их в забавном свете и изображая,
во всяком случае, как из-за них страдал «высший», а отнюдь не как
они губили «подчиненного». Нам не раз показывались злоключения
младших сыновей и бедствия оскорбленных дочерей благородных
семейств. Но когда же перед глазами зрителей в драме выводили
или когда выведут жертву Бастилии, погибшего ребенка
тружеников, обездоленного рабочего (это все мученики XIX века)? Пока
наряду с другими сохраняется и монополия на драму, пока, вопреки
нашей конституции, сохраняется цензура на печать,— в прямое
нарушение конституционного принципа устанавливается и цензура
на драму.
1 Бульвер-Литтон Эдвард Джордж (1803—1873) — английский
романист.
2 Нолис Шеридан Джеймс (1784—1862) — ирландский драматург.
829
Критики возражают нам, что английские драматурги лишены
творческой силы. Это неправда. Но пока драматург обязан
выражать взгляды господствующего класса, он будет тщетно напрягать
свою изобретательность: ему никогда не создать этот свободный
поток языка, событий и идей — всего, что возникает у автора,
избравшего правдивую и плодотворную тему.
Но пусть наш талантливый драматург будет начеку. На поприще
литературы уверенно вступает чартизм. Он еще не перешел порога
драмы, но его поэзия в нашем веке действительно обладает самой
свежей и вдохновляющей силой. В Англии, так же как и во
Франции, Америке, Ирландии и Германии, дух поэзии заставил звучать
струны свободы. Свежая жизненная сила произведений чартизма
гордо противостоит изнеженным виршам модного направления.
И все-таки мы многого ожидаем от многих.
Что делает сейчас Роберт Браунинг? Неужели ему,
воспламенившему душу Лурии, раскрывшему характеры Виктора и Карла,
сумевшему обрисовать благородную натуру Коломбы,— неужели ему
нечего сказать о правах народа? Пусть он покинет своих королей
и королев, отвернется от показного блеска дворцов и войдет в
хижину бедняка.
Неужели Теннисон способен распевать только изысканные
песни? Его муза, право же, в силах создавать другие истории вместо
любовных.
Разве Нолису нечего делать, как только шагать на ходулях
по Арагону, охотиться со своими феодальными сокольничими да
заставлять принцесс снисходить до любви к крепостному?
Пусть Макэй 1 перестанет увлекаться туманностями, и, если его
прелестные стихи возвышают душу, пусть его безыскусственный
рассказ пробудит в нас сочувствие к страданиям труженика.
Пусть Герней 2 перестанет воспевать «Короля Карла» и начнет
писать о его величестве народе. Тогда мы скажем прощай
«Саламандрам и Серафимам».
Пусть Бейли3 в прославление реального (а не только
идеального) человечества напишет другой и лучший «Festus».
Пусть Горн 4 и Пауэлл5 отбросят в сторону всякие литературные
условности. И если все посвятят свои большие таланты великому
делу нашего времени — мы получим литературу, достойную своего
1 Макэй Чарльз (1814—1889) —шотландский поэт и прозаик.
2 Герней А. Т. (1820—1887)—английский писатель, переводчик и поэт.
3 Бейли Филипп Джеймс (1816—1902)—английский поэт, автор
религиозно-философской поэмы «Festus».
4 Горн Ричард Генри (1803—1884) —английский поэт и критик.
5 Пауэлл Томас (1809—1887)—английский поэт, драматург, журналист.
880
прогрессивного назначения. Увы! Иной раз случается, что какой-
нибудь писатель оказывается впереди своего века,— эти же идут
позади своего. А ведь идущие впереди могут с гордостью сознавать,
что потомство оценит их по справедливости. Отстающим же сегодня
суждено остаться незамеченными,— а завтра их позабудут.
Все эти мысли мы высказали с чувством уважения к талантам
названных здесь авторов, испытывая тревогу, чтобы они не
оказались потерянными для человечества.
И пусть нас не упрекают в односторонности, в том, что мы
стремимся выслушивать только жалобщика, а не ответчика. Это далеко
не так: литература — выразитель духа времени, в противном
случае она ничего не стоит.
«Спойте мне песни вашей страны, и я определю характер ее
народа» — так гласит старая и мудрая истина. Народ создает поэта,
поэт же руководит народом. Благородные чувства, выраженные
Саути в его «Уоте Таил ере», принесли ему больше славы, чем все
сентиментальные излияния его раболепства перед королями. Он
заслужил бы лавры одной только речью своего Джона Болла, тем,
что в его слова: «Братья мои, мы все равны, равенство — наше
прирожденное право» — он заключил магическую красоту. Для
подлинной драмы естественны высокие чувства — смелость, благородство,
правдивость, естественна простота выражения. И автор, создавая
такую драму, находит и слова, выражающие стремления сердца,
и ключ к национальному характеру. Мы обращаемся к великим умам
нашего времени с призывом: сливайтесь с народом, творите для
него,— и слава ваша будет вечной. Природное чутье народа придаст
жизнь вашей философии, и гений немногих избранных оставит в
наследство потомству мир и благоденствие, знание и силу.
«The Labourer», 1847, ν. ΓΙ, № 8, aug., p. 94—96.
Перевод Ε. В. Корниловой.
ИЗ СТАТЬИ «СТИХОТВОРЕНИЯ Т. ПАУЭЛЛА»
Большинство наших современных поэтов повинно в том, что они
пишут в интересах только одного класса. Они поэты для одного
класса, как бывают и законодатели для одного класса. Они
охватывают какую-либо тему, интересующую лишь привилегированное
меньшинство, или же, что гораздо чаще, углубляются в какие-либо
мрачные, абстрактные теории, которые ни в коем случае не могут
претендовать на всеобщее внимание, да, собственно, и не
заслуживают его. И в результате мы получаем духов огня и небесные
создания, тайны и сверхчеловеков, находящихся в особо близких отноше-
831
ниях с другими сверхчеловеками и претендующих на некое родство
с Фаустом (Фауст, однако, не склонен признавать это родство), но
мы не становимся хоть сколько-нибудь более мудрыми, чем были до
того, как нам оказали честь знакомства с ними. О, как нужна нам
вместо всего этого дерзновенная сила и практическая философия
Байрона, Скотта или Мура. Да, и сила Шелли тоже — Шелли,
который обладал счастливым даром даже в своих наиболее
возвышенных произведениях не отклоняться от практической цели. Но это
как раз и требует особого таланта. Можно быть в достаточной мере
практичным — и вульгарным. Можно быть в достаточной мере
возвышенным — и непонятным. Не многим достается в удел уменье
сочетать прекрасное с полезным и этим придать тому и другому
силу, недоступную каждому из них в отдельности.
«The Labourer», 1847, v. I, № 6, June, p. 284.
Перевод Ε. В. Корниловой.
ДИККЕНС
1812-1870
Чарльз Диккенс — самый значительный из писателей-реалистов Англии
XIX века, «блестящей плеяды современных английских романистов», как
охарактеризовал Диккенса, Теккерея, Ш. Бронте и Э. Гаскелл К. Маркс !.
Английские реалисты, в отличие от французских, не оставили статей или
книг, имеющих характер литературного манифеста. Однако предисловия
Диккенса к его собственным произведениям, его статьи и письма, а порой и
художественные произведения содержат немало высказываний, характеризующих
писателя как поборника реалистической эстетики.
С первых шагов своей литературной деятельности Диккенс выступил как
сторонник правдивого и общественно тенденциозного искусства, целью
которого было способствовать устранению социального зла и несправедливости.
В предисловиях к «Оливеру Твисту» и «Николасу Никльби» он защищает свое
право на выбор столь «антиэстетических» объектов изображения, как работный
дом или йоркширские школы для сирот и незаконных детей, считая
обязанностью художника привлечь внимание общества к социальным
злоупотреблениям.
Выступления в защиту художественной правды сочетаются у Диккенса с
поэтизацией жизни и высоких душевных качеств простого человека труда,
противопоставляемого утилитаристской проповеди «философии факта».
1 К. Маркс и Ф. Э н г е л ь с, Сочинения, т. 10, стр. 648.
832
Эстетика Диккенса, как и эстетика английских романистов XVIII века,
тесно связана с этикой. С точки зрения Диккенса, искусство должно не только
развлекать, но одновременно и поучать. Однако нравственная проповедь
писателя отражала нередко его идейную ограниченность, что порождало
морализующий тон некоторых образов в его произведениях, дидактичность иных
авторских отступлений.
Большую роль в эстетике Диккенса играет юмор, который выступает
прежде всего как художественное выражение уверенности писателя в победе добра
над социальным злом. Юмор в ряде случаев служит средством смягчения
горечи и безысходности положения. Характерно признание Диккенса о романе
«Жизнь и приключения Николаса Никльби», что он «немного сгладил
страшную действительность, разбавив ее, насколько мог, юмором, чтобы не
оттолкнуть читателя слишком уж мерзкой картиной» *.
В ряде произведений (юношеских очерках, романе «Николас Никльби»
и др.) Диккенс дает сатирическую характеристику состояния современного ему
театра (надуманность сюжетов и ходульность образов в мелодрамах с их
традиционными «эффектами»).
Следует указать, что Диккенс-художник был гораздо смелее Диккенса —
теоретика искусства. Стремясь к правдивому отображению жизни, писатель
часто прибегал к реалистическому сатирическому гротеску, шаржированпо
заостряя, преувеличивая черты характера и внешнего облика своих
отрицательных персонажей. Вместе с тем, предвидя обвинения в отступлении от
жизненной правды, Диккенс в ряде предисловий к своим произведениям (например,
в предисловии к «Мартину Чезлвиту») утверждал, что его образы взяты прямо
с натуры и что в них нет ни грана преувеличения.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ РОМАНА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА ТВИСТА»
[...] Весьма неприличным и даже скандальным кажется то, что
некоторые действующие лица, встречающиеся на страницах этого
романа, взяты из самых преступных и наиболее опустившихся слоев
обитателей Лондона, что Сайке — вор, а Фейгин — скупщик
краденого, что мальчишки — карманники, а девушка — проститутка.
Должен признаться, я еще не усвоил, почему урок самой
высокой добродетели не может быть преподан на материале самого
отвратительного порока. Я всегда был убежден, что это
общеизвестная истина, установленная величайшими умами человечества,
1 Чарльз Диккенс, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 29, М., 1963,
стр. 43.
833
истина, в соответствии с которой действуют мудрейшие и
благороднейшие натуры и которую постоянно подтверждают опыт и
практика каждого из нас. Когда я писал эту книгу, у меня не было
никаких сомнений в том, что подонки, если только речь их не
оскорбляет слуха, могут в такой же мере служить целям высокой
морали, как и сливки общества. Я не сомневался даже в том, что
в Сент Джайлсе имеется не менее ценный материал для
демонстрации истины, чем тот, который щеголяет в Сент Джеймсе.
[...] Я прочел десятки книг о ворах, и везде это были
привлекательнейшие парни (по большей части весьма добродушные),
одетые с иголочки, с кучей денег, залихватскими манерами, удачливые
в любовных делах, знатоки по части лошадей, мастера спеть
песенку или распить бутылочку, сыграть в карты или кости, словом,
годились в товарищи любому молодцу. Но никогда (разве что у Хо-
гарта) я не видал подлинной картины мрачной действительности.
Я считал, что показать таких представителей преступного мира,
какие существуют на самом деле, изобразить их во всем их
безобразии и уродстве, показать вопиющую нищету, в которой они влачат
свое существование, показать их такими* какие они есть,— как они
крадутся по самым грязным закоулкам жизни и мрачный призрак
виселицы всегда маячит перед ними, куда бы они ни пошли,—
значит попытаться сделать нечто чрезвычайно важное, что может
принести пользу обществу. И я постарался сделать это, как мог.
[·..] Однако есть люди настолько деликатные и утонченные, что
зрелище всех этих ужасов для них невыносимо. Дело не в том, что
их пугает преступление,— просто преступник, чтобы они могли
принять его, должен быть, словно мясо, подан им под пикантной
приправой. Маккарони в зеленом бархате .— вполне прелестное
существо, но Сайке в бумазейной рубахе невыносим. Миссис
Маккарони — леди, в короткой юбочке и маскарадном костюме вполне
годится для того, чтобы изображать ее в живых картинах и на
обложках модных романсов, но Нэнси в бумажном платье и дешевой
шали — это не для литературы. Просто удивительно, что
добродетель воротит от грязных чулок, а порок, сочетавшись с лентами,
титулом и нарядным платьем, меняет фамилию, словно вышедшая
замуж девица, и называется романтикой.
Итак, поскольку одной из целей этой книги было показать
суровую правду, пусть даже на примере этих столь приукрашенных
в прежних романах людей, я не соглашусь ради такого рода
читателей скрыть ни одной дыры в костюме Плута, ни одной
папильотки в растрепанных волосах Нэнси. Я не верю в деликатность
людей, которые не могут переносить их вида. Я не ищу себе среди них
сторонников. Я ни во что не ставлю их мнения, какое бы оно ни
834
было, хорошее или дурное, я не стремлюсь заслужить их одобрение
и пишу не для того, чтобы их позабавить. Я позволю себе говорить
об этом вслух, потому что не знаю среди английских писателей ни
одного сколько-нибудь уважающего себя и достойного уважения
потомков, кто позволил бы себе снизойти до вкусов этого
привередливого класса.
С другой стороны, если бы я стал искать примеры или
прецеденты, я нашел бы их в лучших образцах английской литературы. Фил-
динг, Дефо, Голдсмит, Ричардсон, Маккензи — все они, в
особенности же Филдинг и Дефо, по самым благородным побуждениям
показывали в своих произведениях самые мерзкие отбросы
человеческого общества. Хогарт, моралист и критик своего времени, в чьих
великих творениях навсегда запечатлены времена, в которые он
жил, и человеческие типы всех времен, делал то же самое и не
желал идти ни на какие компромиссы; для него характерны сила
и глубина мысли, какие до него знали лишь немногие и, вероятно,
мало кто будет знать после. Как высоко ставят теперь этого гиганта
его соотечественники! Однако, возвращаясь к тем дням, когда жили
и творили эти люди, я нахожу, что те же самые упреки адресовала
каждому из них всякая мошкара, которая, отшумев свое, исчезла
с лица земли и была забыта.
Сервантес уничтожил испанское рыцарство, осмеяв его и
показав Испании всю дикость и нелепость его. Я же в своей скромной
и весьма далекой от нас области попытался развеять ложный ореол,
окружающий нечто существующее в нашей жизни, показав это
«нечто» в его отталкивающей неприкрашенной действительности.
С h. Dickens, The adventures of Oliver Twist,
1874, p. V—X. Перевод О. А. Пожежинской.
ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ»
[...] Мистер Сквирс является представителем своего сословия,
а не отдельным индивидом. Там, где плутни, невежество, животная
алчность являются основным свойством маленькой группы людей
и один из них изображен с этими характерными чертами, все его
близкие признают, что кое-что свойственно им самим, и у каждого
мелькнет опасение, не с него ли писан портрет.
Цель автора — привлечь внимание общества к системе
воспитания — была бы отнюдь не достигнута, если бы он [автор] не
заявил сейчас энергически, что мистер Сквирс и его школа являются
835
лишь слабым отражением существующего порядка, умышленно
смягченного в книге и затушеванного, чтобы он не показался
невероятным.
Чарльз Диккенс, Собрание сочинений в
30-ти томах, т. 5, М., 1958, стр. 9—10. Перевод
А. В. Кривцовой.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ В ПЕРВОМ НОМЕРЕ
«ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ»
Ни утилитаристский дух, ни гнет грубых фактов не будут
допущены на страницы нашего «Домашнего чтения». В груди людей
молодых и старых, богатых и бедных мы будем бережно лелеять тот
огонек фантазии, который обязательно теплится в любой
человеческой груди, хотя у одних, если его питают, он разгорается в яркое
пламя вдохновения, а у других лишь чуть мерцает, но никогда не
угасает совсем — или горе тому дню! Показать всем, что в самых
привычных вещах, даже наделенных отталкивающей оболочкой,
кроется романтическое нечто, которое только нужно найти; открыть
усердным слугам бешено крутящегося колеса труда, что они вовсе
не обречены томиться под игом сухих и непреложных фактов, что
и им доступны утешение и чары воображения; собрать и высших
и низших на этом обширном поприще и пробудить в них взаимное
стремление узнать друг друга получше, доброжелательную
готовность понять друг друга — вот для чего издается «Домашнее
чтение».
Чарльз Диккенс, Собрание сочинений в
30-ти томах, т. 28, М., 1963, стр. 114—115.
Перевод И. Буровой.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ НАРОДА
[...] Политехнический музей на Риджент-стрит, где показывается
и объясняется действие сотен хитроумных машин и где можно
послушать лекции, содержащие массу полезных сведений о
всевозможных практических предметах,— это замечательное место и
истинное благодеяние для общества, и, однако, нам кажется, что люди,
чей характер складывался бы под влиянием досуга, проведенного
исключительно в стенах Политехнического музея, оказались бы
малоприятной компанией. Случись с нами несчастье, мы предпочли бы
не искать сочувствия у молодого человека двадцати пяти лет,
который в детстве все каникулы возился с колесиками и винтиками,
если только он сам не испытал подобного же горя. Мы скорее дове-
836
рились бы ему, если бы он был немножко знаком с «Девушкой и
сорокой», если бы он совершил одну-две прогулки по «Лесу Бонда»
или хотя бы ограничился какой-нибудь рождественской
пантомимой» Почти все мы обладаем воображением, которое не смогут
удовлетворить никакие паровые машины, и даже богатейшая Всемирная
выставка промышленного прогресса, вероятно, не насытила бы его.
Там же, стр. 117—118.
ОСТРОВИЗМЫ
[...] Мы полагаем, что разница между подлинным драматизмом
и театральностью заключается в том, что первый поражает
воображение зрителя, причем действующие лица в картине как бы не
осознают присутствия этого зрителя, тогда как персонажи картины,
грешащей театральностью, явно рассчитаны на зрителя; это
актеры, вырядившиеся соответственно роли, которые делают свое дело,
а вернее, не делают никакого дела, поглядывая одним глазком на
зрителя, нимало не заботясь о существе сюжета. [...]
Там же, стр. 351. Перевод Т. Литвиновой.
РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ В ЕГО ЧЕСТЬ
(Эдинбург) 25 июня 1841 года
Говорить о себе и своих книгах — трудное дело. Но сегодня,
пожалуй, не будет неуместным, если я осмелюсь сказать несколько
слов о том, как рождались эти мои книги. Мною владело серьезное
и смиренное желание — и оно не покидает меня никогда — сделать
так, чтобы в мире стало больше безобидного веселья и бодрости.
Я чувствовал, что мир достоин не только презрения, что в нем
стоит жить, и по многим причинам. Я стремился отыскать, как
выразился профессор, зерно добра, которое творец заронил даже в
самые злые души. Стремился показать, что добродетель можно найти
и в самых глухих закоулках, что неверно, будто она несовместима
с бедностью, даже с лохмотьями,— и пронести через всю мою жизнь
девиз, выраженный в пламенных словах вашего северного поэта:
Богатство — штамп на золотом,
А золотой — мы сами !.
Там же, стр. 454. Перевод М. Лорие.
1 Из стихотворения Роберта Бернса «Честная бедность». Перевод С.
Маршака.
837
РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ В ЧЕСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
(Бирмингем) 6 января 1863 года
[...] Я убежден, что сейчас многие рабочие в Бирмингеме знают
Шекспира и Мильтона несравненно лучше, чем знал их рядовой
дворянин во времена дорогих книг и торговли посвящениями. Пусть
каждый из вас задумается над тем, кто сейчас более всего
способствует распространению таких полезных книг, как «История» Ма-
колея, ниневийские «Раскопки» Лейарда, стихи и поэмы Теннисона,
опубликованные депеши Веллингтона или мельчайшие истины (если
истину можно назвать мельчайшей) Гершеля или Фарадея? То же
можно сказать о гениальной музыке Мендельсона или о лекции по
искусству, если бы ее завтра прочитал мой благородный друг
президент Королевской академии — а как бы он нас этим осчастливил!
Сколь ни малочисленна аудитория, сколь ни мал первый круг на
воде, дальше, за этим кругом, теперь всегда стоит народ, и все
искусства, просвещая народ, в то же время питаются и обогащаются
от живого сочувствия народа и его сердечного отклика. В пример
могу привести великолепную картину моего друга мистера Уорда.
Прием, который встретила эта картина, доказывает, что удел
живописи в наше время — не монашеский уход от мира, что ей нечего
и надеяться возвести свой великий храм ни на столь узком
фундаменте, ни создавая фигуры в классических позах и тщательно
выписывая складки одежды. Нет, она должна быть проникнута
человеческими страстями и деяниями, насыщена человеческой любовью
и ненавистью, и тогда она может бесстрашно предстать перед
судом, чтобы ее, как преступников в старину, судили бог и
отечество.
[...] Мне хочется выразить убеждение, что если человеку есть
что сказать, то большое количество слушателей не должно
смущать его — оно не опасно ни для него, ни для взглядов, которые он
проповедует,— при условии, разумеется, что он не одержим
нахальной мыслью, будто ему следует снисходить до умственного
уровня простого народа, а не поднимать этот уровень до своего
собственного, буде сам он стоит выше; и при том еще условии, что он
выражает свои мысли и чувства достаточно ясно, а это
немаловажная оговорка, ведь предполагается, что он смутно рассчитывает на
то, что его поймут.
Там же, стр. 486—487. Перевод М. Лорие.
838
ТЕККЕРЕЙ
1811-1863
Уильям Мейкнис Теккерей, один из выдающихся английских писателей-
реалистов середины XIX века, был вместе с тем автором многочисленных
статей, очерков, рецензий, литературных и критических обзоров, в которых
нашли выражение его взгляды на задачи литературы и искусства. Суждения
Теккерея об искусстве и литературе представляют собой определенную
систему, хотя и не являются законченной эстетической теорией. Они немало
способствовали утверждению реализма в Англии в середине XIX века.
Еще в начале 30-х годов, когда Диккенс начал печатать свои первые
очерки, Теккерей поднял вопрос о литературе, тесно связанной с жизнью,
рисующей правдивую и в то же время поучительную картину действительности. Он
считал, что задача писателя состоит в том, чтобы раскрывать читателю глаза
на царящее в мире зло, возбуждая отвращение к нему и желание его устранить.
Отсюда важное значение, которое Теккерей придавал сатире. Критически
относясь к современной ему английской действительности, он писал в 1840 году:
«О, если бы явилось хоть несколько просвещенных республиканцев, людей,
которые честно сказали бы свое слово и осмелились бы и в речах и в поступках
следовать только правде!» 1.
Опираясь на традиции Филдинга и Вальтера Скотта, на творчество
Диккенса, Теккерей пришел к пониманию романа как истории общества («Парижская
книга очерков», 1840). Он утверждал, что роман может дать более яркое и
полное представление о нравах, чем любой труд ученого-историка.
Стремление к правдивому изображению нравов и жизни общества
определило также суждения Теккерея о различных явлениях литературы и искусства.
Противник всякой идеализации действительности, Теккерей ополчался на все,
что казалось ему нарушением жизненной правды. Он отрицательно относился
к парадной академической живописи, прославлявшей королей и
представителей знати. Отвергая эпигонов романтизма и классицизма в литературе и
живописи, он не принимал также ни Байрона, ни Давида; он судил о
произведениях искусства недавнего прошлого, исходя из требований современной ему
эпохи.
Сложные общественные и моральные проблемы, которые поставила перед
людьми 40-х годов действительность Англии, не могли найти
удовлетворительного, с точки зрения Теккерея, художественного решения ни при
романтической трактовке, ни в рамках классического канона. Общество должно увидеть
в произведениях искусства и литературы верное, пусть даже усиленное и
подчеркнутое пером или кистью сатирика-моралиста отражение своего лица, в про-
1 «The letters and private papers of W. M. Thackeray», collected and edited by
Gordon N. Ray, Cambridge, Mass., 1946, v. I, p. 458.
839
тивном случае оно не сможет извлечь из этого произведения никакого
нравственного урока. Каждой эпохе поэтому, утверждал Теккерей, свойствен свой
эстетический идеал, отличный от представлений предшествующих эпох.
Придавая первостепенное значение сатирическому изображению общества,
Теккерей вместе с тем не раз высказывал мысль о том, что сатирическое
осмеяние должно быть основано на любви к людям, на стремлении излечить их от
пороков и заблуждений. С течением времени Теккерей все чаще говорит о
гуманистической сущности сатиры и проводит некоторое различие между
сатириком и юмористом («Милосердие и юмор»).
ПАРИЖСКАЯ КНИГА ОЧЕРКОВ
[...] В Королевской школе изящных искусств выставлено двести
или триста полотен французских художников; кажется, здесь
собраны все картины и эскизы, за которые художники удостаивались
премии, начиная с 1850 года. Нужна ли Королевская академия
художеств — вот вопрос, который без конца муссируется в Англии.
Сотни французских образцов не кажутся мне удовлетворительными.
Они написаны на так называемые классические сюжеты: Оресты,
преследуемые всеми разновидностями фурий, десятки маленьких
Ромулов, припавших к соскам волчицы, Гекторы и Андромахи,
сжимающие друг друга в прощальном объятии, и так далее и тому
подобное, ибо наши деды почему-то вбили себе в голову, что если
эти сюжеты были модными двадцать веков назад, то они должны
оставаться таковыми in saecula saeculorum 1 и, мол, поскольку
гиганты прошлого подымались до сих высот, то и нам, пигмеям,
следует вскарабкаться на котурны и прыгать еще выше! И в живописи
и на сцене (да простят мне эту шутку) французских лягушек учили
раздуваться до размеров вола и реветь, как он.
Каковы же последствия, дорогой мой друг? Пытаясь стать
волами, лягушки, как и следовало ожидать, оказались просто ослами,
и только. Вот уже сто десять лет классический вздор подавляет
французов, и в этой картинной галерее вы видите образцы,
порожденные ими за семьдесят лет однообразия и скуки.
Природа создала каждого из нас с собственным носом и
глазами, она же дала каждому человеку свой неповторимый характер.
Тем не менее мы (о глупцы!) считаем за наилучшее подражать
нашим соседям, чей образ мыслей так же мало впору нам, как и их
штаны. Изучение природы — вот что нам нужно, а отнюдь не
изучение копий с нее. Человек, будь то мусорщик или Эсхилл,— созда-
1 — во веки веков (латин.).
840
ние творца, и изучать нужно его, человека, так же, как и все
другие создания природы. Но глупое животное, не понимая собственной
пользы, старается напялить на себя чужую шкуру — оно жаждет
отказаться от самого себя и не имеет смелости выражать
собственные мысли. Только потому, что лорд Байрон, имея вздорный
характер, был не в ладу со всем миром, а начав полнеть, оказался не в
ладу с собственным желудком, отчего, естественно, впал в хандру,
все молодые поэты вообразили, что любовь их иссякла, а душу
окутали отчаяние и тьма. Потому что несколько великих людей
древности ваяли героические статуи и писали героические пьесы, нам
теперь говорят, что нет иной красоты, кроме классической, и
каждый французский поэтишка считает себя обязанным подарить
миру пьесу, «Генриаду» или что-нибудь в этом роде. При этом он
клятвенно заверяет вас, что это и есть подлинное искусство.
Какая чепуха! В течение сотен лет, дорогой мой, художники так
называемой классической школы забивали людям головы всяким
вздором, а теперь этим занимаются представители так называемого
христианского искусства. Любопытно проследить традиции этой
новой школы живописи на образцах, представленных на этой
выставке. Едва ли хоть одна из выставленных здесь картин чего-нибудь
да стоит. Они списаны со статуй, и колорит их, по-видимому, как
нельзя лучше соответствует такой натуре: он по большей части
тусклый, каменисто-зеленый с мрачным оттенком, словно эти
художники изображали мир, начисто лишенный красок. Разумеется,
в каждой картине есть белые мантии, белые урны, белые
колонны — эти непременные аксессуары возвышенного. Здесь у всех до
одного прямой нос, миндалевидные глаза, круглый подбородок и
короткая верхняя губа — точь-в-точь, как это предписано правилами,
изложенными для нас в любом учебнике по рисованию, словно эти
последние являются мерилом прекрасного, установленным
непререкаемыми верховными авторитетами. Почему, спрашивается, это
классическое царство должно длиться вечно? Почему жеманная
Венера Медицейская должна считаться нашим идеалом красоты, а
греческие трагедии определять наше представление о возвышенном?
Не вижу никаких оснований, почему Агамемнон должен диктовать
нам моду, оставаясь αναε αυσρων1 на веки веков. Существует
некое классическое изречение, возможно, вам уже известное, которое
начинается словами vixere fortes 2 и т. д., и, поскольку оно
утверждает, что и до Агамемнона было на свете немало статных мужчин,
мы берем на себя смелость заключить, что и после него появились
1 —мужем из мужей (греч.).
2 — были (некогда) сильные люди (латин.).
841
на свет подобные герои. Шекспир, воображение которого вылепило
мощную фигуру Макбета, создал куда более интересный образ.
А если мы сравним Сатану с Прометеем — это создание старого
слепого пуританина с творением пламенного греческого поэта,—
разве падший ангел Мильтона не превосходит героя Эсхила, как
говорится, «по всем статьям»?
В той же самой Школе изящных искусств, где выставлено так
много бледных подражаний античным образцам, господин Тьер
распорядился поместить (и нельзя не поблагодарить его за это) копию
в полную величину с картины Микеланджело «Страшный суд» и
несколько копий со статуй, созданных той же изумительной рукой.
Вот где возвышенное — новое возвышенное — оригинальное
возвышенное — ни в чем не уступающее греческому.
[...] Посмотрите также на «Целомудрие» Жале, «Нимфу» Жако
и «Рыбака с черепахой» Рюда. Эти скульптуры созданы отнюдь не
на возвышенные сюжеты, во всяком случае, не на те, которые
принято называть возвышенными; они ограничиваются изображением
простой улыбчивой красоты и природы. Ну и что же? Разве мы
боги, Микеланджело, Мильтоны, которым дано покидать землю и
парить в недосягаемых высях? Нет, дорогой мой Мак-Гилп. Но
дураки академики хотели бы, чтобы мы подымались в эмпиреи.
Разве ты, так же как и добрая половина художников Лондона, не
добиваешься возможности показать свой гений в большом
«историческом полотне»? О слепцы! Разве есть у вас крылья? Да нет же, и
перышка нет! Однако вы вынуждены вечно надуваться иг потея,
карабкаться на вершину усеянной камнями горы, а взобравшись
туда, вы начинаете хлопать и махать руками с изодранными в кровь
локтями и делаете вид, что вот-вот взлетите. Спустись на землю,
глупый Дедал! Спустись в милые равнины, где природа повелела тебе
обитать. Там растут прелестные цветы, там пасутся жирные
бараны, там греет ласковое солнце; будь же доволен и скромен, прими
свою долю с радостью.
[...] Романист обладает ярким, живым, поучающим языком.
Более того, он, пожалуй, может состязаться с историком в его
собственной области, ибо иной раз вымышленная история бывает куда
правдивее настоящей, которая, по правде сказать, зачастую
представляет собой лишь презренный перечень имен и географических
названий, каковые никак не могут оказывать нравственного
воздействия на читателя.
The works of W. M. Thackeray, v. XVI, Lond.,
Smith, 1886, p. 43—45, 50, 85. Перевод О. А. Поже-
жинской.
842
ПИСЬМА ОБ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВАХ
[...] Я убежден, что народ Англии может быть куда более
надежным покровителем искусств, чем когда-либо была английская
аристократия; аристократия оказалась негодным покровителем, она
никогда не умела ценить ни картины, ни художников — художник
никогда не занимал того положения, какое занимает любой
посредственный юрист, или самый что ни на есть захудалый военный, или
сколько-нибудь удачливый портной, или олдермен, которому
повезло на бирже, или сельский сквайр. Аристократия никогда не
признавала английское искусство, ибо никогда не воздавала должное
художнику. Аристократы всегда считали себя самыми красивыми и
заставляли художников запечатлевать их расплывшиеся в дурацкой
улыбке физиономии. Но что сделали они для искусства? Ничего.
Аристократы никогда не были друзьями гения, эти времена прошли,
друзья гения не здесь — они среди грубых и неотесанных, но зато
сердечных, благородных и восприимчивых людей простого сословия.
Гений может мириться с грубой пищей, но он не может жить в
лакейской и питаться объедками со стола милорда. Равенство
необходимо ему как воздух, дружеская поддержка — вот без чего он не
может существовать. А разве милорды когда-нибудь оказывали ему
такую поддержку? Нет. Закон, меч, проценты олдермена — это они
способны были переварить, это вязалось с их благородной натурой
и августейшими желудками.
Поэту лучше спуститься ниже. Что до него их лордствам? Он
никогда не был им близким другом. В одной из баллад Шиллера
любовь говорит поэту, что вся земля поделена между сильными и
богатыми, а ему с его скорбью лучше вознестись на небо, где для
него всегда найдется место; но сначала пусть он попробует найти
свое место среди народа, среди бедных и угнетенных, и те, чья
сила в единении, без сомнения, дадут ему кров и тепло своих сердец.
[...] Я хотел этим сказать, что лучшие друзья аоэта — простые
люди, и потому во всем, что касается его доброго имени и
благополучия, он должен рассчитывать только на них; чем работать на
класс покровителей, лучше полагаться на поддержку друзей. Если
вам есть что сказать — и это может быть полезным человечеству,—
лучше поделиться вашими мыслями с сотней портных и
лудильщиков, чем с одним герцогом или двумя денди (при всем нашем к ним
уважении), и, так же как актер гораздо охотнее играет перед
сотней зрителей с галерки, чем перед одним посетителем, пусть даже
уплатившим целых десять фунтов за отдельную ложу, так и
художник не должен отворачиваться от признания народа, он должен
искать в нем твердую опору и надежную защиту. Кое-кто из
843
гениев, вероятно, скажет: «Нам не нужны аплодисменты толпы,
нас интересует мнение избранных». На здоровье. Оно останется при
них, как и прежде. Но от того, что художник менее высокого
разряда найдет себе много покровителей и станет играть не для лож,
а для галерки, никому не будет никакого вреда. Я глубоко убежден,
что галерка разбирается во всем не хуже, чем ложи, а если
искусство станет необходимостью для широкой публики, то и вкусы как
поставщиков, так и потребителей станут намного более
утонченными.
The Oxford Thackeray edition, Lond., v. II, [1908],
p. 590—593. Перевод О. А. Пожежинской.
О ЖИВОПИСИ
[...] Если бы мне было дозволено обратиться к художникам с
несколькими словами о картинах и их достоинствах, я бы
посоветовал им стремиться к тому, чтобы их картины трогали сердце.
Лучшие картины затрагивают самые лучшие чувства; в то же самое
время множество чрезвычайно умных картин не говорят нам ничего.
Мастерство представляет собой весьма важный элемент ремесла
художника, но самое главное — это сердце; сердце дарует
художнику только бог, его не получишь ни в каких академиях, ни
от самого лучшего учителя. Стремитесь поэтому, чтобы в ваших
картинах, какие бы они ни были — большие или маленькие,
удачные или не очень удачные, пейзажи или портреты, рисунки
пером или что угодно другое,— было чувство и глубокая мысль. У кого
они есть, тот безусловно сумеет выразить их лучше или хуже. Не
важно, в какой манере это будет сделано. У кого же их нет, не
станет художником, как бы хорошо он ни умел рисовать и
подбирать краски.
The works of W. M. Thackeray, Lond., Smith, v. XXV,
1888, p. 176—177. Перевод О. А. Пожежинской.
МИЛОСЕРДИЕ И ЮМОР
Я уже где-то говорил, не знаю только, достаточно ли
выразительно (поскольку определения никогда не бывают вполне
точными), что юмор — это остроумие плюс любовь; во всяком случае, я
не сомневаюсь, что лучший юмор — это тот, который наиболее
гуманен, который насквозь пропитан нежностью и добротой [...]. Такова,
по-моему, манера каждого гениального писателя. Таково обычное
844
восприятие мира добрым, мягким умом — это то участливое
дружелюбие, которое движет его сердцем и пером. Вы почувствуете его,
даже если на целой странице не найдете ни одной остроты, ни
одного патетического момента; даже если целая страница не вызовет
у вас ни смеха, ни слез.
Там же, стр. 303—306. Перевод О. А. Пожежин-
ской
КОНСТЕБЛЬ
1776-1836
Жизнь крупнейшего английского художника Джона Констебля не богата
внешними событиями. Он родился, вырос и почти всю жизнь прожил в
деревне, на мельнице в Суффолке. Он был страстно привязан к бесхитростной,
ясной и спокойной природе своей родины. Великой целью своего искусства он
считал правдивую передачу ее скромного очарования. Он не гнался за славой,
успехом или богатством и никогда не был популярен или, тем более, моден.
Только в конце жизни его выбрали в члены Академии художеств, и то больше
за смиренное трудолюбие, чем оценив его новаторство в живописи. Правда, один
раз ему повезло: более или менее случайно в 1824 году несколько его
пейзажей попали на выставку Салона в Париже, где имели шумный успех и оказали
значительное влияние на молодых французских художников-романтиков. Но
самое движение романтизма осталось чуждым Констеблю. В 1830-х годах
Констебль прочел несколько публичных лекций, посвященных истории пейзажной
живописи,— точных, объективных и сдержанных в оценках,— он никогда не
брался за вещи, не зная их досконально. Сохранились лишь отрывочные
записи и конспекты лекций Констебля, но самостоятельность его эстетических
концепций еще яснее рисуется из откровенных высказываний в письмах к
ближайшим друзьям.
Удивительно, что в области эстетики, как и в живописи своей, этот
скромный провинциал оказался на полвека впереди своего времени. Современник
романтизма, Констебль первый ясно осознал и практически проложил пути
подлинно реалистической живописи. Он, не смущаясь, признает необходимость
научного подхода к изучению природы,— его безграничное уважение, почти
благоговение и любовь к ней спасают его от холодного натурализма и
протокольного равнодушия. Выше всего он ценит правду, одну только правду в ее
конкретных воплощениях. Вот почему на одном из его многочисленных этюдов
неба, например, записано с точностью синоптика: «5 сентября, 1822. 10 часов
утра, по направлению к юго-востоку, свежий ветер с запада. Очень светлые
и свежие серые облака, быстро бегущие на желтом фоне, скрывшие небо
наполовину». Он неутомимо ловит, казалось бы, самые преходящие впечатления —
845
ветерка, росы, влажности луга. И в то же время он — как подлинный
реалист — видит в основе этих мгновенных изменений самое существо явлений
природы, ее органическую жизнь в ее единстве и непрестанном движении.
Механическое перечисление отдельных разобщенных предметов никогда, по его
мнению, не сможет передать реальную действительность в ее становлении и
целостности. В отношении Констебля к природе по-своему сказывается
присущая английскому искусству этическая нотка, но она лишена назидательности
в духе Рескина, не оценившего реалистического и новаторского искусства
Констебля.
В искусстве и в литературе есть два пути, следуя которым
художник может выдвинуться. Один путь — это изучение
совершенных творений других художников, подражание им, выбор и новое
сочетание созданных ими красот; другой — поиски совершенства
в первоисточнике прекрасного — в природе. В первом случае
художник, основываясь на изучении картин, является подражателем, или
эклектиком. Во втором, внимательно наблюдая натуру, художник
находит неисчерпаемые темы для изучения, никем не
исследованные источники прекрасного, и так как он первый их обнаруживает,
то создает свой собственный стиль, который вносит в искусство
новое, раньше неведомое ему восприятие природы. В первом случае
возникают произведения, глазу уже знакомые, которые поэтому
легко могут быть поняты, оценены, признаны. Признание же нового
созданного художником мира почти всегда происходит не сразу;
только время может дать прочное основание для оценки
правильности его притязаний. В самом деле, лишь немногие в состоянии
оценить отклонения от положенных путей и способны понимать
произведения, носящие печать оригинального ума, большой работы
и обусловленной этим новизны стиля.
[...] Разве живопись не подражательное искусство? Искусство,
которое должно быть реальностью, а не притворством, воплощать,
а не казаться. Я постоянно наблюдаю, что каждый человек, не
желающий претерпеть, подражая природе, долгие труды, отступает,
становится призраком и производит лишь нелепые сновидения или
недоноски. Он думает прикрыться «изящным воображением», но
обычно, даже почти всегда у молодых людей это лишь козел
отпущения для безумия и лени.
Когда я сажусь писать этюд с натуры, я первым делом стараюсь
забыть, что когда-нибудь видел хоть одну картину.
[...] Искусство доставляет удовольствие тем, что оно
напоминает, а не тем, что обманывает.
846
L...J Искусству видеть природу надо почти так же долго учиться,
как искусству чтения египетских иероглифов.
Дело художника не состязаться с природой и умещать на
холсте в несколько дюймов вид переполненной всякими предметами
долины длиной в пятьдесят миль, а создавать нечто из ничего,—
при этом он в силу необходимости станет поэтичным.
[...] Я никогда не видел уродливой вещи за всю свою жизнь;
какова бы ни была форма предмета — свет, тень и перспектива всегда
делают его прекрасным.
[...] Профессия художника требует систематического обучения.
Она имеет такое же отношение к науке, как и к поэзии. Одно
воображение никогда не создавало и не может создать произведений,
которые выдержали бы сравнение с реальностью.
[...] Искусство погибает; через тридцать лет в Англии не останется
подлинного искусства. И все это благодаря тому, что пустые головы
молодых художников забивают картинами — их собственники,
директора Британского института и пр. В ранние эпохи изящных
искусств произведения были больше одушевлены чувством и
величавы, потому что художники обращались за помощью к природе,
а не к человеческим образцам; в более поздние времена — Рафаэля и
Клода * — произведения были совершеннее, так как художники
усваивали опыт своих предшественников, но не следовали им
буквально или как главным предметам подражания. Если б вы только
видели безумие и падение, выставленные в Британской галерее, вы
сошли бы с ума. Ван де Вельде и Гаспар, Пуссен и Тициан — всех
заставили породить множество недоносков: и за что претерпевают
великие мастера такое унижение? Только в целях наживы.
[...] В заключение я упомяну кратко некую группу художников,
заменивших правду ложью и образовавших низкий, механический
стиль,— их называют маньеристами. Многие нелепые взгляды на
искусство, происходящие от плохого вкуса, появились благодаря
произведениям этого рода,— так как если бы маньеристов никогда
не существовало, живопись всегда была бы всем понятна. Все
познания профессионального знатока образуются главым образом
в картинных галереях и на аукционах, что не позволяет ему
увидеть громадную разницу между манерностью и подлинной
живописью. Для этого требуется долгое и тщательное изучение и по-
1 Лоррена.
847
стоянное сравнение искусства с природой. Очень немногие среди
покупателей и продавцов картин обладают такими знаниями, и
манерные произведения часто оцениваются на рынке столь же высоко,
как и вещи подлинных художников. Разницу между ними торговцы
не понимают, и подобным меркантильным образом
пропагандировался и поддерживался в течение долгих лет такой род искусства,
который заслуживал лишь того, чтобы быть причисленным к
дорогим и парадным предметам обстановки гостиной. [...] Это
произведения людей, потерявших всякую связь с природой и заблудившихся
в пустынях идеализма. [...]
Великий порок сегодняшнего дня — это бравурность, попытка
создать что-то за пределами правды. Мода всегда имела и будет
иметь немедленный успех; но только правда сохранится во всех
вещах, и только она имеет справедливые права на потомство.
[...] Каждая действительно оригинальная картина представляет
собой обособленное произведение и управляется собственными
законами; так что то, что верно для одной картины, часто
может оказаться совершенно неверным, будучи перенесено в
другую.
[...] Я знаю, что исполнение моих картин необычно, но мне
нравится правило Стерна: «Не обращайте внимания на школьные догмы,
но постарайтесь проникнуть в самую сущность».
[...] Великое не создано для меня, а я не создан для великого.
[...] Мое скромное искусство можно обнаружить на любой
тропинке. [...] Думайте об этом что хотите, но, во всяком случае, оно мое,
и я предпочитаю иметь хотя бы самую маленькую собственность,
пусть только хижину, чем жить во дворце, принадлежащем
другому.
G. R. Leslie, Mémoires of the life of John
Constable, Lond., 1949, p. 293, 347, 124, 142, 34, 298,
291, 299, 113, 146, 322, 208, 196. Перевод
Ε. А. Некрасовой.
КАРЛЕЙЛЬ
1795-1881
Английский философ, историк и публицист, Томас Карлейль вошел в
историю общественной мысли как страстный обличитель буржуазного мира. В
своих публицистических и исторических работах «Sartor Resartus» (1833—1834),
«История французской революции» (1837), «Прошлое и настоящее» (1843) он
848
подверг уничтожающей критике буржуазную философию и литературу,
прославляющую царство «чистогана». Однако симпатии Карлейля принадлежали
прошлому, а не будущему. Как указывал К. Маркс, в этих произведениях
Карлейля «критика современности тесно связана с на редкость антиисторическим
апофеозом средневековья», «современность приводит его в отчаяние, а будущее
страшит» К Карлейль явился типичным представителем «феодального
социализма», стремившегося повернуть историю вспять.
Не доверяя народным массам и боясь их революционности, Карлейль
выдвинул антидемократическое учение о героях, согласно которому руководство
обществом должно принадлежать «аристократии духа», выдающимся
личностям, а не народу («О героях, культе героев и героическом в истории», 1841).
Реакционность Карлейля особенно усилилась после революции 1848 года.
Последователь немецкой идеалистической философии, Карлейль и в
эстетике — идеалист и романтик. Это наиболее ярко проявилось в его учении о
поэте как о пророке и провидце, которому одному дано проникать в сущность
явлений и видеть идеал, недоступный взору обыкновенных людей. В
произведениях поэта, по мнению Карлейля, воплощаются символы, благодаря которым
только и возможно постижение божественной и бесконечной сущности
явлений.
Эстетические взгляды Карлейля оказали значительное влияние на
произведения поздних романтиков и нашли свое отражение в работах его
последователя Джона Рескина.
О ГЕРОЯХ, КУЛЬТЕ ГЕРОЕВ И ГЕРОИЧЕСКОМ
В ИСТОРИИ
Беседа 3. Герой как поэт.
[...] Поэт и пророк в нашем современном опошленном понимании
это разные люди. Но в некоторых древних языках эти два слова
являются синонимами: vates означает и пророк и поэт. И
действительно, образы «пророка» и «поэта», надлежащим образом пони·
маемые, всегда имели много общего. В сущности, и до сих пор
они играют одну и ту же роль: их объединяет та важнейшая
черта, что оба они проникают в священную тайну природы,
проникают в то, что Гёте называет «открытой всем тайной». В чем
же состоит эта великая тайна? Это открытая всем, но почти никем
не видимая божественная тайна, которой проникнуто все, все
существа, божественная идея мира, «лежащая в основе всего
видимого», по выражению Фихте; идея, всякого рода проявления
которой, от звездного неба до полевой былинки, и в особенности
человек и его работа, составляют только обличье, воплощение, делающее
ее видимой. Эта божественная тайна существует всегда и везде. [...]
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 7, стр. 268, 269.
28 История эстетики, т. III
849
[...] Пусть люди забывают эту божественную тайну, но vates —
пророк или поэт проникает в нее. Это человек, ниспосылаемый на
землю, чтобы сделать истину более понятной для нас. Такова всегда
его миссия; он должен открыть нам ее, эту священную тайну,
которую он ощущает сильнее всех других. Другие могут забыть ее, но
он ее знает; я мог бы сказать: он вынужден знать; для этого не
требуется никакого согласия с его стороны; он живет ею, вынужден
жить ею [...].
Что же касается различия между пророком и поэтом, то мы
можем сказать, что vates-προροκ охватывает священную тайну
с ее моральной стороны, как добро и зло, долг и запрет: vates-
поэт, охватывает ее с ее, как говорят немцы, эстетической стороны,
как красоту. Один открывает нам то, что мы должны делать,
другой — то, что мы должны любить.
[...] В сердце каждого человека живет поэзия, но нет ни одного
человека, созданного исключительно из поэзии. Мы все становимся
поэтами, когда хорошо читаем стихи. Разве «воображение, которое
заставляет человека содрогаться, когда он представит себе Дантов
ад», не есть то, что и воображение самого Данте, но в более слабой
степени? Никто не в состоянии из рассказа Сакса-грамматика
создать «Гамлета», как это сделал Шекспир, но каждый может
составить себе по этому рассказу известное представление, и каждый,
худо ли, хорошо ли, воплощает это представление в известном
образе. Мы не станем терять времени на определения. Там, где нет
никакого четкого различия — такого, как между круглым и
четырехугольным,— всякие определения неизбежно будут более или менее
произвольны. Человек с поэтическим дарованием, настолько
развитым, чтобы стать заметным для других, будет считаться
окружающими людьми поэтом. Таким же образом устанавливается
критиками и известность мировых поэтов, которых мы должны считать за
совершенных поэтов. Всякий, подымающийся выше общего уровня
поэтов, будет казаться критикам мировым поэтом. И, однако, это
произвольное различие, и таким оно и должно быть. Все поэты, все
люди до известной степени принадлежат всему миру и всем
временам. Но люди очень скоро забывают большинство поэтов, и даже
самых знаменитых из них, Шекспира или Гомера, не будут помнить
вечно: настанет день, когда их тоже забудут и они перестанут жить
в памяти людей.
Томас Карлейль, Герои, почитание героев
и героическое в истории. Перевод В. И. Яковен-
ко, Спб., 1908, стр. 97—101. Редакция перевода
А. В. Парнаха по изд.: Thomas Carlyle, On
Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History.
Lond., 1891, p. 75—78.
850
SARTOR RESARTUS1
КНИГА III
Глава III. Символы
[...] Дивная мощь Символа сродни этим столь неисчислимо
множественным воздействиям Сокрытия, но сопряжена с вещами еще
более великими. Символ — это и Сокрытие и вместе с тем
Откровение; а потому его двойной смысл есть плод совокупного действия
Молчания и Речи. Если же Речь сама по себе возвышенна, а
Молчание уместно и благородно, то какой выразительной силой должен
быть наделен их союз! Так подчас пошлая, истертая истина,
являясь нам в раскрашенном гербе или в простой эмблеме на резной
печати, вдруг оживает, обретая новую свежесть и убедительность.
Ибо здесь Фантазия со всеми чудесами своего таинственного
царства вторгается в тесную прозаическую область Рассудка и
соединяется с ним в одно целое. Символ в собственном смысле слова
содержит в себе некий более или менее явственно выраженный
элемент воплощения, самораскрытия Бесконечного в Конечном;
Бесконечное сливается в нем с Конечным, дабы принять видимый
облик — обрести, так сказать, свойство доступности. И в силу этого
Символы направляют человека, повелевают им; они источник его
счастья, его горестей. Он живет в мире Символов, познанных или
непознанных; сама Вселенная есть не что иное, как единый великий
Символ Бога; да и человек — что он, если не Символ Бога? — симво-
личны все его деяния, в коих является Ощущениям вложенная в него
Богом таинственная сила, «Евангелие Свободы», которое он,
«Мессия Природы», проповедует, как может, словом и делом? Всякое
творение рук его — будь то хоть самый убогий шалаш — есть видимое
воплощение мысли, внешнее проявление скрытых сущностей и —
в трансцендентальном смысле — символ в той же мере, что и
реальность.
[...] Не способность мыслить и познавать меру вещей, но дар
воображения правит нами; как Жрец и Пророк ведет он нас
путями небесными; либо как Волхв и Чародей завлекает в адские
бездны. Что есть Ощущение даже для самого грубого сенсуалиста, как
не орудие Фантазии; сосуд, из которого она пьет? Во мраке самого
унылого существования горит нам луч Вдохновения или Безумия
(выбор между тем или другим отчасти в наших руках); этот луч,
достигающий из бездны Предвечного, где само Время — лишь
маленький островок, доносит до нас отблеск Вечности, озаряющий
1 — Перекроенный портной (латин.).
28*
851
все сущее. Способность к познанию — это окно: чем оно прозрачнее,
тем яснее мы видим; но Фантазия — это сам глаз; его сетчатка —
орган светового зрения; здоровая, она являет нам мир в истинном
свете, пораженная недугом,— искажает все его краски. Не сам ли я
был свидетелем тому, как пятьсот солдат — пятьсот людей, полных
жизни,— дали изрубить себя в крошево, превратить в снедь для
воронья, ради пестрой тряпки, которую именовали своим знаменем
и которой красная цена была три гроша — больше за нее не
заплатили бы ни на одном базаре. Итак, ведомо ли это человеку или нет,
но вся его жизнь, деятельность и само существование облечены
в форму Символов и совершаются посредством Символов; и из всех
исторических эпох наиболее благородными почитаются те, которые
лучше других умели понять цену Символам и именно их ставили
во главу угла. Ибо не есть ли Символ в глазах посвященного та
форма, в коей с большей или меньшей степенью ясности
обнаруживает себя Божественное Начало?
Скажу о Символах далее, что ценность их может заключаться
как во внешней форме, так равно и во внутреннем содержании; но
чаще обладают они только ценностью внешнего порядка. Разве
имел какой-нибудь внутренний смысл тот деревянный башмак,
который несли над головами как знамя крестьяне во время
Крестьянской войны? Или котомка и посох, вокруг которых, гордясь своим
прозвищем «нищих», сомкнули свои ряды героические
нидерландские гёзы и с которыми они восторжествовали над врагом — над
самим королем Филиппом? Внутреннего значения эти знаки не
имели; ценность их была чисто внешняя: случайно оказались они
в роли знамен, вокруг которых на время, более или менее
длительное, объединились во имя священной цели массы народа; а такой
союз — как мы уже говорили выше — по самой своей природе
заключает в себе печто мистическое, частицу Божественного
Начала. [...] Так или иначе, в подобных знаках всегда отражаются какие-
то стороны Божественной идеи: в боевых знаменах — Божественная
идея Долга, Героизма и Доблести; в других — идея Свободы,
Справедливости. [...]
Совсем иначе обстоит дело, когда Символ имеет собственный
внутренний смысл и сам по себе достоин того, чтобы люди
объединились вокруг него [...]. К этому роду Символов относятся все
истинные произведения искусства; в них — если тебе дано отличить
создание художника от поделки ремесленника — увидишь ты Вечное
во Временном; Божественное начало, принявшее доступную для
взора форму. Постепенно и в них может развиться внешний смысл,
дополнив собой внутренний: так, «Илиада» и некоторые другие
поэмы в этом роде приобрели за три тысячи лет совершенно новое
852
значение. [...] Но обыкновенно то же Время, что освящает Символы,
впоследствии затемняет и искажает их смысл, лишает их ореола;
и Символы, как все земные покровы, ветшают. В эпосе Гомера и в
наши дни все так же истинно, как и прежде, но он уже не наш
эпос; он светит нам издалека, и свет этот, хотя горит все ярче,
постепенно удаляется, становясь все меньше и меньше, как свет
уходящей звезды. Теперь нужно его рассматривать в телескоп
истории, давать ему новые толкования, искусственно приближать его
к нам, прежде чем мы сумеем распознать в нем бывшее Солнце. [...]
Но вот в чем можешь ты быть совершенно уверен: если хочешь
сеять для Вечности, оплодотворяй неисчерпаемые глубины природы
человека — его Чувство и Воображение; если лишь на потребу
дня — кидай неглубоко, в слои поверхностные, каковы Себялюбие
и Арифметический Расчет, то семя, что может в них взойти.
Верховным Жрецом и Первосвященником Мира назовем мы того Поэта,
того Вдохновенного Творца, кто, подобно Прометею, сумеет создать
новые Символы и вдохнуть в них огонь, вновь похищенный у
Небес... А пока, в чаянии явления Поэта, мы, применяясь к среднему
уровню, признаем Мудрым Законодателем того, кто способен хотя
бы увидеть, что Символ устарел, и незаметно устранить его.
Th. С а г 1 у 1 е, Sartor Resartus, Lond.— Ν. Y.,
1914, p. 165—169. Перевод И. Я. Левит.
РЕСКИН
1819—1900
Историк и теоретик искусства, поэт, публицист и литературный критик,
общественный деятель и естествоиспытатель, Джон Рескин представляет собой
редкий для XIX века пример универсализма.
Выходец из буржуазной семьи, строго придерживавшейся религиозных
взглядов, Рескин готовился стать священником. Однако интерес к искусству,
усилившийся в результате знакомства с величайшими памятниками мирового
зодчества и живописи, заставил его избрать иной путь: уже в начале 1840-х
годов он занимается исключительно вопросами изобразительного искусства
(«Современные художники», 1843).
Эстетическая концепция Рескина очень противоречива. Вслед за Карлейлем,
которого он считал своим учителем, Рескин видел в искусстве акт
прославления божественного разума, а в художнике — орудие его раскрытия. Однако
реалистические и материалистические тенденции весьма сильно проявляются
853
в его взглядах на искусство. Убежденный противник классицизма,
идеализирующего природу, Рескин требует от искусства правдивого отображения
природы, а от художника умения видеть ее в наиболее характерных проявлениях.
Рескин отстаивает национальную самобытность искусства.
Центральное место в эстетике Рескина занимает его учение об этической
стороне искусства. Красота, по его мнению, нравственна, и поэтому только
возвышенные, высоко нравственные сюжеты достойны художественного
воплощения. Поэтому Рескин осуждает сатиру, относя ее к самым низким формам
искусства.
После 1860-х годов в центре внимания Рескина — отношение искусства и
общества. В ярких публицистических произведениях и многочисленных лекциях
он клеймит капиталистический строй Англии, беспрестанно подчеркивая, что
современное общество по самой сути своей враждебно искусству. Он стремится
низвергнуть построения буржуазных экономистов, пытавшихся доказать
естественность и разумность буржуазного строя. «Практицизм», проповедуемый
ими, по мнению Рескина, убивает в человеке чувство прекрасного, а
буржуазное общество разрушает культуру и искусство, без которого человечество не
может жить здоровой и нравственной жизнью. Эти прогрессивные стороны его
учения были с одобрением восприняты английским рабочим классом, среди
которого Рескин пользовался большой популярностью.
СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ
ЧАСТЬ I. ПРИРОДА ИДЕЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИСКУССТВОМ
Глава И. Определение величия искусства
Живопись, или искусство вообще, со всеми его техническими
приемами, трудностями и своими особыми целями есть, в сущности,
не что иное, как благородный и выразительный язык, неоценимый
в качестве проводника мысли, но ничего не значащий сам по себе.
Человек, в совершенстве овладевший тем, что обычно называют
искусством живописи, то есть искусством правильно воспроизводить
предметы природы, в сущности, изучил только язык, которым
можно выражать свои мысли. Но ему так же далеко до великого
художника, как человеку, который научился правильно и благозвучно
выражать свои мысли, далеко до великого поэта. Правда, в первом
случае язык искусства труднее для усвоения, чем во втором, и
обладает большей способностью, обращаясь к уму, доставлять в то
же время наслаждение чувству. Но тем не менее язык остается
только языком, и все навыки художника нужны ему так же, как
ритм, гармония, точность и сила оратору и поэту; они необходимы
854
для их величия, но не они служат доказательством их величия. Не
способ изображения, а то, что изображается, будь то в живописи
или в речи, определяет, в конце концов, величие художника или
поэта.
Джон Ρ е с к и н, Современные художники, М.,
1901, стр. 49—50. Перевод П. С. Когана. Новая
редакция перевода А. В. Парнаха по изд.: J. Rus-
k i η, Modern painters, v. I, Lond., 1891.
[...] Впрочем, как в живописи, так и в литературе не всегда
легко определить, где кончается область языка и начинается
область мысли. Многие мысли до такой степени зависят от формы,
в которую они облечены, что они потеряли бы половину своей
красоты, будь они выражены иначе. Но высшие мысли те, которые
в наименьшей степени зависят от языка; величие произведения
и его оценка тем выше, чем меньше оно зависит от языка или
способа выражения. Произведение станет совершенным, если к этим
внутренним достоинствам прибавить ту красоту и
привлекательность, которые может дать способ выражения; но если речь идет
о высшем совершенстве, то форма совершенно не важна. Нас более
радуют простейшие линии или слова, представляющие идею во
всей ее обнаженной красоте, чем наряды и драгоценности, которые,
украшая, скрывают. Лучше сознавать, насколько мало они
украсили бы произведение, когда их нет, чем чувствовать, насколько они
испортили произведение, когда они есть.
Необходимо делать различие между тем, что служит в языке
для украшения, и тем, что служит для выражения. Те элементы
языка, которые необходимы для воплощения и передачи мысли,
достойны уважения и внимания как необходимые условия
совершенства, хотя они и не служат доказательством его. Но те элементы,
которые служат для украшения, имеют к действительному
совершенству картины не более отношения, чем ее лак или рама. В
живописи особенно необходимо отличать то, что украшает мысль, от
того, что ее выражает.
В самом деле, в поэзии невыразительное едва ли может быть
красивым, стихи могут быть красивыми разве только с точки зрения
ритма и мелодичности; да и то каждую жертву, принесенную им,
немедленно клеймят как промах. Но в живописи красота языка не
только в высшей степени заманчива и привлекательна для зрителя,
но и требует немалого напряжения ума и затраты времени от
художника. Поэтому люди, имеющие отношение к искусству, часто
воображают, что стали ораторами и поэтами, тогда как в
действительности они только научились красиво говорить, а критики беспрестанно
855
награждают почетным званием писателя тех, кто, в сущности, лишь
научился красиво писать.
Большинство, например, картин голландской школы, за
исключением Рубенса, Ван-Дейка и Рембрандта, лишь говорят о
способности художника пользоваться языком, ясно и энергично
произносить бесполезные и бессмысленные слова, тогда как ранние картины
Чимабуэ и Джотто были пламенными пророчествами, которые
исходили из невнятно лепечущих уст младенцев. Если ставить первых
выше простых ремесленников, а вторых ниже подлинных
художников, то мы не воспитаем и не возвысим вкус публики, всегда готовой
к восприятию низших удовольствий, которые может дать искусство,
и всегда невосприимчивой к высшим.
Долг разумной критики тщательно различать, где язык и где
мысль, определять качество картин и судить их главным
образом за мысли, считая язык второстепенным достоинством,
таким, которое никак нельзя сравнивать или класть на одни весы
с мыслью.
Картина, в которой больше благородных идей, как бы нескладно
они ни были выражены, выше и лучше картины, в которой меньше
идей и в которой идеи менее благородны, как бы прекрасно ни
выразили их. Никакие достоинства и красота исполнения не могут
перевесить даже одной крупицы мысли. Три штриха Рафаэля
представляют собой высшую и лучшую картину, чем самые законченные
произведения Карло Дольчи с их внешним лоском. Законченное
произведение великого художника только тогда выше его эскиза,
если источники наслаждения, которые дают колорит и исполнение,
ценные сами по себе, употреблены с целью усилить впечатление,
произведенное мыслью. Но если ради них исчезнет хоть одна
крупица мысли, то это будет означать, что все краски, отделка,
исполнение, всякая орнаментация — все это куплено слишком дорогой
ценой. За мысль можно платить только мыслью, и, как только
отделка картины лишает ее идею хотя бы небольшого оттенка,
всякая отделка становится ненужной и нарушает форму произведения.
Но хотя из всех этих рассуждений вытекает, что язык следует
отличать от того, что он выражает, и что его следует подчинять
мысли, тем не менее нельзя забывать, что существуют идеи,
неотделимые от самого языка, и что, строго говоря, удовольствие,
получаемое от искусства, связано так или иначе с интеллектом.
Чисто чувственное удовольствие от самого блестящего набора
красок ничтожно в сравнении с тем удовольствием, которое получает
глаз от хрустальной призмы, если только в первом случае
удовольствие не усиливается распознаванием смысла и намерения художника
в сочетании красок, которое является результатом умственной ра-
856
боты. Мало того, понятие «идея», по определению Локка, следует
распространить даже на чувственные впечатления, поскольку они
«занимают ум», то есть воздействуют не на зрение, а на сознание
через зрение.
Называя, таким образом, величайшей картиной ту, которая дает
сознанию зрителя наибольшее количество величайших идей, я даю
такое определение величайшей картины, которое включает в себя
в качестве элементов, подлежащих сравнению, все наслаждения,
какие только может доставить искусство. Если бы, с другой стороны,
я признал лучшей картиной наиболее близкое подражание природе,
я тем самым высказал бы мысль, что искусство может доставлять
удовольствие только подражанием природе; я изъял бы из ведения
критики те элементы художественного произведения, которые не
относятся к подражанию, именно красоту самих красок и форм, и те
произведения, которые, подобно арабескам Рафаэля в лоджиях, не
имеют ничего общего с подражанием природе.
Итак, необходимо такое широкое определение искусства,
которое охватило бы все его разнообразные цели. Я не могу поэтому
сказать, что величайшее художественное произведение есть то, которое
доставляет наибольшее наслаждение, потому что существуют
произведения искусства, цель которых учить, а не доставлять
удовольствие. Я не назову, далее, величайшим то художественное
произведение, которое наиболее поучительно, потому что существуют
произведения, имеющие целью доставлять удовольствие, а не учить.
Не говорю я также, что величайшее произведение — то, которое
лучше всего подражает, потому что некоторые произведения имеют
целью творить, а не подражать. Но я говорю, что величайшее
художественное произведение то, которое любыми средствами дает
сознанию зрителя наибольшее число наиболее великих идей. А я
называю идею тем более великой, чем более высокой способностью
ума она воспринята, чем сильнее она воздействует, развивает и
возвышает ту способность, которой она воспринята.
Если таково определение великого художественного
произведения, то из него вытекает определение великого художника.
Величайший художник тот, кто воплотил в сумме своих творений
наибольшее число величайших идей.
Там же, стр. 51—54.
Глава III. Идеи силы
[...] Всякий раз, когда побеждена трудность, достигается
совершенство. Поэтому, чтобы доказать совершенство произведения,
достаточно показать, как трудно было его создать. Полезно ли оно
857
и прекрасно — это другой вопрос. Совершенство же его зависит
исключительно от его трудности. И не следует считать дурным или
нездоровым вкус, который ищет преодоления трудностей и находит
наслаждение только в этом, независимо от того, чего он добьется.
Наша нравственная природа такова, что мы испытываем
удовольствие от столкновения с противодействующей силой и от
преодоления ее; мы боремся ради самой борьбы и победы, а не ради
каких-нибудь целей. И не только наша собственная, но и чужая
победа всегда служит источником чистого и облагораживающего
удовольствия. [...]
Там же, стр. 57.
Глава IV. Идеи подражания
Я хочу раз навсегда точно определить этот особый источник
удовольствия и употреблять слово «подражание» только в
применении к нему.
Когда предмет похож на то, чем он не является в
действительности, и когда сходство настолько велико, что почти обманывает нас,
мы всегда испытываем чувство изумления, приятное своей
неожиданностью, умственное возбуждение, совершенно такое же по своей
природе, как то, которое мы получаем от ловкого фокуса. Когда мы
замечаем такое сходство в каком-нибудь произведении искусства,
то есть когда произведение кажется нашему глазу похожим на то,
чем оно не является в действительности, мы воспринимаем идею,
которую я называю идеей подражания. [...]
Для полного и наиболее приятного восприятия этой
неожиданности требуются два элемента: во-первых, сходство должно быть
настолько совершенно, чтобы достигалась полная иллюзия, во-вторых,
одновременно каким-нибудь путем должно быть обнаружено, что
мы имеем дело с обманом. Поэтому самые совершенные идеи
подражания и удовольствие от него получаются тогда, когда одно
чувство идет вразрез с другим, но каждое дает ясное представление
о предмете; когда глаз, например, говорит, что предмет кругл, а
палец утверждает, что он имеет плоскую поверхность. И нигде эти
идеи и это удовольствие не ощущаются в такой степени, как в
живописи, где иллюзия выпуклости, закругленности, шерсти, бархата
и т. д. дается ровной поверхностью, или в восковых фигурах, где
первое свидетельство чувств постоянно идет вразрез с опытом. [...]
Идеи подражания, таким образом, воздействуют на нас
благодаря удовольствию неожиданности, и притом неожиданности не в ее
высшем смысле, а неожиданности низкого рода, неожиданности
циркового фокуса. Эти идеи принадлежат к числу самых низких, какие
только дает искусство. Во-первых, потому, что для наслаждения ими
858
необходимо, чтобы ум, отбросив впечатление, обратился к предмету,
который воспроизведен, и сосредоточился целиком на мысли, что
предмет не есть то, чем кажется. Всякая высшая и благородная
эмоция становится, таким образом, физически невозможной, так как
ум удовлетворяется чисто чувственным наслаждением. Мы знаем,
например, что слезы могут быть вызваны страданием или могут быть
искусственными, но не могут быть вызваны обеими причинами
одновременно. Если они поразили нас как выражение страдания, они не
могут тронуть нас одновременно как проявление искусства.
Во-вторых, идеи подражания низки по следующей причине: они
не могут помешать зрителю наслаждаться красотой предмета, но
их можно получить только от предметов мелких и незначительных,
потому что невозможно подражать ничему действительно великому.
Мы можем нарисовать кошку или скрипку так, что покажется,
будто их можно схватить; но мы не можем изобразить так ни океан,
ни Альпы. Мы можем создать впечатление отдельных плодов, но
не дерева, отдельных цветов, но не пастбища. Мы можем
воспроизвести стеклышко, но йе радугу. Все картины, в которых
используются обманчивые силы подражания, либо затрагивают
ничтожные сюжеты, либо являются подражанием только в ничтожнейших
своих частях — в платье, бриллиантах, мебели и т. д.
В-третьих, эти идеи ничтожны, потому что никакие идеи силы
не связаны с ними. Невежественным людям подражание
действительно кажется трудным, а удачное подражание достойным
всяческой похвалы. Эти люди ставят художника ниже фокусника,
который достигает удивительных результатов неведомыми для них
средствами. Для человека же посвященного фокусник в этом отношении
гораздо выше художника; такой человек знает, что добиться
ловкости рук фокуснику очень трудно и что она требует гораздо
большей изобразительности, чем искусство обманывать
подражанием в живописи; для последнего нужно выработать в себе только
верность глаза, твердость руки и усидчивость. Эти качества ничуть
не отличают художника-подражателя от часовщика, булавочника
или любого другого ремесленника. Эти замечания не относятся к
диораме и к театральной сцене, где удовольствие не зависит от
подражания; оно должно быть здесь таким, какое мы получаем от самой
природы, только ниже по своей степени.
Там же, стр. 59—61.
Глава V. Идеи правды
Слово «правда» в применении к искусству обозначает верную
передачу какого-то факта природы, рассчитанную на то, чтобы его
восприняло сознание или чувства.
859
Мы получаем идею правды тогда, когда постигаем верность
такой передачи.
Различие между идеями правды и подражания заключается
главным образом в следующем.
Во-первых, подражание может относиться только к предметам
материальным, а правда относится к передаче как свойств
материальных предметов, так и чувств, впечатлений и мыслей.
Существует правда нравственная, так же как и материальная, правда
впечатления, так же как и формы, мысли, как и материи, но правда
впечатления и мысли несравненно важнее. Отсюда «правда» —
термин, имеющий универсальное применение, подражание же ограничи-
вается узкой сферой искусства, которое занимается только
материальными предметами.
Во-вторых, правда может быть передана любыми знаками и
символами, имеющими определенное значение в сознании тех, к кому
они обращены, хотя сами по себе такие знаки не имеют ни
подобия, ни сходства ни с какими предметами. [...]
Если бы у живописи были такие средства — а я не говорю, что
они у нее есть,— такие средства, которые, подобно словам,
воздействовали бы не с помощью сходства, а воспринимались в качестве
символов или замены предмета и вызывали бы одинаковый с ним
эффект, то такие средства общения могли бы в неискаженном виде
передать правду, хотя они совершенно были бы лишены сходства
с передаваемыми фактами. [...]
Третье и последнее различие заключается в том, что передача
одного свойства предмета может дать идею правды; между тем
идея подражания требует сходства со столькими свойствами
предмета, сколько, по нашему представлению, их существует в
действительности. Контур древесной ветки, сделанный карандашом на белой
бумаге, есть передача известного числа фактов формы. Но этот
контур — еще не подражание. Идея этой формы отнюдь не дается
в природе линиями, и тем более черными линиями с белым
пространством между ними. Но эти линии дают сознанию ясное
представление об известном числе фактов, и оно признает в этом
изображении сходство с прежним своим впечатлением от древесной
ветки; благодаря этому оно получает идею правды. Если вместо двух
линий мы даем сплошную темную форму, сделанную кистью, мы
передаем известное соотношение теней между веткой и небом;
в этом соотношении можно признать другую идею правды. Тем не
менее здесь нет подражания, потому что белая бумага отнюдь не
похожа на воздух, а черная тень — на дерево. Только соединив
известное число идей правды, мы доходим до идеи подражания.
Там же, стр. 62—63.
860
Глава VI. Идеи красоты
[...] Идеи красоты принадлежат к числу благороднейших, какие
только можно представить уму человека; они неизменно возвышают
и очищают его в соответствии со степенью красоты. Можно
подумать, что бог сделал так, что они постоянно воздействуют на нас,
потому что в природе все предметы создают их и правильно
познающий ум воспринимает неизмеримо большее число прекрасных
частей, чем уродливых. Да и едва ли в чистой неиспорченной природе
существует уродство: существуют только различные степени
красоты или такие незначительные и редкие контрасты, от которых все
окружающее кажется еще более прекрасным; черные пятна в
природе заставляют сильнее чувствовать ее краски.
Там же, стр. 67.
ЧАСТЬ II. ПРАВДА. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИДЕЙ ПРАВДЫ
Глава I. Идея правды в связи с идеями красоты и отношения
[...] Пейзажисты должны всегда преследовать две великие и
совершенно различные цели: во-первых, давать сознанию зрителя
верное представление о всевозможных предметах природы,
во-вторых, направлять ум зрителя на те предметы, которые наиболее
достойны созерцания, и сообщать ему те мысли и чувства, с
которыми смотрит на эти предметы сам художник.
Для достижения первой цели художник ограничивается тем, что
ставит зрителя на свое место; он ставит его перед пейзажем и
уходит. Зритель остается один. Он может предаваться собственным
мыслям, как если бы он действительно был наедине с самим собой
и смотрел на этот пейзаж; у него может вообще не появиться
никаких мыслей и чувств, все дело в его настроении. Художник не дал
ему ни одной мысли; не приковал его внимания к новым идеям, не
поселил в его сердце неведомых раньше чувств. Такой художник —
проводник, но не товарищ зрителя, он играет роль коня, а не друга.
При достижении второй цели он не только помещает зрителя перед
пейзажем, но и говорит с ним, делает его участником своих
собственных сильных чувств и живых мыслей, увлекает его своим
восторгом, направляет его ко всему прекрасному, отрывает его от всего
низкого и дает ему больше, чем наслаждение,— он облагораживает
η учит его: зритель сознает, что он не только увидел новый пейзаж,
но вступил в общение с новым человеком, что его одарили на
минуту острым чутьем и пылкими чувствами более благородной и
проницательной души.
Для достижения каждой из этих двух целей необходима особая
система при выборе изображаемых предметов. Первая цель, в
сущности, не предполагает выбора: она предполагает отбор предметов,
861
которые сами по себе всегда нравятся всем людям; и когда выбор
подобных предметов сделан с искусством и старанием, он ведет
к достижению чистого идеала. Художник, стремящийся ко второй
цели, выбирает предметы скорее по их смыслу и характеру, чем по
их красоте; он пользуется ими, скорее, для того, чтобы пролить свет
на те особые мысли, которые желает сообщить; он видит в них
нечто большее, чем только предметы, которые сами по себе являются
объектом восхищения, но не связаны с его идеей.
Хотя первый способ в тех случаях, когда им руководит глубоко
обдуманная мысль, может повести к созданию произведений,
оказывающих благородное и постоянное влияние на человеческое
сознание, он способен (и в девяти случаях из десяти так и бывает)
выродиться в простое обращение к неизменным и общим чувствам
нашей животной природы, которые присущи всем. Таково, например,
удовольствие, которое получает глаз от противопоставления
холодных и теплых красок, тяжелых и легких форм. Этот способ ведет
к повторению одних и тех же идей, обращается к одним и тем же
принципам. Он порождает те правила искусства, которые
справедливо возбуждали негодование Рейнольдса, когда ими
пользовались, чтобы объяснить великие картины. Этот способ выбора —
источник и прибежище тех технических приемов и нелепостей,
которые во все века были проклятием искусства и доставляли венец
дилетанту.
Но искусство, когда оно стремится ко второй, высшей своей
цели,— это не обращение к животным чувствам, природа которых
неизменна; оно есть выражение и пробуждение индивидуальной
мысли. Поэтому оно так же разнообразно и обширно, как кругозор
и сила ума. Видя каждое его произведение, мы понимаем, что это
не образчик товара, который мы можем покупать дюжинами
в лавке торгаша; мы понимаем, что созерцаем блеск постоянно
деятельного ума, подобного которому не было и не будет.
Там же, стр. 83—85.
[...] Можно достигнуть того, что я назвал первой целью, то есть
воспроизведения фактов, не осуществив второй цели, то есть
воспроизведения мыслей; но нет никакой возможности достигнуть
второй цели, не достигнув предварительно первой. Я не хочу сказать,
что человек не может мыслить, имея ложное основание и ложный
материал для мысли. Но ложная мысль хуже полного отсутствия
мысли и потому не имеет ничего общего с искусством. Вот почему,
хотя я считаю вторую цель настоящей и единственно важной целью
искусства, я называю первой целью его — правильное
воспроизведение фактов; потому что оно необходимо для достижения второй
862
цели и должно быть достигнуто раньше ее. Оно — фундамент
всякого искусства. О нем, как и о действительном фундаменте, можно
не думать тогда, когда на нем уже воздвиглось величественное
здание. Но без него нельзя обойтись. [...]
Ничто не в состоянии искупить недостаток правды. Ни самое
блестящее воображение, ни самая игривая фантазия, ни самое
чистое чувство (если чувство может быть чистым и ложным
одновременно), ни самая возвышенная идея, ни величайшая способность
ума схватывать все на лету — ничто не может вознаградить за
отсутствие правды. На это существуют две причины: во-первых,
ложное само по себе заключает что-то отталкивающее и принижающее;
во-вторых, природа неизмеримо выше всего, что может вообразить
человеческий ум, настолько выше, что всякое отступление от нее
недостойно ее; ложное не может украшать. Ложь — это позор
и грех, оскорбление и обман.
Мы увидим, что ни один художник не может обладать ни
изяществом, ни воображением, ни оригинальностью, если не обладает
правдивостью. Стремление к красоте не только не удаляет нас от
правды, но в десятки раз увеличивает стремление к ней и
необходимость ее. У художников, обладающих действительно великой
способностью воображения, смелость идей всегда основывалась на
знаниях, далеко превышающих знания тех людей, которые гордятся
самим накоплением их и не думают о том, как их использовать.
Холодность и отсутствие страсти в картине служат не признаками
безошибочности воспроизведения, а признаками незначительности
мысли; истинная сила и блеск — признаки не дерзости, а знания.
Там же, стр. 86—87.
.[...] Мы постоянно узнаем предметы по самым незначительным
их признакам и с помощью весьма немногих из них. И если эти
признаки отсутствуют в подражании, хотя бы при этом были налицо
тысячи других более важных и более ценных, если, повторяю,
отсутствуют или недостаточно хорошо переданы те признаки, по
которым мы привыкли узнавать предметы, мы станем отрицать
сходство. Если же эти признаки имеются, все остальные — великие,
ценные и важные — могут отсутствовать, тем не менее мы будем
настаивать на сходстве. Узнавание не есть доказательство реального
и истинного сходства. Мы узнаем наши книги по переплетам, хотя
настоящие, существенные их черты скрыты внутри них. Собака
узнает человека по запаху, портной по платью, друг —- по улыбке.
Каждый из них узнает его, но лишь в меру своего развития. То, что
действительно составляет человека, известно только богу. Портрет
может с величайшей точностью передать его черты, но не уловить
863
даже общего его выражения. Может случиться, что он — употребляя
обычное выражение тех, кому нравятся подобные произведения —
«так похож, что кажется, будто сам человек на вас смотрит». Даже
кошка узнает своего хозяина по такому портрету. В другом
портрете могут быть небрежно и даже неправильно воспроизведены
черты лица, но прекрасно передан блеск глаз и своеобразный склад
губ, который можно видеть у человека только в минуты высшего
умственного подъема. Кроме друзей, никто не узнал бы его.
Третий, наконец, может не передать ни одного из этих обычных
выражений, но передать такое выражение, которое является у человека
в моменты величайшего возбуждения, когда найдут выход самые
затаенные его страсти, самые высшие способности. Никто, кроме
видевших его в такие моменты, не признает сходства в этом
портрете. Но какой портрет будет самым правдивым изображением
человека? Первый передает физические особенности — особенности
климата, пищи, времени, те особенности, которые подвержены
тлению. Второй передает отпечаток духа на физической оболочке.
Но проявление этого духа мы видим в таких чувствах, которые он
разделяет со многими, которые не характеризуют его сущности.
Они — результат привычек, воспитания, случайностей. Это
покрывало, сохраняется ли оно с намерением или принимается
бессознательно, может быть, полностью противоречит всему, действительно
коренящемуся в том уме, который оно скрывает. Третий портрет
схватывает следы всего самого затаенного, самого мощного и в те
моменты, когда всякое лицемерие, всякие привычки, все мелкие
и преходящие волнения исчезли, когда лед, берега и пена
бессмертного потока снесены, разбиты вдребезги и поглощены первым
движением его пробудившейся внутренней силы, когда призыв и
побуждение какой-то божественной силы вызвали наружу скрытые
силы и чувства, которых не могла бы пробудить собственная воля
духа, не могло бы уловить его сознание, которые бог один знает
и бог один может пробудить,— таинственную глубину особых свойств
духа. То же бывает и с природой; она имеет тело и душу, подобно
людям. Но ее душа — божество. Можно изобразить тело без духа;
и это изображение покажется сходным тем, чьи чувства только
и знают тело. Можно изобразить дух в его обычных и низших
проявлениях; здесь отыщут сходство те, кто не подстерегал моментов
проявления его силы. Можно изобразить дух в его тайных высших
проявлениях. Такое изображение признают похожим только те, кому
довелось их увидеть. Все эти изображения правдивы. Но сила
художника, а следовательно, и оценка судьи тем выше, чем выше правда,
которую художник изобразил или почувствовал.
Там же, стр. 94—95,
864
Глава IV. Сравнительное значение истин
[...] Иногда природа сама, хотя и редко, нарушает свои
собственные принципы. Ее принцип — все делать прекрасным, но порой
она допускает существование того, что по сравнению с остальными
ее творениями может показаться безобразным. Несомненно, что
даже эти редкие отрицательные явления допускаются, как было
сказано выше, с добрыми целями. Они нужны природе, и если
пользоваться ими так, как она, они могут быть столь же ценными и в
искусстве (в качестве минутных диссонансов). Но художник,
который стал бы искать только их и не рисовал бы ничего другого,
оказался бы лживым в точном смысле этого слова, хотя бы он и
отыскал в природе оригиналы каждого из созданных им уродств; он
был бы лжив по отношению к природе и не послушен ее
законам. [...] Но дело совершенно меняется, если вместо нарушения
принципа мы встречаемся со случаем его необыкновенного
применения или с проявлением при совершенно необычных условиях. Хотя
природа всегда прекрасна, она не выставляет постоянно напоказ
высших сил красоты, потому что они могли бы пресытить нас и
притупить наши чувства. Для того чтобы мы их оценили, необходимо
показывать их редко. Самые прекрасные штрихи природы те,
проявления которых надо подстерегать; совершеннейшие проявления
красоты бывают мимолетны. Природа постоянно показывает нам
что-нибудь прекрасное, но этой редкой красоты не давала нам
прежде и не повторит после; она раскрывает свои главные силы при
особых обстоятельствах; и если не подстеречь их вовремя, они
никогда уже не повторятся. Эти-то мимолетные явления
совершеннейшей красоты, эти-то постоянно изменяющиеся образцы высшей
силы и должен подстерегать и схватывать художник. Ничего не
может быть нелепее предположения, будто те эффекты или истины,
которые обнаруживаются часто, более характеризуют природу, чем
те, которые столь же необходимы по ее законам, но проявляются
реже. И частое и редкое — элементы одной и той же великой
системы. Передавать только одно или только другое значит
передавать не всю истину; повторять один и тот же эффект или
мысль в двух картинах значит попусту тратить время. Что
подумали бы мы о поэте, который всю свою жизнь стал бы
повторять одни и те же мысли в различных выражениях? И почему мы
должны быть снисходительнее к художнику-попугаю, который
заучил лишь один урок из книги природы и, заикаясь, постоянно
повторяет его, не переворачивая следующей страницы? Почему
беспрестанно повторяющееся описание предмета в линиях карандаша
или кисти следует считать в меньшей степени тавтологией, чем
865
такое же описание его словами? Уроки природы столь же
разнообразны и бесконечны, как и постоянны; и долг художника состоит
в том, чтобы воспринять все из этих уроков и передавать те
(человеческая жизнь не может дать чего-нибудь большего), в которых ее
принципы обнаружились наиболее своеобразно и ярко. И чем глубже
искания художника, чем реже встречаются подмеченные им
явления, тем ценнее его произведения.
Там же, стр. 101—103.
КАМНИ ВЕНЕЦИИ
В последнее время мы много изучали и усовершенствовали
великое изобретение цивилизации — разделение труда, однако это
название неправильно. В сущности, разделен не труд, а человек
разделен на частицы, разбит на мелкие осколки и крохи жизни, так
что всего того кусочка разума, который ему остался, недостаточно,
чтобы сделать булавку или гвоздь,— его хватает только на то, чтобы
заострить булавку или сделать шляпку гвоздя. Конечно, хорошо
сделать в один день много булавок; но если бы мы могли увидеть
тот порошок, полирующий их острия, порошок толченой
человеческой души, которую можно различить только под сильным
микроскопом, тогда нам пришлось бы признать, какой огромной ценой
мы расплачиваемся за все это. Ведь громче рева плавильных печей
звучит голос наших фабричных городов; он требует одного —
прибыли; он кричит — крик этот везде один: кроме душ человеческих,
мы создаем все, мы отбеливаем хлопок, закаляем сталь, очищаем
сахар, формуем посуду, а очищать, укреплять и возвышать
человеческую душу — это занятие выгоды не принесет. И всему тому злу,
на которое этот голос побуждает мириады людей, можно
противопоставить не наставление и не проповедь; если мы будем учить их,
они только яснее увидят свое несчастье, а проповедь,
ограничивающаяся одной проповедью, была бы только насмешкой над их
несчастьем. Чтобы бороться с этим злом, все классы должны ясно
понять, какой род труда пригоден для человека, возвышает его
и делает счастливее; должны решительно отказаться от удобств,
красоты и дешевизны, которые добываются ценой унижения
рабочего, а также решительно требовать продуктов и результатов
здорового благородного труда.
Но каким же образом, спросите вы, определить такие продукты
и регулировать спрос на них? Это не трудно, если руководствоваться
тремя простыми общими правилами.
866
1) Не поощрять производства предметов не насущной
необходимости, в изготовлении которых не принимает участия личная
изобретательность.
2) Не требовать тщательной отделки ради внешнего вида
изделий, а только ради какой-нибудь практической или высокой цели.
3) Не поощрять ни подражания, ни какого бы то ни было
копирования, разве только с целью сохранить воспоминание о великом
произведении.
Ρ е с к и н, Искусство и действительность
(Избранные страницы). Перевод О. М. Соловьевой.
Изд. 2-е, М., 1900, стр. 197—199. Новая редакция
перевода А. В. Парнаха по изд.: John Ruskin,
The stones of Venice, New York, 1900, v. II,
p. 164-166.
ЛЕКЦИИ ОБ ИСКУССТВЕ
Лекция III. Отношение искусства к нравственности
[...] Сначала нужно добиться надлежащего уровня
нравственности; иначе искусство не может существовать. Но когда искусство
возникло и существует,— оно в свою очередь возвышает и укрепляет
нравственность, благодаря которой оно само возникло, становится
ее частью и, главное, проникает в сознание тех, кто в нравственном
отношении уже способен подчиниться его воздействию.
Возьмите, например, искусство пения и самого простого и
совершенного обладателя этого искусства (в пределах его
природы) — жаворонка. У него вы можете научиться тому, что значит
петь от счастья. Но сперва вы должны достигнуть такого
нравственного состояния, при котором возможно это чистое счастье, а затем
дать ему законченное выражение; последнее является тогда само
по себе совершенным и может сообщаться всем другим существам,
которые способны к этому счастью. Но оно недоступно тем, кто не
подготовлен к восприятию его.
Все песни людей равным образом являются законченным
выражением средствами искусства радости или горя благородной
личности, и возможность искусства находится в точном соответствии
с чистотой чувства. Девушка может петь об утраченной любви,
скупец не может петь об утраченных деньгах. По отношению ко всем
искусствам, от самого высшего до самого низшего, применима с
буквальной точностью мысль, что красота искусства является
отражением нравственной чистоты и величия того чувства, которое
выражается им. Это подтверждается на каждом шагу. Относительно
любого чувства, которое овладевает вашим умом, задайте себе вопрос:
867
«Может ли его воспеть истинный художник, и воспеть благородно,
с истинной гармоничностью и искусством?» Но если его нельзя
воспеть совсем или можно высмеять, тогда это чувство относится
к низким. То же во всех искусствах. Искусство нации всегда
является математически точным, без всяких отклонений и исключении,
отражением ее нравственного облика.
Заметьте: отражением и возвышающим стимулом, но не корнем
или причиной. Вы не можете стать хорошими людьми оттого, что
будете заниматься рисованием или пением. Вы должны быть
такими, прежде чем научитесь рисовать или петь, и только тогда
краски или голос дополнят и выразят все, что есть в вас хорошего.
[...] Все прекрасное в языке народа отражает внутренние законы
его бытия. Пусть же характер народа остается строгим и
мужественным. Надо, чтобы встречи людей были серьезны, чтобы люди
уважали друг друга, чтобы их беседы посвящались достойным
предметам; если народ будет занят достойными делами, язык его
обретет величие. И, наоборот, язык не может быть благороден, если
слова его не являются призывом к действию. Все великие языки
неизменно выражали великие дела, вдохновляя их; таким языкам
можно подражать только при помощи полного повиновения. Язык
обладает свойством внушения, потому что в нем выражена не
только речь, но и жизнь народа. И вы можете научиться говорить
языком великого народа тогда, когда приобретете его качества.
[...] Любовь к красоте является существенной частью всякой
здоровой человеческой натуры, и хотя это чувство может очень долго
существовать рядом с чертами, недостойными во многих других
отношениях, но само по себе оно безусловно доброе начало, враг
зависти, скупости, пошлой суеты и особенно жестокосердия. Оно
полностью погибает, когда человек поддается дурным инстинктам.
И люди, в которых оно особенно сильно, всегда сочувствуют чужому
горю. Они любят справедливость; они раньше всех понимают и
объясняют другим то, что ведет к счастью человечества.
Джон Рескин, Лекции об искусстве, Мм 1900,
стр. 74—75, 78, 100. Перевод П. С. Когана. Новая
редакция перевода А. В. Парнаха по изд.:
J. R u s k i η, Lectures on art, Lond., 1898.
Лекция IV. Отношение искусства к пользе
[...] Сила искусства зависит от того, истинно ли оно и полезно ли;
и как бы ни было оно приятно, чудесно и выразительно само по
себе, оно все-таки будет искусством низшего разряда, если у него
нет одной из двух главных целей: или выразить что-нибудь истин-
868
ное, или украсить что-нибудь практически полезное. Оно никогда
не может существовать обособленно само по себе; его существование
только тогда оправдано, когда оно является орудием знания или
украшением чего-нибудь полезного для жизни.
[....] Земледелие, требующее работы рук, и безусловное отречение
от ненужной силы пара — первые условия, необходимые для
создания школ искусства в каждой стране. Пока вы не сделаете этого,
будет торжествовать тот порядок вещей, к которому привела
машина и вызванный ею упадок искусства, тот порядок, когда колеса
прядильных машин шумом своим оглушают Англию, а ее народ
лишен одежды; она почернела, добывая топливо, а он дрожит от
холода; она душу свою продала за барыши, а он мрет с голоду.
Пребывайте же в этом торжестве, если вам угодно. Но знайте: этого
торжества никогда не разделят с вами изящные искусства.
Там же, стр. 109—110, 137.
МОРРИС
1834-1896
Один из крупнейших представителей эстетической мысли конца XIX века,
художник, поэт и писатель Уильям Моррис начал свой путь в искусстве как
сторонник идей Джона Рескина и участник кружка прерафаэлитов. Осознав
враждебность капитализма искусству и красоте, Моррис приходит к выводу о
необходимости раскрепощения труда. Дальнейшим шагом в его идейной
эволюции явилось признание того, что только социализм способен создать
условия, необходимые для свободного труда и творчества.
Моррис восстал против распространенного в английской эстетике второй
половины XIX века взгляда на искусство как на деятельность, не связанную
с практической жизнью общества, против признания искусства бесполезным
несущественным элементом деятельности человека. Он считал, что любая
деятельность человека неразрывно связана с эстетической стороной его жизни,
ибо искусство, по выражению Морриса, это «радость, выраженная человеком
в труде» («Искусство и плутократия»). Вытеснение искусства из жизни в
буржуазном обществе обличает* по мнению Морриса, порочность этого общества.
Рисуя в своем утопическом романе «Вести ниоткуда» (1890) мир будущего,
Моррис подчеркивал, что в свободном социалистическом обществе, в котором
человек будет раскрепощен от непосильного изнуряющего труда, а сам труд
станет творчеством и будет приносить людям радость, красота займет
необычайно высокое место в жизни человека.
869
Идеал красоты у Морриса связан с его увлечением искусством средних
веков, когда, как ему казалось, труд, не порабощенный машиной, носил более
высокий эстетический характер, чем в последующую, капиталистическую
эпоху. В этой идеализации средневековья сказалась известная узость и
ограниченность взглядов Морриса.
ЛЕКЦИИ О СОЦИАЛИЗМЕ
Искусство и социализм1
Друзья, я хочу, чтобы вы задумались об отношении искусства
к коммерции, подразумевая под этим словом то, что обычно под ним
подразумевают, а именно — систему конкуренции на рынке,
которая, как предполагает сегодня большинство людей, является
единственной формой, в которой может выступать коммерция. Однако
были времена, когда искусство стояло выше коммерции, когда
искусство означало многое, а коммерция в том смысле, как мы ее
понимаем, была чем-то совсем незначительным; теперь же, я полагаю,
признают все, что коммерция приобрела очень большое значение,
а искусству отведена очень небольшая роль.
[...] В своей погоне за тем, чтобы обрести материальное
процветание, блага которого распределены чрезвычайно неравномерно,
мир современной цивилизации окончательно подавил народное
искусство — иными словами, большая часть людей совершенно
оторвана от искусства, которое в силу существующего положения
должно находиться в распоряжении незначительного числа богатых
или состоятельных людей, нуждающихся в нем меньше или, во
есяком случае, не больше, чем труженики-рабочие. Но в этом еще
не все зло, и это зло даже еще не худшее, так как причина жажды
искусства заключается в том, что, пока людям в этом
цивилизованном мире приходится так же много трудиться, как и прежде, они
теряют в лице искусства, которое создается народом и для народа,
естественную усладу своего труда, которая существовала когда-то
и должна была существовать всегда; они потеряли возможность
выражать товарищам свои мысли посредством этого труда, посредством
той повседневной работы, которую природа или вековой обычай
(вторая природа) требует от них. [...] Но ведь слепота и пороки
цивилизации наших дней почти полностью превратили труд в этом
мире, труд, определенная доля которого должна была быть
надежным спутником каждого человека, в бремя, от которого отделался бы
1 Лекция, прочитанная в Лестершире 23 января 1884 года.
870
каждый человек, если бы только мог. Я уже сказал, что люди
трудятся так же много, как они это делали прежде, однако мне нужно
было бы сказать, что они трудятся еще больше. Замечательные
машины, которые в руках справедливых и дальновидных людей
направлялись бы на сведение до минимума грязных видов работ на
то, чтобы приносить наслаждение и тем самым продлевать жизнь
рода человеческого, используются так, что низвели человеческое
существование до положения лихорадочной гонки и окончательно
разрушили наслаждение, то есть жизнь; вместо облегчения труда
рабочего они сделали его еще более напряженным, а бремя
бедняков — еще тяжелее.
Систему современной цивилизации нельзя также оправдывать
тем, что утрату наслаждения, которую понес из-за нее мир, она
возместила материальными или физическими благами. Это нельзя
сделать потому, что, как я уже упоминал ранее, блага разделены
так несправедливо, что контраст между бедностью и богатством
невероятно усилился, поэтому в цивилизованных странах, и более
всего в Англии, можно наблюдать ужасную картину, когда из двух
народов одной крови, одного языка, живущих рядом дверь к двери,
улица к улице, подчиняющихся хотя бы номинально одним и тем же
законам, один является цивилизованным, другой нецивилизованным.
Все это — результат системы, которая растоптала искусство и
возвела коммерцию в сан религии; она уже готова с ужасающей
глупостью, являющейся ее основной чертой, насмехаться над римским
сатириком за его благородное предупреждение, которому она
придала противоположный смысл. Сегодня же во имя жизни она
требует от нас уничтожения смысла жизни.
Итак, перед лицом этой тупой тирании я от лица рабочих,
порабощенных коммерцией, выдвигаю требование, которое каждый
мыслящий человек посчитает справедливым; оно вызовет такие
перемены, которые будут означать гибель коммерции и создание
ассоциации вместо конкуренции, общественного порядка вместо анархии
индивидуализма. [...] Вот это требование: справедливой необходимо,
чтобы все люди имели работу, которая заслуживает выполнения
и которую было бы приятно выполнять; она должна выполняться
в таких условиях, которые не делали бы ее ни слишком
утомительной, ни слишком напряженной. С какой бы стороны я ни
рассматривал это требование, сколько я бы в него ни вдумывался, я не
нахожу его чрезмерным и повторяю, что, если бы общество хотело
или могло принять его, мир изменился бы полностью, а с
неудовлетворенностью, нечестностью и раздорами было бы покончено. Как
замечательно было бы чувствовать, что мы выполняем работу, полезную
для других и приятную для нас, что такая работа и достойное
871
вознаграждение за нее никогда не исчезнут! Разве нам будет тогда
грозить какая-нибудь беда? Цена, которую нужно заплатить за
превращение мира в счастливый мир,— революция, социализм вместо
laissez faire l.
Как мы, средние классы, можем способствовать установлению
такого положения, которое было бы возможно ближе к
противоположности того, что мы имеем в настоящем? Да, именно к
противоположности. Во-первых, работа должна заслиживатъ выполнения;
подумайте, какие изменения внесет это в наш мир! Право, у меня
голова идет кругом, когда я думаю о колоссальной работе,
проделываемой теперь для создания бесполезных вещей. Для каждого из
нас, кто достаточно физически крепок, чтобы пройти пешком две
или три основные улицы Лондона и внимательно отметить в
витринах магазинов все, что постыдно или излишне в повседневной жизни
серьезного человека, подобная прогулка будет весьма поучительной
и не потребует много времени. [...] Подумайте только, какое
громадное количество людей занято этими побрякушками, начиная от
инженеров, которые должны были создавать машины для их
производства, кончая несчастными клерками, из года в год сидящими день-
деньской в ужасных клетушках, в которых заключаются сделки по
оптовой продаже, и продавцами, не смеющими даже собственную
душу назвать своей, продающими эти побрякушки в розницу, не
осмеливаясь отвечать на град насмешек праздной публики, которая
через силу покупает их, а через день они надоедают ей и наводят
на нее смертельную тоску. [...]
Все эти люди — рабы того, что мы называем роскошью, которая
в современном смысле слова представляет собой массу бутафорского
богатства (изобретение конкурирующей коммерции),
превращающего в рабов не только бедных людей, вынужденных его создавать,
но также и незадачливых людей, приобретающих его, хотя оно
лишь раздражает их своей никчемностью. Чтобы у нас было
народное искусство или искусство любого другого рода, необходимо раз
и навсегда покончить с подобной роскошью, представляющей
подделку под него, причем такую, которая людьми, не видевшими
ничего лучшего, принимается за искусство, за божественное
утешение трудом человеческим, за романтику повседневного трудного
искусства жизни. Но я утверждаю, что ни искусство, ни чувство
собственного достоинства не могут существовать бок о бок с этой
роскошью ни в одной из сфер жизни. Ее неотступными спутниками
являются, с одной стороны, изнеженность, с другой стороны —
грубость. [...]
1 — невмешательство, попустительство (франц.).
872
Не думайте, что противодействие этому чудовищу глупости —
маловажное дело; решение вопроса о том, что вам самим хочется,
не только превратит вас в настоящих мужчин и женщин, но также
и заставит призадуматься над желаниями других людей, поскольку,
познакомившись с произведениями искусства, вы скоро убедитесь,
что рабскому труду следует положить конец. Здесь, во всяком
случае, у нас есть хотя бы некоторый признак, по которому можно будет
различать ветошь моды и произведения искусства; модная игрушка,
утратившая первый блеск, становится даже для самых
легкомысленных не нужной, произведение же искусства при всей его
скромности долговечно; оно никогда не надоедает; до тех пор, пока не
истлеют его остатки, оно будет ценным и поучительным для каждого
нового поколения. Короче говоря, в атмосфере распада все
произведения искусства становятся предметом поклонения, их ценят
потому, что с самого начала в них живет душа, мысль человека, не
исчезающие до тех пор, пока существует тело, в которое они были
вложены.
[...] Среди англичан, представителей среднего класса, существуют
люди, питающие большую любовь к искусству и обладающие
огромнейшей силой воли, люди, глубоко убежденные в том, что
цивилизация должна окружить жизнь человека прекрасным. Многие менее
значительные люди, а таких мне известны тысячи, люди изысканные
и культурные, поддерживают и высоко ценят их мнение. Однако
и ведущие их и ведомые неспособны спасти хотя бы полдюжины
рядовых людей от тисков неумолимой коммерции: несмотря на весь
свой ум и культуру, они бессильны и этим нисколько не отличаются
от изнуренных трудом башмачников. Нам еще хуже, чем царю
Мидасу, наши зеленеющие поля, наши чистые воды, даже воздух,
которым мы дышим, превращаются не в золото (которое могло бы
доставить радость кому-либо из нас хотя бы на день), а в грязь.
Откровенно говоря, все мы прекрасно знаем, что при нынешней
вере, исповедуемой капиталом, нет никакой надежды на
улучшение — изо дня в день, из года в год положение только ухудшает-
ся. f...]
Теперь, когда этот гнет не оставил нам работы, которая была бы
достойной выполнения, у нас остается одно, к чему мы должны
стремиться,— повышение уровня жизни там, где он низок и где он
самый низкий; это, во всяком случае, сыграет роль палки в спицах
победоносной колесницы конкурирующей коммерции. Я опять-таки
не могу себе представить, что было бы более эффективным в
поднятии жизненного уровня, чем убеждение нескольких тысяч тех, кто
живет трудом, в необходимости поддержать вторую часть
требования, которое я выдвинул в интересах труда, а именно, чтобы
873
работа была сома по себе приятна для выполнения. Если бы мы
сумели убедить их в том, что такая необычайная революция труда
была бы неоценимым делом не только для них самих, но и для всех
людей, что это требование справедливо и естественно, что
положение, когда труд приносит большинству людей лишь скорбь, есть
уродливый плод последнего времени, который в конце концов
приведет общество, породившее его, к разброду и гибели,— если бы мы
могли убедить их в этом, тогда фраза «искусство народа» стала бы
чем-то большим, чем простым набором слов.
[...] Несмотря на то, что большинство людей терпит труд лишь
как необходимое зло, подобное болезни, опыт, которым я
располагаю, показывает, что то ли благодаря особому святому чувству
к работе, которое сохраняется даже в наихудших условиях, то ли
благодаря тому, что бедный человек, вынужденный сталкиваться
с вещами, которые поразительно реальны, думает о подобных
вопросах, если ему случается над ними задуматься, с меньшей
предвзятостью, чем богатый,— как бы там ни было, мой опыт, во всяком
случае, говорит о том, что рабочий человек гораздо легче понимает
существо требования работы, которая должна быть приятной, чем
понимает его богатый или зажиточный человек. Я, например, с
удивлением обнаружил, что рабочие аудитории с большей теплотой
относятся к Джону Рескину, считая его пророком, а не фантазером-
болтуном, каким считают его более изысканные аудитории. Это
признак того, что назрело время для просвещения, отвечающего
требованиям будущего времени. Но разве мы, зараженные цинизмом,
в силу нашей беспомощности в этом страшном мире, окружающем
и подавляющем нас, не можем подняться в наших мечтах хотя бы
до мысли о том, что надежда, теплящаяся в сердцах миллионов
рабов коммерции, есть нечто большее, чем просто иллюзия, чем
привидевшийся нам рассвет среди глубокой ночи, с которой борется
только луна? Давайте припомним, что в мире сохранились еще
памятники, свидетельствующие о том, что труд для человека не всегда
был горем и бременем. Подумайте, например, о величественной
и прекрасной архитектуре средневековой Европы, о постройках,
возведенных до того, как коммерция окончательно соорудила здание
тирании посредством того открытия, что фантазия, воображение,
чувство, радость созидания и надежда на справедливую славу —
все это товарная продукция, слишком ценная для того, чтобы
позволить пользоваться ею тем, у кого на нее нет денег, а именно —
ремесленникам и поденщикам. Давайте вспомним, что были времена,
когда люди получали наслаждение от повседневного труда
и все же, так же как и сейчас, надеялись на свет и свободу. Их
тусклая надежда становилась все ярче и ярче, и они наблюдали за
874
кажущимся ее осуществлением. Они настолько увлеклись, что не
заметили, как их недремлющий враг — гнет,— изменив свой облик,
стал красть у них то, что они уже сумели обрести к тому времени,
когда появилась их новая, еще очень тусклая надежда; так они
потеряли то, что обрели в прошлом, а поэтому и то новое, что они
могли обрести, было испорчено и превращено в нечто, мало чем
отличающееся от утраченного.
В период между временем, в которое мы живем, и концом
средневековья Европа добилась свободы мысли, роста знаний и расцвета
талантов, при помощи которых можно было использовать
материальные силы природы. Здесь нужно также упомянуть об относительной
политической свободе и уважении жизни цивилизованного человека,
а также ряде других достижений. И тем не менее я с полным
основанием утверждаю, что если в обществе сохранится современное
положение, станет ясно, что Европа заплатила слишком высокую
цену за эти достижения, утратив наслаждение повседневным
трудом, наслаждение, которое было утешением для огромных масс
людей, находившихся в страхе и угнетении,—иными словами, смерть
Искусства — слишком высокая цена за материальное процветание
средних классов. Действительно жаль, что мы не могли наполнить
обе наши ладони и были вынуждены набирать одной, другой
проливая; однако, на мой взгляд, еще хуже не сознавать утрату (или
лишь смутно сознавать ее), заставить себя забыть о ней и кричать,
что все в порядке. И хотя далеко не все у нас в порядке, я знаю, что
природа человека не настолько изменилась за последние три века,
чтобы мы могли сказать тысячелетиям, предшествовавшим им: «Вы
напрасно взрастили искусство, ведь мы недавно открыли, что пища,
одежда, кров и поверхностное знание материального устройства
вселенной — вот все, что нужно человеку. Творчество не является
более потребностью души человека — его руки могут утратить
ловкость, и он ничего от этого не потеряет».
Три столетия — мгновение в потоке сменяющих друг друга
веков — не изменили полностью природу человека, так что не
сомневайтесь в том, что настанет день, когда мы отвоюем искусство для
нашего повседневного труда.
[...] Система, которую я назвал конкурирующей коммерцией,
представляет собой четко выраженную систему войны, то есть
разрушения и уничтожения или, если вам будет угодно, спекуляции.
Существо ее сводится к следующему: что бы человек ни обретал, он
делает это за счет того, что какой-либо другой человек теряет.
Такая система не следит и не может думать о том, достойны ли
создаваемые предметы того, чтобы их создавать. Она не думает
и не может думать о том, не унизителен ли труд тех людей, которые
875
их создают, она думает лишь об одном — так называемом получении
прибыли. Это словосочетание стало настолько условным, что я
должен объяснить его действительное значение, заключающееся в
ограблении сильными слабых. Далее я утверждаю, что эта система
по своей природе губительна для искусства, то есть для счастья
жизни. Какую бы заботу ни проявляли сегодня по отношению
к жизни народа, что бы ни делали хорошего — все это делается
вопреки существующей системе, в тисках ее жестоких порядков, и
поистине все мы, хотя бы молчаливо, признаем, что она противоречит
всем самым высоким чаяниям человечества.
Разве мы не знаем, как работают те гениальные люди
(истинная соль земли нашей), без которых коррупция общества давно бы
уже стала нестерпимой! Разве лучшие дни расцвета сил и веры
поэта, художника и ученого не омрачаются постоянно коммерческой
войной с ее издевательским вопросом: «А будет ли от этого
прибыль?» Разве не верно то, что, когда эти люди начинают
завоевывать всемирную славу, когда они становятся сравнительно
богатыми, они невольно начинают казаться нам запятнанными своей
связью с коммерческим миром? Нет необходимости говорить о
великих проектах, преданных забвению, о многом, что, по общему
признанию, необходимо было осуществить, но к чему даже не
притронулись из-за отсутствия денег! [...]
Взять все успехи по завоеванию природы, которые принесли нам
последние сто или менее лет, что дали нам они при существующей
системе? По мнению Джона Стюарта Милля, весьма сомнительно,
что технические новшества современности, вместе взятые, хоть
сколько-нибудь облегчили труд рабочих; смею уверить вас — ими
пользовались с совсем другой целью, с целью прибыли. Но что же
принесли нам эти почти волшебные машины, которые, если бы их
направляли благоразумно, могли бы быстро избавить людей от
утомительной, требующей ума работы и помочь нам повысить как
физическое умение, так и умственную энергию наших рабочих,
а также восстановить порядок и красоту, которые может создать
только та рука человека, которую направляет его душа. Итак,
цивилизованный мир гордится этими машинами, но есть ли у него
право гордиться их применением, которое диктуется коммерческими
распрями и расточительством? [...]
Будучи художником, я не могу забыть или не придать значения
внешним последствиям, которые ознаменовали анархическую
уродливую власть коммерческих войн. Подумайте о скверне Лондона,
безжалостно и безнадежно засасывающей в свою грязь поля, леса
и луга, издевающейся над слабостью наших попыток совладать
с даже меньшими из ее зол, такими, как пропитанное копотью небо
876
и загаженная река. Ужас гари и непролазная грязь наших
промышленных районов, столь кошмарные для тех, кто не привык к ним,
являются зловещим предзнаменованием того, что в будущем,
ужившись с ними, каждый сможет считать свое существование
терпимым и даже приятным. А ведь этот процесс идет также и в сельской
местности: наскоро сооруженные жалкие кирпичные дома
вытесняют прочные, построенные из серого камня жилища, до сих пор
еще разбросанные по стране, достойные по своей замечательной
простоте и жизнерадостности памятники йоменам английских
полей, чью гибель от руки только начинавшей свои войны коммерции
так волнующе оплакивал благородный Мор и доблестный Латимер.
Короче говоря, повсюду переход от старого к новому
сопровождается, во всяком случае, одним совершенно определенным
процессом — ухудшением облика страны.
[...] Для того чтобы показать теперь, что я опять возвращаюсь
к своему синтезированному требованию в защиту искусства и труда
и что я могу уже перейти к его третьей части, я снова повторяю:
справедливо и необходимо, чтобы все люди имели работу,
во-первых, достойную выполнения, во-вторых, такую, которую саму по
себе приятно выполнять, в-третьих, эта работы должна выполняться
в условиях, которые не делали бы ее ни слишком утомительной,
ни слишком напряженной.
Первое и второе положения, тесно связанные между собой, я уже
пытался осветить. Они представляют собой, так сказать, душу
требования о справедливом труде, третье положение — тело, без
которого эта душа не может существовать. Я сделаю его
распространенным, так что мы частично снова пройдем тот путь, который нами
был уже пройден: никто из тех, кто хочет работать, не должен
бояться желания быть использованным на такой работе, которая
принесла бы ему все необходимое для ума и тела. Все
необходимое — что это может означать для порядочного гражданина? Во-
первых, достойная и соответствующая работа, которая
предполагала бы возможность совершенствовать способности, необходимые
для выполнения его работы; в силу того что работа должна быть
достойна выполнения, необходимо гарантировать ему, что его не
заставят заниматься трудом бесполезным или не доставляющим ему
удовольствия.
Второе требование — благопристойность окружения,
включающего: 1) хорошее жилище, 2) обилие пространства, 3) общий
порядок и красоту. Это значит, что: 1) наши дома должны быть
прочными и чистыми, 2) в наших городах необходимо отвести
просторные участки под сады и парки, наши города не должны поглощать
поля и прочие участки сельской местности; более того, я требую,
877
чтобы были оставлены нетронутыми отдельные места, дикие уголки,
в противном случае романтика и поэзия, иными словами искусство,
умрут в наших душах; 3) порядок и красота означают не только
то, что дома наши должны быть прочно, как следует выстроены,
но и то, что они, кроме того, должны быть надлежащим образом
украшены, что поля не только должны выделяться под обработку,
но эта обработка должна изменять их только в той степени, в
которой она изменяет обычный цветник, что никому нельзя вырубать
в погоне за прибылью те деревья, без которых ландшафт станет
хуже; ни под каким видом нельзя допускать, чтобы люди закрывали
небо клубами дыма, загрязняли реки, захламляли землю
отбросами, создавая отвратительный по своей бессмыслице беспорядок.
В-третьих, необходимость досуга. Вы понимаете, что самим
этим словом я хочу выразить, во-первых, что люди должны
работать только некоторую часть дня, а во-вторых, что они вправе
требовать отдыха от работы. Они вправе требовать, чтобы их досуг
был достаточным для полного физического и умственного отдыха —
люди должны иметь время для серьезных размышлений, для
фантазий и даже для мечтаний, в противном случае человеческий
род неизбежно деградирует. Но даже эту почетную и
достойную работу, о которой я говорил и которая представляет собой
истинный рай по сравнению с подневольной работой при
капиталистическом строе, людей нельзя просить выполнять сверх того, что
им положено; в противном случае люди буду неодинаково развиты
и в обществе все еще останутся темные пятна.
Здесь я перечислил условия, при которых возможно выполнять
достойную, неунизительную работу: ее нельзя выполнять ни при
каких других условиях. Если труд, взятый в целом во всем мире,
не достоин выполнения и унизителен, говорить о цивилизации будет
издевательством. Так возможно ли обрести эти условия, исповедуя
веру современного капитализма, девизом которого является
«отставшего пусть черт возьмет»? Давайте же взглянем на наше
требование, выраженное в других словах: в справедливо устроенном
обществе каждый желающий трудиться должен быть обеспечен:
во-первых, достойной и подходящей работой, во-вторых, красивым
и благоприятствующим здоровью домом, в-третьих, полным досугом,
предназначенным для физического и умственного отдыха.
Итак, я не сомневаюсь, что здесь не найдется никого, кто станет
отрицать желательность удовлетворения этого требования, но моя
цель — убедить вас в том, что его удовлетворение необходимо, что,
если мы не попытаемся сделать все возможное для его
удовлетворения, то мы так и останемся неотъемлемой частью общества,
основанного на грабеже и несправедливости, приговоренного законами все-
878
ленной разрушить самого себя своими же собственными попытками
существовать вечно. Я также хочу, чтобы вы видели, что
удовлетворение его невозможно при современном господстве плутократии,
которая не позволит нам предпринять никакого серьезного шага
в данном направлении. Начатки социальной Революции должны
стать той основой, на которой будет возрождаться Искусство
Народа, иными словами, наслаждение жизнью. [...]
«Современная книга по эстетике». Антология, М.т
1957, стр. 533—559. Перевод Э. Н. Глаголевой,
В. М. Закладной, Ю. С. Иванова. Редакция
перевода А. В. Парнаха по изд.: Morris W., The
collected works, v. 23, Lond.— New York, 1915,
p. 192-215.
СПЕНСЕР
1820-1903
Философ-позитивист, психолог и социолог Герберт Спенсер — один из
популярнейших буржуазных идеологов второй половины XIX века. Он создал
так называемую «органическую теорию общества», согласно которой жизнь
общества подчинена биологическим законам, а деление его на классы есть
необходимое следствие его жизнедеятельности как биологического организма.
Апологет буржуазного общества, Спенсер пытался оправдать его законы,
используя для их объяснения эволюционную теорию Дарвина.
В области эстетики Спенсер стремился соединить вульгарно истолкованное
учение Канта — Шиллера о связи искусства с игрой с новейшей физиологией и
психологией, которым он, как и другие позитивисты, полностью подчиняет
эстетику. Согласно его толкованию игра является искусственным
упражнением сил, которые при недостатке естественного упражнения ищут себе исхода
в вымышленной деятельности. Искусство, как и игра, бесполезно для
поддержания жизни. Низшие животные затрачивают всю энергию на борьбу за
существование. Чем выше биологическая организация животного, тем
больший избыток энергии остается у него после удовлетворения непосредственных
нужд, и этот остаток расходуется на игру-искусство, цель которого —
удовольствие, но не польза («Основания психологии», 1855). Таким образом, искусство
рассматривается Спенсером как своего рода предмет роскоши, поскольку оно
не служит непосредственному поддержанию жизни.
Отвергая утилитарное объяснение красоты, Спенсер утверждал, что
красиво то, что когда-то было полезно, но уже перестало им быть («Польза и
красота», 1854). Прошлое по контрасту с настоящим кажется, согласно Спенсеру,
«интересным и романтическим», тогда как современные предметы и события
представляются ему «невыгодным сюжетом для искусства».
879
ОСНОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ
Глава IX. Эстетические чувства
Много лет тому назад мне повстречалась цитата из какого-то
немецкого писателя, в которой утверждалось, что эстетические
чувства берут свое начало в тех же импульсах, которые побуждают
к играм. Я не помню имени этого писателя; и я не могу вспомнить,
привел ли он какие-нибудь доводы в пользу этого утверждения и
сделал ли из него какие-нибудь выводы. Но самое утверждение
сохранилось в моей памяти, и я считаю, что оно если и не буквально
справедливо, то по крайней мере правдиво в основном.
Деятельность, называемая игрой, имеет с эстетической
деятельностью одну общую черту: ни та, ни другая не помогают
непосредственно процессам, служащим для поддержания жизни.
Телесные силы, умственные способности, инстинкты, позывы, страсти
и даже те самые высшие чувства, с которыми мы только что имели
дело, имеют своей непосредственной или отдаленной целью
поддержание органического равновесия в индивиде или же сохранение
вида. [...] Но, в то время как первичные действия телесных и
душевных способностей с сопровождающими их приятными ощущениями
удовлетворенности всегда имеют целью некоторые конечные выгоды,
та деятельность этих способностей, которая называется игрой,
а также и та, которая доставляет нам эстетическое удовольствие,
не имеет отношения к конечным выгодам,— то есть ближайшие
цели суть их единственные цели. Правда, что такого рода
деятельность может приводить к конечным выгодам, а именно — к
увеличению силы упражнявшейся способности, и таким образом жизнь,
как целое, может получить от них впоследствии известную пользу.
Этот результат одинаков с результатами, получаемыми при
первичных действиях способностей, но различия между первичными
действиями и вторичными остаются в прежнем виде. Результатом
первичного действия какой-нибудь способности бывает
непосредственное нормальное чувство удовлетворенности плюс сохранение или
увеличение способности вследствие упражнения, плюс достигнутая
объективная цель или выполненное требование. Результатом же
вторичного действия какой-либо способности, обнаруживающегося
в какой-либо игре или в каком-либо эстетическом упражнении,
бывает только непосредственное чувство удовлетворенности плюс
сохранение или увеличение способности вследствие ее упражнения.
Прежде чем заняться эстетическим чувством, которое мы таким
образом описали и выделили среди других, мы должны заглянуть
880
несколько глубже и спросить себя,— откуда берет свое начало
импульс к игре и каким образом появляется дополнительная
деятельность высших способностей, которая проявляется в изящных
искусствах.
Низшие роды животных имеют ту общую им всем черту, что все
их силы расходуются на выполнение отправлений, необходимых для
сохранения жизни. Они беспрерывно заняты поисками пищи,
спасением от врагов, постройкой убежищ и заготовкой крова и пищи
для своего потомства. Но, по мере того как мы поднимаемся к
животным высших типов, имеющим большие и более многочисленные
способности, мы видим, что время и сила не поглощаются у них
сполна на удовлетворение этих непосредственных нужд. [...] Таким
образом, у более высоко развитых животных энергия оказывается
часто в некотором избытке; и то у одной способности, то у другой
оказывается часто известный неизрасходованный остаток сил,
который позволяет после затраты энергии увеличить данную
способность за время ее отдыха. [...] В этом мы имеем объяснение того, что
называют желаниями. Желания суть идеальные чувства,
возникающие тогда, когда реальные чувствования, которым они
соответствуют, не были испытываемы в течение некоторого времени.
Каждая из душевных способностей подчинена этому закону,
состоящему в том, что ее орган, находясь в дремлющем состоянии
дольше обычного, с особой силой стремится к деятельности, к
возбуждению соответствующих чувств,— животное готово в любой
момент начать соответствующую деятельность и охотно
предается, так сказать, представлению действительной деятельности,
когда обстоятельства заставляют заниматься такой
деятельностью вместо настоящей. Отсюда и возникают всякого рода
игры, отсюда это стремление к бесполезному упражнению
способностей, которые долго находились в покое. [...] Игры собак и других
хищных животных состоят из притворной охоты и притворной драки: они
преследуют друг друга, стараются повалить одна другую на землю
и кусают друг друга так сильно, как только смеют. То же самое
можно сказать и о котенке, который гонится за клубком ниток,
заставляет его катиться и затем снова хватает его; прижимается
к полу, точно прячется в засаде и потом вдруг прыгает и бросается
на него; мы видим, что вся эта игра есть не что иное, как
драматическое представление преследования добычи, то есть идеальное
удовлетворение хищных инстинктов вместо реального
удовлетворения. То же самое относится к людям. Игры детей: нянчанье кукол,
игра в гости и так далее — это театральные представления
деятельности взрослых. Игры мальчиков, гоняющихся друг за другом,
борющихся, берущих друг друга в плен, очевидно в некоторой сте-
29 История эстетики, т. III
881
пени удовлетворяют хищные инстинкты. Если мы посмотрим даже
на те детские игры, которые требуют силы или умения, равно как
и на такие же игры взрослых, то мы откроем, что основа всех этих
игр, от первой до последней, та же, что и в предыдущем случае.
Какова бы ни была игра, удовольствие ее заключается в одержании
победы, в торжестве над противником. Эта любовь к победе играет
господствующую роль у всех животных, потому что победа
равносильна успеху в борьбе за существование и находит себе
удовлетворение в победе в шахматной игре, за неимением побед более
грубого свойства. Мало того, нетрудно видеть, что даже игривый
разговор характеризуется тем же самым элементом. В насмешке,
в шутке, в остроумном выражении, в веселой выходке почти
постоянно присутствует одна общая черта: стремление утвердить свое
превосходство и доказать чужую слабость или глупость. Во всей
этой борьбе остроумия чувствуется стремление добиться признания
своего умственного превосходства. Другими словами, эта
деятельность умственных способностей, в которой они употребляются не
с целью руководить нами в наших житейских делах, выполняется
отчасти ради того удовольствия, которое доставляет сама эта
деятельность, а отчасти ради сопутствующего ему удовлетворения
некоторых эгоистических чувств, которые не находят себе в этот
момент другого применения.
Но все то, что справедливо по отношению к телесным силам,
к разрушительным инстинктам и к тем связанным с ними эмоциям,
которые господствуют в жизни, поскольку они принимают прямое
участие в борьбе, поддерживающей жизнь, справедливо и по
отношению ко всем другим способностям. Во время отдыха эти органы
восстанавливаются и поэтому могут стать более возбудимыми,
а когда им нет реального применения, легко могут начать
упражнения искусственного характера, которые заменяют реальные
действия, если они почему-либо невозможны.
Таким образом, высшие, но менее существенные способности,
подобно низшим, но более существенным способностям и силам,
тоже вынуждены заниматься такой деятельностью, которая
выполняется ради непосредственно соединенного с ней удовольствия, без
всякого отношения к более далеким выгодам; эстетические
произведения дают работу этим высшим способностям, как игры — низшим.
Природа и положение эстетических чувств среди других, уже
вырисовывающиеся смутным образом перед нами из всего
предыдущего, станут еще более понятными для нас, когда мы разберем,
почему мы называем некоторые чувства эстетическими, а не как-
882
нибудь иначе. Начав такое рассмотрение с самых простых
ощущений, мы убедимся, что чувство обычно имеет эстетический характер,
если его можно отделить от жизненно важных функций.
Мы почти никогда не приписываем эстетического характера
ощущениям вкуса. Есть очень много вкусных вещей, которыми мы
наслаждаемся, но они ни в малейшей степени не внушают нам идеи
красоты (beauty); даже когда дело идет о различных сладостях,
то хотя мы находим их приятными, мы не находим их
прекрасными в истинном смысле этого слова. Это объясняется тем, что
вкусовые наслаждения очень редко можно отделить от жизненно
важных функций: они сопровождают еду и питье и не отделяются
обыкновенно ни от того ни от другого из этих двух актов. Рассмотрим
теперь удовольствия, доставляемые запахами. Запахи, гораздо
более независимые от жизненно важных функций, становятся
удовольствиями, которых ищут ради них самих; а потому они имеют
в некоторой степени эстетический характер. Если какой-нибудь
прелестный аромат и не доставляет нам вполне яспого эстетического
чувства, он доставляет тем не менее нечто, очень близкое к такому
чувству: когда мы нюхаем цветок, можно различить кроме
самого приятного ощущения и некоторое вторичное смутное
чувство удовольствия. В цветовых ощущениях, которые отстоят еще
дальше от жизненно важных функций, эстетический элемент
становится явным. Хотя различно расположенные цветовые пятна, из
которых составляются наши зрительные восприятия, и являются
признаками, по которым мы узнаем предметы и соответственно
этому направляем наши действия, однако же способность различать
цвета в большинстве случаев вовсе несущественна для
руководства нашими действиями, как это доказывается сравнительно
незначительными неудобствами, которые испытывают люди, неспособные
различать цвета. Поэтому хотя способность различать цвета и
служит для жизни, однако же польза, приносимая этой способностью,
не так велика. Вследствие этого наслаждение, извлекаемое из
деятельности этой способности, деятельности, выполняемой ради нее
самой, становится очень заметным: люди умышленно ищут
наслаждения прекрасными цветами, и идея о прекрасном оказывается очень
прочно ассоциированной с ними. То же самое можно сказать и о
звуках. Способность к восприятию и различению звуков
первоначально помогает приспособлению наших действий к внешним
обстоятельствам; но большинство звуков не настолько важно для
людей, чтобы они, слыша их, должны были действовать так, а не
иначе. Таким образом, слуховая способность очень далека от
служащих для жизни отправлений, а вместе с этим здесь существует
обширная область наслаждений, черпаемых из действий этой спо-
29*
883
собности, не служащих для сохранения жизни. Эти наслаждения
мы относим к разряду эстетических и считаем некоторые тоны
прекрасными.
Я не хочу этим сказать, будто бы всегда, когда способность
ощущения может действовать за пределами сферы полезного
применения, ощущения, приносимые не полезным упражнением,
обязательно имеют эстетический характер; ибо очевидно, что большая
часть обонятельных, зрительных и слуховых ощущений,
полученных в пределах таких неполезных сфер действия, совершенно
лишены эстетического характера. Я хочу сказать только то, что эта
отделимость от жизненно важной функции есть одно из условий
для приобретения эстетического характера. [...]
Дальнейшим доказательством того, что предметом эстетического
сознания являются сами действия независимо от их целей, служит
тот факт, что множество эстетических чувств возбуждается в нас
созерцанием свойств и поступков других людей, реальных или
идеальных. В этих случаях сознание далеко от жизненно важной
функции не просто в том смысле, в каком далеко от него сознание,
сопровождающее игру или наслаждение прекрасным цветом или
звуком; но еще в том смысле, что здесь вещь, созерцаемая нами как
источник удовольствия, не является прямым действием нашего
собственного «я», ни прямым впечатлением, которое она оказывает на
это «я», а есть лишь вторичное впечатление, вызванное созерцанием
поступков, свойств и чувств, известных нам как объективные и
присутствующих в нас только посредством воспроизведения. Здесь
отрыв от жизненно важной функции достигает своей крайней
степени; ибо ни благородная цель, ни поступок, ведущий к этой целя,
ни чувство, побуждающее к этому поступку, не содержат элемента
данного эстетического чувства. Представление этих вещей или,
лучше сказать, некоторых из них — вот все, что может испытывать
здесь субъект эстетического чувства.
Таким образом, высказанная выше гипотеза относительно
эстетических чувств подтверждается вполне. Ибо, как мы видели,
эстетическое возбуждение есть возбуждение, возникающее из
упражнения некоторых способностей, производимого ради самого
упражнения, независимо ни от каких конечных выгод; теперь мы видим
из этих примеров, что понятие о красоте отличается от понятия
о добре тем, что оно относится не к целям, которые должны быть
достигнуты, а к той деятельности, которая имеет место при
достижении целей. В понятии о чем-либо как о хорошем или
справедливом и в соотносительном такому понятию чувстве сознание занято
воспроизведениями и перевоспроизведениями ясного или смутного
884
характера того счастья, специального или общего, к которому
поведет созерцаемая вещь; но в понятии о вещи как об изящной, как
о прекрасной, как об изумительной или как о великой сознание
не занято ни прямо, ни косвенно конечной выгодой, но занято
самой вещью как прямым источником удовольствия. Хотя
во многих случаях это приятное сознание выросло первоначально
из воспроизведения тех выгод, которые должны получиться, тем не
менее оно стало потом приятным сознанием, относящимся прямо
к объекту или действию, независимо от всего остального, и
вследствие этого перешло в класс чувств, который заключает в себе,
с одной стороны, игровую деятельность, а с другой — эстетические
чувства.
Герберт Спенсер, Основания психологии,
Спб., 1897, стр. 412—418. Перевод М. М. Бибилина.
Новая редакция перевода А. В. Парнаха по изд.:
Spencer H., Principles of psychology, Ν. Y.,
1885.
ОПЫТЫ НАУЧНЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ
Польза и красота
Эмерсон в одной из своих статей замечает, что то, что природа
сначала создает для пользы, она впоследствии обращает в
украшение, и в доказательство приводит устройство морской раковины,
у которой части, служившие одно время ртом, в дальнейшем
периоде ее развития принимают форму декоративных бугорков и
рубчиков.
Оставив без внимания заложенную в этой мысли телеологию,
я хочу сказать, что мне часто приходило на мысль, что то же самое
положение может быть распространено и на развитие человечества.
Здесь также предмет, служащий полезным целям в одну эпоху,
становится украшением в последующую. В области государственных
институтов, верований, обычаев и предрассудков мы тоже можем
вспомнить, как прекрасное развивалось из того, что прежде
служило исключительно полезным целям.
Прежде всего нам, естественно, представляется контраст между
ощущением, с которым мы смотрим на девственную природу, и
ощущением, с которым смотрел на нее дикарь. Если вы, гуляя по Гемп-
стед Гиз, обратите внимание на то, как выделяется эта пустошь
своей живописностью на фоне окружающих ее обработанных полей
885
и множества домов, расположенных в отдалении, вам легко
представить себе, что если бы это неровное, покрытое бурьяном
пространство тянулось до горизонта, оно скорее показалось бы
печальным и прозаичным, нежели приятным, и вы поймете, что местность,
покрытая такой растительностью, первобытному человеку совсем
не казалась красивой. В его глазах она просто была местом, где
водились дикие животные, и почвой, из которой он мог добывать
себе корни. Там, где мы отдыхаем, гуляем после обеда и собираем
цветы, он трудился и добывал себе пищу, и это место, вероятно,
вызывало в его сознании только утилитарные ассоциации.
Развалины замков представляют очевидный пример этого
превращения полезного в прекрасное. Для феодальных баронов и их
ленников безопасность была главной, если не единственной целью,
которой они добивались при выборе местоположения и стиля замков.
Они, вероятно, заботились о красоте построек не больше, чем
строители доходных домов в наших современных городах. А между тем
то, что прежде воздвигнуто было для защиты и безопасности
и имело важное значение в общественной экономике, стало теперь
простой декорацией. Замки эти служат теперь местом, где
устраивают пикники, изображения их украшают наши гостиные, и каждый
из них служит предметом святочных рассказов.
Продолжая эту мысль, мы придем к выводу, что если
вещественные остатки отживших обществ украшают наши пейзажи, то и
описания костюмов, нравов и общего уклада их жизни служат
украшением нашей литературы. Тирания была тяжелой и гнетущей
действительностью для рабов, страдавших от нее; вооруженные
раздоры были весьма реальным делом жизни и смерти тех, кто
участвовал в них; кольчуга, рвы и караулы наводили скуку на
рыцарей; заточения и пытки представляли собой такую же суровую
и вполне прозаическую действительность для тех, кто подвергался
им; а нам все это послужило материалом для романтических
повестей, материалом, который, будучи вплетен в «Айвенго» и «Мармио-
на», служит усладой в часы досуга и становится поэтическим
вследствие контраста с нашей повседневной жизнью.
Совершенно то же бывает и с отжившими верованиями. Стон-
хендж — каменные сооружения, предмет поклонения друидов, теперь
привлекают любителей древности, а сами друиды сделались героями
опер. Греческие изваяния, которые за красоту свою сохраняются
в наших художественных галереях и копии которых служат
украшением общественных мест и входов в наши залы, некогда считались
божествами, требовавшими повиновения; подобную же роль играли
886
некогда и те чудовищные идолы, которые теперь забавляют
посетителей наших музеев.
Подобная же перемена замечается и в отношении суеверий.
Волшебство, которое в прошедшие времена было предметом
глубокого верования и имело влияние на народную нравственность,
послужило впоследствии материалом для «Сна в летнюю ночь»,
«Бури», «Королевы фей» и множества рассказов и стихотворений;
оно и до сих пор служит сюжетом для детских сказок, балетов
и завязок комических сочинений Планше. Подземные духи,
джины и чудовища уже не страшат нас, а сделались предметом
остроумных гравюр в иллюстрированном издании «Сказок 1001
ночи». Между тем повести о привидениях и рассказы о волшебстве
и чародействе, забавляя детей в часы досуга, в то же время дают
повод к шуточным намекам, оживляющим наш разговор за чайным
столом.
Даже наша серьезная литература и наши речи нередко
пользуются украшениями, взятыми из подобных источников. Чтобы
избежать монотонности при какой-нибудь серьезной аргументации,
часто вспоминают греческий миф. Лектор скрашивает однообразие
своего объяснения примерами древних обычаев, происшествий и
верований. Подобные же метафоры придают блеск политическим
выступлениям и передовым статьям «Тайме».
Мне кажется, что внимательное исследование показало бы, что
мы обращаем в украшения большинство явлений прошлого, которые
хоть чем-то замечательны. Бюсты великих людей, стоящие в наших
библиотеках, и их гробницы — в наших церквах; предметы, некогда
бывшие полезными, а теперь ставшие чисто орнаментальными;
монахи, монахини и монастыри, украшающие известного рода
рассказы; средневековые воины, вылитые из бронзы и украшающие
наши гостиные; золотой Аполлон на часах; повествования,
служащие завязкой для наших великих драм, и происшествия,
дающие сюжеты для исторической живописи,— эти и еще другие
примеры превращения полезного в прекрасное так многочисленны, что
положительно убеждают нас, что почти каждый в каком-либо
отношении замечательный в прошлом предмет принял теперь
декоративный характер.
Заговорив здесь об исторической живописи, я подумал, что из
этих соображений можно сделать некоторый вывод относительно
выбора сюжетов в этом искусстве. В последние годы наших
исторических живописцев часто порицают за то, что они берут свои сюжеты
из истории прошедших времен; говорят, что они положили бы
начало оригинальной и жизненной школе, если бы передавали
на холсте жизнь, дела и стремления своего времени. Но если
887
все, что я говорил выше, верно, то едва ли это порицание
справедливо. Если верно то, что все, что служило практическим целям
в обществе в течение одной эпохи, становится украшением в
последующей, то до известной степени верно заключить, что то, что
имеет какое-нибудь практическое значение в настоящее время или
имело такое значение в очень недавнее время, не имеет характера
украшения и, следовательно, не может служить никаким целям
красоты и не может считаться красивым.
Это заключение окажется еще основательнее, если мы
рассмотрим самое свойство процесса, по которому полезное превращается
в декоративное. Необходимое условие всякой красоты — контраст.
Для того чтобы получить художественный эффект, свет нужно
располагать рядом с тенью, яркие цвета — с темными, выпуклые
поверхности — с плоскими. В музыке отрывки, играемые форте,
должны сменяться и разнообразиться тихими, а пьесы хоровые —
соло; богатые аккорды не должны постоянно повторяться. В драме
мы требуем разнообразия в характерах, положениях, чувствах и
стиле. В прозаическом сочинении красноречивое место должно
выделяться на фоне простого рассказа, в поэмах достигается
значительный эффект изменением размера. Мне кажется, что это общее
положение объясняет, почему то, что в прошлом было полезным,
в наше время считается прекрасным. Жизнь прошлого кажется нам
интересной и романтической только по контрасту с нашим
теперешним образом жизни. Точно так же и пикник, который на минуту
возвращает нас к первобытному состоянию, приобретает для нас
нечто поэтическое, но если бы нам пришлось жить в такой
обстановке изо дня в день, мы бы не находили в нем ничего
поэтического; таким образом, все древнее становится интересным по
относительной новизне своей для нас. По мере того как вместе с
развитием общества мы постепенно удаляемся от привычек, нравов, уклада
жизни и всех материальных и умственных продуктов прошедших
веков, и по мере того как возрастает разница между прошлым и
настоящим,— все это начинает постепенно принимать для нас
поэтический характер и становится украшением. Поэтому вещи и
события, близкие нам, влекущие за собой сцепление идей, которые не
представляют значительного контраста с нашими ежедневными
представлениями, являются относительно неподходящим сюжетом для
искусства. Герберт Спенсер, Опыты научные,
политические и философские, т. П. Спб., 1899, стр. 144—
147. Новая редакция перевода А. В. Парнаха по
изд.: Н. Spencer, Essays scientifics, political
and speculative, v. 1, Lond.— Edinbourgh, 1868.
888
БЕЙН
1818-1903
Александр Бейн приобрел известность как крупнейший педагог и
психолог, продолжатель эмпирической психологии Локка. Шотландец по
происхождению, он в начале трудовой деятельности был простым ткачом. В 1836 году
Бейн поступил в колледж и, еще будучи студентом, начал сотрудничать в
журналах. Через Дж. С. Милля, крупнейшего политэконома своего времени, Бейн
сблизился с многими видными учеными и философами. С 1860 года он занимал
кафедру логики и английского языка в Эбердинском университете. В этот
период им написан ряд учебников по грамматике и риторике.
Как психолог Бейн уделял основное внимание установлению зависимостей
между физиологическими процессами и психическими явлениями.
Под «эстетическими чувствами», рассмотрению которых уделено
значительное место в работах «Чувство и воля» (1859) и «Наука об уме и
нравственности» (1868), Бейн понимает главным образом чувства, возбуждаемые
действием изящных искусств. Противопоставляя вслед за Спенсером прекрасное
полезному, Бейн устанавливает следующие (по существу негативные)
признаки предметов, вызывающих эстетические чувства, в отличие от предметов,
связанных с поддержанием жизни: 1) они не служат сохранению
существования, а имеют целью своей — удовольствие; 2) чистота их не нарушается
никакими неприятными сопровождающими элементами; 3) доставляемое ими
удовольствие доступно одновременно многим лицам. Бейн считал глаза и уши
главными проводниками эстетических чувств и уделил большое внимание
исследованию звуковых и цветовых сочетаний.
В отличие от Спенсера, Бейн не отрицал общественного значения искусства,
но сводил его к очень узкой сфере воздействий: к смягчению и успокоению
страстей в человеке.
Эстетические взгляды Бейна получили в Англии большое распространение
в конце XIX века.
ЧУВСТВО И ВОЛЯ
Глава XIV. Эстетические эмоции
1. Под этим термином я понимаю те наши чувства, которые связаны с
различными видами изящных искусств и соответствуют группе удовольствий,
определенной пока еще недостаточно четко, но тем не менее во многом отличной от
других наших удовольствий. С давних пор считается, что прекрасное и
полезное, искусство и промышленность существенно отличаются друг от друга.
Вполне понятно, что мы вправе спросить, в чем же состоит это различие.
Наслаждения, которые мы испытываем, утоляя голод или жажду или
удовлетворяя так называемые чувственные потребности нашего организма, не входят
в рассматриваемую нами группу и фактически даже противостоят ей по
целому ряду вполне определенных причин. Прежде всего, в силу нашей
физической конституции все эти физиологические функции нашего организма, хотя
подчас и доставляют нам удовольствие, предназначены главным образом для под-
889
держания жизни и в первую очередь осуществляются именно с этой целью, а
потому не обязательно относятся к наслаждениям как таковым. Во-вторых, они
сопровождаются выработкой нашим организмом продуктов, вызывающих в нас
отвращение, что лишает их чистоты, свойственной источнику удовольствия.
В-третьих, их воздействие ограничивается исключительно одним индивидуумом,
ибо добрая компания за столом — лишь сопутствующее обстоятельство. Два
человека не могут одновременно вкушать один и тот же кусок пищи или
глоток вина. Таким образом, те удовольствия, которые мы испытываем при
наличии одного или более перечисленных выше условий, можно в значительной
степени отнести к категории полезного и считать их целью промышленности,
но они отнюдь не принадлежат к группе эстетических удовольствий. Так же
и средства, которые мы применяем, чтобы уберечь себя от боли, болезней
и смерти (то есть наши одежда, жилища, ограды, набережные, громоотводы,
лекарства и хирургия) и которые, по существу, не заключают в себе ничего
приятного, относятся к категории полезного. Таким образом, уход за нашим
телом и развитие наших умственных способностей не заключает в себе ничего
приятного, а часто даже наоборот. Богатство не подходит к рассматриваемой
нами группе удовольствий по третьему условию, ибо, материализуясь в виде
денег, оно целиком сосредоточивается в руках одного-единственного владельца.
То же самое относится к власти и высокому положению, удовольствие от
которых нельзя разделить со многими людьми, так же как и распространить на
многих,.за одним исключением, о котором речь впереди. Чувство любви в
большей или меньшей степени относится к той же самой категории: оно не
распространяется на большое количество людей. Таким образом, все, что
ограничено по своей сфере воздействия одним лицом, являясь его личной
принадлежностью, все, что способно вызывать ревность и зависть, не принадлежит к
категории тех удовольствий, которые стремится дать нам художник. В
противоположность им существуют, однако, такие предметы, основная цель
существования которых — доставить нам наслаждение, причем они не вызывают в нас
никаких сопутствующих неприятных или отталкивающих ощущений и
наслаждение ими не ограничивается одним человеком. Это, несомненно, подымает
такие предметы на более высокую ступень, и, хотя, возможно, их действие
ощущается нами менее сильно, чем тех других, принадлежащих к группе
индивидуальных удовольствий, широта их воздействия делает их столь же ценными
для нас, как воздух или свет, которыми могут наслаждаться все люди без
исключения.
2. Глаз и ухо — вот те главные каналы, по которым эстетические
воздействия передаются в наш мозг; все другие органы чувств в большей или
меньшей степени служат группе индивидуальных наслаждений. Синее небо,
зеленые леса, прелестный ландшафт ласкают взор несметного числа восторженных
зрителей. То же справедливо и в отношении приятных звуков, воздействие
которых можно, правда, искусственно ограничить одним человеком, но которые
по природе своей способны доставлять наслаждение бесконечному множеству
слушателей. [...]
3. Физическая сила и различные чувственные наслаждения могут быть
введены в сферу прекрасного не сами по себе, а лишь в виде отвлеченных
идей. Художник или поэт может изобразить пир, и созданная им картина
доставит нам удовольствие. Воспринятые на известном расстоянии, предметы
чувственного наслаждения приобретают эстетическое значение. Они очищены
от тех перечисленных нами выше элементов, которые лишили бы их права быть
причисленными к сфере прекрасного. В этом своем новом виде они уже не
служат удовлетворению жизненных потребностей; сопутствующие им
неприятные явления не присутствуют в картине; и, наконец, они уже не являются
исключительной собственностью одного потребителя. То же самое относится
890
к богатству, власти, знатности и чувству любви, которые в реальной жизни не
могут одновременно быть достоянием многих, что является неотъемлемым
свойством эстетического наслаждения. Однако зрелище богатства, власти
и т. д., сосредоточенных в руках отдельных избранных, может доставлять нам
удовольствие, как зрелище оно становится предметом наслаждения, которое
распространяется уже на многих. [...]
4. С первых дней возникновения философской мысли вопрос о природе
прекрасного являлся предметом споров. В беседах Сократа, в восстановленных
впоследствии диалогах Платона вопрос о прекрасном рассматривался в одном
ряду с другими столь важными проблемами, как вопрос о добре,
справедливости и должном. Большинство мыслителей исходило из неправильных
предпосылок, и это делало их рассуждения бесплодными. Они исходили из того
предположения, что существует какой-то идеальный абсолют, входящий в
качестве обязательного компонента во все предметы, которые мы называем
прекрасными. Однако, если не считать самого чувства прекрасного, которое, надо
полагать, носит в известной мере всеобщий характер (уже хотя бы потому, что
всегда обозначается нами одним словом), в природе не существует такого
единого качества, которое было бы общим для всего того, что прекрасно. Если
такое качество действительно существовало бы в природе, мы, по всей
вероятности, уж как-нибудь обнаружили бы его за истекшие две тысячи лет. Тем не
менее даже сама попытка найти всеобщий признак прекрасного ни к чему не
привела, так же как и многие другие сходные попытки, предпринятые в
результате той же ложной посылки найти какое-то единое всеобщее начало,
лежащее в основе всех явлений природы. В настоящее время человечество
склонно принять доктрину о «множественности причин» для объяснения явлений
природы, и примеры этой множественности столь же разнообразны, как и
общеизвестны. [...]
5. Возвышенное, красота, изящество, гармония, мелодия, идеальное,
живописное, пропорция, порядок, соответствие и согласованность — все эти качества,
хотя и не все из них целиком отвечают понятию прекрасного, тесно связаны
с той группой удовольствий, которые мы здесь рассматриваем, и совершенно
очевидно, что мы не можем назвать такое явление, которое объединяло бы
в себе все качества, выражаемые этими разнообразными понятиями.
Существует, вероятно, огромное множество причин, которые вызывают у нас то или
иное из указанных выше впечатлений, связанных между собой только тем, что
все они принадлежат к сфере прекрасного. Некоторые из этих терминов,
несомненно, обозначают более или менее одно и то же и частично являются
синонимами, как, например, красота и изящество, или пропорция, согласованность
и соответствие, но ни один из них полностью не покрывает другой, ибо
понятия, которые мы вкладываем в слова «возвышенное», «красота», «живописное»,
«соответствие» или «смешное», четко различаются друг от друга. [...]
6. Из вышесказанного должно быть ясно, что я отнюдь не ставлю своей
целью дать какое-то единое всеобъемлющее обобщение; моя цель — указать
известное число определенных связанных между собой групп, которые,
по-видимому, смогут охватить отдельные черты прекрасного. При самом горячем
желании унифицировать все встречающиеся нам качества прекрасного я не вижу
никакой возможности довести их классификацию до такой степени, чтобы
охватить все без исключения упомянутые выше объекты, распределив их по
какому-то даже небольшому числу разрядов. В высоком произведении поэзии или
прозы — в «Илиаде», в «Макбете», в «Дон-Кихоте», в романах Вальтера Скотта,
Бульвера или Бальзака — мы соприкасаемся с таким множеством и
разнообразием элементов прекрасного, находящихся в гармоническом сочетании друг
с другом, что было бы скорее вредно, чем полезно, как для психологии, так и
для литературной критики пытаться свести все многообразные возбудители
891
чувства прекрасного, собранные в каждом из этих произведений, к какой-то
придуманной нами всеобщей категории. [...]
8. Теперь перейдем к вопросу о роли интеллекта в формировании
эстетических эмоций. Как я уже указывал, ощущения низшего порядка могут быть
возведены в класс идеальных удовольствий. Когда физические упражнения и
связанные с ними отдых или утомление разделяются нами только мысленно,
как, например, когда мы наблюдаем за гимнастическими трюками, танцами,
катанием на коньках и т. п., они становятся источником более утонченного
интереса. Как мысленные образы они уже не связаны только с одним
человеком, а потому могут воздействовать на любое число людей, иначе говоря, они
приобретают новое качество — широту охвата,— столь существенное для
искусства. Подобным образом любое физиологическое ощущение может быть
возвышено до эстетического чувства. Пока эти ощущения остаются частью наших
действительных переживаний, будь то в настоящем, прошедшем или будуще?л,
они не принадлежат к разряду эстетических эмоций, но коль скоро они
начинают рассматриваться извне и утрачивают качество индивидуального
переживания, ограниченного одним человеком, они могут стать предметом
художественного изображения. Так, интерес, который мы проявляем к пище и к
поддержанию жизни, как таковым, может носить всеобщий характер. Все образы,
вызывающие в нас представление о чистом свежем воздухе, наводящие нас на
воспоминание о том, как легко и свободно в нем дышится, представляют для
нас огромный интерес и в то же время являются достаточно возвышенными,
чтобы служить предметом для художественного воплощения. В
действительности едва ли художник мог бы достичь большего успеха, чем изображая
сцены, вызывающие в нас эти чувства. Наслаждение, получаемое нами от
реальных тепла или прохлады, является, так сказать, чувственным, но коль скоро
они воспринимаются нами мысленно и вызываются в нашем уме рядом
ассоциаций, как, например, цветом, светом, тенью, оно приобретает характер
утонченной эстетической эмоции. Когда мы сами принимаем пищу или испытываем
голод — это ощущение низшего порядка, хотя, возможно, мы и переживаем
его весьма остро, однако, когда мы мысленно воспринимаем известную сцену,
в которой Санчо Пансу оставляют без обеда по приказу врача, мы испытываем
интерес, принадлежащий к высшей сфере всеобщего. Бескорыстное сочувствие,
которое мы испытываем, изменяет характер чисто чувственных ощущений,
придавая им идеальное значение, и в этом своем новом качестве они могут
доставлять удовольствие любому человеку.
Внешние проявления чистоты или отсутствие всего того, что вызывает
чувство отвращения, всегда приятны, ибо свидетельствуют о свободе от
глубоко укоренившейся нужды. Приятные запахи, когда их описывает художник,
также относятся к рассматриваемой нами группе. Так, в поэзии Гомера
встречается описание благоуханных персей Андромахи и Афродиты. Особенно
велика роль представлений, вызываемых в нашем сознании, когда дело
касается эстетизации чувства осязания. Теплое, нежное, мягкое прикосновение
может быть воспроизведено как идеальный образ, обращенный к нашему
зрению, например, в картине, и в этом случае оно доставляет нам чисто
эстетическое наслаждение. Все объекты, воспринимаемые нами посредством слуха и
зрения, которые уже по своей природе способны доставлять удовольствие
одновременно многим людям, приобретают более возвышенный и утонченный
характер» если они представлены нам в виде идеальных образов, как, например,
когда писатель или поэт рисует перед нашим мысленным взором картины,
изображающие красоты природы. Все, что сообщает объектам эстетического
наслаждения более интеллектуальный характер, при условии, что они при этом
продолжают оставаться доступными восприятию многих людей, подымает их
на более высокую ступень, ибо широта охвата их намного увеличивается..
892
Отсюда превосходство литературы над всеми другими видами изящных
искусств.
9. Применяя уже упомянутый критерий, мы легко можем прийти к выводу
относительно того, в какой мере те или иные простые эмоции, о которых шла
речь в предшествующих главах, могут быть использованы в области
художественного воспроизведения. [...]
Любовь представляет собой в высшей степени благодарный материал для
художественного изображения, ибо она немало занимает умы большинства
людей и к тому же доставляет им большое число и разнообразие удовольствий.
Единственное, что требуется от художника,—придать этому чувству
идеальный характер, уничтожив все то, что характеризует его как сугубо
индивидуальное, привязанное к одному человеку. Любовь родителя к своему ребенку
есть чувство сугубо личное, но чувства, вызываемые в нас статуей Лаокоона,
являются всеобщими и эстетическими. [...] Чувство гнева в некоторых аспектах
его проявления также может служить материалом для художника. Когда мы
оправдываем причину, вызвавшую вспышку гнева, нам доставляет
удовольствие мысленно сопереживать с героем [...] Даже страх, хотя в этом чувстве
проявляется слабость человеческой натуры, можно изобразить таким образом,
что это изображение доставит нам эстетическое удовольствие. [...]
10. Особое внимание следует уделить [...] влечениям разума. Стремление
к истине и постоянству, любовь к знанию и наукам, несомненно, в высшей
степени заслуживают того, чтобы поставить их на одну ступень с
эстетическими эмоциями при условии, что они не противоречат понятиям достоинства
и утонченности. Все охотно соглашаются с тем, что нет ничего более широкого
по охвату и более доступного всем, чем влечения нашего разума. Однако, к
сожалению, им свойственны два качества, которые, при современном устройстве
человека, мешают ввести их в сферу эстетического. Во-первых, занятия наукой
требуют длительной предварительной подготовки, которую способно одолеть
лишь незначительное число людей. Во-вторых, истина столь же мало является
источником чистого удовольствия, как хирургическая операция или строгая
дисциплина, и доставлять нам наслаждение отнюдь не входит в ее цели. Лю-
Оая истина, которая не попадает под действие этих двух условий, с успехом
может использоваться художником или теми, кто ставит себе целью
развлекать нас. [...] Однако высокое научное знание явно выходит за пределы
искусства, точно так же как высокохудожественная форма не вмещается в рамки
науки. Будь это иначе, человечество неимоверно много выиграло бы. Если бы
все то, что дает нам точные знания о мире, было бы доступно разуму всех
и каждого, и если бы к тому же составляло источник легкого и приятного
развлечения, человечество было бы избавлено от многих трудов и испытаний и
двинулось бы семимильными шагами по пути к счастью и полной безопасности.
A. Bain, The Emotions and the Will, Lond., 1859,
p. 210—222. Перевод О. А. Пожежинской.
АЛЛЕН
1848-1899
Писатель и психолог Грант Аллен принадлежит к младшему поколению
английских позитивистов. В его работах «Физиологическая эстетика» (1877) и
«Чувство цвета» (1879) разрабатываются вопросы, выдвинутые Гербертом Спен-
893
сером. Аллен пытается установить физиологические основы эстетических
чувств, исходя из психических состояний удовольствия и неудовольствия. Под
удовольствием он понимает такое раздражение нервной системы, которое
полезно организму, под неудовольствием — раздражение, вредное для организма.
Эстетическим удовольствием Аллен считает удовольствие, доставляемое
органами зрения и слуха, как высшими органами чувств, не связанными
непосредственно с поддержанием жизнедеятельности и способными выдержать
длительную нагрузку разнообразными и сложными впечатлениями. Гранту Аллену
принадлежит формула, выражающая сущность эстетики позитивизма:
«Эстетически прекрасным является то, что дает нам максимум возбуждения при
минимальной усталости или трате энергии» К
Развивая теорию Спенсера о родстве искусства и игры, Аллен
разграничивает игру и искусство, указывая, что первая упражняет активные,
деятельные способности человека, второе же — пассивные и созерцательные.
Основным пороком эстетического учения Аллена, как и других
позитивистов, является игнорирование социальной обусловленности эстетических
эмоций. Однако здесь Аллен не до конца последователен. В своих рассуждениях
о вкусе, который он ставит в зависимость от нервной организации
индивидуума, он говорит о возможности воспитания вкуса, тем самым признавая
значение социального фактора.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА
Глава III. Отличительные признаки эстетики
§ 1. Работа и игра
[...] Из положений, изложенных в предшествующей главе, само
собой вытекает, что большая часть испытываемых нами
удовольствий и страданий самым непосредственным образом связана с
необходимыми жизненными функциями. Самые жестокие страдания
являются следствием насильственного разрушения какой-либо
чувствительной ткани, что особенно важно, если принять во внимание,
что человеческое тело представляет собой самосохраняющийся
механизм.
Самые сильные физические удовольствия проистекают из
нормального количества действия при протекании наиболее важных
процессов организма, иначе говоря, при протекании таких
процессов, которые непосредственным образом участвуют в поддержании
жизни как отдельного индивидуума, так и целого вида. Наиболее
значительные из этих процессов — это принятие пищи, то есть ве-
1Grant Allen, Physiological aesthetics, Lond., 1877, p. 39.
894
ществ, которые служат свежим источником энергии, что
представляет собой необходимое условие поддержания жизни организма,
а также акт произведения потомства, являющийся необходимым
условием продолжения жизни вида. Таким образом, мы можем прийти
к выводу, что процесс принятия питья и пищи, а также акт
воспроизводства должны представлять собой два наиболее сильных вида
физического удовольствия, на которые способна природа человека,
и если мы поинтересуемся неприукрашенным мнением всего
человеческого рода, мы увидим, что именно таковыми они и
считаются.
[...] Если мы будем рассматривать обычные условия жизни
человека, мы увидим, что большая часть нашей жизни прямо или
косвенно расходуется на удовлетворение этих необходимых
физиологических потребностей. Обычной участью человека является работа,
причем главная цель работы — добывание пищи, одежды, крова,
топлива и других предметов первой необходимости.
[...] Деятельность этого рода может иногда доставлять
удовольствие от упражнения органов тела, но может также вызывать
страдание от их утомления. Однако эта деятельность производится не
ради непосредственного удовольствия. Пружиной, приводящей
организм в действие, является жизненная функция, которой эта
деятельность служит, а удовлетворение, если таковое вообще
ощущается, лишь сопутствует результату действия. Работа в конечном
итоге способствует получению сильных физиологических
удовольствий, однако по большей части она осуществляется без каких бы то
ни было непосредственных приятных ощущений. Существует, однако,
другой род деятельности, предпринимаемой без какой бы то ни было
специальной цели, а исключительно ради удовлетворения, которое
приносит сама эта деятельность. Всякие такие относительно
бесцельные упражнения могут быть в общих чертах определены как
игра. Посмотрим, из чего они проистекают.
Всякая нервная ткань в периоды отдыха непрерывно
восстанавливается. Если восстановление продолжается в течение
определенного периода без разрядки, ткань приходит в состояние высокой
активности и накапливает чрезвычайно большой запас потенциальной
энергии. При этом достаточно самого ничтожного толчка, чтобы эта
потенциальная энергия превратилась в кинетическую. Если
вытекающая из этого деятельность имеет своим результатом накопление
извне продуктов, необходимых организму, или какую-либо иную
функцию, служащую поддержанию жизни, то процесс будет
относиться к виду деятельности, который мы в общих чертах
классифицируем как работу. Однако в целом ряде случаев организм как
единое целое не требует специальной разрядки, о которой мы говорили
895
выше, к тому же соответствующий объект может отсутствовать, и
тогда разрядка имеет своим результатом более или менее
бесцельную деятельность, которая не содействует жизненным процессам,
но» будучи нормальным проявлением действия нервной ткани,
получающей необходимое количество питательных веществ,
естественно сопровождается легким ощущением удовольствия. Когда это
удовольствие является осознанным стимулятором действия,
деятельность, которую оно стимулирует, представляет собой игру.
Если же орган, обеспеченный необходимыми питательными
веществами, не получает потребного ему количества действия в связи
с жизненными процессами, у него самопроизвольно возникает
стремление к действию, направленному на какой-либо подходящий
объект. Это стремление связано с наличием досуга (свободного времени
сверх того, что расходуется на работу, а также сон или отдых),
который может быть использован для деятельности помимо той,
которая требуется для поддержания жизни. Здесь возможны два рода
импульсов — от одних происходит игра, от других искусство и
эстетические удовольствия. Для обоих этих родов характерно, что они
далеки от деятельности, необходимой для поддержания жизни, и что
получение удовольствия является их непосредственной целью.
Посмотрим теперь, чем они отличаются друг от друга.
§ 2. Эстетическое удовольствие и его отличие от игры,
как таковой
Жизнь человека, как и всякого другого организма, протекает
в непрерывном общении с окружающей средой. Окружающая среда
воздействует на организм, а этот последний, в свою очередь,
воздействует на окружающую среду. Из этого проистекают две
основные стороны нашей психики — пассивная и активная: разница
между ними отражена в нервной системе наличием чувствительных и
двигательных нервных волокон и их центральных органов. С
пассивной стороной нашей натуры связаны органы и способности
зрения, слуха, осязания, вкуса, обоняния и вообще чувствительности
организма. С активной стороной связана система мышц и нервы,
которые ею управляют. В этом исконном различии мы видим основу
установленного нами различия между игрой и эстетическими
чувствами. Первая активна, вторые пассивны.
Если мы упражняем наши члены и мускулы не ради какой-либо
жизненно важной цели, но исключительно ради удовольствия,
которое дает нам само упражнение, наше занятие называется игрой.
Если мы подобным же образом упражняем наши глаза или уши,
то вытекающее из этого удовольствие называется эстетическим чув-
896
ством. В обоих случаях удовольствие сопутствует действию
обеспеченного необходимым питанием и не утомленного работой
органа; однако в последнем случае оно проявляется в виде восприятия,
а в первом в виде реакции. Таким образом, эстетическое
удовольствие можно предварительно определить как вторичный результат
нормального количества действия в периферических концевых
органах цереброспинальной нервной системы, не связанной
непосредственно с функциями жизнедеятельности. [...]
§ 3. Прочие признаки эстетических чувств
[...] В своей массе вид и звук, как мы показали выше, нейтраль-
ны [...]. Однако если мы сосредоточиваем внимание на каком-либо
виде или звуке с целью сознательно определить их эстетическую
ценность или, иными словами, чтобы определить, прекрасны они
или уродливы, мы обнаружим, что почти во всех случаях они в
какой-то мере приближаются либо к первому, либо ко второму. [...]
Однако мы также находида, что, воспринимая различные объекты
как прекрасные или уродливые, мы не осознаем впечатлений,
которые они на нас производят, как приятные или неприятные. Из этого
явного парадокса, который на первый взгляд противоречит нашему
основному принципу, мы можем получить несколько
дополнительных фактов об эстетических чувствах.
Прежде всего мы видим, что в обычных случаях эстетическое
качество объектов выражено настолько слабо, что только
натренированное внимание может отчетливо донести его до нашего
сознания... Таким образом, мы можем прийти к выводу, что в тех
случаях, когда отчетливо ощущается удовольствие, суммарное
количество ощущений, доставляющих это удовольствие, должно быть
весьма значительным, а их действие — кумулятивным; наблюдения
показывают, что так оно и есть в действительности.
[...] Далее, поскольку удовольствие или страдание, которые
вызываются отдельными элементами вида или звука, настолько слабы,
что для их восприятия требуется особая направленность внимания,
то есть одной из способностей нашего интеллекта и воли, то в
большинстве случаев объекты, вызывающие указанные чувства,
воспринимаются как прекрасные или уродливые лишь интеллектом, не
будучи в сколько-нибудь заметной степени приятными или
неприятными. Только когда эмоциональная волна чрезвычайно сильна,
как, например, когда перед нами прекрасный ландшафт,
величественные картины, благородное музыкальное произведение,
красивая женщина или же нищая улица, жалкое бренчание, грязный и
отвратительный уродливый человек, эмоциональный элемент берет
897
в сознании верх над интеллектуальным. Таким образом создается
кажущаяся объективность красоты и уродства. Само по себе
чувство слишком слабо эмоционально окрашено, чтобы можно было
отнести его за счет одних только внутренних процессов.
Теперь мы ясно видим, каким путем можно прийти к
установлению основного принципа, который определяет главную
отличительную особенность эстетических чувств. Эстетически прекрасное
это то, что дает максимум возбуждения при минимуме утомления
или истощения при процессах, не находящихся в непосредственной
связи с жизненными функциями. Эстетически уродливое это то, что
оказывает прямо противоположное действие,— то, что дает малую
степень возбуждения или требует избыточной истощающей работы
определенных органов человеческого тела. Однако, поскольку в
обоих случаях эмоциональный элемент является слабым, он
воспринимается преимущественно интеллектом. Таким образом, мы
приходим к мысли, что эстетические чувства — это нечто благородное и
возвышенное, поскольку они не являются отчетливо связанными
с какой-либо жизненной функцией.
[...] И, наконец, [...] из того, что они лишь отдаленно связаны
с жизненными функциями, следует, что они могут доставлять
удовольствие тысячам людей, не умаляя при этом наслаждения
каждого из них. Как говорит профессор Бейн:
«Произведения изящного искусства и все объекты, называемые
эстетическими, таковы, что могут доставлять наслаждение
большому количеству людей; некоторые из них доступны всему
человеческому роду. Они свободны от фатального привкуса, соперничества
и состязания, присущего другим видам удовольствий, они
сплачивают людей, создавая взаимопонимание; благодаря этому они
являются в высшей степени общественными и очеловечивающими.
Картину или статую могут рассматривать миллионы людей; великая
поэма доступна всем знающим язык, на котором она написана;
прекрасная мелодия может приносить удовольствие людям на всем
земном шаре. Закат солнца и звезды скрыты только от узников и от
слепых...»
§ 4. Эстетический вкус
В этой части нашей работы мы сталкиваемся с затруднением,
которое заставило, многих исследователей отказаться οι мысли о
научной разработке эстетики; это затруднение состоит в том, что
в вопросе об эстетической категории, которую называют вкусом,
существует бесконечное множество самых разнообразных мнений.
Легко может возникнуть вопрос: «Как можно дать определение
чувствам, которые у двух человек почти никогда не бывают абсо-
898
лютно одинаковыми?» К тому же против нашего истолкования
можно возразить, что, если понятия красоты и уродства имеют
физиологическое происхождение, они должны были бы быть
одинаковыми у всех индивидуумов. Однако мы можем естественным образом
принять a priori, что поскольку нервная организация у различных
людей бесконечно варьируется в мельчайших деталях и поскольку
эстетические чувства представляют собой кумулятивное действие
множества бесконечно малых физиологических факторов, понятия
красоты и уродства должны колебаться в пределах, обусловленных
различиями в структуре нервной системы.
[...] Как мы можем привести эти разнообразные случаи в
согласие с понятием науки эстетики? Очень просто. Несмотря на
незначительные колебания, о которых мы здесь говорили, у
подавляющего большинства людей подавляющее большинство чувств в равной
мере вызывает либо удовольствие, либо страдание. Для каждого
среднего индивидуума сладкое приятно, а горькое неприятно;
свежее мясо нравится, а разлагающееся мясо вызывает отвращение,
духи доставляют удовольствие, а вонь вызывает неприятное
чувство,— мы не говорим здесь о незначительных отклонениях в
определенных деталях, не играющих существенной роли. То же самое
можно сказать и о видах природы и звуках: если не принимать во
внимание случаи резкого отклонения от нормы, то все люди
наслаждаются зрелищем заката солнца и радуги, бабочками и цветами,
горами и водопадами, пением птиц и незамысловатыми мелодиями,
хотя степень наслаждения у разных людей отнюдь не одинакова.
Если бы это было не так, то искусство, которое основывается на
этих общих вкусах, было бы невозможно.
{...] Всякая наука в первую очередь должна дать истолкование
нормальных и обычных явлений предмета, изучением которого она
занимается, и, только после того как они будут окончательно
поняты, она может переходить к анормальным и необычным явлениям.
Нашей первой задачей будет истолковать эстетические чувства
не Рафаэля, не Моцарта и не Мильтона, а среднего человека, с
которым мы ежедневно соприкасаемся. В самом деле, мне кажется,
что одной из наиболее серьезных ошибок в исследованиях по
эстетике является то, что в большинстве случаев они рассматривают
лишь высшие ступени развития этого чувства и пытаются
объяснить их, не изучив предварительно более простых случаев. Я же,
со своей стороны, был бы доволен, если бы мне удалось
физиологически обосновать, почему людям доставляют удовольствие яркие
краски, несложные рисунки, популярные мелодии и простая по
форме поэзия, и лишь слегка затронуть более сложные явления
аналогичного происхождения. [...]
899
§ δ. Эстетическое воспитание
Если эстетические чувства, как было указано выше, зависят от
нашей нервной конституции — чувствующей, эмоциональной,
интеллектуальной, то как может существовать такая вещь, как
воспитание вкуса?
Отвечая ка этот вопрос, мы прежде всего должны указать, что
в данном случае, как и во всех прочих, пределы воспитания в
большей или меньшей степени ограниченны. Все, чего оно может
достичь, это разработать существующие способности, но отнюдь не
выработать какие-либо новые способности. Как в случае интеллекта
мы можем заставить ученика напрячь все силы, какие он имеет,
и укрепить его силы, тренируя их, но не можем вывести его за
пределы, которые строение его мозга ставит его умственному
развитию, так и в случае эстетики мы можем научиться отмечать
самую слабую волну удовольствия или страдания, тончайший трепет,
вызываемый гармонией, самую легкую дрожь от диссонанса, какие
позволяет нам воспринимать наша нервная организация, однако мы
никогда не можем переступить через этот естественный барьер или
превысить способности нашего организма. Возьмем крайний случай:
человек, страдающий цветовой слепотой, не может научиться
наслаждаться оттенками цвета, точно так же, как человек, страдающий
амузией (слепотой на звуки), не будет страдать от звукового
диссонанса. Целью воспитания во всех областях должна явиться такая
тренировка каждого индивидуума, чтобы он мог наилучшим
образом использовать возможности организма, которые предоставили
ему наследственность и обстоятельства. Больше этого оно дать не
может. [...]
Grant Allen, Physiological aesthetics, Lond.,
1877, p. 30—50. Перевод О. А. Пожежинской.
БИБЛИОГРАФИЯ
/. Общая литература
Гильберт К. и Кун Г., История эстетики, М., Изд-во иностр. лит.,
1960, 685 стр.
Зивельчинская Л. Я., Опыт марксистского анализа истории
эстетики, М., Ком. акад., 1928, стр. 247—261, (Гл. V, § 3. -Эволюционная
эстетика).
Рейдер М., Современная книга по эстетике. Антология, М., Изд-во иностр.
лит., 1957, 603 стр.
Bosanquet В., History of aesthetics, Lond., Allen-Unwin, 1922, XXIII,
502 p.
900
Chandler A. R., Beauty and human nature. Elements of psychological
aesthetics, N. Y., Appleton, 1934.
Knight W., The philosophy of the beautiful. Outlines of aesthetics, Lond.,
Murray, 1891.
Needham Η. Α., Le développement de l'esthétique sociologique en France
et en Angleterre au XIX siècle, P., Champion, 1926, VII, 323 p.
//. Литература к отдельным авторам
Оуэн
Сочинения:
Owen R., The life of R. Owen by himself, Lond., Bell, 1920, XIII, 352 p.
Оуэн P., Избранные сочинения Пер. С. А. Фейгиной. Вступит, статья
В. П. Волгина, т. 1—2, М.—Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1950.
«Педагогические идеи Р. Оуэна» Избранные отрывки из соч. Р. Оуэна со
вступит, очерком А. Анекштейна, М., Учпедгиз, 1940, 264 стр.
Литература:
Энгельс Ф., Развитие социализма от утопии к науке.— Маркс К. и
Энгельс Ф., Соч., т. 19, стр. 200.
Тумим-Альмедингён Η. Α., Педагогические опыты и взгляды
Р. Оуэна. Под ред. Е. Я. Голанта и др., М., Учпедгиз, 1960, 164 стр. Библ.
A bibliography of R. Owen, the socialist. 1771—1858. 2d. ed. rev. and enl., Lond.,
Oxford univ. press, 1925, 90 p.
Cole G D. H., The life of R. Owen, 2d. ed., Lond., Macmillan, 1930, X, 349 p.
Harvey R. H., Robert Owen social idealist, Berkeley and Los Angeles, univ.
of California, 1949, 269 p.
Morton A. L., The life and ideas of R. Owen, Lond., Lawrence and Wishart,
1962, 187 p.
Джонс и чартисты
Сочинения:
Ковалев Ю. В., Антология чартистской литературы. Сост., предисл. и
коммент. Ю. В. Ковалева. Общ. ред. А. А. Елистратовой, М., Изд-во лит.
на иностр. яз., 1956, 412 стр. Текст на.англ. яз. Предисл. на русск. яз.
Jones Ε., Chartist selection from the writings and speeches. With introd. and
notes by I. Sa ville, Lond., Lawrence and Wishart, 1952, 284 p.
Литература:
Демурова H. M., Из истории международных связей чартистской
литературы.— В кн.: «Из истории литературных связей XIX века», М., 1962,
стр. 89—114.
Демурова H. М., Литературно-критические и эстетические взгляды
чартистов.— В кн.: «Чартизм». Сб. ст., М., 1961, стр. 420—462.
Догель Е. В., Неизвестная статья о Пушкине в чартистском журнале
«Рабочий».— «Доклады и сообщения филол. ин-та Ленингр. ун-та», 1951, вып. 3,
стр. 189—203.
«История английской литературы», т. II, вып. 2, М., Изд-во Акад. наук СССР,
1955, 443 стр.
Ковалев Ю. В., Статья о Петефи в чартистском журнале «Друг народа».—
«Вестник Ленингр. ун-та», 1951, № 1, стр. 199—203.
901
Ковалев Ю. В., Чарльз Диккенс и чартисты.— «Вестник Ленин гр. ун-та»,
1962, № 20, серия истории языка и лит., вып. 4, стр. 99—110.
Шиллер Ф. П., Очерки по истории чартистской поэзии, М.— Л., Гослитиздат,
1933, 170 стр.
Frost Th., Forty years' recollections: literary and political, Lond., Low, 1880.
Linton W. J., Memories, Lond., Lawrence, 1895.
Диккенс
Сочинения:
Dickens Ch., Works. Publ. under the ed. dir. of A. Waugh a. o., v. 1—23»
Bloomsbury, Nonesuch press, 1937—1938.
Dickens Ch., The selected letters. Ed. with an introd. by F. W. Dupee, N. Y.,
Farrar, [1960], XXIV, 923 p.
Dickens Ch., The speeches. Ed. by K.J. Fieding, Oxford, Clarendon press,
1960, XXIV, 456 p.
Диккенс Ч., Собр. соч. в 30-ти томах. Под общ. ред. А. А. Аникста
и др., М., Гослитиздат, 1957—1963.
Литература:
К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., 1957, стр. 485, 529, 617.
«А н и к с τ Α., Диккенс-публицист.— В кн.: Диккенс Ч., Собр. соч.,
т. 28, М., 1962, стр. 539—550.
Егунова Η. Α., Теккерей в полемике с Диккенсом.— «Ученые записки
Ленингр. ун-та», 1959, № 266, серия филол. наук, вып. 51, стр. 110—134.
Елизарова М., Реализм Диккенса и проблема комического.— В кн.:
«Из истории реализма XIX в. на Западе», М., 1934, стр. 151—199.
Ивашева В. В., Творчество Диккенса, [М.], Изд-во Моск. ун-та, 1954,
472 стр.
Катарский И., Своеобразие художника (Творческий метод и
эстетические взгляды раннего Диккенса).— В кн.: Катарский И. М., Диккенс,
М., 1960, стр. 97—122.
Овчинникова Ф. Г., К вопросу об эволюции реализма в творчестве
Диккенса.— «Ученые записки Ленингр. пед. ин-та им. Герцена», т. 121,
1955, стр. 113—155.
Пирсон X., Диккенс. Пер. М. Кан. Под ред. Я. Рецкера. Послесл. В.
Каверина, М., «Молодая гвардия», 1963, 507 стр. (Жизнь замечательных
людей).
С и л ь м а н Т., Диккенс. Очерки творчества, М., Гослитиздат, 1958, 407 стр.
Честертон Г., Диккенс, Л., «Прибой», 1929, 275 стр.
Шаскольская Т., Диккенс и Карлейль.— «Ученые записки Ленингр.
пед. ин-та», т. XXIX, 1940, стр. 113—120.
[Шор Р.], Поэтический стиль Диккенса.— Лит. энцикл., т. 3, М., 1930,
стр. 296—305.
Brown I., Dickens in his time, Lond., Nelson, [1963], 248 p.
Canning A. S. G., Philosophy of Charles Dickens, Lond., Smith, Elder, 1880,
335 p."
Carlton W. J., Charles Dickens, dramatic critic—«Dickensian», 1960, January,
N 330, p. 11—27.
«Charles Dickens Weltanschauung». Einleitung von Ph. Aronstein.— «Anglia»,
1896, Bd. 18, S. 218—262.
Cook D., Charles Dickens as a dramatic critic— «Longman's magazine»,
1883, may, p. 29—42.
902
Davis Ε., The plint and the flame. The artistry of Charles Dickens, Columbia,
univ. of Missouri press, 1963, 333 p.
Dibelius W., Charles Dickens, 2. Aufl., Lpz., Teuber, 1926, XIII, 527 S.
«Dickens and the twentieth century», Lond., Routledge, [1962], XXIV, 244 p.
Engel M., Dickens on art.— «Modern philology», 1955, august, N 1, p. 25—38.
Engel M., The maturity of Dickens, Cambridge (Mass.), Harvard univ. press,
1959, XII, 202 p.
F о г s t e r J., The life of Charles Dickens, Lond., Chapman a. Hall, n. d., XXVIII,
977 p.
Jackson Τ. Α., Charles Dickens. The progress of a radical, N. Y., Intern.
publ., [1938], X, 303 p.
Johnson E., Charles Dickens. His tragedy and triumph, v. 1—2, N. Y.,
Simon a. Schuster, 1952.
К i 11 ο n F. G., Artistic London. From the Abbey to the Tower with Dickens,
Lond., Œtzmann, 1891, 19 p.
К i t t ο n F. G.y Charles Dickens. His life, writings and personality, Lond.,
Jack, 1902, XV, 504 p.
Kitton F. G., Dickens as an art critic—«Temple bar», 1891, november,
p. 319-329.
Levin P., Dickens. Aestetiske studier, K0benhavn, Gyldendal, 1899, p.
181—231.
L i g h t w о о d J. Т., Charles Dickens and music, Lond., Kelly, 1912, IX, 177 p.
Lindsay J., Charles Dickens. A biographical and critical study, Lond., Da-
kers, [1950], 459 p.
Miller J. H., Charles Dickens. The world in his novels, Cambridge (Mass.),
Harvard univ. press, 1958, XVI, 346 p.
[P e r u g i η i K.j, Charles Dickens as a lover of art and artists.— «Magazine
of art», 1905, January, p. 130—135; february, p. 164—169.
W a 1 m s 1 e y E., New lamps for old. Charles Dickens on art.— «Cornhill
magazine», 1926, february, p. 203—212.
Теккерей
Сочинения:
Thackeray W. M., The works. In 26 v., Lond., Smith, Elder, 1899—1907·
Thackeray W. M., Works. [Ed. by G. Saintsbury], v. 1—17, Oxford, 1908
(Oxford ed.).
Thackeray W. M., Contribution to the Morning chronicle. Ed. by G. N., Ray,
Urbana, univ. of Illinois press, 1955, XIX, 213 p.
Thackeray W. M., Critical papers in art. With ill. by the author and
G. Cruikshank, Lond., Macmillan, 1904, XIV, 400 p.
Thackeray W. M., Critical papers in literature, Lond., Macmillan, 1904,
XV, 395 p.
Thackeray W. M., The letters and private papers. Coll. a. ed. by G. N.
Ray, v. 1—4, Cambridge (Mass.), Harvard univ. press, 1945—1946.
Теккерей B. M., Собрание сочинений, т. 1—12, Спб., Пантелеев, 1894—
1895.
Теккерей У.-М., Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим.
[Пер. Р. Гальпериной. Предисл. А. Елистратовой], М., Гослитиздат, 1963,
389 стр.
Теккерей У.-М., История Генри Эсмонда. Послесл. А. Аникста, [М.],
Гослитиздат, 1947, 607 стр.
Теккерей У.-М., Свифт.— «Интернациональная литература», 1938, № 12,
стр. 134—146.
903
Теккерей У., Ярмарка тщеславия. Роман без героя. Пер. М. Дьяконова.
Вступит, ст. А. Елистратовой. Примеч. М. Черневич, т. 1—2, М.,
Гослитиздат, 1961.
Литература:
Гордон И., К вопросу о творческом методе Теккерея, [М.], Моск. ун-т,
1948, 42 стр.
Диккенс Ч., Памяти У.-М. Теккерея.—В кн.: Диккенс Ч., Собр.
соч. в 30-ти томах, т. 28, М., 1962, стр. 440—444.
Егунова Η. Α., Литературно-критическая деятельность Теккерея (30-е
и 40-е годы XIX в.).— «Ученые записки Ленингр. ун-та, серия филол. наук»,
вып. 37, 1957, стр. 111—133.
Егунова Η. Α., Критические статьи и литературные пародии Теккерея
(30-е и 40-е годы XIX в.). Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд.
филол. наук, Л., 1956, 14 стр. (Ленингр. ун-т).
Егунова Н., Теккерей в полемике с Диккенсом.— «Ученые записки Ленингр.
ун-та», № 266, серия филол. наук, вып. 51, 1959, стр. 110—134.
Егунова Н,, Теория романа в критических статьях Теккерея.— В кн.:
«Литература и эстетика», Л., 1960, стр. 215—233.
Елистратова Α., Теккерей.— В кн.: «История английской литературы»,
т. 2, вып. 2, М., 1955, стр. 266—346.
Ивашева В., Теккерей-сатирик, М., Изд-во Моск. ун-та, 1958, 304 стр.
Овчинникова Ф. Г., Творчество Теккерея, Л., 1961, 59 стр. (О-во по
распростр. полит, и науч. знаний).
Старцев Α., Теккерей и английские писатели XVIII столетия.—
«Интернациональная литература», 1938, № 12, стр. 147—151.
В го ich U., Ironie im Prosawerk W. M. Thackerays, Bonn, Bouvier, 1958,
145 S. (Abhandlungen zur Kunst-Musik- und Literaturwissenschaft, Bd. 4).
Ε 1 w i η M., Thackeray, Lond.* Gape, 1935, 410 p.
Enzinger P., Thackeray, critic of literature.— «North Dakota univ.
quarterly journal», v. XX—XXI, 1930—1931.
Forsythe R. S., Thackeray, critic of literature.—«North Dakota univ.
quarterly journal», v. XXII, 1932.
Melville L., William Makepeace Thackeray, Lond., Benn, 1927, XVI, 437 p.
Pantûckovâ L., W. M. Thackeray iako kritik protirealistické literatury
ν letech tricatych.— In: «Sbornik praci filosofické fakulty Brnënské univ.»,
roc. 6, 1957, R. lit. (D), 6. 4, s. 33-41.
Pantûckovâ L., W. M. Thackeray's literary criticism in the Morning
chronicle.— In: «Brno studies in English», v. 2, Praha, 1960, p. 79—111. Резюме
на рус. яз.
R а у G. Ν., Thackeray. The uses of adversity. 1811—1846, N. Y., Mc Graw-
Hill, [1955], XIII, 537 p.
R a y G. Ν., Thackeray. The age of wisdom. 1847—1863, N. Y., Mc Graw-Hill,
[1958], XIII, 523 p.
Ray G. N., Thackeray and «Punch».— «Times literary supplement», 1949,
1/1, p. 16.
Τ i 1 lo tso n G., Thackeray the novelist, N. Y., Cambridge univ. press, 1954,
326 p.
Констебль
Сочинения:
Constable J., Correspondence: the family at East Bergholt. 1807—1837.
Ed. with an introd. and notes by R. B. Beckett, Lond., H. M. Stationery
Office, 1962, V, 337, p.
904
Литература:
Вентури Л., Констебль.— В кн.: Вентури Л., Художники нового
времени. Пер. Л. М. Бродской. Ред. и предпсл. А. Владимирского, М.,
1956, стр. 22—33.
Констебль Д., [Альбом репродукций]. Сост. и вступит, ст. П.
Кузнецовой, М., Изогиз, 1962, [14] стр.
Лесли Ч.-Р., Жизнь Джона Констебля, эсквайра. [Пер. Р. С. Сефа и
Л. М. Мирцевой. Общая ред., вступит, ст. и примеч. А. Д. Чегодаевой], М.,
«Искусство», 1964, 335 стр.
Орлова Μ. Α., Констебль, М.~ Л., «Искусство», 1946, 32 стр.
Henderson M. S., Constable, Lond., Duckworth, 1905, XII, 239 p.
Holmes С J., Constable, Lond., The Artist library, 1901, XV, 35 p.
Holmes С J., Constable and his influence of landscape painting,
Westminster, Constable, 1902, 268 p.
К e y S. J., Constable. His life and work, Lond., Phoenix House, [1948], 128 p.
Leslie C. R., Memoirs of life of J. Constable, composed chiefly of his letters,
Lond., Phaidon press, 1961, XV, 434 p.
Lucas E. V., John Constable, the painter, Lond., Halton and Truscott, Smith,
1924, IX, 78 p.
Pool Ph., John Constable, Lond., Blanford press, [1964], 90 p.
Shirley Α., John Constable, Lond., Medici Society, 1948, 26 p.
Shirley Α., The Rainbow. A portrait of John Constable, Lond., M. Joseph,
[1949], 228 p.
Карлейль
Сочинения:
С а г 1 у 1 e Th., Works [Ed. by H. D. Traill], ν. 1—30, N. Y., Scribner, 1898—
1901. (Centenary ed.).
Литература:
Маркс К. и Энгельс Ф., Томас Карлейль. Современные памфлеты.—
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 7, стр. 268—279;
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., 1957, стр. 461—471.
Энгельс Ф., Положение Англии. Томас Карлейль. «Прошлое и
настоящее».—M а ρ к с К. и Энгельс Ф., Соч., т. 1, стр. 572—597;
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., 1957, стр. 436—461.
Булгаков Ф. И., Томас Карлейль.— «Исторический вестник», 1881, т. IV,
март, стр. 631—636.
К а ρ e е в Н. И., Томас Карлейль. Его жизнь, его личность, его
произведения, его идеи, Пг., Брокгауз—Ефрон, 1923, 161 стр.
Кондратьев Ю. М., Карлейль.— В кн.: «История английской
литературы», т. 2, вып. 2, М., 1955, стр. 50—60.
Яковенко В. И., Т. Карлейль, его жизнь и литературная деятельность,
Спб., 1891, 86 стр. (Жизнь замечательных людей. Биограф, б-ка Ф. Павлен-
кова, вып. 80).
Cazamian L., Carlyle, P., Bloud, 1913, 264 p.
Lehman B. H., Carlyle's theory of the hero. Its sources, development,
history and influence on Carlyle's work, Durham (North Carolina), 1928, VI,
212 p.
Roe F. W., The social philosophy of Carlyle and Ruskin, N. Y., Smith, 1936,
VII, 335 p.
905
Ρ θ с к и н
Сочинения:
Ruskin G., The works, v. 1—39, Lond., Gape, 1903—1912.
Литература:
Катарский И. M., Рёскин.— В кн.: «История английской литературы»,
т. 3, М., 1958, стр. 114—133.
Никифоров Л. П., Джон Рескин. Его жизнь, идеи и деятельность.
Биограф, очерк, М., «Посредник», 1896, 47 стр.
Collingwood W., The life and work of John Ruskin, v. 1—2, Cambridge,
Riverside press, 1&93.
Delattre F., Ruskin et Bergson, Oxford, Clarendon press, 1947, 28 p.
Evans J., John Ruskin, Lond., Cape, [1954], 447 p.
Galley H., Ruskin et l'esthétique intuitive, P., 1933, 353 p.
Monier de la Sizeranne R. de., Ruskin et la religion de la beauté,
5 éd., P., 1901.
N i 1 s a η d J., L'esthétique anglaise. Etude sur John Ruskin, 2 éd., Lausanne,
1906.
N о с a r t J., John Ruskin le prophète du beau, Bruxelles, 1900.
Q u e η η e 1 1 P., John Ruskin, Lond., Longmans, Green, 1956, 36 p.
Rosenberg J. D., The darkening glass. A portrait of Ruskin's genius, Lond.,
Columbia univ. press, 1961, XIII, 274 p.
S с a linger G. M., L'estetica di Ruskin, Napoli, Detken e Rocholl, 1900,
169 p.
Townsend F., Ruskin and the landscape feeling. A critical analysis of his
thought during the crucial years of his life, Urbana, univ. of Illinois press,
1951, 94 p.
V i 1 j о e η H. G., Ruskin's Scottish heritage, Urbana, univ. of Illinois press,
1956, 284 p.
Whitehouse J. H., Ruskin's influence today, Oxford, 1946, 32 p.
Моррис
С очинения:
Morris W., The collected works svicn introd. by M. Morris, v. 1—24, Lond.t
Longmans, 1910—1915.
Литература:
Φ. Энгельс — А. Бебелю. 18 августа 1886 г.— Маркс К. и Энгельс Ф.,
Соч., т. XXVII, стр. 577; «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве»,
т. 2., М., 1957, стр. 377.
Аничков Е., Вильям Моррис и его утопический роман.— В кн.:
Аничков Е., Предтечи и современники, Спб., 1910, стр. 164—212.
Венгерова 3., Вильям Моррис— В кн.: Венгерова 3.,
Литературные характеристики, кн. 1 Спб., 1897, стр. 49—62; кн. 2, Спб., 1905,
стр. 245—266.
Елистратова Α. Α., Моррис и литература социалистического движения
конца XIX — начала XX века.— В кн.: «История английской литературы»,
т. 3, М., 1958, стр. 295—330.
Godwin E. and G а 1 w i η St., Warrior bard. The life of William Morris,
Lond., Harrap, [1947], 175 p.
Grennan M. R., William Morris, medievalist and revolutionary, N. Y.,
King's Crown press,- 1945, XI, 73 p.
906
M а с к a i 1 J. W., Life of William Morris, Lond., Oxford univ. press, [1950],
XXV, 380 p.
Thompson E. P., William Morris. Romantic to revolutionary, Lond.,
Lawrence and Wishart, 1955, 908 p.
Спенсер
Сочинения:
Spencer H., Works, v. 1—19, Lond., 1861—1902.
Спенсер Г., Сочинения. Поли, пер., провер. по послед, англ. изд. Общ.
ред. Н. А. Рубакина, т. 1—5, Спб., 1898—1899.
Литература:
Diaconide E., Etude critique sur la sociologie de Herbert Spencer, P.,
1938.
Duncan D., The life and letters of Herbert Spencer, Lond., Methuen, 1908*
XIII, 621 p.
Royce J., Herbert Spencer, an estimate and review, N. Y., 1904.
R u m η e y J., Herbert Spencer's sociology. A study in the social theory, Lond.,
[1934], XVI, 357 p.
Б e й h
Сочинения:
Bain Α., The emotions and the will, 4 ed., Lond., Longmans, 1899, XXXII
605 p.
Bain Α., On teaching English, with an enquiry into the definition of poetry,
Lond., Longmans, 1887, XIII, 256 p.
Bain Α., Autobiography. [Ed. by W. L., Davidson. With a bibliography of
Bain's writings by P. J. Anderson], Lond., Longmans, 1904, XI, 449 p.
А л л e н
Сочинения:
Allen Ch. В., Physiological aesthetics, Lond., King, 1877, XII, 283 p.
Allen Ch. В., Evolution in Italian art, Lond., Richards, 1908, 368 p.
Литература:
С 1 о d d E., Grant Allen. A memoir. With a bibliography, Lond., Richards,
1900, 222 p.
ИТАЛИЯ
Национальное революционное движение в
Италии XIX века способствовало развитию
одной из самых оригинальных разновидностей
европейского романтизма. «По ту сторону
Альп» стали известны новые имена: Фоско-
ло, Мандзони, Сильвио Пеллико, Мадзини,
Доницетти, Джоберти, Леопарди, Де Санк-
тиса, несколько позже: Верди и Кардуччи.
Напомним также, что итальянские романтики утвердили мировое
значение Данте и Вико.
Если мы рассмотрим итальянскую литературу за сто лет — от
смерти предромантика Чезаротти (1808) до смерти неоклассика
Кардуччи (1907),— мы убедимся в том, что нигде в Европе (за
исключением России) не было такого последовательного перехода,
обусловленного всем развитием культуры, от романтизма к реализму,
как на родине Мандзони и Леопарди. Следует подчеркнуть, что раз-
911
витие культуры в Италии этого времени имело свою специфику.
Революционный романтизм Рисорджименто проявлялся даже у
защитников классических начал, как, например, у Леопарди.
Революционный пафос и демократические идеи мы находим не только
в стихах и прозе последователей «Молодой Италии», но и в
произведениях патриотически настроенных католиков (Мандзони, Джо-
берти, Массимо д'Азелья).
Политика и литература в обновляющейся Италии были тесно
связаны. Поэты меняли перо на кинжал карбонария, историки
становились заговорщиками, философы писали антиправительственные
статьи. Деятели культуры всходили на эшафот, подвергались
заточению, проводили долгие годы в изгнании и, возвращаясь на родину
в революционные годы, снова брались за оружие. Правда, когда
Италия сбросила ярмо иноземного ига в 1861 году, буржуазия
предпочла куцую конституцию Виктора Эммануила и приземистый
либерализм осмотрительного Кавура пылающим идеям
революционного вождя Гарибальди и утопическим мечтам вечного романтика
Мадзини.
В конце XVIII — начале XIX века литературная критика
итальянского романтизма была неотделима от философии. Чезаротти
провозгласил с падуанской кафедры: «Постоянным упражнением мысли
усовершенствуется критика... драгоценный плод того философского
духа, который оживляет все научные дисциплины и все
искусства» *. Уго Фосколо наследовал философские и лингвистические
интересы от своего учителя Чезаротти. Фосколо собирался
написать «Философскую историю поэзии от XII до XIX века», но успел
завершить лишь вступительную часть к этому труду: «Очерки
итальянской литературы. Часть первая — периоды итальянского
языка» 2.
Для утверждения новых взглядов на поэзию Фосколо должен
был прежде всего опровергнуть теорию классицистов,
утверждавших, что искусство и поэзия являются простой имитацией природы
(они ссылались на Аристотеля). Имитации Фосколо
противопоставлял воображение, которое изменяет природу. Гений, утверждал
Фосколо, обладает способностью живо чувствовать, воображать новое
и находить соответствующее место разрозненным элементам
действительности, свободно их комбинируя. Природа же не в силах
сама убавить, прибавить, изменить что-либо. Дар преобразования
сущего — человеческий, творческий дар. Поэт стремится к «всеобщей
1 M. Cesarotti, Opère, Pisa, 1813, v. XL, p. 10; M. Fubini, Intro-
duzione alia critica Foscoliana (Römanticismo italiano, Bari, 1960, p. 135—186).
2 U. Foscolo, Saggi di leteratura italiana, Firenze, 1958.
912
гармонии». Музыка, не существующая в природе, свидетельствует
о необходимости этой гармонии. Фосколо ставит выше всех поэтов
Гомера, Данте и Шекспира, которые обладали мощной творческой
фантазией. Автор «Ортиса» считал, что ни вкус, ни правила, ни
подражания природе или поэтам древности не могут создать
воображения и придать силы чувствам. Идеи Фосколо следует, конечно,
связать с эстетикой итальянского предромантизма (Парини, Барет-
ти, Чезаротти) и равным образом с немецкими теоретиками «Бури
и натиска». Фосколо был первым итальянским литературоведом
нового времени, как справедливо сказал Де Санктис, ибо он соединил
филологию и лингвистику с поэтическим восприятием, проник в
сущность эстетических высказываний Вико и способствовал
уничтожению в Италии педантической риторики прошлого.
Центром итальянской литературной жизни в начале XIX века
был Милан, где Стендаль нашел вторую родину. Между 1810 и
1820 годами в Милане образовались две группы приверженцев
романтизма. Их возглавляли Лодовико де Бреме (1780—1820) и Алес-
сандро Мандзони. Ложа кавалера Л. де Бреме в знаменитом
оперном театре «Ла Скала» была клубом романтиков. Там можно было
встретить Стендаля, Байрона, Винченцо Монти. Последователями
Л. де Бреме, туринского свободомыслящего патриция, читателя
Вольтера, были не только либеральные аристократы, но и
карбонарии, как Пьетро Борсиери.
Во вторую группу, собиравшуюся в доме Мандзони, входили
карбонарии Беркет и Гросси и Сильвио Пеллико, будущий автор
«Моих тюрем». В 1818 году Пеллико стал ответственным
редактором журнала «Кончильяторе», объединившего участников обоих
миланских группировок. Джованни Беркет написал манифест
итальянского романтизма в форме юмористического письма-«поучения»
некоего Хризостома (Златоуста) своему сыну. Это послание
выражает специфические особенности итальянской новой школы. Бер-
кет-Хризостом говорит о том, что романтики любят поэзию Оссиа-
на, однако не склонны подражать древним кельтским бардам. Если
романтики отвергают греко-римскую мифологию, то они не считают
необходимым вставлять в свои стихи имена богов северной Эдды.
Если у Ариосто и Шекспира, авторов весьма почитаемых,
встречаются колдуньи и ведьмы, это не значит, что современные поэты
должны воспевать нечистую силу, в которую в настоящее время и сам
народ не верит. Романтикам нравятся рыцарские подвиги, однако
не следует подражать средневековому варварству 1. Эрмес Висконти
1 См. статью Беркета в № 17 «Кончильяторе», 29 октября 1818 года.—
G. Berchet, Opera, v. II, Bari, 1912, p. 107—108.
30 История эстетики, т. Ill
913
высказывал подобное же мнение в статье «Основные идеи о
романтической поэзии», опубликованной в «Кончильяторе»: «Одно дело
превозносить специфические добродетели крестоносцев, а другое —
хвалить их пороки и желать возврата средневековой анархии и
фанатизма» 1. Первые романтики Италии были верными учениками
французских энциклопедистов. Манифест Дж. Беркета интересен
и тем, что автор подчеркнул значение народной поэзии для
дальнейшего развития литературы и призвал итальянцев узнать и оценить
европейских писателей. Для Беркета и его друзей поэзия
классицизма была «поэзией мертвецов», а романтиков — «поэзией живых».
Гомер, Пиндар, Софокл и Еврипид, утверждал Беркет, «являлись
в свое время в какой-то степени романтиками, ибо они пели не
о том, что когда-то было близко египтянам и халдеям, а о том, что
близко им, грекам». Беркет считал, что душа современного
человека не откликается на книжную мудрость. Ей понятно лишь ее
окружающее; она отзывчива к повседневному, воспринимает легче
всего действительность и современность.
Была еще одна область творчества, в которой следовало
ниспровергнуть кумиры классиков,— театральная сцена, где продолжали
царить пресловутые единства времени, места, действия. Поход
против этих правил начал в Италии предромантик Баретти, завершил
Алессандро Мандзони. В предисловии к своей трагедии «Граф
Карманьола» Мандзони писал о том, что греки не возводили правила
трех единств в абсолют и, когда это было необходимо, от них
отказывались; не считались с ними и великие драматурги Англии и
Испании, а немцы от них сознательно отреклись. Мандзони атакует
«поэтику правил» в самой Франции, родине классицистов.
Своеобразны взгляды Мандзони на роль хора в трагедии. Автор «Графа
Карманьолы» считает хор выражением индивидуальности поэта,
лирическим началом в драматическом действии, в то время как
античный хор выражал мнение коллектива.
В эти годы на страницах итальянских журналов выступала Жер-
мена де Сталь, призывая итальянских писателей «обновиться»,
выйти из провинциальной замкнутости, отвергнуть ограниченность
классицизма, ознакомиться с творчеством Севера, переводить немецких
и английских авторов. Если итальянские ученые пользуются
европейской известностью, продолжала де Сталь, то новые итальянские
1 «Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica di G. Leopardi.
Con una antologia di testimonianze sul romanticismo». Ed. F. Flora e E. Mazzali,
Rocca San Casciano, 1957, p. 222. (Здесь и далее в ссылках это издание
сокращенно обозначается: «Антология» Ф. Флора и Э. Мадзали.)
914
литераторы никому не ведомы 1. Идеи знатной иностранки были
поддержаны многими итальянскими романтиками, в том числе
кавалером Лодовико де Бреме, Дж. Беркетом и особенно Пьетро Бор-
сиери, который указывал на то, что и сам Данте не презирал
провансальских трубадуров и Ариосто был многим обязан французским
романам 2. Несомненно, что у мадам де Сталь и ее итальянских
друзей было много здравых мыслей. Все же музам было угодно, чтобы
на защиту классицизма с необычной страстностью встал самый
значительный итальянский поэт XIX века — Джакомо Леопарди. Из
провинциальной глуши Леопарди написал в редакцию журнала
«Библиотека итальяна» письмо против мнения де Сталь (18 июля
1816 года) 3. Свои идеи Леопарди развил впоследствии в «Речи
итальянца о романтической поэзии» (1818). В это время в Италии
было немало защитников классицизма, обвинявших «романтикома-
нов» в подражании «северной школе», называвших их «темными
метафизиками», «поборниками растрепанного стиля» и даже «англо-
тевтонами». Критика Леопарди не ограничилась этими часто
голословными высказываниями. Гениальный юноша смотрел глубже.
Воспитанный на лучших образцах греческой литературы, ученик
энциклопедистов XVIII века, Леопарди соединял в себе
гармоническую поэзию античности с философскими идеями XVIII века. Он
понял, что романтики теряют связь с реальным миром, что они
с необычайной легкостью переходят от мира вещественного к
абстрактным идеям, отказываясь от зримого, чувственного, реального.
Да, утверждал Леопарди, поэт должен подражать природе и
ограничиться правдоподобным, а не витать в облаках. Но подражание он
понимал как проникновение в сущность изменчивого мира. Поэзия
древних была в своих истоках поэзией детей, писал он, впервые
глядевших на мир. Их наивность питала воображение (здесь
Леопарди приближается к идеям Вико). Как у детей, чувства героев
Гомера были необузданны, ярки, прорывались со страшной силой
наружу. Леопарди припоминает, как в детстве он услышал какой-
то чудный нежданный звук, «какого не услышишь в этом мире».
Здесь невольно возникает мысль, не был ли «классик» Леопарди
одним из величайших романтиков своего времени? Эта мысль верна
лишь отчасти. В поэзии Леопарди мы наблюдаем слияние
классических и романтических устремлений. Леопарди обращался не к
старой и не к новой книжной мудрости, а к самой природе. В твор-
1 См. Anna Luisa Stael-Holstein, Sulla manera e la utilité délia
tradizioni.— «Biblioteca italiana», 1816, gennaio, v. I, p. 16; v. II, p. 418 (в
упомянутой «Антологии» Φ. Флора и Э. Мадзали, стр. 187—189, 196).
2 См. «Антологию» Ф. Флора и Э. Мадзали, стр. 202.
3 См. там же, стр. 119—127.
30*
915
честве Леопарди открывались пути к реалистическому искусству,
к многостороннему познанию действительности. На этом пути
древние греки и римляне были только учителями, пусть и лучшими из
всех, но не образцами для рабского подражания.
В настоящее время в прогрессивных кругах Италии никто не
сомневается в положительном значении Леопарди для развития
европейской мысли. Уже Де Санктис и Кардуччи писали об иронии
Леопарди, разрушающей консервативные предрассудки и
теологическое миросозерцание; они говорили о глубинных связях поэта-
мыслителя с философией века Просвещения и о гражданском
мужестве его стоической морали. Эти мысли развил основоположник
марксистского литературоведения в Италии Антонио Грамши,
борясь с утверждениями буржуазной критики, которая видела в
произведениях одного из величайших умов Италии только излияние
унылых чувств 1.
По этому пути обновления европейской литературы не пошел
отец «Молодой Италии» Мадзини. Он остался верен романтическим
идеалам своей молодости и в литературе и в политике. Мадзини
не был ни ученым, ни литературоведом, но прежде всего оратором.
Его критические статьи — не что иное, как монологи, обращенные
к большой аудитории. Мадзини особенно любил Данте, но в Данте
вслед за Фосколо он видел только пророка новой Италии, создателя
народного языка и моралиста. Литература была для Мадзини
выражением морали общества, искусство воплощало жизненные силы
народа. Подобно католику Джоберти, мистический антиклерикал
Мадзини стремился (правда, исходя из других позиций) доказать
«примат» Италии не только в культурном развитии, но и в
общественно-социальной эволюции человечества. Поэтому он объявил
идеи Великой французской революции устарелыми, противополагая
им современную революционную идеологию Италии. То горя
энтузиазмом, то преисполненный разочарования и отчаяния, Мадзини
неизменно оставался «романтиком» и в своих сочинениях и в
поступках. Он обладал большим музыкальным чувством и писал статьи
и очерки, важные для истории музыкальной критики. Суждения
Мадзини о писателях и композиторах импрессионистичны, часто
пристрастны, но всегда интересны.
Для периода романтизма в Италии особенно важна эстетическая
система Винченцо Джоберти, которая была целиком отвергнута
Б. Кроче в исторической части его эстетики2. Однако эстетические
1 См.: П. Тольятти, Развитие и кризис итальянской мысли в XIX
веке.— «Вопросы философии», 1955, № 5, стр. 57.
2 См.: В. Croce, Estetica come scienza dell'espressione e linguistica
générale, Bari, 1928, p. 395r~399.
916
воззрения Джоберти заслуживают внимания хотя бы потому, что
автор трактата о красоте («Saggio sul Bello») не повторял мысли
Канта и Шеллинга (как полагает Кроче), а стремился их
переосмыслить и связать с идеями Вико и средневековой эстетики.
Неверно также утверждать — вслед за комментаторами 40-х годов
XIX века,— что Джоберти черпал свои мысли из сочинений Мар-
силлио Фичино. На самом деле эстетические идеи Джоберти
восходят к средневековому синтезу неоплатонизма с аристотелизмом
(объединение этих двух систем находим уже у Боэция). Утверждая,
что искусство отлично от полезного, приятного, рационального и
метафизического, Джоберти предварял высказывания Де Санктиса.
Прекрасное в философской системе Джоберти — модус, абсолютный
и необходимый, но не смешивающийся с процессами рационального
мышления. Джоберти писал: «В то время как рациональное
мышление не нуждается в элементах фантастического, фантастическое
заключает в себе начало разума, без которого не может существовать».
Было бы неверно считать, что Джоберти подчиняет художественное
творчество в целом метафизике неоплатонизма, однако в его системе
откровение совершенной красоты, «блаженство фантазии» будет
возможно только после мистического преображения мира — подобного
видению Данте в последней песне «Рая» 1.
В середине века начал свою литературную деятельность самый
значительный итальянский критик нового времени Франческо де
Санктис. Де Санктис писал о том, что реакция против слепого
поклонения форме привела к обожествлению сюжета. Однако чистое
логическое содержание абстрагируется философами из живой
действительности, а также из произведений искусства, в которых форма
и смысл неразрывно слиты. Де Санктис различает в поэзии
воображение и фантазию. Он считает формальные искания («артизм»)
низшим видом искусства. Один из величайших поэтов человечества,
по его мнению,— Данте, ибо творец «Божественной комедии»
обладал не превзойденной никем фантазией (тут он, несомненно,
развивает идеи, близкие У. Фосколо). Де Санктис считает, что
творческая фантазия, а не аллегории и схоластическая философия
(влияние которой на Данте де Санктис преувеличивал), была главным
побудителем творчества великого флорентийского поэта. «Данте
хочет создать аллегорическую поэзию,— пишет Де Санктис в статье
«Победа гения над критикой»,— и это ему не удается, так как он
был поэтом: поэт побеждает теоретика, поэзия торжествует над поэ-
1 Мысли Джоберти о «преображении красоты» восходят к философии
Дионисия Псевдо-Ареопагита и Иоанна Скотта Эриугены. Они противоречат псев~
дорационалистическим взглядам на искусство и поэзию Фомы Аквинского.
См.: Е. de Bruyne, Etudes d'esthétique médiévale, I—II, Bruges, 1946.
917
тикой... Перед взором Данте мысли становятся образами фантазии:
он хочет построить аллегорию, а пред тобой предстоит поэзия,
у него в мыслях персонификация, но под его пером рождается живое
лицо. Теология становится Беатриче, Разум — Вергилием, Человек
превращается в Данте Алигьери, в существа живые и законченные,
имеющие бесконечные свои особенности, независимые от умысла,
символами которого они должны были бы быть... В такой полноте
реальности где отыскать аллегорию?» ! Де Санктис, испытавший
еще в молодости сильное влияние философии Гегеля, в течение
многих лет освобождался от идеалистических элементов системы
немецкого философа. Не приходится сомневаться в том, что гегелевский
историзм сыграл положительную роль в духовном развитии
итальянского литературоведа, но он должен был прийти к критике
эстетических воззрений автора «Феноменологии духа». Наиболее
отчетливо протест против гегелевских мыслей об искусстве выражен
в письме Де Санктиса из Цюриха к Паскуале Виллари: «По моему
мнению,— пишет он,— главная ошибка Гегеля заключается в том,
что он принимает за эволюцию человечества то, что является
эволюцией одного из его периодов» 2. Он согласен с тем, что бывают
времена, когда чистая мысль вытесняет искусство. Но искусство
бессмертно: «оно восстает из пепла философии». Итальянский
мыслитель говорит о новом содержании, пускающем ростки новых форм,
о «вечном обновлении содержания и бесконечном обновлении форм»
(ссылаясь при этом на Вико).
Эстетическая критика Де Санктиса звучала как речь живого
о живых; она была неизменно связана с конкретным историческим
материалом. Де Санктис ненавидел сердечный холод и
риторическую напыщенность, любил прямодушное высказывание чувств
в выражениях ясных и непосредственных. Поэтому, как заметил
Кроче, исследование Де Санктисом итальянской литературы
являлось переоценкой всех ценностей: «Он открыл или осветил
по-новому страстность в Данте-схоластике, меланхолию в Петрарке,
авторе сонетов, реализм и комическое в непристойном у Бокаччо,
сердечное волнение в Ариосто, тоску и страстность в Тассо, комедию
в произведениях Метастазио, наблюдательность у Гольдони,
современную гражданственность в католицизме Мандзони» 3.
]F. De Sanctis, Теопа e storia délia letteratura, a cura di B. Croce,
Bari, 1926, v. I, p. 114—115; F. De Sanctis, Lezioni e saggi su Dante, Torino,
1955, p. XIX—XX (Introduzione di S. Romagnoli).
2 De Sanctis, Lettera a Pasquale Villari. Con introduzioni e note di
F. Battaglia, Torino, 1955, p. 45—46.
3 B. Croce, La letteratura délia Nuova Italia. Saggi critici, v. I, Bari,
1929, p. 3iî5.
918
Формула «искусство для искусства», по мнению Де Санктиса,
является и верной и неверной. Она верна, если ее направить против
тех, кто судит об искусстве, исходя из абстрактных постулатов, ее
следует рассматривать как преувеличенную и неосновательную
в устах французских романтиков и унаследовавших от них эту
формулу современных декадентов и эстетов 1. Осуждая
бессодержательность риторов и опустошенный душевный мир формалистов
наравне с попытками рассудительных или безрассудных моралистов
вламываться в искусство, Де Санктис на склоне лет все более и
более склонялся к реалистическому искусству и литературе. С большой
симпатией он отзывался о произведениях Золя, считая, что
романским народам, традиционно погруженным в риторику и пиитику,
прежде всего необходимо живое соприкосновение с
действительностью.
Младший современник Де Санктиса, известный поэт и историк
литературы Джозуэ Кардуччи н.е углублялся в философские
проблемы, как Де Санктис; он предпочитал «позитивное знание» и
следовал «законам», созданным исторической школой по образцу
законов физических и естественных наук. При помощи «холодного душа
филологии» Кардуччи стремился обновить итальянскую историю
литературы, освободить ее от педантов-языковедов, старомодных
риторов и любителей изящной словесности.
Несомненным преимуществом Де Санктиса над
литературоведами-позитивистами была связь его критики с философскими
проблемами, его занятия эстетикой Вико и Гегеля и более широкие
взгляды на историческое развитие культуры и социальную
эволюцию человечества.
В конце XIX века итальянские философы и литературоведы
вернулись к отечественным мыслителям — прежде всего к Вико
и Де Санктису. Тогда возникла неогегельянская школа, наиболее
ярким представителем которой был Бенедетто Кроче.
В XX веке новое понимание Франческо Де Санктиса мы
находим у современных прогрессивных мыслителей Италии. Начиная
с А. Грамши, они высоко оценивают чувство действительности,
свойственное Де Санктису, тонкость его литературоведческих суждений,
его творческую эволюцию от идеализма и романтизма к реализму 2.
И. Н. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ
1 В. С г о с е, La letteratura gella Nuova Italia. Saggi critici, v. I, Bari,
1929, p. 363.
2 A. G г a m s с i, Letteratura e vita nazionale, Torino, 1950, p. 7.
919
ЧЕЗАРОТТИ
1730-1808
Падуанский профессор Мелькиорре Чезаротти, друг Гаспаро Гоцци,
удивлял современников разнообразием эрудиции и широтой знаний. Он был
замечательным филологом и выдающимся поэтом-переводчиком.
Чезаротти перевел «Илиаду» — сначала прозой, затем белыми стихами.
Более всего он прославился переводом «Поэм Оссиана» Макферсона, переложив
английскую прозу звучными итальянскими стихами. Этот перевод оказал
значительное влияние на итальянский романтизм. С 1768 года Чезаротти
преподавал греческий и древнееврейский языки в Падуанском университете на
изысканном латинском языке. Среди его слушателей был Уго Фосколо. Для
Аркадии Чезаротти написал в 1785 году «Опыт о вкусе», для Академии наук и
искусств — «Опыт о философии языка», одно из самых блестящих
лингвистических сочинений итальянского предромантизма. Он был послом венецианских
граждан к Наполеону и написал ряд статей на общественно-политические
темы. Подобно Парини, он остался на умеренных либеральных позициях. После
некоторых колебаний Чезаротти стал сторонником Наполеона, который высоко
ценил его перевод «Поэм Оссиана».
Из критических работ Чезаротти следует прежде всего упомянуть
обширные комментарии к Гомеру, затем «Замечания о Горации», предисловия к Юве-
налу и Альфиери. Слог Чезаротти отличается простотой, ясностью и точностью:
в литературе сеттеченто он был представителем французского классического
направления.
ОПЫТ О ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА
Нет такого языка, который был бы настолько богат, что какое-то
время не нуждался бы в новых богатствах. Искусство, науки,
торговля непрерывно порождают новые понятия, требующие того, чтобы
быть обозначенными новыми терминами. Круг мыслей человека,
чей ум сделался более четким, охватывает тысячи различных
явлений, подразделяет их, образуя новые классы, новые роды и
увеличивая интеллектуальные ресурсы. Как оперировать ими, не имея
слов, в которые можно было бы облечь мысли? Язык перестанет
обогащаться только в том случае, когда сознанию нечего будет
больше открывать и нечего отражать. Следовательно, попытка
применить мусульманский консерватизм к плодотворному началу
в языке направлена непосредственно против его сущности и цели.
Ни один язык не является чем-то неизменным. Языковые
изменения неизбежны и необходимы. Но язык подвергается изменениям
с двух сторон: со стороны народа и со стороны писателей. В первом
920
случае, касаясь произношения, окончаний, синтаксиса, они
постепенно ведут к упрощению языка и способствуют решительной
революции в нем; писатели же главным образом действуют в области
стиля, отчего изменяются языковые краски, а форма сохраняется
чуть ли не неизменной.
Нет такого языка, на котором вся бы нация говорила одинаково.
И не только географические различия делят язык на множество
диалектов, но зачастую в одном и том же городе наблюдается
чувствительное разнообразие в произношении и в манере речи.
Различные круги ремесленников вырабатывают собственный жаргон; люди
образованные, знатные, сами того не желая, говорят на языке,
отличном от языка черни. Среди многих диалектов один становится
главным, и главенство это зависит от привилегированного
положения данной провинции по сравнению с другими или же от заслуг
ее писателей.
M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia della
lingua, Firenze, 1943, p. 72—73. Перевод Ε. M. Co-
лоновича.
ФОСКОЛО
1778-1827
Уго Фосколо учился в Падуанском университете. Одним из его
профессоров был Чезаротти. В этот период на Фосколо сильно влияли идеи французской
революции, Когда образовалась Циспаданская республика, Фосколо написал
оду «Бонапарту-освободителю». В 1799 году вышла его книга о трагической
судьбе итальянского патриота «Последние письма Якопо Ортиса». В личных
переживаниях героя можно проследить сходство с судьбой Вертера, но
общественно-политический фон романа Фосколо отражает итальянскую
действительность. Патриотическая скорбь его «Гробниц» сделала имя поэта известным всей
Италии (1807). После падения Бонапарта Фосколо получил от австрийцев
предложение стать главным редактором правительственного журнала. Он
согласился, но на следующий день бежал в Швейцарию. В 1816 году Фосколо
обосновался в Лондоне, пристанище политических эмигрантов, и сотрудничал
в английских журналах. На английском языке появились его очерки
итальянской литературы (1818) и целый ряд критических статей и работ, важных
для развития эстетической мысли в Италии. Последние годы его жизни были
омрачены материальными лишениями.
Фосколо был основателем новой литературной критики в Италии. Из
провинциального захолустья, в котором процветали пуристы и педанты, он вышел
на большую европейскую дорогу. Благодаря ему итальянская литературная
критика оторвалась от клерикальных центров, гуманизировалась, стала вполне
мирской и приобщилась к эстетическим проблемам современности. Вслед за
921
Чезаротти, но с большей смелостью Фосколо обратился к изучению
итальянского литературного языка как системы художественных выражений.
Поклонник Вико и Руссо, Фосколо боролся с мнениями классицистов о природе
искусства, с их догматическим пониманием «подражания природе». Некоторые
эстетические взгляды Фосколо можно сблизить с высказываниями об искусстве
теоретиков барокко. Как и в эстетике XVII века, Фосколо превозносил
остроумие гения, способного мгновенно охватить и соединить силой фантазии
разнообразнейшие явления. Идея Фосколо о «всеобщей мировой гармонии»,
низводимой с небес искусством, является общей идеей итальянской
романтической эстетики начала XIX века.
ПРИНЦИП ПОЭТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ
Приступая к курсу лекций по истории литературы и, в
частности, по итальянской поэзии, я считаю себя обязанным, хотя, быть
может, это и не столь интересно, предпослать ему свое мнение
о происхождении поэзии.
Все представления о поэзии вообще и, следовательно, все
суждения о качествах, равно как и о степени заслуг каждого поэта в ту
или иную эпоху, бесчисленные каноны и теории древних риторов
и современных метафизиков всегда основывались на следующем:
«Человек по сути своей есть подражающее животное, и истоки
поэзии очевидно и единственно следует искать в естественном
тяготении человека к воссозданию любого предмета методом подражания».
Из этого положения, которое мы находим у Аристотеля, родилось
как следствие новое положение, каковое было приписано тому же
Аристотелю и проанализировано в тысячах фолиантов: «Поэзия есть
не что иное, как подражание природе, и хороши лишь те поэты, чье
воссоздание природы абсолютно точно».
Что касается представления о том, будто «человек по сути своей
есть подражающее животное», то мы находим, что само по себе оно
справедливо, хотя и не во всем применимо к поэзии. Зато
следующее положение, согласно которому «поэзия есть не что иное, как
подражание природе», представляется нам скорее ошибочным, чем
справедливым.
Тем не менее, коль скоро и причина и следствие, как говорится,
освящены многовековой традицией и общепризнаны учеными
мужами, я, если бы мой долг не понуждал меня к этому, не
осмелился бы даже намекнуть на свои сомнения по поводу данной
теории и оставил бы ее достоянием тот авторитет, каким она
пользуется вот уже столько времени. Боюсь к тому же, что исследованию
истоков человеческих способностей и связанных с ними искусств
в большинстве случаев посвящена одна из тысячи скорее
тщеславия
ных, нежели полезных попыток, на которые смертные тратят время
и мозг, тогда как я решительно убежден, что человек создан для
того, чтобы постараться познать не истоки своего существования,
не природу своих способностей, но для того, чтобы найти
наилучшее применение своим способностям, искусству, всей своей жизни
ради наибольшего удовольствия для себя самого и наибольшей
пользы для человеческого общества. Не случайно не только почти во
всем, относящемся к политике и морали, но и во всем том, что
относится к литературным исследованиям, осторожные люди
руководствуются в своих поступках и рассуждениях скорее
существующим опытом, чем даже такими теориями, отрицать которые
невозможно. И в абстрактных науках истина, применимая с пользой,
имеет большую ценность, нежели тысячи других, очевидных, но
неприменимых. А вот представление о том, что «человек по сути своей
есть подражающее животное» и что поэзия, следовательно, должна
быть точным воссозданием природы,— представление, родившееся
как метафизическое умозаключение, с течением времени стало
считаться аксиомой и применялось и продолжает применяться с
некоторой традиционной добросовестностью. Но когда принцип
неправилен, его использование ничего, кроме ущерба, принести не может;
и, поскольку мною усвоен другой принцип, мое личное мнение
о поэтах обязательно должно разниться от мнений, высказанных до
меня многими критиками. Таким образом, во избежание упрека
в честолюбивой претензии на открытие и в нарочитой странности
суждений, я вынужден прежде всего объяснить, почему я
сомневаюсь в правильности общей теории о первоначальных принципах
поэзии, и показать, на какой новой основе я собираюсь излагать
свое представление о поэзии.
Общепринятое положение о том, будто «поэзия есть не что иное,
как подражание природе», возникло первоначально как одно из
многих мнений, впоследствии освященных религией, которые
толковались и применялись на тысячу ладов, ибо кто-то решил, что их,
как оракул, изрек Аристотель; в действительности же он лишь упо-
хмянул о них вскользь и уделил им ровно столько внимания, сколько
требовал тот предмет, о каком он писал. [...]
Двуногое — подражатель; но склонность его к подражанию не
связана, как, быть может, у всех других животных, с одним только
инстинктивным стремлением научиться тому, как избежать боли
в ближайшем будущем, получить больше удовольствия в настоящем
и позаботиться о том, что необходимо для собственного
существования. Подражание у человека постоянно сопровождается тем врож-
923
денным и необъяснимым, но вечно существующим и часто
мучительнейшим недовольством, каковое является источником всех его
наибольших несчастий и самых светлых радостей. Вот почему, если ему
что-нибудь нужно, он желает, а желая — воображает такие вещи,
которые, существуй они в действительности, способствовали бы,
может быть, его счастью. Но они не существуют и не могут
существовать до тех пор, пока природа вещей и человека останется
неизменной; таким образом, все, что мы воображаем, неизбежно приобретает
характер несбыточной мечты. И все-таки где тот смертный, что
хотел бы или мог бы смириться с жизнью без этой мечты, которая
постоянно украшает печальную действительность и разнообразит
в его глазах монотонность существования? Все искусства,
основанные на воображении, и в первую очередь поэзия, возникшая раньше
и ставшая источником прочих искусств, родились из необходимости
украсить все предметы и чувства, неудержимо влекущие к себе
душу, сердце и фантазию смертных, придать разнообразие этим
предметам и чувствам и возвысить их.
Подражая, поэт, живописец и скульптор не копируют, а
выбирают и соединяют, представляя совершенными и создающими единое
целое, множество прекрасных мелочей, возможно, даже
существующих реально, но в разрозненном виде и вперемежку с предметами
грубыми и неприятными и не существующих или по крайней мере
не встречающихся в природе ни в совершенном, ни в цельном виде.
Природа во всех своих явлениях всегда подражает себе самой:
она отделяет одно явдение от другого, и из далеко
немногочисленных и нередко неуловимых частей создает единое целое — новое
и удивительное явление. Но природа, хотя она и подражает
неизменно себе самой, никогда не может ничего убавить, прибавить,
изменить.
Чтобы быть хорошим живописцем или поэтом, нужно обладать
душой, способной живо ощущать воздействие разрозненных частей
на существующие в природе предметы, цепким умом, моментально
фиксирующим каждое ощущение, воображением, способным
представить разрозненные части в соединении друг с другом и сотворить
из них одно новое, идеальное целое, и, наконец, талантом,
диктующим, куда и как поместить каждую из этих частей, чтобы они дали
гармоничное соединение. Четыре перечисленные свойства —
способность о/сиво чувствовать, быстро схватывать, воображать новое и в
точности знать, что и куда поместить,— если они соединены в одном
человеке, уравновешенны, ярко выражены и проявляются не в силу
ремесла или каких-то правил, а так же, как свойства природы, сами
по себе,— должны, по-моему, составлять гения. Искусство, подражая
неизменному созиданию, приходит к истине, тогда как гений соз-
924
дает идеал, угадывая, соединяя и распределяя по тем же законам
и с той же непринужденностью, что и природа, всевозможные
мелочи, которые она или разделила между многими предметами, или
могла бы создать и распределить, чтобы сделать прекраснее свои
творения. Идеал, оторванный от истины, неизбежно будет либо
странно-фантастическим, либо метафизически-утонченным, а
лишенное идеала любое подражание истине всегда окажется грубым:
в нем мы не увидим ни грациозности фигур Корреджо, ни
божественной красоты Венеры Медицейской и Мадонны делла Седжала,
ни величественности Аполлона Бельведерского. Фигуры Аполлона
и Венеры — подлинно человеческие фигуры, и вместе с тем они
идеальны благодаря необъяснимому, но ощутимому соединению
в них бесконечного количества красоты, которой природа вполне
могла бы наградить одного человека и которой не встретишь
никогда; а воображение гения сумело либо увидеть, либо угадать ее
и соединить и распределить потом таким образом, что ее неизменно
почувствует каждый, кто посмотрит на эти статуи.
Предположим даже, что люди, подобные Аполлону и Венере,
реально существуют; но в этом случае они настолько большая
редкость, что их следовало бы считать исключением, выходящим за
пределы обычного представления о человеческом существе; кроме
того, будучи реальными, они не могли бы вечно оставаться
такими же прекрасными и совершенными, какими художник навеки
запечатлел их в мраморе. Воображение живописца, скульптора
и в еще большей степени воображение поэта постоянно идет по
пути убавлений и прибавлений. Оно отказывается от всего того, что
существует в природе, мешает совершенству, и прибавляет то, что
может способствовать ощущению величественности, красоты и
главным образом новизны. Под воздействием того же врожденного
стремления к украшению, изменению и улучшению всего, что дала нам
природа, дикари, например, продырявливают себе уши, носы, губы,
подвешивают к ним странные предметы и сплошь расписывают
все тело разными красками. Их украшения грубы и бесформенны,
поскольку на их сознании никак не отразился прогресс искусств
и поскольку чувства, воображение и вкус дикарей соответствуют той
варварской жизни, которой они живут. Однако правда и то, что,
оставаясь варварами, они с инстинктивной наивностью пытаются
преобразовать и украсить природу в себе самих и считают, будто им
это удается. Прогресс цивилизации позволяет человеческому гению
создать благодаря более развитому воображению такое
совершенство, о каком он мечтает и какого не находит в природе. Мир, в
котором мы живем, утомляет и огорчает нас и, что еще хуже,
приедается нам. Поэзия же открывает нам новые предметы и целые
925
миры; она не была бы поэзией, если бы с исключительнейшей
точностью воспроизводила существующие предметы и изображала мир
как он есть, являя нашим взорам все ту же холодную, безрадостную,
монотонную действительность. Неужели мы нуждаемся в этом?
Неужели мы жаждем видеть ее нарисованной или описанной, если она
помимо нашей воли день и ночь осаждает нас? Воображение
художника изменяет природу в лучшую сторону и тогда, когда оно
способно схватить и изобразить молодость и красоту в момент их
наивысшего совершенства. Этот момент исключительно краток, ибо
в жизни и недомогание, и не очень изящный поступок, и слово,
и простое движение женщины снижают эффект ее молодости и
красоты. Ее совершенство, даже если она родилась и выросла
совершенной, подвержено тысяче изменений и случайностей каждый час,
каждую минуту. Не понимая этого, нельзя понять истоков и целей
поэзии, тем более что, в то время как остальные искусства
воздействуют на воображение через посредство чувств, поэтическое
воображение имеет более могучий источник — сердце. И хотя другие
полагают иначе, следует считать, что поэзия, предшествуя музыке,
явилась матерью всех изящных искусств и наставницей лучших
художников.
В мире существует всеобщая скрытая гармония, которую
человек силится найти, видя в ней необходимое средство для того, чтобы
сделать менее чувствительными тяготы жизни и свои страдания;
и чем больше он находит этой гармонии, чем больше он ее ощущает
и наслаждается ею, тем к большей возвышенности и чистоте
стремятся его чувства и, следовательно, тем ближе к совершенству его
сознание. Мы видим, что поиски этой гармонии, существование
которой столь несомненно, что так или иначе подтверждают все
смертные, затрудняются тем, что она скрывается, как и все, что природа
дает человеку, за дисгармонией вещей, которые сталкиваются между
собой, опровергают, а зачастую и уничтожают друг друга. В музыке
лучше, чем в других искусствах, видно, как человеческое
воображение нашло способ сочетания имеющихся в природе звуков и
создало музыку и гармонию, отказавшись от всех неприятных и
несогласующихся звуков. Огромная власть музыки над всеми нами
решительно подтверждает нашу потребность в гармонии. Ощущение
гармонии, которое мы испытываем, слушая музыку — многообразное,
всякий раз новое сочетание звуков,— мы можем испытывать также
перед произведениями скульптуры, живописи, архитектуры, любуясь
формами, красками и пропорциями, гармонирующими между собой.
Поэзия же создает гармонию музыкальных нот, сочетая мелодию
слов со стихотворным размером, а гармонию форм, красок и
пропорций при помощи образов и описаний. Правда, гармония, прису-
926
щая всем прочим искусствам, выражается ярче и, следовательно,
более эффектна; тем не менее поэзия обладает более мощными
средствами воздействия благодаря соединению в ней всех видов
гармонии и одновременности и быстроте их прогресса.
Ugo Foscolo, Prmcipi di critica poetica.—
Opere, v. XI, Firenze, 1958, p. 7—9, 14—18.
Перевод Ε. M. Солоновича.
БЕРКЕТ
1783-1851
Джованни Беркет 1 родился в Милане. Его перу принадлежит манифест
итальянского романтизма: «Полусерьезные письма Хризостома своему сыну»
(1816). Его деятельность как литературного критика можно сравнить с
деятельностью Виктора Гюго во Франции. В Италии он продолжил и развил
идеи Баретти и Уго Фосколо. Революционный романтик, непримиримый
противник иноземного владычества, Беркет должен был бежать из Италии и
поселиться в Лондоне. В 1824 году в Англии он издал свои лучшие поэтические
произведения «Беглецы из Парга» и «Романсеро». В революционный 1847 год
Беркет вернулся на родину, участвовал во временном правительстве
Ломбардии и призывал итальянцев к всеобщему восстанию. После поражения пьемонт-
цев в сражении с австрийцами под Новарой Беркет бежал в Турцию, где был
избран членом парламента. Он умер в 1851 году.
Как почти все итальянские романтики, Беркет отвергал «искусство для
искусства». По его мнению, литература, живопись, музыка должны
способствовать благу общества; поэзия призвана улучшать нравы, удовлетворяя при
этом запросы сердца и прихоти фантазии. Таким образом, эстетика, по его
мнению, подчинена социологии и морали. Беркет утверждал — правда, еще
робко — необходимость вернуться к народной поэзии по примеру немцев и
англичан. Он не желал подчиняться авторитетам древности и считал, что поэт
должен обращаться к самой природе. Один из первых теоретиков романтизма
в Италии, Беркет отказался от мифологии, правил поэтики и самого
Аристотеля. Он писал о том, что душа современного человека не возбуждается
античностью, о которой нам известно лишь из книг, ее интересуют лишь
близкие нам явления, окружающие нас ежедневно. Мысль эта, конечно, была
неверной в эпоху, когда жил Гёте; Беркет не предвидел также увлечения
Грецией и Римом у самых значительных поэтов XIX века — Леопарди и Кардуччи.
Расходясь с взглядами на историю романтиков северных стран, Беркет
предпочитал современность идеализации средневековья.
1 У нас встречается неправильная транскрипция фамилии этого
итальянского писателя — Берше (на французский лад).
927
ПОЛУСЕРЬЕЗНОЕ ПИСЬМО ХРИЗОСТОМА СЫНУ
[О склонности к поэзии]
Все люди, начиная с Адама и кончая сапожником, шьющим
тебе красивые сапоги, носят в глубине души склонность к поэзии.
Склонность эта у немногих является активной, тогда как у
остальных она носит пассивный характер и представляет собой струну,
отвечающую приятным звучанием на соприкосновение с активно
поэтической душой.
Щедро одаряя души тех редких людей, кого она наделяет
активной склонностью к поэзии, природа как будто находит удовольствие
в том, чтобы сделать их совершенно не похожими на людей, среди
которых им предстоит жить. Отсюда древние мифы о чуть ли не
божественном происхождении поэтов, древние легенды о творимых
ими чудесах и выражение «est deus in nobis» l. Отсюда самое верное
из всех представлений философов о поэтах, из коего следует, что
поэты образуют самостоятельное сословие и являются гражданами
не одного какого-нибудь общества, а вселенной. Вот почему мне
кажется, что человек, который стал бы измерять мудрость наций
величиной их поэтов, не снискал бы славы умного. Я не назвал бы
разумным и того, кто вносит в литературные диспуты такие
понятия, как соперничество между странами и ущемление
национального самолюбия. Гомер, Шекспир, Кальдерон, Камоэнс, Расин,
Шиллер — для меня такие же итальянцы, соотечественники, как Данте,
Ариосто и Альфиери. Есть одна республика литературы, и все без
исключения поэты — ее граждане. Особая привязанность, которую
каждый из них питает к клочку земли, где он родился, к языку,
привычному с детства, никогда не может воспрепятствовать той
огромной любви, какую истинный поэт отдает своему искусству
и всему человечеству, и горячему стремлению доставить людям
радость и внести свой вклад в дело воспитания всего человечества.
Вот почему эта всеобъемлющая любовь, направляющая творческие
замыслы поэтов, повсеместно отзывается в сознании людей
неизменным чувством благодарности и уважения. Чувство это — наш
священный долг, и никакое политическое событие, никакая
случайность не могут нас заставить забыть о нем. Даже гнев войны щадит
могилу Гомера и дом Пиндара.
Итак, мать-природа может породить поэта в любое время и в
любом месте. Но сколь бы выдающимся он ни был, ему никогда
1 — «и в нас бог» (лсстин.).
928
не удастся потрясти души своих читателей и заслужить искренние
и горячие аплодисменты, если читатели эти не обладают в
достаточной степени пассивной склонностью к поэзии.
Giovanni Berchet, Sul «Gocciatore féroce»
e sulla «Eleonora» di Coffredo Augusto Bürger.
Lettera semisteria di Grisostomo al suo figluolo.—
Opere, v. II. Scritti critici e letterari, Bari, 1912,
p. 14—15. Перевод Ε. M. Солоновича.
[О классической и романтической поэзии]
[...] Если о некоторых новых поэтах Германии столько говорят
и у них на родине и на всех перекрестках Европы, то эти разговоры
следует отнести за счет популярности их поэзии. Удачное
направление, которое они придали искусству, было подсказано им
глубоким исследованием человеческого сердца, целей искусства, его
истории и произведений, создававшихся из века в век: оно было
подсказано им делением поэзии на «классическую» и «романтическую»,
тем более что о таком делении впервые заговорили в Германии.
Знай, однако, что деление это не каприз человека со странным
складом ума, как о том не без удовольствия болтают некоторые судьи,
выносящие приговоры без всякого судебного разбирательства, и не
уловка, позволяющая уклоняться от правил, существующих для
каждого из поэтических жанров.
Один из тех, кого называют «романтиками»,— Тассо. Но кто
и когда слышал в числе упреков, раздающихся по адресу
«Освобожденного Иерусалима», обвинение Тассо в нарушении правил? Какая
другая поэма больше отвечает алгебраическим умозаключениям ари-
стотелевцев?
Не подумай, сын мой, что немцы, о которых идет речь, решили
сделать из одного неделимого искусства два. Нет, они не были
дураками. И если произведения этого искусства в зависимости от
различной природы века и степени цивилизации приобрели различный
характер, почему бы мне не разделить их на разные группы? И если
произведения второй группы несут в себе нечто такое, что позволяет
им наилучшим образом отразить новую европейскую цивилизацию,
неужели я должен отмахиваться от них только потому, что они яе
похожи на произведения первой группы?
По мере того как европейские нации приходили в себя и
пробуждались от сна, в который они погрузились, завоеванные
варварами после падения Римской империи, то тут, то там появлялись на
свет поэты, чтобы воспитывать свои народы. Добровольная подруга
мысли и истинная дочь чувств, поэзия возродилась в Европе
подобно птице-феникс, возродилась сама собой, и как бы сама по себе
929
достигла вершин совершенства. Господни чудеса, любовные горести
и радости, веселье пиршеств, жестокий гнев, блистательные подвиги
рыцарей — все это служило могучими источниками поэзии в душах
трубадуров. И трубадуры, не знакомые ни с Пиндаром, ни с
Гомером, брались за арфу и в неожиданной импровизированной песне
поверяли душе народа чувство прекрасного задолго до того, как
было изобретено книгопечатание, и до того, как беженцы из
Константинополя разнесли повсюду поэмы греков и латинян.
Появившаяся у европейских наций склонность к поэзии
увеличила в поэтах стремление быть достойными своего звания. Вот
почему, ломая себе голову над тем, что бы могло им помочь в этом,
ни от чего не отказываясь, они обратились, наконец, и к поэзии
древних — сначала как к таинственному святилищу, открытому
лишь для них, а потом уже как к всеобщему источнику фантазии,
из которого могли черпать все читатели. Но, изучив древних и
расширив свою эрудицию, поэты, которые изображали Европу со
времен возрождения литературы до наших дней и которых принято
называть «новыми» поэтами, пошли дальше разными путями. Одни,
полагая, что они воссоздают мотивы, которыми люди восхищались
в поэзии греков и римлян, попросту повторяли, а чаще
имитировали с некоторыми изменениями обычаи, суждения, чувства,
мифологию древних народов. Другие обратились непосредственно к
природе, и природа подсказала им новые чувства и идеи. Они
обратились к вере народа и познали тайны христианской религии, историю
всемогущего бога, уверенность в будущей жизни, страх перед
вечными муками. Они обратились к живой человеческой душе, и она
поведала им либо о том, что сама впервые услышала от них и от
их современников,— о событиях, связанных с рыцарскими и
религиозными обычаями, подчас жестокими, либо о том, что было
известно только ей или одновременно всем,— о вещах, обусловленных
цивилизацией века, в котором они жили.
Поэзия первых — «классическая», поэзия вторых —
«романтическая». К такому определению прибегли некоторые ученые мужи
Германии, которые раньше, чем это сделали остальные, признали
существование двух различных путей развития поэзии. Тот, кому не по
душе эти термины, вправе заменить их своими собственными. Мне
лично кажется, что можно с полным основанием называть
«поэзией мертвых» первую и «поэзией живых» вторую. И я не боюсь
ошибиться, сказав, что Гомер, Пиндар, Софокл, Еврипид были в свое
время в какой-то степени романтиками, ибо они пели не о том, что
было близко египтянам или халдеям, а о том, что было близко им,
грекам. Точно так же Мильтон обращался не к суевериям
гомеровских времен, а к христианским традициям. По-моему, не заслу-
930
жил бы упреков тот, кто пожелал бы добавить к этому следующее:
среди новых поэтов, придерживающихся классической линии,
лучшими являются поэты, в произведениях которых чувствуется
значительная доза романтизма, и именно духу романтизма они обязаны
тем, что их поэзии удается избежать забвения. Разве разум
подсказывает нам нечто обратное, утверждая во весь голос, что поэзия должна
быть зеркалом, отражающим то, что больше всего трогает душу?
Душа современного человека живо реагирует не на чужие
древности, о которых мы знаем только по книгам и из истории, а на
какие-то близкие ей вещи, окружающие нас изо дня в день. Когда
ты близко познакомишься с этими теориями, причем не благодаря
газетам, ты убедишься в том, что границы прекрасного в поэзии
столь же широки, как границы прекрасного в природе, и что
пробным камнем для определения этого прекрасного является не
пергаментный свиток, а сама природа; ты увидишь, какого уважения
достойна литература греков и латинян, и узнаешь, как правильно
ею пользоваться. Кроме того, ты почувствуешь, как предложенное
немцами деление поможет тебе освободиться от всегда опасной
власти авторитетов. Ты не станешь больше ссылаться на чужие слова,
когда речь зайдет о вещах, о которых ты можешь судить своим умом.
Ты сделаешь свою поэзию подражанием природе, а не подражанием
подражанию. Ты будешь выгодно отличаться от своих учителей тем,
что твое понимание вопроса избавит тебя от обязанности слепо
преклоняться перед оракулами старого, источенного червями свода
законов, и твоим единственным законом станет вечный и светлый
разум. И ты будешь смеяться над своими учителями, которые,
водрузив на нос очки, будут продолжать копаться в старом, источенном
червями своде законов и вычитывать в нем даже то, чего там не
написано.
Там же, стр. 18—21. Перевод Е. М. Солоновича.
МАНДЗОНИ
1785-1873
Алессандро Мандзони родился в Милане и получил хорошее образование
в духе классицизма. В ранней молодости он увлекался французскими
энциклопедистами. Впоследствии (1812—1815) под влиянием общей волны
романтических настроений, враждебных атеизму XVIII века, Мандзони вернулся
в лоно католической церкви. Однако его католицизм совмещался с
политическим свободомыслием и симпатиями к простому народу, особенно крестьянам.
В 1823 году Мандзони закончил роман «Обрученные», переведенный на все
европейские языки. Современники считали его первым писателем Италии,
931
Для популярности его характерно то, что в 1861 году Мандзони
председательствовал на происходившем в Турине заседании парламента, когда Рим был
провозглашен столицей объединенной Италии. Блестящая творческая
деятельность Мандзони ограничивается одним десятилетием — между 1818 и 1828
годами. После 1829 года Мандзони пишет лишь сочинения исторического и
филологического характера.
Как драматург Мандзони известен двумя историческими трагедиями: «Граф
Карманьола» и «Адельки» (1822). Для истории романтической драмы важно
предисловие Мандзони к «Графу Карманьоле», где, опираясь на идеи Баретти,
он разрушает знаменитые правила классицизма, правила «трех единств».
Взгляды Мандзони на искусство и литературу развились под влиянием
католического философа Антонио Розмини (1797—1855), считавшего, что
эстетика лишь часть науки о гармонии и красоте мира (il bello universale) и что
она должна заниматься только чувственными манифестациями реальности.
Искусство, как полагал Розмини, не подражает природе, оно не должно также
стремиться посредством интуиции проникнуть в царство первоначальных идей
(архетипов), но ему надлежит охватить зримый мир в различных его
проявлениях, относящихся к области природы, разума и морали. Эти мысли
Мандзони развивал в письме о романтизме (1823). Литература ставит себе целью
полезное, предметом ее должно быть истинное, а занимательным она
пользуется как средством — такова основная формула этой статьи. После 1828 года,
уже почти не занимаясь литературным творчеством, Мандзони склонялся
к отождествлению поэтического и исторического, все более подчиняя искусство
задачам морали.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРАГЕДИИ «ГРАФ КАРМАНЬОЛА»
[...] Среди изобретенных людьми разнообразных способов
запутать друг друга наиболее хитроумным является следующий: иметь
по каждому вопросу две прямо противоположные точки зрения,
считая их равно непогрешимыми. Пользуясь этим способом даже в
таком частном случае, как в разговоре о поэзии, любому, кто ею
занимается, говорят: «Будьте оригинальны и не позволяйте себе
ничего такого, примера чему вы не найдете у великих поэтов».
Подобные наставления, делая искусство более трудным, чем оно
есть на самом деле, отнимают у поэта всякую надежду объяснить,
почему он написал то или иное произведение (впрочем, от этого его
удерживает боязнь оказаться в смешном положении автора,
восхваляющего свои стихи).
Так как вопрос о двух единствах — времени и места — можно
разбирать совершенно абстрактно, не останавливаясь на
какой-нибудь одной трагедии, и поскольку многие все еще считают их необ-
932
ходимыми для драмы условиями, несмотря на те аргументы,
которые были выдвинуты против них и которые кажутся мне
бесспорными, я возвращаюсь к ним, чтобы дать им краткий анализ. При
этом я не стану пересказывать направленные против них
произведения, а попытаюсь сделать к ним некоторые дополнения.
I. Единство места и так называемое единство времени не
являются правилами, продиктованными самой сущностью искусства
и вытекающими из характера драматической поэмы, а обязаны
своим возникновением неправильно понятому и произвольно
истолкованному утверждению некоего авторитета, в чем убеждается
каждый, кто обратит внимание на их происхождение. Условие
единства места родилось в связи с тем, что большинство греческих
трагедий воссоздают событие, происходящее в одном месте, а также
в силу представления о том, будто греческий театр остается вечным
и единственным образцом драматического совершенства. Единство
времени обязано своим появлением одному из высказываний
Аристотеля, которое, как прекрасно заметил господин Шлегель, является
не предписанием, а простым упоминанием о явлении, общепринятом
в практике греческого театра. Ибо, если бы Аристотель
действительно собирался узаконить это условие в искусстве, в его
высказывании бросались бы в глаза сразу два недостатка: в нем нет ясно
выраженной идеи и, кроме того, оно не сопровождается никаким
анализом.
Когда появились люди, которые, не считаясь с авторитетами,
попросили обосновать эти правила, их защитники не сумели
придумать в ответ ничего, кроме того, будто зритель, реально присутствуя
на каком-нибудь представлении, счел бы его неправдоподобным,
если бы различные части действия происходили в разных местах
и если бы оно тянулось слишком долго, ибо сам он знает, что сидит
на одном месте и наблюдает за его развитием не больше нескольких
часов. Такое суждение, очевидно, основано на ложном
представлении о том, будто зритель находится в театре как участник
происходящего на сцене действия; между тем он являет собой, если можно
так выразиться, сторонний ум наблюдателя. Впечатление
правдоподобия должно возникать не в результате связи сценического
действия с его состоянием в данный момент, а благодаря связи между
отдельными частями действия. Если считать, что зритель находится
вне действия, довод в защиту единств сам собой отпадает.
II. Эти правила, которые многие считают обязательными, не
согласуются с ими же принятыми другими принципами искусства.
В самом деле, в трагедии считаются правдоподобными многие вещи,
которые не были бы таковыми, если бы к ним применяли тот же
принцип, на каком основывается обязательное присутствие двух
933
единств, а именно, принцип, согласно которому правдоподобными
являются лишь события, согласующиеся с присутствием зрителя
настолько, что могут показаться ему реальными. Если бы кто-нибудь
сказал, к примеру: эти два персонажа, убедившись, что они одни,
обсуждают между собой какую-то тайну и тем самым разрушают
всякую иллюзию, ибо я чувствую, что мое присутствие не секрет для
них, и вижу, как на них смотрит множество людей,— его
возражение точь-в-точь совпало бы с возражениями критиков против
трагедий, авторы которых пренебрегли двумя единствами. Такому
человеку можно ответить одно: партер не имеет отношения к драме;
то же самое можно ответить и сторонникам двух единств. Если бы
кто-нибудь заинтересовался, почему сей ложный принцип не
распространился и на эти случаи, мне кажется, он не нашел бы иной
причины, кроме той, что в высказывании Аристотеля о них не было
речи.
III. Далее, если рассматривать эти правила с точки зрения
опыта, то веским доказательством того, что они не являются
необходимыми для иллюзии, может служить следующее обстоятельство:
народ находится в состоянии иллюзии, как того требует от него
искусство, присутствуя ежедневно и во всех странах на спектаклях,
где эти правила не соблюдаются, и народ — лучший тому свидетель.
Ибо, коль скоро он не подозревает о существовании различных видов
иллюзий и не знает никаких теорий о правдоподобии искусства,
выдвинутых некоторыми представителями критической мысли, ни
одна абстрактная идея, ни одно предварительное суждение не может
заставить его увидеть правдоподобие в том, что на самом деле
неспособно произвести впечатление правдоподобия. Если бы
сценические перемены разрушали иллюзию, она, несомненно, исчезла бы
скорее у простого народа, чем у людей образованных, которым легче
настроить свою фантазию соответственно намерениям художника.
Если мы перейдем от народного театра к театру для
образованного зрителя в разных странах и посмотрим, как в нем отнеслись
к этим правилам, мы увидим, что греки никогда не возводили их
в принцип и отказывались от них всякий раз, когда того требовал
сюжет, что известные драматурги Англии и Испании, считающиеся
национальными поэтами, либо не знали их, либо не считались
с ними, что немцы сознательно от них отказывались. Во
французском театре их удалось ввести с большим трудом, причем условие
единства места встретило особое сопротивление комических актеров,
когда его применил Мерэ в своей «Софонизбе», считающейся первой
французской канонической трагедией (есть что-то фатальное в том,
что именно скучная «Софонизба» положила начало канонической
трагедии). В Италии, насколько мне известно, этих правил придер-
934
живались как законов, не подвергая их обсуждению, а следовательно
и анализу.
IV. Как это ни нелепо, люди, принявшие эти правила, нисколько
не придерживаются их на практике. Ибо, не говоря даже о
некоторых нарушениях условия единства места, которые мы находим
в ряде итальянских и французских трагедий из числа тех, что
считаются абсолютно каноническими, известно, что единство времени
никем не принимается во внимание и что никто не требует
соблюдения этого единства в его узком смысле, то есть соблюдения
равенства между вымышленным временем действия и тем реальным
временем, которое действие занимает в представлении. Во всем
французском театре можно найти едва три-четыре трагедии, где
выдерживается это условие. «Comme il est très rare,— говорит один из
французских критиков,— de trouver des sujets qui puissent être
resserrés dans des bornes si étroites, on a élargi la regle, et on Га
étendue jusqu'à vingt-quatre heures» l. Идя на такие уступки,
теоретики сами признают вред этих правил и попадают в такое
положение, в котором не могут удержать равновесие. [...]
V. Наконец, эти правила во многом мешают созданию
прекрасного и вызывают много неудобств.
Я не опущусь до того, чтобы доказывать на примерах первую
часть своего утверждения, что уже делалось не раз и достаточно
хорошо. К тому же это столь очевидно при самом поверхностном
рассмотрении некоторых английских и немецких трагедий, что
многим сторонникам правил пришлось признать то же самое. Они
соглашаются с тем, что, не ограничивая себя реальными пределами
времени и места, художник получает возможность для более
разнообразного и глубокого подражания; они не отрицают удач,
достигнутых при отступлении от правил, но утверждают, что от таких
удач следует воздерживаться, ибо ради них приходится отказываться
от правдоподобия. Если согласиться с этим, станет ясно, что
неправдоподобие, внушающее такой страх, может стать ощутимым не
иначе как при театральном представлении и что в связи с этим
трагедия, написанная для театра, не может по своей природе
достичь степени совершенства трагедии, являющейся не чем иным,
как поэмой в диалогах, рассказом, предназначенным исключительно
для чтения. В таком случае человек, желающий взять от поэзии все,
что она способна дать, всегда должен был бы предпочитать второго
рода трагедию, ибо кто стал бы сомневаться в выборе, оказавшись
1 Так как весьма редко удавалось отыскать сюжеты, которые можно
было бы ограничить столь тесными рамками, правило это было расширено и
раздвинуто до двадцати четырех часов.
935
перед следующей альтернативой: чем пожертвовать — материальным
представлением или тем, что составляет сущность прекрасного
в поэзии? Конечно, меньше всего те критики, которые доказывают,
будто греческие трагедии остаются вечно непревзойденными по
сравнению с трагедиями новыми и что они, эти трагедии, известные
лишь благодаря чтению, обладают более сильным поэтическим
воздействием. Я не хочу сказать этим, что драмы, не соблюдающие
условий двух единств, выглядят неправдоподобными на сцене; но,
делая свой вывод, я имел намерение показать, чего стоит этот
принцип. [...]
Мне остается объяснить, почему однажды в этой трагедии
появляется хор, введение которого может показаться капризом или
чем-то загадочным по той причине, что составляющие его
персонажи безымянны. Лучше всего я мог бы объяснить свое намерение,
частично приведя высказывание господина Шлегеля о греческих
хорах: «Хор следует рассматривать как воплощение морали,
которую подсказывает действие как орган чувств цоэта, выступающего
от имени всего человечества». И немного дальше: «Грекам
хотелось, чтобы хор в каждой драме... был прежде всего
представителем национального гения, а потом уже защитником человечества;
одним словом, хор олицетворял собой идеального зрителя: он
сглаживал сильные и тяжелые впечатления от действия, подчас излишне
приближенного к действительности, и, отражая, если можно так
выразиться, в реальном зрителе свои собственные переживания,
доносил их до него смягченными неопределенностью лирического
и гармонического выражения и тем самым приводил зрителя в более
спокойное состояние созерцания». И вот мне показалось, что при
всей несовместимости греческих хоров со структурой новой трагедии
можно хотя бы частично добиться того же, обновив характер хора
и вставив в него лирические куски, написанные в духе греческих
хоров. Пусть даже тот факт, что он не зависит от действия и не
связан с персонажами, в значительной степени лишает его того
эффекта, какой производили греческие хоры; но ведь это может
придать ему больший лирический порыв, большее разнообразие,
большую фантазию. Кроме того, у него есть следующее
преимущество перед античными хорами: не будучи связанным с ходом
развития действия, он никогда не явится причиной перестройки или
изменения действия во имя того, чтобы получить место в трагедии.
Наконец, еще одним преимуществом нового хора перед античным
является то, что, предоставляя поэту уголок, откуда тот может
говорить от своего имени, он умеряет испытываемое поэтом
искушение принять участие в происходящем и навязать персонажам
собственные чувства — недостаток, присущий многим самым известным
936
драматургам. Не вдаваясь в рассуждения о том, смогут ли когда-
нибудь такие хоры быть перенесены на сцену, я предлагаю, чтобы
они предназначались исключительно для чтения, и прошу читателя
рассмотреть этот вопрос независимо от всего того, что я здесь пишу.
Ибо предложение это может привести к тому, что искусство станет
более значительным и совершенным, более непосредственным, более
верным и более определенным средством морального воздействия.
Alessaiîdro Manzoni, Prefassione al
«Conte di Carmagnola». Opère complete, Parigi, 1843,
p. 3—5, 6—8. Перевод Ε. M. Солоновича.
ЛЕОПАРДИ
1798-1837
Один из величайших поэтов Италии Джакомо Леопарди родился в семье
обедневшего провинциального дворянина. Молодой Леопарди уединялся в
библиотеке обветшавшего палаццо, где приобрел эрудицию, поражавшую ученых
его времени. Гениальный юноша изучил не только латынь и греческий, но и
древнееврейский. Среди его филологических работ особенно следует отметить
трактат «О ложных верованиях древних народов». Обостренное чувство
моральных проблем привело поэта и ученого, воспитанного в католических
традициях, но рано воспринявшего идеи французских энциклопедистов, к
отрицанию религиозного мировоззрения. Он не пожелал видеть мир
идеализированным и приукрашенным. Как и Пушкин, его современник, итальянский поэт
относился критически к романтикам и не соглашался зачислить великих
писателей древности в «романтическую фалангу». Одно из самых сильных и резких
отповедей новой школе мы находим в «Речи итальянца о романтической
школе» Леопарди. Эстетические взгляды Леопарди на литературу и искусство
рассеяны в его «Мыслях» и «Диалогах». Леопарди находил чистые источники
лирической поэзии у греков, отрицая теорию смены искусств гегельянцев. Ои
сравнивал свежее и непосредственное чувство природы у древних с
ощущениями ребенка, для которого мир есть нечто новое и удивительное; об этом
общении с окружающим на ступени первоначального, но высокопоэтического
сознания Леопарди написал несколько замечательных страниц в «Речи
итальянца». По словам Леопарди, греческие поэты учат обращаться
непосредственно к явлениям. Таким образом, классицизм Леопарди открывал пути для
реалистического восприятия мира. Леопарди занимался философией главным
образом для обоснования своих эстетических суждений. Он непрестанно
обращался к «Поэтике» Аристотеля, особенно к его теории трагического. Однако
на его творчество и теоретические высказывания больше других мыслителей
античности повлияли Платон и Лукреций.
937
РЕЧЬ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ
[...] Всем известно, что следует различать два вида обмана;
назовем один из них интеллектуальным, другой — фантастическим.
Интеллектуальный обман исходит, например, от философа, который
заставляет вас верить в нечто ложное; обман фантастический несут
в себе изящные искусства и поэзия наших дней.
Было время, когда люди зарабатывали на пропитание тем, что
распевали в селениях и глухих городских переулках стихи Гомера,
когда вся Греция, собравшись в Олимпии, восхищенно внимала
рассказам Геродота, более сладостным, чем мед, так что, завидев его
потом, человек указывал на него другому, объясняя: «Это он описал
персидские войны и восславил наши победы». Иное дело теперь,
когда читатели и слушатели поэта — люди отесанные и, кто более,
кто менее, образованные. Поэт должен до некоторой степени
учитывать, что пишет и для черни. А вот романтики, сдается, желают,
чтобы он писал для черни, принимая во внимание, что его
читателями будут люди образованные; но одно исключает другое, тогда
как в сказанном мною этого противоречия нет, ибо воображение
людей образованных способно, в частности при чтении стихов и при
желании быть обманутым, опуститься до уровня воображения
невежд, тогда как воображение невежд не может подняться и стать
вровень с воображением людей образованных.
Интеллект читателей или слушателей поэта не может быть
обманут поэзией, которая может обмануть — и уже столько раз
обманывала — воображение. Следовательно, Кавалер 1 и заодно с
Кавалером романтики, когда они требуют, чтобы поэт приспосабливался
к нашим привычкам и мнениям и к истинам, познанным нами
лично, не учитывают того, что поэт не обманывает интеллект и
никогда его не обманывал — разве только случайно в древнейшие
времена,— но обманывает лишь воображение; не обращают внимания
на то, что мы, открывая сочинение в стихах, знаем заранее, что оно
полно неправды, и желаем, стремимся быть ввергнутыми в обман,
когда собираемся читать стихи, подготавливая свое воображение
и настраивая его почти незаметно для самих себя на иллюзию.
Смешно говорить, будто поэт не может обмануть воображение, если
он не касается непосредственно наших мыслей и обычаев, словно
мы ограничиваем стремление фантазии заблуждаться, словно оно
не в состоянии забыться, а поэт не в силах заставить его забыть
и мысли, и обычаи, и все что угодно. Они не учитывают того, что
когда воображение предается иллюзиям, интеллект прекрасно знает
1 Лодовико де Бреме.
938
об этом, знает, что оно верит в меньшую ложь в равной степени, как
и в большую: в ангелов Мильтона и в аллегорические существа
Вольтера — так же как в богов Гомера; в призраков Бюргера и в
ведьм Саути — так же как в ад Вергилия; в то, что ангел с
небесным щитом сверкающих алмазов защитил Раймонда, и в то, что
Аполлон с густой растрепанной эгидой шел в сражение впереди
Гектора. В общем, весь вопрос в том, как я уже сказал, должна ли
поэзия обманывать или нет; если должна — а совершенно очевидно,
что должна, как и утверждают в один голос романтики,—то все
остальное — лишь разговоры и придирки и желание заставить нас
силой аргументов верить в заведомую ложь. Ибо мы действительно
знаем, что поэт, с кем бы он ни имел дело — с христианином,
философом и современным во всех отношениях человеком, либо с
язычником, невеждой и древним человеком,— никогда не обманывает
интеллект, а обманывает и будет обманывать воображение всякий
раз, как этот обман будет исходить от истинного поэта.
Giacomo Leopard i, Discorso di un italiano
intorno alla poesia romantica, Rocca San Casciano,
1957, p. 10—12. Перевод Ε. M. Солоновича.
[...] Но для чего занимаюсь я поисками каких-то
незначительных, неведомых или малоизвестных истин, когда я могу сказать
нечто ясное как божий день и прекрасно всем известное, так что
каждый, не успею я и рта раскрыть, должен будет со мной
согласиться? А именно, что все мы были тем же самым, чем когда-то
были древние, и что на протяжении нескольких лет нашей жизни
мы представляли собой то же, что когда-то представляло собой
человечество на протяжении нескольких столетий; я хочу сказать,
что мы были детьми с присущими им невежеством, страхами,
радостями, доверчивостью и безграничной деятельностью фантазии. Это
было в то время, когда гром, ветер, солнце, звезды, животные,
растения и стены наших жилищ — все представлялось нам нашим другом
или недругом и мы не знали ничего, что оставляло бы нас
безразличными или казалось бы нам бессмысленным; когда, глядя на
любой предмет, мы ждали, что он вот-вот заговорит с нами; когда,
нигде и никогда не оставаясь в одиночестве, мы обращались с
вопросами к образам нашей фантазии, к стенам, деревьям, цветам
и облакам и обнимали камни и стволы, и либо истязали, как будто
они нас обидели, либо ласкали, как будто они нас
облагодетельствовали, предметы, не способные ни обидеть, ни облагодетельствовать;
когда восхищение, столь признательное нам за то, что мы без конца
хотим верить в кого-то или во что-то, чтобы восхищаться предметом
нашей веры, постоянно жило в нас; когда краски предметов, свет,
939
звезды, пламя, пение птиц, прозрачность источников — все
выглядело для нас новым и диковинным и мы не пренебрегали ни одним
явлением как заурядным, и не знали, для чего существует та или
иная вещь, и сами для себя придумывали ей назначение, и по
своему усмотрению украшали ее; когда мы проливали слезы что ни
день, и наши чувства были необузданными и постоянно бодрствовали,
и их нельзя было унять, и они решительно прорывались наружу.
Но какой фантазией мы тогда обладали, как часто и легко она
зажигалась, как свободно и безостановочно, вдохновенно и
неутомимо парила она, как возвеличивала незначительные вещи,
украшала бесцветные и озаряла темные! Какие живые образы умерших,
какие блаженные мечты, какой неописуемый бред, какое
волшебство, какие чудеса, какие прелестные страны, какая
изобретательность, достойная романистов, сколько поэзии, какое богатство,
сколько энергии, сколько сил, сколько волнений, сколько радостей!
Помню, как в детстве я услышал однажды такой нежный звук,
какого не услышишь в этом мире; я помню, как мое воображение
нарисовало предо мной, когда я разглядывал пастухов и овец,
изображенных на потолке в моей комнате, такие прелести пастушеской
жизни, что, будь эта жизнь дана нам, она сделала бы землю раем,
обителью бессмертных, а не смертных. Я не побоялся бы утверждать
(не обвиняйте меня в тщеславии, о читатели, за то, что я собираюсь
произнести), что я написал бы божественные стихи, если бы мне
удалось изобразить на бумаге образы, что я видел в детстве, и
ощущения, которые я испытал ребенком, дав возможность другим увидеть
и почувствовать то же самое. Теперь, когда воспоминания детства,
мысли и образы, запомнившиеся с детских лет, исключительно
дороги нам и доставляют нам немало приятных минут, я не думаю,
чтобы это нуждалось в особых доказательствах и подтверждениях,
ибо не считаю нормальным человека, который не знает и не
чувствует этого в зрелом возрасте. Взрослый человек должен не только
сам чувствовать это, но и формально знать об этом и поражаться
своим ощущениям, несмотря на зрелый ум и знания.
Итак, вот она — ощутимая в каждом из нас и совершенно
очевидная любому решительная склонность к примитивному; говоря
«в каждом из нас», я имею в виду нынешних людей, тех самых,
кого романтики стараются уверить, будто античная и примитивная
поэтическая манера — не для них. Между тем из того, что мы
испытываем, предаваясь воспоминаниям детства, должно явствовать, чем
обязаны мы неизменной и примитивной природе, той самой
природе, что проявляется и царит во всем, что связано с детством, с его
образами, с его фантазией, которые, как мы уже говорили,
представляют собой не что иное, как образы и фантазию древних.
940
Точно так же наши первые мысли, согласно которым мы рождены
для того, чтобы любить и желать, есть те самые мысли, что будят
в нас подражание неподдельной и неприкосновенной природе, те
самые, которые может и, по-нашему, обязан будить поэт, те самые,
что столь мастерски будят в нас древние, те самые, которые
романтики поносят, отметают и изгоняют из поэзии, крича при этом, что
мы уже не дети. Да, к сожалению, мы уже не дети; но поэт должен
создавать иллюзию и, создавая иллюзию, подражать природе, а
подражая природе, доставлять радость. Может ли поэзия доставлять
иную радость, столь же истинную, великую, чистую и глубокую?
И где иная природа, кроме этой? Вернее, есть ли, была ли когда-
нибудь другая природа, кроме этой?
Там же, стр. 20—22. Перевод Е. М. Солоновича.
МЫСЛИ
В примечаниях к «Корсару» лорд Байрон приводит
исторические примеры результатов тех страстей, которые он описывает.
Плохо. Читатель должен чувствовать, а не узнавать из объяснений
соотношение между твоим описанием и истиной, природой, равно
как и то, что данные персонажи с их страстями действуют при
данных обстоятельствах так, а не иначе. В противном случае поэзия
не доставляет радости, подражание, ограниченное кругом
неизвестных вещей, не вызывает восхищения, будучи даже весьма и весьма
точным. Мы сталкиваемся с этим и тогда, когда знакомимся с
комедиями и трагедиями, персонажи которых, совершенно необычные,
хотя и правдивые, никого не поражают. [...] Вещи, которые мы
читаем или видим, не только не поражают нас, но и не вызывают в нас
никаких чувств и не находят отклика в нашем сердце. Так поэзия
превращается в трактат, и изображаемое ею действие, вместо того
чтобы взывать к воображению или к сердцу, взывает к интеллекту.
Поэзия лорда Байрона — поэзия страстная, но ее огонь никого не
зажигает, и потому по большей части она представляет собой весьма
темный трактат по психологии, к тому же не очень полезный, ибо
описываемые в нем характеры и чувства являются настолько
странными, что не вызывают никаких ассоциаций в душе читателя,
которая не является для них благодатной почвой, и впечатление,
производимое ими, скорее поверхностное, нежели глубокое. Нас же
могут живо интересовать лишь нам подобные, и точно так же, как
совершенно необычные аллегорические существа, растения или
животные,— необычные люди не подходят поэзии в качестве
персонажей. Еще Аристотель говорил, что герой трагедии не должен быть
ни законченным злодеем, ни воплощением добродетели. Высмеивайте
941
Аристотеля сколько хотите и за это наставление (что, я полагаю,
уже и делали), но знайте, что в конце концов ваша психология
приведет вас на то же место и к открытию уже открытого.
Giacomo Leopardi, Pensieri, v. I, Firen-
ze, 1898, p. 323—324. Перевод Ε. M. Солоновича.
ДЖОБЕРТИ
1801-1852
Винченцо Джоберти, уроженец Турина, был одним из самых ярких
представителей либеральных католиков в период итальянского Рисорджименто.
Он принял участие в подготовке национальной революции. В 1833 году был
арестован королевской полицией и после тюремного заключения выслан за
границу. Он жил в Париже и преподавал в Брюсселе. Его сочинение
«Моральное и политическое первенство итальянцев» («Il Primato») возбудило умы
итальянских борцов за независимость и прославило Джоберти на всю Европу.
Джоберти призывал объединить Италию под главенством римского папы.
В 1848 году он вернулся на родину, был председателем и главой правительства
Пьемонта, послом во Франции. В 1849 году он принужден был оставить
политическую деятельность. Умер Джоберти в изгнании в Париже.
Итальянский мыслитель был знаком с немецкой философией, занимался
Кантом, Шеллингом и Гегелем, однако стремился освободиться от влияния
немецкой идеалистической философии, обратившись к средневековому
платонизму и аристотелизму. Он считал творческую фантазию явлением
самостоятельным: творческий процесс не зависим от морали, логики и метафизики.
Однако Джоберти не отрывает идею (понимаемую им в духе Платона) от
художественной экспрессии; поэтому его эстетика была неприемлема для Кроче
и других итальянских неогегельянцев начала XX века. Идея присутствует в
самом процессе художественного творчества, учит Джоберти, более того, с ним
неразрывна, но пользуется не логическими формами мышления, а системой
образных выражений. Наиболее полно свои эстетические воззрения Джоберти
изложил в «Опыте о прекрасном, или Элементах эстетической философии».
ОПЫТ О ПРЕКРАСНОМ, ИЛИ ЭЛЕМЕНТЫ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
[О прекрасном]
Чтобы нам легче было найти подлинное определение
прекрасного, следует первым делом устранить препятствия на нашем пути,
действуя методом исключения. Начну с утверждения того, что
понятие прекрасного не есть нечто субъективное, ибо, будь оно
942
таковым, оно должно было бы свестись к понятию полезного либо
приятного. Прекрасное же не есть полезное, которое является
злейшим его врагом; и хотя прекрасный предмет может также
приносить пользу его обладателю, наслаждение красотой отсутствует или
уменьшается в том случае, когда она рассматривается или
употребляется как что-то полезное.
Многие вещи, будучи весьма полезными, не являются
прекрасными; другие — прекрасны, но неспособны приносить или по
крайней мере не приносят никакой пользы. Понятие полезного несет
в себе реальное или же возможное свойство предмета по отношению
к нашим нуждам, тогда как прекрасное не зависит от нас,
сосредоточено исключительно в себе самом и не становится ни более, ни
менее прекрасным в зависимости от того, есть ли у него зрители.
И созерцающий его восхищается им, не присваивая его и никоим
образом не посягая на его независимость; напротив, если то, что
полезно, используется или может быть использовано, оно
уничтожается при этом либо теряет свою свободу (Гегель весьма тонко
подметил это основное свойство прекрасного).
Следовательно, сущность прекрасного воспринимается
исключительно посредством слуха или зрения — умственных чувств,
благодаря которым происходит познание предмета и которые не ведут
к обладанию им, тогда как сущность полезного определяется при
помощи осязания. Частично это относится и к приятному, хотя оно
и отличается от прекрасного, ибо понятие удовольствия включает
в себя также отношение предмета к существу, желающему испытать
удовольствие, которое не имеет ничего общего с независимой и
абсолютной сущностью прекрасного. Но отличие прекрасного от
приятного имеет также свои особые причины. Прекрасное нравится
вообще; но не все, что нравится, есть прекрасное, и степень
наслаждения не всегда пропорциональна степени красоты, и найдутся люди
с хорошим вкусом, которые, утверждая, что некий предмет красив
и полон очарования, противопоставляют ему другой, который они
считают менее красивым. Верно и то, что, говоря обычно о том, что
нравится, люди употребляют слово «красиво». Философу следует
извинять подобные свойства просторечия, а отнюдь не принимать
их. Далее: удовольствие можно лишь ощущать. Прекрасное тоже
ощущается, но главным образом — понимается. Первое воздействует
исключительно на внешние или внутренние чувства, то есть на
органы чувств или душу; второе через посредство чувств или
воображения обращается к интеллекту.
Vincenzo Gioberti, Saggio sul Bello о
eiern enti di filosofia estetica, Napoli, 1845, p. 18—23.
Перевод Ε. M. Солоновича.
943
[Об эстетическом воображении]
[...] Эстетическая фантазия, или эстетическое воображение,
является тем качеством, которое, превращая умственные категории в
образы и давая этим образам воображаемую жизнь, создает
прекрасное. Эстетическое воображение обладает способностью
воспроизводить, ибо воскрешает впечатление от предметов и сами признаки
предметов, переданные через посредство чувств; оно обладает
соединительной способностью, поскольку соединяет их различным
образом между собой, а также и с умственными категориями; оно
выступает в роли преобразователя, и оно продуктивно, ибо
изменяет их и придает им собственные качества, которые черпает не где-
нибудь, а в собственной природе. Оно называется эстетическим
в силу трех последних свойств, которые отличают его от
воображения в широком смысле слова, от воображения, присущего всем
людям, в том числе и лишенным способности создавать и чувствовать
красоту.
Воображение есть особая отрасль той деятельности или силы,
в которой заключается интимная и основная природа человеческой
души. Всякая сила, простая и неделимая как сущность и как
причина, многообразна по своим качествам; так, свойства души
являются чуть ли не первым подтверждением ее существенной
цельности и создают, так сказать, более глубокий слой и первую оболочку*
которая одевает основное ядро души.
Понимание и чувства постигают первые элементы вещей, то есть
доступные пониманию и ощутимые, соответствующие крайним
границам выражения самой идеи. Наши чувства и интуиция
воспринимают эти элементы несовершенными, но затем мысль преображает
их. Однако процесс мышления, исходящий от разума, не выходит за
пределы простого познания. Воображение, подчиненное чувствам
и интуиции, получает материал уже более или менее обработанным,
осмысленным и вновь его преображает, завершая динамический
процесс, начатый предшествовавшими процессами. Оно делает это,
с одной стороны, одушевляя ощутимые свойства предмета, с
другой — облекая в плоть интеллектуальные свойства, с тем чтобы и
те и другие, подчиняясь своей природе и сталкиваясь с природой,
противоположной их собственной, могли соединиться. [...]
Там же, стр. 72—74. Перевод Е. М. Солоновича.
[...] Эстетическая фантасмагория происходит не где-то во
внешнем мире, а в нас самих, и воображение не только создает
персонажей, но и обставляет сцену, где они двигаются и действуют. Тем
самым деятельность воображения похожа на сон и на видения, вы-
944
званные бредом и другими естественными и сверхъестественными
обстоятельствами, обычным или болезненным состоянием человека.
Воображаемая сцена где-то происходит и имеет какую-то
продолжительность — следовательно, имеет свое место и время; но
место и время — фантастические, которые, таким образом, отличаются
как от чистых понятий времени и пространства, свойственных
интеллекту, так и от эмпирических времени и пространства,
воспринимаемых через ощущение. И поскольку сцена должна
предшествовать драме, а изображение событий, ее составляющих, требует
определенного количества времени, воображение должно прежде
всего подготовить театр, где будет развертываться действие драмы,
и, как говорится, завести часы, которые отмерят его
продолжительность. Для этого оно заимствует у разума абсолютные время и
пространство и придает им элемент прерывности и ощутимости,
которые проистекают из разума и ощущения.
Таким образом возникает некоторая существенная разница
между эстетической концепцией и концепцией математической и
физической, характерными для этих двух форм. В математике чистые
понятия времени и пространства — бесконечны, они стоят над
ощущением, тогда как в воображении эти понятия становятся
неопределенными и ограниченными.
Там же, стр. 79—81. Перевод Е. М. Солоновича.
МАДЗИНИ
1805-1872
Джузеппе Мадзини по окончании юридического факультета в 1827 году
занимался адвокатурой, посвящая свои досуги литературе и политике.
Сотрудничая в прогрессивных журналах, Мадзини попал в 1830 году в тюрьму и
должен был эмигрировать в Швейцарию. За границей он основал революционное
республиканское содружество «Молодая Италия», имевшее большое влияние
на итальянское общество середины XIX века. Принужденный покинуть
Швейцарию, Мадзини в 1837 году очутился в Англии, где познакомился с
социалистическими идеями. В мировоззрении Мадзини были смешаны мистические
порывы и революционный пафос. Мадзини отрицал материализм и верил в
бесконечный прогресс человечества, постоянное моральное совершенствование.
Он был одним из тех «романтических гениев», которые, хватаясь то за перо,
то за шпагу, угрожали тиранам и скорее тревожили умы — как Сен-Симон и
Бакунин,— чем открывали новые пути человечеству. Колеблясь между
республиканскими идеалами и либеральной монархией, Мадзини поддерживал в 1848
году короля Карла-Альберта. Когда австрийцы разбили пьемонтские войска,
31 История эстетики, т. III
945
Мадзини снова бежал в Швейцарию. В этот бурный год он появился в Риме.
Отец «Молодой Италии» был одним из триумвиров кратковременной римской
республики, поверженной французскими штыками. После этого поражения мы
снова встречаем Мадзини на путях изгнания. В 1859—1861 годах он с горечью
увидел, что объединение Италии свершается без его участия.
Кроме многочисленных политических и полемических статей, манифестов,
прокламаций, писем Мадзини оставил несколько томов очерков, посвященных
литературе и искусству. Его эстетические идеи возникли, как у многих
итальянских романтиков (особенно в группе «Кончильяторе»), под влиянием идей
де Сталь. Вслед за ней он проповедовал неограниченную свободу творчества
и независимость гения, уединенного и обособленного, но выражающего чаяния
народных масс. Мадзини проклинает классицизм Буало, призывая вернуться
к народному творчеству. По глубокому его убеждению, литература и искусство
должны отражать развитие общества, охватывать жизнь во всех ее
проявлениях. Романтическая теория Мадзини во многом связана с эстетическими
идеями XVIII века: например, искусство для него неотделимо от моральных
и политических целей. Мадзини одобряет попытки французских романтиков —
во главе с Виктором Гюго — ввести в поэзию уродливое, гротескное и
бесформенное, не ограничиваясь возвышенным, блестящим и утонченным; он
напоминает об ужасном в «Божественной комедии» Данте. И все же Мадзини
благоразумно советует избегать крайностей, переходящих в натурализм. С этой точки
зрения он осудил изображение ужасного и преступного в известном
историческом романе Гверацци «Битва при Беневенте». Как Беркет, Мадзини говорил
о необходимости новой эпохи в искусстве и литературе и советовал обращаться
не к прошлому, а к будущему. Он занимался историей музыки в Италии и был
художественным критиком. Мадзини устанавливает некую шкалу
художественных ценностей, считая, что музыка выше поэзии, а поэзия превосходит
живопись. В то же время он говорит о внутреннем единстве всех искусств,
выражающих гармонию природы.
«СОВРЕМЕННАЯ ЖИВОПИСЬ ИТАЛИИ»
Подобно своим сестрам, живопись, будучи одним из ответвлений
искусства, питается социальными соками. Как поэзия она всегда
выражает — желательно ли ей то или нет — нечто касающееся
жизни всех, верований всех, предчувствий всех. Немая поэзия,
живопись ищет в некоей последовательности явлений символы той же
мысли, стремится к тому же идеалу. Более ограниченная в выборе
своих предметов, более связанная деталями, более определенная
в своем развитии, если так можно выразиться, она — скажем
прямо — остается на лестнице искусства ниже поэзии, подобно тому
как поэзия ниже музыки. Плененная формой, она никогда не под-
946
нимется столь высоко, как две ее старшие сестры, в стремлении
к бесконечному; все же она помогает им возноситься и возносится
вместе с ними. Можно сказать, что, в то время как она исполняет
свою роль в общем деле, являясь симпатическим выражением
универсальной жизни, она имеет особую задачу — очистить,
преобразить форму, ее пленившую, примирить материю, освятив ее своим
прикосновением, с духом, подготовить мир образов и символов,
смягченный, трепещущий, пронизанный светом, в котором поэт
обретает свои ритмы, музыкант свои мелодии. Разве этот процесс не
ощущал Себастьян Бах, когда, прежде чем написать свою Ораторию
страстей, он сидел перед картиной Дюрера, или Корреджо, который
видел в своем последнем сне, как Палестрина приближается к нему
от небесных врат? Они знали, сопричастные святому братству
посвященных, что служат тому же богу; они черпали всю жизнь из
одного источника, их видения возникали из одного пламени, их
ноты, ритмы, краски, контуры были только различными средствами
для воплощения с наибольшей степенью реальности идеала,
являющегося душой искусства, подобно тому как он одухотворяет всякое
общество, живущее или стремящееся к бытию.
«Pittura moderna italiana». Scrittt editti ed ine-
diti di G. Mazzini, v. XXI, Imola, 1915, p. 250—
252. Перевод И. Голенищева-Кутузова.
ДЕ САНКТИС
1817-1883
Франческо Де Санктис в юности изучал Лейбница, энциклопедистов,
сенсуалистов, испытал сильное влияние Вико. Вместе со своими учениками Де
Санктис участвовал в майском восстании 1848 года. В 1850 году его заточили
в замок дель Ово. Там он принялся за изучение Гегеля. Изгнанный в 1853 году
Бурбонами из Королевства обеих Сицилии, он жил в Турине, занимался
журналистикой, читал лекции в университете. С 1856 до 1860 года Де Санктис
преподавал итальянскую литературу в политехникуме Цюриха. Из туринских и
цюрихских лекций Де Санктиса возникли его замечательная книга о Данте,
его работы о Петрарке и поэзии Возрождения. Во время восстания Гарибальди
Де Санктис вернулся на родину. В 1861 году он был назначен министром
народного просвещения. По своим политическим убеждениям Де Санктис
принадлежал к левому центру; он разошелся с Кавуром, так как считал, что его
правительство не соответствует более итальянской действительности и что,
разрешив проблему объединения страны, итальянская буржуазия не в силах
разрешить проблем социальных. С 1871 года Де Санктис был профессором
31*
947
Неаполитанского университета. В Неаполе он написал исследования об
итальянской литературе XIX века: «Школа либеральных католиков» и «Мадзини
и демократическое направление». Перу Де Санктиса принадлежит также
«История итальянской литературы от ее истоков до XIX века».
Де Санктис был самым крупным представителем итальянской
эстетической мысли XIX века. В течение многих лет он изучал эстетическую систему
Гегеля и подверг критике самые ее основы. Итальянский мыслитель пришел
к заключению, что теория Гегеля о «смене» символического, классического и
романтического искусства в истории развития человечества ведет к отрицанию
искусства как самостоятельного начала. Искусство, религия и философия не
представляются Де Санктису «вытянутыми в одну линию»: он видит в них
вечные параллельные явления, выражающие в разных областях и по-своему
историческую сущность данной эпохи. Так же как Джоберти (но без
обращения к платоновским идеям — архетипам), Де Санктис говорит о присутствии
интеллектуального начала в произведениях искусства. Однако, по его мнению,
идея не «воплощается» в поэтическую форму, как душа в тело, а
сосуществует с экспрессией, сообщая ей силу и глубину. Де Санктис настаивал на
самостоятельности эстетического выражения как особой формы человеческого духа,
отличной от логики, практики и морали и имеющей самостоятельную функцию
в человеческом обществе. Тем самым он положил начало основным
направлениям новейшей итальянской эстетики (от неогегельянства до неореализма) и
оказал влияние на развитие эстетической мысли во всей Европе.
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИКИ
Замыслив бога как идею, Гегель открывает троичную форму
духа в самом проявлении идеи: искусство символическое, искусство
классическое, искусство романтическое. С последним искусство
приходит в упадок и, по Гегелю, более не может существовать. Мы
полагаем, что, независимо от фантастической идеи Гегеля, следует
искать главный двигатель, устремляющий человека к этим трем
проявлениям. Принципом движения является великая проблема
вселенной: бог, человек и природа; к этим загадкам обращается дух
ежечасно. И нет человека, который не ведал бы этих мыслей в
некое мгновение, когда он сосредоточивается на самом себе и думает
о нашем бытии, нам самим неведомом. Когда человек погружен в
чувства и воспринимает лишь то, что он видит, он еще не сознает,
что он человек, и эта возвышенная деятельность еще не начата, не
существует ни искусства, ни науки. Но, как только человек выходит
из животного состояния, чувство перестает быть его единственным
жизненным проявлением; тогда фантазия и разум устремляются
к этим трем проблемам, и искусство по-своему жаждет представить
948
при помощи фантазии то, что он желает обрести и не может
изъяснить, а разум своими путями силится открыть и объяснить. Он
приводит в движение системы, воюет с истиной и заблуждениями,
размышляет над философскими проблемами. Человек стремится к этой
триаде и размышлением и рассуждением, то прибегая к фантазии,
то к интеллекту, то обращаясь к искусству, то к науке. Таким
образом, мы движимы к той же цели двумя различными путями —
воображением и размышлением, что же касается религии, то она
стремится объединить науку и искусство.
F. De Sanctis, Sviluppo dello Hegelismo in
Italia, a cura di M. Rossi, Torino, 1957, p. 13—15
(I problemi di estetica moderna). Перевод И. Го-
ленищева-Кутузова,
ЦЮРИХСКИЕ ЛЕКЦИИ
[Мысль и поэтическое выражение]
У нас укоренилось вульгарное мнение о том, что превосходство
«Божественной комедии» заключается в глубине ее философии и
теологии; именно это мнение отвращает читателей от книги Данте.
Можно уподобить чернь женщине, которая охотно говорит об
ученых мужах, но скучает в их присутствии; известно, что чернь
восхищается учеными книгами, но их не читает. В нынешнее время на
смену сдуревшей критике, которая художественную ценность
ограничивала словесами, появилась критика абстрактная, ищущая
прежде всего содержания и пользующаяся этим содержанием как
мерой для всех оценок; таким образом, она хвалит и порицает
сообразно тому, хорошее или дурное, истинное или ложное высказывает
автор. Вместо пустозвонов старой поэзии нам предстоит поэзия
вдумчивая, в которой разум убивает слово, а форма является лишь
предлогом для того, чтобы лучше выявить замысел; при первом
удобном случае поэт тебе сует под нос свое содержание и предается
затем обобщающим рассуждениям. Поэтому Данте хвалят за то, что
можно в нем объяснить и ему простить, но не принять. И да будет
мне разрешено на этом настаивать!
Мысль, будучи лишь мыслью, чужда искусству. Человечество
всегда мыслит, то приукрашивая, то фантазируя, то практически, то
философски. Что такое мысль для великого музыканта? Мысль —
мелодия; что-то как молния мелькает перед его умом, что-то дрожит
под его перстами. Что такое мысль для великого поэта? Думать не
значит ли воображать: он не должен, не может мыслить вне
образов. Если философ видит, что яблоко падает на землю, в душе его
949
тотчас же рождается стремление установить закон, управляющий
этим феноменом, и яблоко превращается в общий принцип. Поэт —
его антипод; если он открывает философскую книгу — вот
нежданно солнечные лучи и прелестные девушки портят силлогизм, и
общее снова превращается в яблоко, которое падает с дерева. Поэзия
не одежда и не покров, не приправа, не специя, не аромат. Поэт —
не придворный, рожденный для того, чтобы ласкать мысль,
придавая ей грациозность, ее увлажняя сладостными напитками, как
говорит Тассо. Поэт сотворен скорее для того, чтобы убивать мысль,
ибо мысль, ему данная, тотчас же изменяет свою природу. Я часто
слышу, как говорят: поэт должен быть философом, необходимы
мысли, не слова. Такие сентенции верны в одном направлении и ложны
в другом, ибо отсюда рождается двусмысленность. Идея в поэзии
должна быть воплощена, должна жить вместе со своим телом; если
вы убиваете тело или превращаете его в некое дополнение, в
простой термин сравнения или же во вспомогательное средство для того,
чтобы воспарить к идеям, вы превращаетесь в иконоборца, вы
лишаете храм его статуй, вы калечите жизнь, разлагаете реальность,
ваш спиритуализм становится идеализмом, но все это не поэзия.
Pagine sparsi di Francesco De Sanctis, Bari, 1934,
p. 14—15; см. также: Opère di Francesco Do
Sanctis, v. V, a cura di S. Romagnoli, Torino,
1955, p. 602—603. Перевод И. Голенищева-Куту-
зова.
ИСТОРИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
[Фантазия и воображение]
Данте в высокой мере обладал таким важнейшим для поэта
даром, как фантазия, которую не следует смешивать с воображением,
способностью гораздо менее ценной. Воображение — это способность
украсить, расцветить, пригладить; самое большее, на что оно
способно, это воссоздать подобие жизни в виде аллегории или
персонификации. Фантазия же — дар творческий, интуитивный,
спонтанный, подлинная муза, «deus in nobis» \ которая владеет секретом
жизни, умением схватить его на лету, даже в самых мимолетных
явлениях, создать впечатление, дать тебе его почувствовать.
Воображение пластично: оно рисует образ, облик: «Pulchra species, sed
cerebrum non habet» 2. Образ — его конечная цель. Фантазия дей-
1 Слова Овидия (Fasti, VI, 5: «Est deus in nobis, agitante calescimus illo»)
часто используются Де Санктисом для определения поэтической фантазии.
2 — «Прекрасен внешний облик, но ум отсутствует» (Fedro, 7, 7, 2J.
950
ствует внутри, затрагивая внешнюю сторону лишь для более
полного раскрытия внутренней жизни. Воображение -— это анализ: чем
больше оно стремится украшать, рисовать, расцвечивать, тем больше
отдаляется оно от сути, от того целого, в чем заключена жизнь.
Фантазия — это синтез: она нацелена на главное, одним штрихом
создает впечатление, чувства живого человека и его образ 1.
Плод воображения — это образ, но образ, замкнутый в себе,
тусклый; плод фантазии — прозрачный «призрак» с едва намеченными
очертаниями, который мы мысленно дорисовываем сами. В
воображении много механического, им пользуются и в поэзии и в прозе,
оно доступно и великим и посредственным; фантазия же нечто
весьма органичное, она дается лишь тем немногим, что именуются
поэтами.
Де С а н к τ и с, История итальянской
литературы, т. I, М., 1963, стр. 80—81. Перевод Ю.
Добровольской.
[Уродливое как предмет искусства\
Ад — это царство зла, смерть души, торжество плоти, хаос: с
точки зрения эстетической — это уродство 2.
Говорят, что уродливое не может являться предметом искусства,
что искусство предполагает изображение красоты. Но искусство —
это все живое; в природе нет ничего такого, что не могло бы явиться
предметом искусства. Вне пределов искусства — лишь то, что
несовершенно по форме, противоречиво, бесформенно, искажено,
деформировано. А посему вне искусства — то, что смутно,
непоследовательно, негармонично, манерно, надуманно, аллегорично,
абстрактно, слишком общо или слишком частно; то есть то, что не есть
жизнь, что является незрелым плодом усилий немощного
художника. А то, что живет,— будь оно от природы красиво или
уродливо,— в эстетическом отношении всегда прекрасно.
Что значит уродливое в природе? Это материя, предоставленная
инстинктам, не контролируемая разумом: она порождает нечто
такое, что оскорбляет наше нравственное и эстетическое чувство.
Сталкиваясь с уродством, поэт обнаруживает, что оно претит его
сознанию, ему самому, а посему воспринимает его как таковое и гово-
1 О различии между фантазией и воображением см. также одиннадцатую
лекцию об искусстве Беркета в «Mazzini е la scuola demoeratica», изд. Эйнауди,
стр. 170 и ел. — Прим. итал. изд.
2 О понятии уродства в «Аде» см. прежде всего двенадцатую и
тринадцатую лекции туринского курса, а также первую и вторую лекции цюрихского
курса в «Lezioni е saggi su Dante», cit., t. V, p. 149 и ел., 417 и ел.— Прим.
итал. изд.
951
рит: «Ты уродливо». И чем более развито у поэта нравственное и
эстетическое начало, тем сильнее его впечатление, тем живее и
достовернее уродство предстает его воображению. Значит, его не надо
маскировать и еще менее приукрашивать, а, напротив, выявлять
и запечатлевать присущими ему красками.
Стало быть, уродливое необходимо и в природе и в искусстве:
ведь именно из противоречия между правдой и ложью, добром и
злом, красотой и уродством рождается жизнь. Исключите это
противоречие — и жизнь окаменеет. Эта истина столь очевидна, что, тю
представлениям древних народов, в жизни происходит борьба двух
активных начал: добра и зла, любви и ненависти, бога и дьявола;
борьба эта нашла свое отражение во всех великих произведениях
искусства. Следовательно, уродство в природе, как и в искусстве,
имеет такое же право на существование, как и красота, причем
часто оно дает больший эффект, что объясняется внутренними
противоречиями, терзающими душу поэта. Ведь красота есть не более чем
красота; уродство же, помимо того, что оно является таковым, еще
и антипод красоты; оно таит в себе противоречие, а потому жизнь
его разнообразнее, в большей мере чревата драматическими
ситуациями. Стоит ли удивляться поэтому, что художественное
изображение уродства зачастую гораздо любопытнее и поэтичнее.
Мефистофель интереснее Фауста, и ад поэтичнее, чем рай !.
Там же, стр. 221—222. Перевод Ю.
Добровольской.
БИБЛИОГРАФИЯ
/. Общая литература
Грамши Α., Избранные произведения, т. 3, М., Изд-во иностр. лит., 1959,
стр. 304—415. («Тюремные тетради», раздел третий — «Проблема истории
и политики»).
Де СанктисФ., История итальянской литературы, под ред. Д. Е. Михальчи,
с послесловием Д. Е. Михальчи и М. Ф. Овсянникова, т. II, М., Изд-во
иностр. лит., 1964, 648 стр.
1 Мысль о художественном превосходстве «Ада» по сравнению с другими
двумя кантиками «Божественной комедии» Де Санктис высказал уже в своих
ранних лекциях: «Если в «Аде» цель (изображение страстей) полностью
достигнута, то в «Рае» поэт был вынужден прибегать к богословию и к
аллегории и все-таки не сумел передать красоту добродетели так, чтобы она могла
соперничать с грехом, столь живо описанным в «Аде». Данте выполнил свой
замысел, нарисовал мир добродетелей и совершенства, но не сумел его
«реализовать» («Teoria е storia», cit., p. 218, «Purîsmo illuminismo storicismo», cit. II).
В более зрелые годы, создавая свои «Очерки» и «Историю литературы», Де
Санктис ставит эту проблему в гораздо более многогранной и сложной форме.—
Прим. итал. изд.
952
H ь е в о И., Исповедь итальянца. Послесловие и примечания И. Голенищева-
Кутузова, т. I—И, М., Госполитиздат, 1960.
Тольятти П., Развитие и кризис итальянской мысли в XIX веке.—
«Вопросы философии», 1955, № 5, стр. 57—70.
Φ ρ и ч е В., Литература эпохи объединения Италии (1796—1870), М., 1916.
В о по га Е., II ρ reroman ticismo in Italia, Milano, [La Goliardica, 1958], 175 p.
G го се В., La letteratura della nuova Italia, v. Ill, Bari, Laterza, 1929, 403 p.
Flora F., Storia della letteratura italiana, v. HI (L'Ottocento), Verona, 1957.
Fubini M., Romanticismo italiano, 2 ed., Bari, Laterza, 1960, 260 p.
Gramsci Α., II Risorgimento, 7 ed., [Torino], Einaudi, 1955, XIV, 235 p.
Maturi W., Interpretazioni del Risorgimento, [Torino], Einaudi. 1962, XXIV,
808 p.
M a ζ ζ ο η i G., L'Ottocento, Milano, Vallardi, 1956 («Storia letteraria
d 'Italia»).
Ρ i e г i P., Storia militare del Risorgimento. Guerre e insurrezioni, [Torino],
Einaudi, 1962, XVII, 883 p.
Ρ о m ρ e a t i Α., Romanticismo e Risorgimento, Milano — Venezia, La
goliardica, 1950, 185 p.
Ρ u 1 1 i η i G., Le poetiche dell'Ottocento, Padova, Liviana, 1959, VII, 357 p.
R us so L., Giovanni Verga, 4 ed., Bari, Laterza, 1947, IX, 484 p.
Russo L., Ritratti e disegni storici, ser. I—II, Bari, Laterza, 1951—1953.
«Saggi di varia umanità». Coll. dir. da F. Flora, Pisa, Nistri-Lischi, 1952—1951.
Sapegna Ν., Gompendio di storia della letteratura italiana, v. III, Firenze,
La nuova Italia, [1956], 509 p.
Sgroi G., L'estetica e la critica letteraria di V. Gioberti, Firenze, 1921.
S t e g e r K., Der politische Charakter der italienischen Romantik und die
Literatur des Risorgimento, Bonn, Röhrscheid, 1952, 208 S.
V i t i G., Verga verista... Con introd. sul verismo e sul Verga, Firenze, Le Mon-
nier, 1961, 326 p.
Werner К., Idealistische Theorien des Schönen in der italienischen
Philosophie des neunzehnten Jahrhunderts, Wien, 1884.
//. Литература к отдельным авторам
Мелькиорре Чезаротти
Сочинения:
Cesarotti M., L'Iliade d'Omero, v. I—II, Padova, 1786.
Gesarotti M., Poesia di Ossian, antico poeta celtico, Firenze, 1846.
Gesarotti M., Saggio sulla filosofia della lingue, Firenze, Sansoni, 1943,
159 p.
Gesarotti M., Opère scelte a cura di G. Ortolani, v. I—II, Firenze, 1945.
Литература:
A I e m a η η i V., Un filosofo délie lettere — Melchior Gesarotti, Torino, 1894,
245 p.
В i η ni W., Gesarotti e il preromanticismo italiano.— «Giviltà moderna»
1941, № 13—14.
M a r ζ о t G., Il gran Gesarotti. Saggio sul preromanticismo settecentesco,
Firenze, 1949.
Rossi G., M. Gesarotti, critico e poeta, Salerno, 1923.
953
Уго Фосколо
Сочинения:
F о s с о 1 о UM Poesie e prose. Scelte е comm. da E. Santini, Palermo, Palumbo,
1946, 208 p.
F о s с о 1 о (J., Poesie e prose scelte. Con introd. e commento a cura di F. Bion-
doliUo, [Milano — Verona], Mondadori, 1957, 398 p.
F о s с о 1 о U., Edizione nazionale délie opère, v. 11, Saggi di letteratura italiana,
Firenze, Le Monnier, 1958, XGVII, 276 p.
F о s с о 1 о U., La commedia di Dante Alighieri, ilustrata da U. Foscolo, ν. 1—4,
Londra, 1842—1843.
Foscolo IL, Saggi sopra il Petrarca a cura di G. Papini, Lanciano, 1911.
Foscolo U., Delia morale letteraria, Roma, 1945.
Литература:
D ο η a d ο η i E., Ugo Foscolo, pensatore, critico, poeta, Milano, 1910, 648 p.
Frattarolo R., Studi Foscoliani. Bibliografia délia critica (1921—1952),
v. 1—2, [Firenze], Sansoni, 1954—1956.
Go f fis CF., Nuovi studi foscoliani, Firenze, La nuova Italia, 1958, 255 p.
S о t g i u D., Ugo Foscolo, Terni. Ed. Thyrus, 1959, 149 p.
Vincent E. R. P., Byron, Hobhouse and Foscolo, Cambridge, univ. press,
1949, VII, 134 p.
Vincent E. R. P., Ugo Foscolo, an Italian in Regency England, Cambridge,
univ. press, 1953, 254 p.
Джованни Беркет
Сочинения:
Berchet G., Opère a cura di E. Bellorini, v. IL Scritti critici e letterari, Bari,
1912.
Литература:
Li G о 11 i E., Giovanni Berchet. La letteratura e la politica del risorgimento
nazionale (1783—1851), Firenze, La nuova Italia, 1933, VIII, 564 p.
Алессандро Мандзони
Сочинения:
Manzoni Α., Opère complete. Con un discorso preliminare di N. Tommaseo
Parigi, 1843, 444 p.
Manzoni Α., Adelchi. Con introd. di N. Sapegno. Manzoni e il primo
risorgimento, Torino, Einaudi, 1960, 217 p.
Литература:
De Sanctis F., Manzoni. A cura di C. Muscetta e D. Puccini, [Torino],
Einaudi, 1955, LXXVI, 425 p.
De Simone J. F., Alessandro Manzoni. Esthetics and literary criticism,
N. Y., Vanni, 1946, 430 p. Bibl. p. 423—429.
Ghisa I berti F., Critica Manzoniana d'un decennio. Bibliografia... Milano,
Casa del Manzoni, 1949, XIII, 357 p.
I 1 i e s с u N., Da Manzoni a Nievo. Considerazioni sul romanzo italiano, Roma,
Soc. accad. rom., 1959, 124 p.
Mazzamuto P., Poetica e stile in Alessandro Manzoni, Firenze, Le
Monnier, 1957, 314 p.
M о m i g 1 i a η ο Α., Alessandro Manzoni, 5 ed., Milano, Principato, [1958],
XII, 273 p.
Ρ a r e η t i M., Bibliografia délie edizioni a stampa di Alessandro Manzoni,
Milano, Casa del Manzoni, 1944, 105 p.
954
Джакомо Леопарди
Сочинения:
Leopardi G., Opère, v. 1—4, Firenze, Le Monnier, 1845—1856.
Leopardi G., Zibaldone di pensieri, v. 1—2. A cura di F. Flora, Milano —
Verona, 1937—1938.
Leopardi G., La prose morali. Nuova presentazione di G. de Robertis,
Firenze, Sansoni, [1957], IX, XXXII, 408 p.
Leopardi G., Discorso di un italiano intorno alia poesia romantica. Con
una antologia di testimonialize sul romanticismo e un saggio introd. di F.
Flora, Bologna, Capelli, 1957, LXVI, 599 p.
Leopardi G., Lettere. Comment, da M. Capucci, Firenze, Salani, 1958,
XXXVIII, 820 p.
Литература:
Bacchelli R., Leopardi e Manzoni. Comment] letterari, [Verona], Monda-
dori, 1960, 508 p.
Biblioteca comunale di Milano. Catalogo del fondo leopardiano, Milano, 1958,
253 p.
В i g ο η g i a r i P., Leopardi, [Firenze], Valecchi, [1962], 548 p.
De Sanctis F., Leopardi. A cura di C. Muscetta e A. Perna, Torino, Einaudi,
1960, LVI, 637 p. (Opère di F. De Sanctis. 13).
Galimberti C, Linguaggio del vero in Leopardi, Firenze, Olschki, 1959,
167 p.
G i a η i R., L'estetica nei «Pensieri» di Giacomo Leopardi, Torino, Bocca,
1904, XI, 254 p.
G i a η η e s i F., La critica leopardiana, Milano, La goliardica, [1958], 202 p.
Malagoli L., Leopardi, Firenze, La nuova Italia, 1960, VIII, 80 p.
Ρ о г e η a M., Scritti leopardiani, Bologna, Zanichelli, 1959, 487 p.
Scheel H. L., Leopardi und die Antike, München, Hüber, 1959, 167 S.
S i m ο η i Α., Leopardi, critique littéraire dans le «Zibaldone» et l'Epistolario,
Aix-en-Provence, Pensée univ., 1957, 265 p.
Timpanaro S., La filologia di Giacomo Leopardi, Firenze, Le Monnier,
1955, 280 p.
Випченцо Джоберти
Сочинения:
G i о b e r t i V., Edizioni nazionale délie opère édite e inédite, Milano, Bocca,
1939—1941.
G i о b e r t i V., Saggio sul Bello e elementi di filosofia estetica, Napoli, 1845,
471 p.
G i о b e г t i V., Essai sur le beau ou éléments de philosophie esthétique, trad.
d'ital. par J. Bertinatti, Bruxelles, Meline, Cans, 1843, LXXIV, 315 p.
G i о b e r t i V., Saggio sul Bello e elementi di filosofia estetica. A cura di E.
Castelli, L'edizione nazionale délie opère di Gioberti, Milano — Roma,
1937—1947.
Литература:
Caramel la S., La formazione délia filosofia giobertiana, Genova, Ricci,
1927, 305 p.
F a g g i Α., Vincenzo Gioberti esteta e letterato, Palermo, 1901. (Atti délia R.
accad. di Palermo, ser. III, vol. IV).
Giusso L., Gioberti, [Milano], Garzanti, 1948, 341 p.
955
Re da nô U., V. Gioberti, Torino, Société ed. internazionale, [1958], 228 p.
S a i 11 a G., II pensiero di V. Gioberti, 2 ed., Firenze, Vallecchi, 1927, 438 p.
S о 1 m i E., Mazzjni e Gioberti, Roma, Società ed. Dante Alighieri, 1913, XX,
467 p.
Sgroi G., L'estetica e la critica letteraria di V. Gioberti, Firenze, Vallecclii,
1921, XII, 188 p.
Stefanini L., Gioberti, Milano, Bocca, 1947, 446 p..
Ζ i η i Z.„ V. Gioberti con bibliografia, Torino, Para via, 1936, 112 p.
Джузеппе Мадзини
Сочинения:
M a ζ ζ i η i G., Scritti editi ed inediti, v. 16, 18, 21, 29, Imola, Galesti, 1906—
1919.
M a ζ ζ i η i G., Filosofia della musica. Gon introd. di A. Lualdi, Bocca, 1954,
194 p.
Mazzini G., Della guerra d'insurrezione conveniente alPltalia. Con introd.
di G. Tramarollo, [Torino], Assoc, mazziniana, 1955, 56 p.
Литература:
Герцен A. И., Собр. соч. в 30-ти томах, т. 5, 6, 10, И, М., Изд-во Акад.
наук СССР, 1955—1957 (см. по указателю имен).
Гершензон М., Образы прошлого, M., ОКТО, 1912, 545, VII стр.
В о ν i о G., Giuseppe Mazzini, Milano, 1944.
Canestrelli G., Bibliografia degli scritti di Guiseppe Mazzini, Roma,
Soc. Laziale, 1892, 122 p.
De Sanctis F., Mazzini e la scuola democratica.— In: «Storia della
letteratura italiana nel s. XIX», v. Ill, Milano, 1958.
Guadagnini G., La fonte delle teorie romantiche mazziniane.— «Gior-
nale storico della letteratura italiana», v. LXXXIX, Torino, 1927.
M a η u с с i F. L., Giuseppe Mazzini e la prima fase del suo pensiero letterario,
Milano, 1919.
Mazzano U. R., L'arte nelPestetica mazziniana, Bari, 1923.
R о s s e 1 1 i Ν., Mazzini e Bakunin, Torino, Bocca, 1927, VIII, 444 p.
Франческо Де Санктис
Сочинения:
De Sanctis F., Lezioni e saggi su Dante. A cura di S. Romagnoli, Torino,
Einaudi, 1955.
De Sanctis F., Lezioni zurighesi sul Petrarca e altri scritti. A cura de S.
Romagnoli, Padova, Liviana, 1955, XXVI, 145 p.
De Sanctis F., Storia della letteratura italiana nel secolo XIX. A cura di
A. Asor Rosa. Pref. di С Muscetti, v. 1—4, Milano, Feltrinelli, 1958.
De Sanctis F., Il mezzogiorno e lo stato unitario. A cura di F. Ferri, Torino,
Einaudi, 1960, XLII, 595 p.
De Sanctis F., Storia della letteratura italiana. A cura di L. Russo, v. I—II,
Milano, 1960.
Литература:
Biondolillo F., L'estetica e la critica di Francesco de Sanctis, Roma, Ri-
cerche, 1957, 175 p.
Russo L., Francesco de Sanctis e la cultura napoletana, 3 ed., Firenze, San-
soni, 1959, XIV, 415 p.
И С ПАН ИЛ
1808 году войска Наполеона вторглись в
Испанию. Началась война испанского народа против
французского господства. Маркс писал о том, что
все войны против Наполеона носили двойственный
характер, представляя собой переплетение
прогресса и реакции. Особенно сложным и
запутанным было положение, которое сложилось в
Испании. Под ударами наполеоновских войск рухнул
полуфеодальный режим Карла IV. Буржуазная?
интеллигенция Испании была воспитана на французской
просветительской философии XVIII века. Поэтому многие из ее
представителей увидели в армии Наполеона борца против феодальной тирании
и перешли на сторону французов. Другая, большая часть этой
интеллигенции возглавила борьбу народа против захватчиков. Этот
двойственный характер движения породил весьма противоречивое
и даже парадоксальное сочетание различных тенденций.
959
Борьба против французских захватчиков совпала в Испании с
буржуазной революцией против феодализма. В этих условиях в
испанской литературе и эстетике видную роль играл революционный
классицизм, восходящий в своих истоках к французскому
классицизму. Крупнейший поэт эпохи войны за независимость Мануэль
Хосе Кинтана был автором од, написанных в духе революционного
республиканского классицизма и прозаического сочинения
«Жизнеописания знаменитых испанцев», в котором он подражал Плутарху.
В духе классицизма писали свои стихи и второстепенные поэты
эпохи борьбы за независимость. Но оборотной стороной этого движения
было возрождение идей и верований старой патриархальной
Испании. Оно стало почвой для испанского романтизма. Конечно,
идеализация патриархальных обычаев старой Испании составляла
реакционную сторону романтического движения. Но представители
первого поколения испанских романтиков — Анхель Сааведра, Антонио
Алькала Галиано и особенно величайший поэт испанского
романтизма Хосе де Эспронседа — были людьми революционно
настроенными, врагами старого феодального режима и сменившего его
режима Реставрации.
Романтизм в Испании носил сравнительно запоздалый характер.
Принципы романтической эстетики были сформулированы только
в эпоху Реставрации. Один из самых крупных поэтов испанского
романтизма Анхель Сааведра герцог Ривас написал два
произведения, опирающиеся на национальный фольклор и посвященные
истории Испании: «Мавр-подкидыш» (1834) и «Исторические
романсы» (1841). Предисловие Алькала Галиано к «Мавру-подкидышу»
и самого Анхеля Сааведры к «Историческим романсам» являются
наиболее яркими манифестами испанского романтизма. Призыв
романтиков освободить литературу от догм классицизма и связать
ее с фольклором и национальной историей сыграл весьма
прогрессивную роль в истории испанской эстетики.
Эволюция романтизма в Испании была иной, чем в других
европейских странах, где развитие романтизма началось с выступления
деятелей политически консервативных и завершилось движением в
сторону демократических идей и даже утопического социализма.
Во Франции на смену Шатобриану пришли Гюго и Жорж Санд,
в Германии на смену Шлегелям и Новалису — Гейне, в Англии на
смену «озерной школе» — Байрон и Шелли. Развитие испанского
романтизма шло в противоположном направлении. Даже самые
решительные борцы против феодализма, подобные Анхелю Сааведре,
пришли к либерализму и примирению с монархическим режимом,
сложившимся в Испании. Но самым существенным было то, что на
смену им явилось новое поколение романтиков, настроенных кон-
960
сервативно, прославляющих феодальную старину, католическую
религию и порядки старой традиционной Испании. Наиболее ярким
примером является творчество и эстетические взгляды Соррильи.
Конец режима Реставрации привел к серьезной перегруппировке
сил в Испании. Реакционные элементы, объединившись вокруг
принца Карлоса, начали войну против центрального испанского
правительства. Перед лицом этих реакционных сил правительница
Мария-Кристина стремится опереться на либеральную буржуазию.
Борьба народных масс, первые выступления еще незрелого тогда
испанского пролетариата привели буржуазию к союзу с реакцией.
Важнейшим моментом в развитии испанской культуры этого
периода было возникновение эстетики революционно-демократического
направления, главным представителем которой был Ларра. Связь
искусства с политикой и общественным прогрессом, эмансипация
личности от феодальной морали, защита интересов личности в
искусстве — вот основные принципы эстетики Ларры, содержащие
в зародыше эстетику реализма.
Реалистическая литература в Испании развивается во второй
половине XIX века. Однако испанская эстетическая мысль этого
времени, так же как и испанская литература, не могла до конца
отмежеваться от эстетики романтизма. Вместе с тем в испанской
эстетике очень рано начал играть большую роль натурализм. Это
колебание между романтическими и натуралистическими
крайностями свидетельствует о слабости испанской эстетики XIX века,
так же как искусство испанских писателей этой эпохи
свидетельствует о слабости испанского реализма.
А. Л. ШТЕЙН
АЛЬКАЛА ГАЛИАНО
1789-1865
Антонио Алькала Галиано — политический деятель и литературный критик.
Будучи человеком демократических убеждений, Алькала Галиано боролся
против реакционного режима Фердинанда VII, режима Реставрации. Он
принимал участие в революции 1820—1823 годов и после поражения революции
вынужден был эмигрировать в Англию, ибо на родине ему грозила смертная
казнь. Пребывание в Англии оказало большое влияние на развитие его
эстетических взглядов.
В начале века Галиано выступает еще как убежденный сторонник
классицизма, отвергая с этих позиций даже испанскую национальную драму.
В дальнейшем эстетические взгляды его меняются. Так, в 1834 году (в год
961
возвращения его из эмиграции на родину) Галиано пишет «Пролог к первому
изданию «Мавра-подкидыша», романтической поэмы Анхеля Сааведры. Этот
пролог является манифестом испанского романтизма, и в этом смысле его
можно сравнить с предисловием Гюго к «Кромвелю».
Алькало Галиано требует освобождения литературы от догм классической
поэтики и приближения ее к жизни. В своей защите романтизма он опирается
на опыт других народов, обогнавших в этом отношении Испанию. Он
стремится вывести развитие поэзии из характера цивилизации данного народа,
его обычаев и традиций. Галиано отвергает догматическое противопоставление
классической и романтической поэзии, уравнивая их в правах. Он защищает
поэтическое искусство как выражение человеческой фантазии и человеческих
привязанностей, правдивое зеркало своей эпохи. В этом смысле его эстетика
была шагом вперед по направлению к реалистическому пониманию
художественного творчества.
ПРОЛОГ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
«МАВРА-ПОДКИДЫША»
Природа, будь моею проводницей,
Все покажи, что в книге вечной есть,
И дай ее прекрасные страницы
Без помощи посредников прочесть.
Мори
Предоставляя на суд читателя этот опыт, написанный в жанре,
новом для кастильской поэзии, автор полагает нужным и даже
необходимым привести здесь изложение литературных теорий,
которым он в своем труде следовал.
Как известно, в последнее время появились в мире поэтов и
критиков две противоборствующие партии, с крайним ожесточением
оспаривающие первенство в литературе и искусстве. Сторонники
первой из этих партий назвались классиками, а второй —
романтиками.
Вожди и теоретики обеих сект похваляются своим весьма
старинным родословным древом, однако, если даже сочинения эпох
от нас отдаленных и могут быть подразделяемы в согласии с
правилами новых теорий, верно и то, что писатели и критики
предшествующих веков не знали подобного разделения и что ежели среди
них были писателя-романтики, то они сродни достославному моль-
еровскому г-ну Журдэну, сорок лет говорившему прозой, о том не
ведая.
Нелегко выяснить главные отличительные особенности каждого
из этих направлений, поскольку, хотя и романтики и классики
утверждают некие основания, на которых зиждется построение как
962
одной, так, соответственно, и другой доктрины, и устанавливают
некие пределы, которыми эти доктрины ограничиваются, не подлежит
сомнению, что каждая из школ выдает порой за свои такие
сочинения, которые никак не согласуются с положениями ее собственных
теорий и не вмещаются в пределы, ею самой очерченные.
Примером может послужить испанская драматическая поэзия,
ныне рассматриваемая и приверженцами своими, равно и
противниками, в целом как романтическая.
Поскольку эта поэзия не соблюдает единств, с недостаточным
основанием почитаемых главнейшими правилами древнегреческих
драм, поскольку она не избегает смешения отрывков в комическом
и веселом стиле с местами, выдержанными в тоне трагическом и
возвышенном, поскольку повествует иногда о событиях средних веков,
а сюжетам из истории Древнего Рима и Греции, в том числе и
сюжетам, взятым из мифологии, всегда придает некоторый
позднейший рыцарский колорит, то вполне можно назвать ее
романтической и рассматривать в соответствии с канонами нынешнего
романтизма.
Но если мы примем во внимание, что наши старые драматурги
не только не писали прозой или вольным стихом, но применяли
систему стихосложения более искусную, чем французские парные
рифмы, что они не только не отвергали намеков на античные мифы,
но охотно вводили их, даже с явным излишеством и несоответствием
сюжету, например при изображении эпохи средних веков, и, не
колеблясь, вкладывали мифологические сентенции в уста
персонажей-мавров, что стиль их произведений, вместо того чтобы быть
ясным и простым, непременно возвышенный (за исключением тех
мест, когда говорят грасиосо *, которые даже в именах своих
отличны от прочих действующих лиц), то мы откроем в испанской
драматической поэзии немалое сходство с поэзией французской,
признаваемой за наисовершеннейший образец классической школы.
Чтобы отыскать корни нынешней романтической школы, нам
следует отправиться в Германию. Там родилась она, и там
образовали свои вкусы современные итальянские и французские
романтики.
С полным правом заявляют некоторые критики, что германские
народы, цивилизация и традиции которых имеют происхождение»
отличное от обычаев, поверий и представлений народов, в свое время
находившихся под господством римлян, являются
первооткрывателями залежей романтизма, поныне их разрабатывающими. И если
подлинная поэзия есть зеркало человеческой фантазии и человече-
1 Грасиосо — слуга-шут в испанской комедии.— Прим. перев.
963
ских привязанностей, то вполне понятно, что для обитателей
Германии и других северных стран романтическая поэзия — родная.
Мифология этих племен никогда не была греческой или
латинской, их обычаи не имели никакого сходства с обычаями
классических народов, небеса, над ними простиравшиеся, земля, по которой
они ступали, были и остаются во всем иными, нежели картины
природы Греции или Лациума, их впечатления и ассоциации идей в
силу этого должны были разниться от впечатлений и
основополагающих представлений древних греков и римлян. Поныне жители
северных стран, если и близки к южанам по сходству или
тождественности религии, законов и общественных установлений, все же
не могут жить и выражать свои чувства так, как живут, чувствуют
и говорят уроженцы жаркого климата, где солнце знойное и небо
безоблачное, потому что повсюду дары природы, нравы и обычаи,
чувства и представления имеют между собой теснейшую и
необходимейшую связь.
Кто не заметит во французских классических трагедиях (и не
только у Корнеля, но и у самого Расина, столь подражавшего Еври-
пиду) несомненных признаков современного им общества, в
котором и для которого были они написаны?
Поэзия, безусловно, правдивое зеркало своей эпохи, потому что
чувства поэта, как и его ум, воспитываются и изменяются чтением,
повседневным общением и, в конечном счете, тысячью
обстоятельств, с которыми он сталкивается и которые оказывают влияние
на его воображение и вкусы.
Наиболее естественная поэзия в то же время и самая лучшая,
подобно тому как и плоды, выращенные в условиях
благоприятствующего климата, выгодно отличаются от полученных искусственно,
посредством затраты дополнительного труда, или как мануфактуры,
чье процветание обусловлено расположением и природой страны
и навыками ее жителей, производят товары гораздо более высокого
качества, чем те, существование которых поддерживается
привилегиями и монополиями.
Поэтому есть народы и есть времена, когда поэзия не может
не приближаться к греческой и римской, и, наоборот, в иные
времена и у иных народов она с необходимостью удаляется от
прекрасных и совершенных образцов классической древности, однако
же, и приближаясь и удаляясь, она должна всегда соблюдать
правило, согласно которому поэтическим и истинным будет лишь то,
что отображает полет фантазии и порывы души. [...]
Нами было уже указано выше, что немцы — родоначальники
современного романтизма, и в Германии он сохранился в такой же
чистоте, в какой в Италии сохранился классицизм.
964
Нет необходимости ни превозносить литературный вкус немцев
ни предпочитать его вкусам, господствующим в других странах,
чтобы с ясностью представить себе величайшее значение их
теоретических положений для развития научной критики повсюду в Европе.
Несомненно, что немецкой литературе принадлежит честь
открытия и установления одной важнейшей истины, а именно: существует
не один только образец для подражания и не один только источник
литературного совершенства или по крайней, мере к совершенству
ведут различные пути, и каждому поэту надлежит выбрать тот,
который всего более ему подходит.
Это не означает, что подобное правило не приводит зачастую
к неудачам, ибо многие писатели из чистой прихоти, лишь бы
только свернуть с тропы, по которой они ранее принуждаемы были
двигаться, становятся на тот или другой ложный путь, который не
является ни удобным, ни приятным, ни более коротким, а, напротив,
уводит их в сторону от цели, обрываясь в какой-либо пустыне или
пропасти.
С той поры, как немцы вышли на арену европейской
литературы, произошел почти всеобщий переворот в литературных теориях и
практике европейских писателей, и если Англия, в которой Драй-
ден, Аддисон, Поп и ряд других, менее крупных талантов явились
основателями полуклассической поэтической школы, под влиянием
германских веяний с еще большей страстью вернулась к своему
старинному и никогда полностью не оставляемому культу
Шекспира и поэтов, его современников, то в Италии и во Франции
образовались новые школы, принявшие имя романтических.
Переворот этот явился в высшей мере благотворным, хотя,
разумеется, подобно всему человеческому, не без примеси некоторых
нежелательных последствий. Рассмотрим, каково было влияние
этого переворота на литературу каждой отдельной страны и на
мировую литературу в целом.
Литература французская как раз не может служить наглядным
доказательством благотворных его результатов, но, быть может, они
просто недостаточно известны, ибо ни литературные руководители,
ни главнейшие представители французской романтической школы,
ни тем более их последователи не являются ни единственными, ни,
возможно даже, истинными вождями этого переворота.
Не в обиду будь сказано многим крупным французским
талантам, с восторгом принявшим новое движение и присваивающим
себе первенство в рядах его участников, романтики par excellence l
на деле прежде всего являются антиклассиками и не свободны от
1 — по преимуществу (латин.).
965
пороков прежде господствовавшей на их родине школы, которую они
берут за образец с тем только, чтобы делать противоположное тому,
что ее теория предписывает, по существу, поступая так же, как их
предшественники, ни на дюйм не отклонявшиеся от строжайших
своих правил.
Поскольку французские классики писали хорошими стихами,
романтики взяли себе за правило писать нарочито плохими;
поскольку классики были чрезмерными пуристами, романтики без
меры щедры на варваризмы и солецизмы, поскольку первые
страшились вводить поэтические новшества и смелые образы и лишь в
редких случаях позволяли себе выходить за пределы бесстрастного
стиля и тона, вторые или возносятся без необходимости, или же,
напротив, извиваются ужом и кидаются в бездонные пропасти
низменного. В одном только они сходны с классиками, столь ими
презираемыми, и безусловно в худшем,— так как они постоянно
высокопарны. Между тем в самой Франция имеются ныне поэты и критики,
считающиеся классиками, взгляды и пример которых
свидетельствуют о переменах, происходящих в литературной республике.
Эти писатели принадлежат к новой классической школе, во
многом отличной от той, которая ранее господствовала в их отечестве.
В Италии также имеются свои поэты-романтики, среди которых
особо выделяется Мандзони, превосходный критик и романист. Там
были лучшие, чем во Франции, предпосылки для хорошей, истинно
романтической поэзии или, другими словами, для национальной
поэзии, достойной родины Вергилия и Тассо, Данте и Ариосто, и
современные итальянские поэты использовали эти предпосылки как
нельзя лучше.
Мы уже отмечали, что Германия — колыбель романтизма. То,
что нашему взгляду представляется причудами ее писателей, для
немцев естественно, как сама жизнь, и согласуется с их
философскими системами, также полными необъяснимых тайн.
Англия почти совершенно не знает разделения поэтов на
классиков и романтиков. В стране этой, уступающей лишь Германии по
глубине изучения древнегреческой литературы, никогда не смогла
прочно укорениться классическая французская школа века
Людовика XIV. Драйден хотя и желал, но не мог ей следовать, поскольку
обладал хорошим вкусом и фантазией неизмеримо более живой,
нежели у французских поэтов. Аддисон хотя и сочинял стихи, но
поэтом не был. Наиболее влиятельным английским классиком был Поп,
поэт остроумный, изобретательный, правильный и изящный,
безупречный в стихосложении и непогрешимый в стиле; он скорее был
склонен наблюдать и описывать общество и нравы, нежели
изображать живые, мощные и глубокие страсти; одним словом, Поп был
966
классиком французского толка, неизмеримо далеким от истинно
классических вкусов античной древности, точно так же как его
перевод поэм Гомера, знаменитый в свое время да и сейчас еще
немало прославляемый, является самой неверной копией этих
бессмертных творений, какая только может существовать; правда, сам
по себе этот перевод нельзя назвать плохим произведением, в нем
есть ряд прекрасных стихов, зачастую, однако, не передающих
смысла и никогда не выражающих правильно общего духа и стиля
произведений этого царя греческой поэзии. Со времен Каупера
английская поэзия остается, быть может, наиболее значительной в
современной литературе как по изобилию, так и по ценности
принадлежащих ей произведений, потому что английские поэты, отложив
в сторону ошибочные правила и не заботясь быть ни классиками,
ни романтиками, сумели стать такими, какими были в свое время
античные классики и какими должны быть поэты во все
времена.
Назовем имена наиболее выдающихся из них.
Рыцарственный Вальтер Скотт, склонный к метафизике и
описаниям Байрон, патетический и вместе с тем утонченный Кэмпбелл,
нежный и ученый Саути, простой и сердечный Вордсворт, чья
чувствительнейшая натура находит величайшее удовлетворение в
пристальном и постоянном наблюдении природы, живописец людей из
низших классов Крабб, который в стиле мощном и грубоватом,
но в то же время живом и блестящем дает нам изображение
естественных и энергических страстей и своеобразных обычаев, а также
пороков и преступлений, вместо того чтобы описывать, следуя
прежним образцам, слабости и лицемерие людей из общества,
Берне, их изображающий, в то же время умеет пылко и достоверно
живописать сильные страсти, Мур, поэт учтивый, остроумпый,
изобретательный, наделенный живым воображением, хотя и не
лишенный манерности, лира которого, подобно лире Тиртея, при
воспоминании о его родине издает звуки проникновенные и
торжественные. Не будем говорить о прочих, почти столь же выдающихся; все
вместе они составляют созвездие первоклассных поэтов; в их
произведениях есть истинное вдохновение и хороший вкус и в то же
время величайшая оригинальность и разнообразие.
Между тем испанцы, скованные по рукам и ногам французским
классицизмом, ныне чуть ли не единственные среди европейских
поэтов не осмеливаются преступать границы, очерченные
иноземными критиками XVII и XVIII веков, а также Лусаном и его
приверженцами.
Удивительно, что как Моратин, так и Мартинес де ла Роса,
говоря о единствах времени и места, не только рекомендуют соблю-
967
дать их, но считают их совершенно непреложными и даже словом
не обмолвятся о весьма ожесточенных спорах, ведущихся в наши
дни по поводу и этого и других теоретических положений
классицизма во всех странах, за исключением Испании. Подобное
умолчание представляется невероятным со стороны писателей, для которых
не является тайной, что ныне уже во многих театрах Парижа, в том
числе и в так называемом французском, долгое время остававшемся
как бы храмом, посвященным культу классиков, начали ставить
драмы, действие которых продолжается в течение времени, порой
значительно превышающего одни сутки. [...]
Совершенно непонятно, почему в Испании, стране, где
поныне справедливо почитаются Лопе, Кальдерон и Морето, не должен
признаваться законным вопрос о том, нельзя ли принять в наши
дни за основу образец драмы, ими созданный, при условии внесения
в него необходимых изменений и не этого ли пути надо
придерживаться, желая создать национальные произведения, которые были
бы крепкими и жизнеспособными, не в пример чахлым растеньицам,
сразу же выдающим свое чужеземное происхождение и полную
неприспособленность к испанскому климату.
После вышеизложенного краткого обозрения последствий, к ко^
торым повлекло за собой применение новой теории на практике
в различных странах Европы, будет небезынтересным рассмотреть
вкратце, к какому изменению литературных вкусов привело ее
распространение.
Несомненно, она пробила брешь в системе считавшихся
издревле непогрешимыми представлений и нанесла смертельный удар
некоторым слепо почитаемым авторитетам. То, чему ранее верили
без проверки, теперь подвергается исследованию и, проходя через
горнило разума, либо принимается, либо отвергается. Когда
раскрепощается таким образом способность к собственному суждению,
го вместе с этим открывается и путь для ошибок и сумасбродств;
однако, что самое важное, устраняются препятствия, затруднявшие
поиски источников мыслей и образов вне столбовой дороги,
проложенной авторитетами для всех, за ними идущих. Поэты оставили
в стороне сюжеты из античной мифологии и литературы как мало
подходящие для новой эпохи и еще потому, что, всем уже набившие
оскомину, они были лишены сути не менее, нежели новизны.
Античная мифология перестает употребляться даже в аллегорическом
плане.
Новые поэты черпают материал для своих произведений из эпохи
средних веков, эпохи уже достаточно для нас отдаленной, чтобы
быть поэтической, и в то же время изобилующей примерами
сильных страстей, которые являются для поэзии благодатным источ-
968
ником: отсюда рыцарская поэзия. Эти поэты ищут для себя
материал также в далеких и малоизвестных землях, где, поскольку
цивилизация еще не достигла высокого развития, природные инстинкты
не успели испытать всей тяжести воздействия социальной
регламентации. Так, англичанин Кэмпбелл переносит нас в отдаленные
поселения Северной Америки, Саути — в Индию и Парагвай, Мур —
в Персию, а Байрон убеждает нас, что и в современной Греции
существуют предметы, достойные поэтического отображения, и что
приключения ее морских разбойников могут потрясти наши чувства
даже сильнее, чем прославленные подвиги героев ее древних
республик или трагические события, происходившие в этой стране во
времена легендарные, ибо события эти являются делом рук судьбы,
действия которой мы не признаем, не переживаем и не
представляем себе.
Эти поэты ищут источник своего вдохновения также в
человеческих страстях и душевных потрясениях — отсюда метафизическая
поэзия, столь прекрасная у того же лорда Байрона, у многих
немецких поэтов, у англичан Кольриджа и Вордсворта и у
французов Виктора Гюго и Ламартина.
Наконец, эти поэты в поисках материала отнюдь не
пренебрегают событиями политической и общественной жизни, отсюда
патриотическая поэзия французов де Лавиня и Беранже, итальянца Ман-
дзони, шотландца Бернса, ирландца Мура, англичанина Кэмпбелла
и немца Шиллера.
Словом, таким образом поэзия опять становится тем, чем она
была первоначально в Древней Греции: выражением
воспоминаний о прошлом и переживаний настоящего, изменением бурным
и искренним, а не перепевом предшествующих поэтов и не
школьным заданием, выполняемым строго по указке критиков-доктринеров.
Из вышеизложенного нетрудно заключить, каковы были
намерения автора при сочинении им данной поэмы. Автор не стремился
сделать ее ни классической, ни романтической, потому что
разделения эти являются произвольными и в существование их он не
верит, по каковой причине и не налагает на себя обязанности
повиноваться тем, кто настаивает на их строгом соблюдении.
Автор взял для своей поэмы сюжет из истории средневековой
Испании, поскольку он убежден, что эта эпоха может дать
испанскому поэту обширный материал, несмотря на то, что она до сего
дня находилась в пренебрежении у наших поэтов, а ежели
некоторые наши современные драматурги изображали ее, то непременно
в так называемом классическом духе, то есть в духе, как раз
противоположном существу эпохи.
969
Автор избрал систему стиха, редко или, быть может, никогда не
применяемого в произведениях большого объема, однако же легко
читающегося, изящного и торжественного одновременно, сходного
со стихами коротких романсов, представляющих собой истинно
испанский жанр, даже по созвучиям своим характерный именно для
испанской речи.
Автор пытался придать своему сочинению соответствующий
колорит, обращаясь с этой целью к ныне уже весьма редким
свидетельствам об описываемых им событиях, свидетельствам, относящимся
ко времени немного более позднему, нежели сами события, потому
что более ранних свидетельств не имеется. Автор сознательно
отошел от ровного и сдержанного стиля, применяемого большей
частью наших нынешних писателей, так же как и от всяких
мифологических намеков. Если дозволительно так в данном случае
выразиться, автор перемешал были с небылицами, то есть картины,
ничем не приукрашенные, с тщательно выписанными, страницы
высокого стиля со страницами низкого и реальную жизнь с жизнью
идеальной.
Весьма возможно, что, поступая так, автор вызовет возмущение
значительной части своих читателей, однако не его вина, что сама
природа перемешала в мире торжественное и нежное с чудовищным
и смешным, а он только намерен иметь природу своей проводницей
и описывать все так, как оно происходит, поскольку, возможно,
именно так и происходило все описанное в его повествовании.
По этой причине и как следствие допускаемого автором
смешения стилей его язык часто прозаичен и прост. И в жизни автора
этой поэмы тоже было такое время, когда он восторгался Эррерой
и его учениками, подражая этим поэтам во всем. Еще и поныне
автор высоко ценит многих из них, однако теперь уже не считает
себя обязанным рабски им следовать.
Хорошо, когда поэт смел в выборе слов, когда он прибегает
к неожиданным оборотам, придает широко известным словам новое
значение или даже составляет новые слова, иногда заимствует
слова из других языков или в крайнем случае сам изобретает их. Но
этим он не должен оправдывать нежелание называть вещи своими
именами, искусственно ограничивая тем самым свой словарь, пусть
даже он одновременно и расширяет его в другом направлении.
Кроме того, из желания избежать употребления низких слов и
фраз он не должен впадать в недопустимую и распространенную
ошибку, заключающуюся в убеждении, будто редкостное слово или
звучный и непривычный оборот превращают заурядную мысль в
поэтическую, восполняя изысканностью формы пустоту и нищету
содержания. Поэтому, когда автор желает, например, сообщить, что некий
.970
персонаж его идет слушать мессу, то говорит об этом прямо,
нисколько не стесняясь, ибо, выразив то же самое иначе, не сделает
свой образ ни более, ни менее благородным.
Итак, утверждая, что автор предлагаемого сочинения не
придерживается правил, я имею в виду те самые правила
французского классицизма, которые неоднократно уже были осуждены
компетентными критиками и не принимаются во внимание лучшими
современными поэтами всей Европы. Но некоторым правилам
автор все же следовал: он старался соблюдать законы восприятия
поэтического произведения читателем, согласовывать свой стиль с
сюжетом во всем повествовании и в каждой из его отдельных частей,
индивидуализировать язык действующих лиц, картины свои писать
в тех же красках, в каких они ему представляются, изображать
предметы реально существующие либо те, которые ранее
существовали или же могут существовать. Он также старался уловить
характерные черты эпохи, устремляясь к идеальному, всегда сохранять
признаки реального, благодаря которым плодам воображения
придается облик действительности, излагать свои мысли ясно и,
насколько это в его силах, безупречно, порой с изяществом и
непременно с правильностью выражений, писать самыми лучшими, в меру
его возможностей, стихами и, наконец, доверяя собственным
порывам и повинуясь лишь вдохновению, создавать не то, что создавали,
но творить так, как творили прославленные иноземные таланты
нашего времени, столь изобилующего здравыми критическими
суждениями и близкого поколению философски мыслящих людей в их
начинаниях. [...]
Alcalâ Galiano, Prologo à la primo edizion
de «El того exposito».— «Classicos Gastellanos»,
t. 12, Madrid, 1912, p. 257—277. Перевод Ю. Кирий.
ДЕ ЛАРРА
1809-1837
Писатель, критик и публицист Мариано-Хосе де Ларра родился в семье
врача, поступившего на службу в армию Наполеона. Детство провел во
Франции, где изучил французский язык и глубоко воспринял революционные
традиции французской культуры. По возвращении в Испанию учился в
университете в Вальядолиде, но затем бросил университет, занявшись литературой и
журналистикой. Двадцати восьми лет от роду Ларра покончил жизнь
самоубийством. Непосредственным поводом к самоубийству послужила несчастная
971
любовь, но действительная причина самоубийства гораздо серьезнее — она
связана с внутренними противоречиями мировоззрения писателя.
Ларра выступал и как романтик (автор драм и романа, посвященных
испанскому прошлому), но в зрелый период своего творчества проявил себя
прежде всего как публицист революционно-демократического направления.
В своих очерках и статьях, которые он подписывал псевдонимом Фигаро,
Ларра выступил с критикой патриархальной отсталости Испании и
реакционного движения карлистов. Он обрушился с язвительными насмешками и на
либералов, осмеивая их трусость, измену делу народа.
При всей своей любви к народу, в котором он видел основу общества,
Ларра с горечью говорит о его покорности и даже приходит к
пессимистическому выводу о незыблемости существующего порядка. Ненавидя
существующий режим, но не зная реальных путей борьбы с ним, Ларра в конце своей
жизни пытался найти выход в христианском социализме и даже перевел на
испанский язык книгу Ламенне «Слова верующего» К
Трагическая гибель Ларры была прежде всего результатом духовного
тупика, в котором он оказался вследствие этих идейных блужданий.
В отличие от своих современников — испанских романтиков
консервативного направления, все больше склонявшихся к теории чистого искусства,
Ларра в своих эстетических работах выступает как защитник реалистического
искусства и ратует за связь искусства с политикой. Когда человечество
освобождается от старой средневековой морали и происходит раскрепощение плоти
от аскетических догм, литература должна служить прогрессу, утверждает
Ларра. Она «дочь опыта и истории» и, так же как и политика, стремится
к истине.
Особую роль Ларра отводит сатире, которая вскрывает пороки общества
и тем самым способствует его развитию.
ИЗ СТАТЬИ «ЛИТЕРАТУРА»
В наше время множество молодежи жадно устремляется к
источникам знания. И в какую именно пору? В пору, когда умственный
прогресс, сбрасывая повсюду цепи былого, расшатывая одряхлевшие
традиции и ниспровергая идолов, провозглашает миру свободу
морали, а заодно и свободу плоти, поскольку ни одна из них не
может существовать без другой.
Литература должна отозваться на эту неслыханную революцию,
на этот безмерный прогресс. В политике человек усматривает не
что иное, как права и интересы, иначе говоря, истины. Равным об-
1 Ламенне — французский публицист и философ, аббат; в книге «Слова
верующего» осуждает капитализм с позиций христианского социализма.
972
разом и в литературе он может искать только истины, И пусть не
говорят, что устремления и дух нашего века, то есть дух
конкретного анализа, несут будто бы в самих себе смерть для литературы.
Это не так! Ибо страсти человеческие на веки вечные останутся
истиной, да и само воображение, разве оно не прекраснейшая из
истин?
Если испанская литература эпохи золотого века была более
блестящей, чем основательной, если впоследствии она погибла от рук
религиозной нетерпимости и тиранической политики, если она
смогла снова ожить только благодаря французским помочам и если
бедствия родины прервали этот полученный со стороны импульс, будем
надеяться, что в скором времени мы сможем заложить фундамент
новой литературы, отражающей то новое общество, которое мы сами
составляем, литературы истины, подобно тому как и в основе
нашего общества тоже есть истина; литературы, не знающей других
правил, кроме самой же истины, других учителей, кроме природы,
такой же юной, как и та Испания, которую мы представляем.
Свобода в литературе, как и в искусстве, в промышленности,
торговле и совести. Вот девиз эпохи и наш собственный девиз; вот
мера, которой мы будем мерить; и в наших литературных
приговорах мы будем спрашивать у книги: ты нас чему-нибудь учишь?
ты отражаешь для нас прогресс человечества? ты нам полезна?
В таком случае ты хороша. Мы не признаем роли наставника ни за
одной литературой Европы и меньше всего за одним каким-нибудь
человеком или эпохой, поскольку вкус есть нечто относительное;
мы не признаем исключительных совершенств за одной
какой-нибудь школой, потому что школ абсолютно плохих не бывает. Не
следует думать, будто мы ставим перед своими возможными
последователями задачу совершенно нетрудную. О нет! Мы потребуем от
них образования, потребуем знания человека: им нельзя будет,
подобно классику, открыть Горация или Буало и поносить Лопе де
Бегу и Шекспира; нельзя будет, подобно романтику, стать под
знамена Виктора Гюго и отмежеваться от Мольера и Моратина. Ни в
коем случае! В нашей библиотеке Ариосто будет стоять рядом с
Вергилием, Расин рядом с Кальдероном, Мольер рядом с Лопе; одним
словом, будут уравнены в правах Шекспир, Шиллер, Гёте, Байрон,
Виктор Гюго и Корнель, Вольтер, Шатобриан и Ламартин.
Мы отвергаем, таким образом, то, что ныне у нас называется
литературой; мы не хотим литературы, сводящейся к красотам
стиля, к звону рифм, к кропанию сонетов и од, написанных «на
случай», уделяющей внимание одной форме, а не идее. Литература
для нас — дочь опыта и истории и тем самым маяк будущего; она
учится, анализирует, философствует, углубляется, думая обо всем
973
и говоря обо всем в стихах и в прозе на потребу еще
невежественной толпы, она проповедует и распространяет знания, наставляя
в истинах тех, кому интересно их знать и показывая нам человека
не таким, каким он должен быть, а таким, каков он есть, что ведет
нас к его познанию; мы хотим литературы, полностью отражающей
научные знания эпохи, интеллектуальный прогресс· нашего века.
М. X. д е Л a ρ ρ а, Сатирические очерки, М.,
1956, стр. 338—340. Перевод Б. А. Кржевского.
О САТИРЕ И САТИРИКАХ
Уже давно мы искали случая, чтобы сделать несколько
замечаний по поводу неудачных попыток объяснить характер и
особенности мастерства писателей-сатириков. Существует общеизвестное
представление о том, что причинами той язвительности и едкости,
которые отличают продукцию сатириков, являются их
завистливость, творческое бессилие и предрасположение к мизантропии,
вызванное личными неурядицами или физической неполноценностью
создателя сатирического произведения. Откровенно признаемся, что
по роду своей деятельности мы в высшей степени заинтересованы
в том, чтобы рассеять подобное предубеждение. Разумеется, нельзя
сказать, чтобы со стороны людей, обладающих даром видеть в
предметах смешную сторону, не было никаких злоупотреблений и что
они не используют этот дар для своей личной выгоды. К сожалению,
чаще всего случается именно так. Однако каким же даром природы
не злоупотреблял человек? И разве можно делать далеко идущие
выводы только на основании исключений? Как бы то ни было, мы
не вправе отрицать, что сатирики обладают благороднейшими
качествами.
Из всех даров, которыми природа щедро награждает того, кто
подвизается в столь ответственном жанре, он непременно должен
обладать самым главным: проницательностью. Проницательность и
дальновидность необходимы ему для того, чтобы вещи и люди,
которые его окружают, представали перед ним в истинном свете, чтобы
его не ввело в заблуждение кажущееся правдоподобие, которое
имеет свойство окрашивать все окружающее в ложные тона.
Обладая способностью к глубокому анализу, писатель-сатирик не должен
скользить по поверхности: он обязан вскрывать причины и тайные
пружины, управляющие человеческим сердцем. Эту способность ему
дарует природа. Однако этого мало. Необходимо, чтобы жизненные
обстоятельства создали ему возможность сохранения личной
независимости и свободы, ибо иначе, стоит ему только обнаружить
974
больший интерес к одним вещам в ущерб другим, он не сможет
уже стать проницательным наблюдателем и беспристрастным
судьей всего окружающего. Человек, осуждающий и высмеивающий
ошибочные мнения и дурные поступки других людей, должен
обладать особой силой убеждения, а для этого кроме острого глаза
необходимо владеть и не менее ценным искусством ясно излагать свои
мысли. Последнее особенно важно, во-первых, потому, что нет
такой истины, которая, будучи плохо, неудачно изложена, не
показалась бы нам ложной; во-вторых, потому, что нас редко убеждает
истина, которая нам не льстит. Искусство ясно излагать свои мысли
всегда является плодом упорной учебы. В природе мы редко
сталкиваемся с истинами, которые были бы ясны сами по себе,
понимание и осмысление которых не требовало бы больших знаний.
Необходимо учесть также, что сама форма изложения меняется от
эпохи к эпохе: то, что в один период кажется возможным,
приемлемым, дозволенным, в другое время приобретает слишком резкий
характер или становится совершенно непригодным. Вот почему
сатирик обязан хорошо понимать дух времени, в которое он живет.
В этом как раз и состоит та -значительная разница между
сатириками античности и современности, которая поражает исследователя.
Те, кто считает писателей-сатириков людьми с дурным
характером, даже и не подозревают, с каким трудом достаются им лавры.
Они и не думают о том, что люди, которые берут на себя
обязанность судить от имени общества, должны обладать недюжинным
мужеством; им и в голову не приходит, что редко удается сделать
доброе дело для общества без того, чтобы содеявший добро не
испытал какой-нибудь неприятности либо в личном плане, либо в
общественном. Трудно бичевать ошибки и пороки людей и не нажить
врагов; тот, кто подвержен пороку, редко бывает столь
великодушен, чтобы отказаться от этого порока и не мстить за критику, или
столь благороден, чтобы в интересах общества отказаться от
ложного самолюбия и своих личных мелочных обид. Если ко всему
этому еще прибавить, что сатира не задевает обычно слабых, так
как их и побеждать не нужно, ибо они уже побеждены, а направляет
свои удары по тем, кто оказывает сопротивление, то легко
понять, что у сатирика всегда много врагов, причем врагов сильных.
Различные группировки и прослойки или, лучше сказать, все
общество в целом не может испытывать ни удовлетворения, ни
благодарности в обычном смысле, ибо у него нет и не может быть
какого-то единого центра, управляющего чувствами, симпатиями и
страстями, как у отдельного индивида. Кроме того, общество, может
быть по праву, считает, что все, что ни делается, должно делаться
именно для него. Таким образом, сатирик, нажив себе сильных вра-
975
гов, остается без единого друга, и ему не от кого ждать ни
поддержки, ни помощи.
Доказательством этой печальной истины как раз и является
настоящая наша попытка выступить в защиту сатирика. Чем же
отплачивает общество писателю-сатирику за те услуги, которые он
ему оказывает, за то, что он искореняет ошибки и пытается
избавить его от всякого рода неприятных забот? Оно отплачивает тем,
что приписывает сатирику злой характер, злонамеренные чувства и
часто также желание свести личные счеты или отомстить за
собственные физические недуги.
Если бы у нас возникли сомнения относительно моральных
качеств и любви к общественному благу того, кто добровольно
становится на защиту общества и готов принять на себя все
опасности, то не нужно далеко идти за примерами, чтобы рассеять эти
сомнения. Посмотрим, каковы же личные качества наиболее
знаменитых сатириков. Разве жизнь Ювенала давала кому-нибудь
основание поставить под сомнение благородное чувство
негодования, которое двигало им в борьбе против пороков; разве Буало не
был движим тем же чувством; разве может кто-нибудь обвинить
добродетельного Мольера или сурового Аддисона в отсутствии
благородства; разве можно сомневаться в благородстве философа из
Ферне *, который всю жизнь проповедовал человеколюбие и дал
образцы бескорыстной благотворительности? Но обратимся к более
близкой нам эпохе. По отношению к сатирикам нового времени
можно было бы с уверенностью сказать то же самое, хотя наши
доводы, может быть, и легче оспаривать. Разве в биографии Гонгоры,
Сервантеса или Кеведо можно найти поступки, которые явились бы
свидетельством аморального поведения и порочности великих
сатириков (хотя неоднократно делались попытки запятнать светлую
память этих писателей необоснованными подозрениями и
распространением скабрезных анекдотов). Разве можно обвинить в
аморальности добродетельного Ховельяноса, Форнера, Моратина и
многих других, которые у нас, в Испании, с большим или меньшим
успехом подвизались на поприще сатиры?
Какие же общественные проступки совершили они, чтобы
считать запятнанной их поистине светлую жизнь?
Где же эта злонамеренность, которая должна была сделать
сатиру их единственной губительной страстью?
Признаем же, что это в высшей степени несправедливое мнение
является еще одной трудностью, которую сатирик должен преодолеть
на своем пути, и что если клевета по преимуществу липнет к славе
1 Вольтер.
976
людей достойных, то, разумеется, не упускает случая примешаться
и к славе сатириков. Для клеветы нет ничего святого: своим
безжалостным кинжалом она, не задумываясь, может нанести страшную
рану даже памяти усопших, как некогда сказал поэт.
Нам остается высказать еще одно соображение: оно
действительно касается именно писателей-сатириков, но если поразмыслить,
то от этого оно не становится более утешительным. Читатель, у
которого язвительный пассаж вызвал улыбку, предполагает, что
сатирик по самой своей природе является существом, созданным для
веселья, и что сердце его является неистощимым источником
безудержной жизнерадостности, которую он пригоршнями сыплет на
своих читателей,
К несчастью (читатели этого не знают), это совсем не так.
Писатель-сатирик, в сущности, похож на луну, то есть на
непроницаемый для света предмет, которому суждено отражать чужой
свет, и это, пожалуй, единственный случай, когда можно сказать,
что ему выпало на долю давать то, чего у него нет.
Природный дар видеть вещи такими, какими они являются на
самом деле, то есть без прикрас, и замечать в них прежде всего
безобразную сторону превращается в пытку.
Внимание сатирка больше привлекают пятна на солнце, а не
самый его свет, и глаза его, подобно микроскопам, заставляют
видеть безобразно крупные поры и шершавую поверхность на лике
Венеры, в котором все прочие люди готовы видеть совершенную
гармонию и законченную плавность линий. За внешне благородным
поступком он способен увидеть истинные мелочные причины,
побудившие совершить этот поступок. Как видите, невелико счастье.
Сама же язвительность и ядовитость, которые преподносятся в
шутливом тоне, многим доставляют удовольствие, но для сатирика это
не что иное, как холодное бесстрастное отражение событий и лиц,
которое не только не приносит никакого удовольствия, но омрачает
душу. [...]
Мы — сатирики, потому что намерены критиковать
злоупотребления, потому что хотели бы в меру наших слабых сил
способствовать совершенствованию того общества, к которому имеем честь
принадлежать. Хорошо представляя себе, что является для нас
дозволенным и что запретным, мы постоянно изучаем нравы нашей
эпохи и пишем по вполне ясному плану: у нас вовсе нет
необузданной страсти критиковать все и вся без разбора; нам совсем не
безразлично, какое мнение может сложиться у соотечественников о
нашем характере.
Среди постоянных огорчений и бесконечных опасностей, на
которые нас осуждает нами же самими наложенная на себя тяжелая
32 История эстетики, т. III
977
обязанность (мы готовы мужественно перенести все опасности, с
нею связанные), худшим является сознание того, что мы не должны
никого щадить в своей сатире и критике; мы не ищем ссоры, но и
не избегаем ее, однако мы всячески будем стараться избегать, как
и до сих пор, каких-либо личных выпадов, инвектив, недостойных
высокого звания писателя, недостойных человека вообще, мы будем
избегать всякого вмешательства в личную жизнь, если она не
представляет общественного значения.
Пусть теперь судят нас читатели, мы не боимся отравленных
стрел, которые свистят вокруг нас. Зло и отрава именно в них, а не
в нашей деятельности.
Там же, стр. 340—341, 347—348. Перевод Г. В. Степанова.
БИБЛИОГРАФИЯ
[.Общая литература
Смирнов Α. Α., Испанский романтизм.— В кн.: «История западной
литературы (1800—1910)». Под ред. Ф. Д. Батюшкова, т. 3, М., 1914, стр. 234—
251.
Alison Peers Ε., A history of the romantic movement in Spain, v. 1—2,
Cambridge, univ. press, 1940.
Blanco Garcia F., La literature espaiïola en el siglo XIX, p. 1—3,
Madrid, 1894.
Diaz-Plaia G., Introduccion al estudio del romanticismo espanol, Madrid,
Espasa-Calpe, 1936, 311 p.
//. Литература к отдельным авторам
Антонио Алькала Галиано
Сочинения:
А 1 с а 1 a Galiano Α., Prologo à la primera edicion de «El того exposito».—
In: Rivas A. S., Romances, t. II, Madrid, 1912, p. 257—277. (Clasicos
castellanos, t. 12).
Литература:
Alas L., La Espana del siglo XIX, Madrid, 1886.
Menendez y Pelayo M., Historia de los heterodoxos espanoles, t. IIJ,
Madrid, 1882.
M a ρ и a h о Хосе де Ларра
Сочинения:
L a r r a M. J. de, Articulos de critica literaria y artistica, Madrid, Espasa-
Calpe, [1960], XXIV, 272 p.
Л a ρ ρ a M.-X. де, Сатирические очерки, [сост. сб. К. Н. Державин и 3. И.
Плавскин. Пер. под ред. Г. В. Степанова], М., Гослитиздат, 1956, XXIV,
435 стр.
Л итература :
Державин К. Н. и Плавскин 3. И., Мариано Хосе де Ларра.—
В кн.: Ларра М. X. де* Сатирические очерки, М., 1956, стр. III—XXIV.
Α ζ о r i η, Rivas у Larra. Razon social del romanticismo en Espana, Madrid,
Espasa-Calpe, 1957, 166 p.
978
с
ш
А
Соединенные Штаты Америки — одна из самых
молодых стран Запада. Только во второй половине
XVIII века общественный подъем, возникший на
почве борьбы против колониального господства
Англии, вызвал оживление мысли и
проникновение из Европы передовых идей Просвещения.
Влияние философской и эстетической мысли
Европы оставалось значительным и на протяжении
XIX века, но наряду с этим в эстетике
Соединенных Штатов развиваются национальные тенденции.
Подлинным началом самобытной американской
интеллектуальной и художественной культуры явилась эпоха романтизма,
охватывающая первую половину XIX века. Как и в Европе, романтизм
в США представлял собой реакцию на развитие буржуазных
отношений. Противоречия, свойственные романтизму, проявились и в
американской духовной жизни.
981
Одной из центральных проблем культуры и искусства с самого
начала был вопрос о национальном самоопределении. Уже в
творчестве и публицистике Джеймса Фенимора Купера (1789—1851),
принадлежавшего к первому поколению романтиков в литературе
Америки, чувствуется двойственность в отношении к европейской
культуре. Ценя ее художественные достижения в прошлом, Купер
стремится в своем творчестве отразить своеобразие жизни США, он
ищет новые источпики красоты в ее природе, в порожденных
историческим развитием страны нравах и характерах.
Проблемы духовной культуры и искусства Америки наиболее
остро ставятся в 1830—1840-е годы. Важнейшим явлением в
общественной и культурной жизни страны этого периода было
возникновение и развитие движения, получившего название
трансцендентализма. Очагом движения были штаты Новой Англии, где особенно
ощущались последствия капиталистического развития. Местечко
Конкорд, неподалеку от Бостона, стало центром этого движения;
здесь жили его деятели Эмерсон и Торо. Враждебность к
буржуазному строю жизни побудила Торо совершить необыкновенный
эксперимент. Он поселился в лесу, построил себе дом на берегу пруда
Уолден и жил, добывая пропитание трудом своих рук. Так провел
он два года и два месяца. Об этом эксперименте Торо написал
книгу «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854). Здесь получили выражение
философия Торо, его отношение к людям и природе, а также его
взгляды на место и назначение художественной культуры в жизни
человека.
Историк американской культуры В. Л. Паррингтон определил
трансцендентализм как движение, выразившее протест против
промышленной революции, ломавшей патриархальный уклад страны.
Отрицательное отношение трансценденталистов к промышленной
цивилизации привело их к культу природы и всего «естественного».
Они справедливо винили капитализм в подавлении личности.
Идеалом трансценденталистов становится возврат к природе и личное
самоусовершенствование.
Если некоторые представители этого движения ограничивали
его задачи кругом вопросов духовного и культурного развития, то
другие приходили к выводу о необходимости коренного
преобразования всего социального строя. Среди трансценденталистов
получили распространение идеи утопического социализма. Энтузиасты
этого учения решили осуществить на практике идеал новой жизни,
создав социалистическую общину Брук-фарм, которая, однако, не
долго просуществовала.
Романтическая критика капитализма составила идейную основу
эстетики трансценденталистов. Они связывают красоту со всем
982
строем нравственной жизни человека. Аморальное не может быть
дрекрасным. Источник красоты в природе и человеческом духе,
свободном от пошлого мещанского практицизма. Поэзия представляется
трансценденталистам средоточием духовности и живого чувства
природы, что и составляет их эстетический идеал.
Совершенно противоположные позиции занял другой
представитель американского романтизма, поэт Эдгар По. Выросший в
условиях культуры рабовладельческого Юга Соединенных Штатов,
он был далек от прогрессивных социальных идей, распространенных
на Севере. Его эстетические взгляды были реакцией на весь
морализирующий дух американской культуры и искусства, независимо
от того, какая нравственная тенденция утверждалась художниками
и поэтами.
Связь Эдгара По с умирающей культурой аристократического
Юга яснее всего сказывается в том, что поэт отделяет красоту от
нравственности. Прекрасным в его глазах является то, что
доставляет наслаждение, а оно не связано ни с истиной, ни с моралью.
Взгляды По имели влияние в Европе, послужив одним из
источников теории «искусства для искусства».
Вершиной эстетической мысли США в XIX веке были
высказывания об искусстве и поэзии великого американского
поэта-демократа Уолта Уитмена. Отметим, что Уитмен вырабатывал свои
эстетические принципы в борьбе с аморализмом эстетики Эдгара По
(см. его заметку «Значение Эдгара По»). С другой стороны, есть
несомненное родство между Уитменом и трансценденталистами. Как
и они, он поборник духовного богатства личности, враг
буржуазного практицизма и горячий поклонник природы. Но если трансцен-
денталисты искали воплощения своего жизненного и эстетического
идеала вне современного развития, Уитмен всеми фибрами своей
души привязан к промышленному прогрессу.
Главное в эстетике Уитмена заключается в том, что она тяготеет
не к прошлому, а к будущему. Уитмен — гениальный поэт-пророк,
воспевающий развитие науки, техники и материального
производства. Он был первооткрывателем новой урбанистической и
индустриальной эстетики, поэтом больших городов и промышленного
развития.
Вместе с тем Уитмен раньше многих других увидел
противоречия американской буржуазной демократии. Он почувствовал
враждебность капитализма искусству, и в особенности поэзии. Он писал:
«При беспримерном материальном прогрессе общество в Штатах
искалечено, развращено, полно грубых суеверий и гнило. Таковы
политики, таковы и частные лица. Во всех наших начинаниях
983
совершенно отсутствует или недоразвит и серьезно ослаблен
важнейший элемент всякой личности и всякого государства — совесть» 1.
Уитмен связывает проблемы эстетики со всем строем жизни.
Они для него неразрывная и неотделимая часть общественной и
культурной жизни. Высокие достижения в области
демократического искусства, по его мнению, возможны только при условии
создания «в самых широких масштабах... высочайших моральных
духовных и героических образов — великой национальной литературы
во главе с самой мощной и прекрасной поэзией» 2.
«Демократическое искусство есть результат демократического
развития, яркой, подлинно национальной самобытности» 3. В этих
словах Уитмена провозглашена независимость искусства США от
традиций западноевропейского искусства. «Наши представления о
прекрасном (унаследованные от греков, донесенные до Шекспира,
и, пожалуй, потом извращенные) должны быть коренным образом
изменены и обновлены, с тем чтобы отвечать современным целям
и более высоким требованиям» 4. Вместе с тем Уитмен отнюдь не
сторонник национальной замкнутости. Он утверждает, что
«искусство едино, что оно не ограничивается узкой сферой, что оно
охватывает все эпохи, все стороны жизни, что оно не может быть только
аристократическим или только демократическим, как не может быть
только восточным или только западным» 5.
А. А. АНИКСТ
ЭМЕРСОН
1803-1822
Публицист, философ и поэт Ральф Уолдо Эмерсон — один из наиболее
значительных мыслителей Соединенных Штатов в XIX веке. Деятельность его
была связана с движением трансцендентализма, одним из главных теоретиков
которого он был. Не разделяя взглядов тех трансценденталистов, которые
стояли на позициях утопического социализма, Эмерсон критически относился
к буржуазному строю жизни, считая его страшнейшим пороком отсутствие
духовности. Свою задачу Эмерсон видел в развитии у соотечественников
стремления к духовной культуре, которой они пренебрегали ради корыстных
интересов.
1 У. У и τ м е н, Избранное, М., 1954, стр. 271.
2 Τ а м же, стр. 301.
3 Τ а м же, стр. 302.
4 Там же, стр. 301.
6 Τ а м же, стр. 302.
984
Эклектик по характеру своего мышления, Эмерсон стремился примирить
различные интеллектуальные принципы. При наличии у него разноречивых
тенденций в целом он был искренним буржуазным демократом и гуманистом,
верившим в прогресс, совершенствование человека и возлагавшим главные
надежды на воспитание самосознания личности.
Искусству Эмерсон отводил важное место в сумме тех элементов, которые
должны содействовать самоусовершенствованию человека. Истоки его
эстетических идей восходят к Платону. Еще большее влияние оказал на него Кант,
которого Эмерсон считал мыслителем, лучше всех проанализировавшим
человеческий дух.
Эстетике Эмерсона присуща двойственность, сказывающаяся в его
стремлении примирить чисто духовное понимание прекрасного с утверждением
природы как источника красоты.
ПРЕКРАСНОЕ
Есть у человека и более благородная потребность, а именно
любовь к прекрасному — ее удовлетворяет природа.
Древние греки называли вселенную «космос» — прекрасное.
Таково уж строение всех вещей или такова творческая сила
человеческого взгляда, что все первичные формы — небо, гора, дерево,
животное — сами по себе доставляют нам наслаждение, то
удовольствие, которое возникает из очертаний, цвета, движения и
сочетаний. Вероятно, отчасти мы обязаны этому нашим глазам. Глаз —
это лучший художник. Благодаря взаимодействию его структуры
и законов света создается перспектива, которая сочетает воедино
любую группу разнородных предметов в приятно окрашенное и
оттененное круговое пространство, так что, если даже отдельные
предметы угловаты и неприглядны, ландшафт, создаваемый ими,
имеет законченную форму и симметричен. И если глаз — самый
лучший мастер композиции, то свет — первый живописец. Нет
такого отвратительного предмета, который яркий свет не сделал бы
прекрасным. Свет возбуждает наши чувства, он бесконечен, как
пространство и время, и тем самым оживляет все предметы. Даже
у трупа есть своя красота. Но кроме этой всеобщей красоты,
простирающейся на всю природу, почти все отдельные формы радуют
глаз, и это подтверждается тем, что мы бесконечно воспроизводим
некоторые из них, такие, как желудь, виноград, сосновая шишка,
колос, яйцо, крылья и формы большинства птиц, лапа льва, змея,
бабочка, морские раковины, огонь, облака, почки, листья и формы
многих деревьев, например пальмы.
Чтобы лучше исследовать особенности Прекрасного, можно
разделить их на три группы.
985
1. Во-первых, простое восприятие естественных форм — это
наслаждение. Воздействие простейших форм и явлений природы
необходимо человеку, и потребность в нем, видимо, находится на
границе между простым восприятием мира и любовью к
Прекрасному, Природа исцеляет и восстанавливает физические и духовные
силы, подорванные вредным трудом или дурным обществом.
Торговец или стряпчий, уходя от шума и суеты улицы, видит небо и лес
и снова становится человеком. В их вечном покое он находит себя.
Чтобы глаза были здоровы, им, вероятно, нужен горизонт. Мы
никогда не устаем, если наш взгляд простирается достаточно далеко.
В иные часы Природа радует своим очарованием, не принося
никакой пользы телу. С вершины холма против своего дома я
наблюдаю картину утра от рассвета до восхода солнца и испытываю
такие чувства, которые мог бы разделить ангел. Длинные, тонкие
полоски облаков плывут как рыбы в море багряного цвета. С земли,
как с берега, я смотрю на это молчаливое море. И кажется, будто я
участвую в их быстрых превращениях: волшебство, совершающееся
там, в высоте, захватывает меня здесь, внизу; и я расту и вступаю
в заговор с утренним ветром. [...]
Но то прекрасное в Природе, которое мы видим и ощущаем как
Прекрасное,— лишь наименьшая часть. Картины дня, свежесть
утра, радуга, горы, фруктовые сады в цвету, звезды, лунный свет,
тени на спокойной воде и тому подобное, если их слишком
энергично искать, становятся просто иллюзией и дразнят нас своей
нереальностью. Выйдите из дома, чтобы посмотреть на луну, и она
покажется просто мишурой; она не доставит такого удовольствия,
как тогда, когда она освещает вам путь. А кто может удержать
красоту золотых дней октября? Выйди, чтобы найти ее, и она
исчезнет; это лишь мираж, который видишь из окна дилижанса.
2. Чтобы Прекрасное было совершенным, нужен более высокий,
а именно — духовный элемент. Высокая, божественная красота,
которая пробуждает любовь без изнеженности^ неотделима от
человеческой воли. Прекрасное — это знак, которым бог отмечает
добродетель. Всякий естественный поступок прекрасен. Всякий
героический подвиг также благороден; он озаряет место, где был совершен,
и тех, кто его созерцал.
Великие деяния учат нас тому, что вселенная принадлежит
каждому человеку. Вся природа является достоянием каждого
разумного существа. Она принадлежит человеку, если он от нее не
отказывается. Он может забиться в свой угол и отречься от своего
царства, как и поступает большинство людей, но он имеет право на
вселенную по самим законам своего естества. И он вбирает в себя
мир в меру силы своего ума и воли. Саллюстий сказал: «Все то,
986
для чего люди пашут, строят или плавают по морям, подвластно
добродетели». «Ветры и волны,— сказал Гиббон,— всегда на стороне
лучших мореплавателей». А с ними и солнце, и луна, и все звезды
на небесах. Иногда случается, что благородный подвиг совершается
на фоне прекрасной природы. В тот день, когда погибали Леонид
и его триста воинов-мучеников, солнце и луна всходили, чтобы
увидеть их в глубоком Фермопильском ущелье; Арнольд Винкельрид
бросился на австрийские копья и пробил путь своим товарищам
высоко в Альпах. Разве эти герои не восполнили красотой своих по-
двигов красоту окружающей их природы?
И если подвиг во имя истины или доблести совершается в
неприглядной обстановке, среди убогих предметов, то небо становится
его покровом, а солнце — его светильником. Природа раскрывает
свои объятия человеку, если его мысли достойны ее величия. Она
охотно следует за человеком и всеми красками величия и благодати
украшает свое любимое дитя. Пусть только его мысли будут
великими по своему благородству, и тогда рама будет достойна картины.
Добродетельный человек всегда находится в гармонии с
творчеством Природы и занимает центральное место во вселенной. Гомер,
Пиндар, Сократ, Фокион связываются в нашем сознании с
географией и климатом Греции.
3. Красоту мира можно рассматривать еще с одной стороны,
а именно — когда она познается разумом. Предметы связаны не
только с добродетелью, но также и с мыслью. Разум ищет
абсолютного порядка вещей, который, еще не окрашенный страстями,
сложился в сознании бога. Интеллектуальные и творческие
способности, видимо, сменяют друг друга, и исключительное развитие одних
порождает исключительное развитие других. Они едва ли не
враждебны друг другу, но они похожи на чередующиеся периоды
питания и работы у животных: один подготавливает другой, который
следует за ним. Поэтому красота, которая, как мы видели, в своих
связях с человеческой деятельностью появляется тогда, когда ее не
ищешь, и именно потому, что ее не ищешь, может быть воспринята
и исследована разумом, а затем в свою очередь и творческими
способностями. Ничто божественное не умирает. Всякое добро остается
вечно плодотворным. Красота природы перерабатывается в
сознании, и не для бесплодного созерцания, а для нового творчества.
На всех людей в известной степени производит впечатление
облик вселенной; некоторым он даже доставляет наслаждение. Такая
любовь к прекрасному есть вкус. У иных людей эта любовь столь
велика, что они, не удовлетворяясь восхищением, стремятся облечь
ее в новые формы. Творение прекрасного — это искусство. Созидание
произведения искусства проливает свет на тайну человеческой
приза?
роды. Произведение искусства — это отражение или воплощение
природы в миниатюре, потому что, хотя все творения природы
бесчисленны и многообразны, их порождения или отображения похожи
друг на друга, и каждое оказывается единственным в своем роде.
Природа — это море форм, очень сходных и необычайно
своеобразных. Лист дерева, солнечный луч, ландшафт, океан сходны
в том, какое впечатление они производят на сознание. Им
всем присущи совершенство и гармония, то есть прекрасное.
Мерило прекрасного — это вся совокупность естественных форм — вся
природа, именно то, что имели в виду итальянцы, определяя
понятие прекрасного как il piu ueU'uno1. Ничто не может быть
прекрасным само по себе; оно прекрасно только как часть целого.
Отдельный предмет прекрасен лишь постольку, поскольку в нем
выражена красота вселенной. Каждый поэт, художник, скульптор,
музыкант, архитектор стремится сосредоточить это излучение мира
в одном фокусе и воплощает в каждом из своих произведений ту
любовь к прекрасному, которая побуждает его творить. Таким
образом, искусство — это природа, преображенная человеком. Так
природа творит искусство с помощью воли человека, преисполненного
красотой ее первозданных творений.
Следовательно, мир существует для того, чтобы утолить
стремление наших душ к прекрасному. Именно это я и называю
конечной целью. Ничем нельзя объяснить, почему душа стремится к
прекрасному. Прекрасное в самом широком и глубоком смысле этого
слова является выражением вселенной. Бог есть все сущее. Истина,
доброта и прекрасное — не что иное, как разные стороны этого
сущего. Но красота в природе — не окончательное выражение красоты.
Она лишь глашатай внутренней, духовной красоты, а сама по себе
она не является непреходящим благом. Она должна быть частью,
а не воплощением высшего назначения природы.
The complete works of Ralph Waldo Emerson in
six volumes, v. I, New York, 1926, p. 15—24.
Перевод В. Либерзон.
э. по
1809-1849
Поэт и новеллист Эдгар Аллан По был одним из наиболее выдающихся
писателей, принадлежавших к направлению романтизма. Тесно связанный с
культурой рабовладельческого Юга, он представлял аристократическое крыло этого
1 — наибольшее в едином (итал.).
988
движения и враждебно относился к пуританско-морализующим тенденциям
в буржуазной литературе Севера Соединенных Штатов.
Мастер музыкального стиха, По культивировал мрачный «готический»
стиль в своих новеллах, распадающихся в основном на две группы: рассказы
о страшных происшествиях и детективные истории, посвященные
распутыванию преступлений.
Эдгар По был первым оригинальным литературным критиком в
Соединенных Штатах. Его эстетические взгляды сформировались отчасти под влиянием
А.-В. Шлегеля, но в еще большей степени под влиянием английского
романтика С.-Т. Кольриджа.
Отвергая морализующие тенденции в искусстве, По утверждал, что цель
творчества не истина, а красота. Будучи романтиком, он тем не менее не
считал, что творчество должно быть свободным выражением фантазии
художника. По его мнению, творческое воображение должно подчиняться разуму,
который единственно и способен привести к созданию прекрасного. Отсюда
его глубокий интерес к рационалистическому анализу поэзии. Наиболее
выразительно это проявилось в статье «Философия творчества» (1846), где он
рассказывает о том, как им было написано стихотворение «Ворон», и в этюде
«Стихотворные пропорции» (1848), посвященном проблемам стихосложения.
ПОЭТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
[...] В то время как маниакальное увлечение эпосом, мнение,
будто достоинства стихов определяются их длиной, за последние годы
в силу своей абсурдности постепенно утрачивает доверие публики,
на смену этому увлечению приходит другое, слишком явно ложное,
чтобы быть долговечным. Однако даже за короткий период своего
существования эта ересь, можно сказать, причинила больше вреда
нашей Поэзии, чем все другие ее враги, вместе взятые. Я имею в виду
ересь Нравоучительности. Принято считать — и эту мысль то
высказывают открыто, то просто молчаливо признают,— что конечной
целью всякой Поэзии является истина. Говорят, что каждое
стихотворение должно внушать мораль и о поэтических достоинствах
произведения следует судить по этой морали. Мы, американцы,
особенно покровительствовали этой прекрасной мысли, а мы, бостонцы,
довели ее до совершенства. Мы вбили себе в голову, что написать
стихотворение просто ради него самого и признать, что это и было
нашим замыслом, означало бы сознаться в полном отсутствии
истинного поэтического достоинства и дарования. Но в действительности,
если бы мы решились заглянуть в свои души, мы бы убедились, что
в нашем подлунном мире нет и не может быть более глубоко
достойного и возвышенно благородного творения, чем именно такие
989
стихи, стихи сами по себе, стихи и ничто больше, стихи, написанные
только ради них самих.
Глубоко почитая Истину, которая вдохновляет человека, я бы,
однако, никогда не стал бы ограничивать средства ее воплощения,
я ограничил бы их, чтобы усилить их. Я не допустил бы пустой
траты сил. Требования Истины суровы. Она не нуждается в
искусственных украшениях. Все то, что так необходимо для Песни,— это
именно то, что совершенно не нужно Истине. Украшать
драгоценностями и цветами — значит превратить ее в претенциозный
парадокс. Чтобы внушить Истину, наш язык должен быть прост, точен
и строг. Мы должны быть холодны, спокойны, бесстрастны. Одним
словом, мы должны быть в таком настроении, которое было бы
полной противоположностью поэтическому. Нужно быть воистину
слепым, чтобы не видеть явных и глубоких различий между
выразительными средствами Поэзии и Истины. Нужно быть одержимым
теоретиком, чтобы, несмотря на эти различия, все-таки пытаться
смешать масло и воду, примирить Поэзию и Истину.
Духовный мир можно разделить на три ярко выраженные
сферы — Чистого Разума, Вкуса и Нравственного Сознания. Я
помещаю Вкус посередине, потому что именно это место он занимает
в нашем духовном мире. Он тесно связан с обоими крайними
сферами, но он так мало отличается от Нравственного Сознания, что
Аристотель, не сомневаясь, причислял некоторые из его проявлений
к добродетелям. Тем не менее мы видим, что назначение каждой из
этих сфер достаточно определенно. Разум устремлен к Истине. Вкус
связывает нас с Прекрасным, а Нравственное Сознание заботится о
Долге. Когда речь идет о долге, то Совесть учит нас нашим
обязанностям, Разум — целесообразности, а Вкус ограничивается тем,
что выявляет прекрасное: он ведет войну с Пороком только потому,
что тот уродлив, извращен, враждебен симметрии, гармонии —
одним словом, Прекрасному.
Таким образом, чувство Прекрасного — это бессмертный
инстинкт, таящийся в глубине человеческой души. Именно оно дает
человеку наслаждение, проявляясь в разнообразных формах,
звуках, ароматах и ощущениях, среди которых он существует. И,
подобно тому как лилия отражается в озере или глаза прекрасной
женщины в зеркале, так и простое воссоздание, устное или
письменное, этих форм, звуков, красок, ароматов становится вторичным
источником наслаждения. Но такое простое воссоздание
прекрасного не есть поэзия. По-моему, тот, кто просто поет, еще не
оправдал своего божественного назначения поэта, как бы ни был пылок
его энтузиазм, как бы ни были ярки и правдивы его описания,
звуки, ароматы, краски и чувства, которые радуют его вместе со всем
990
человечеством. От настоящей поэзии его еще отделяет некое
расстояние, которое он не смог преодолеть. Наша жажда не утолена,
а он не указал нам чистых источников. В этой жажде — бессмертие
Человека. Она одновременно и следствие и признак его вечности.
Это стремление мотылька к звездам. Это не просто восприятие
Прекрасного вокруг нас, а безумное стремление достичь Прекрасного
над нами. Вдохновленные экстатическим предчувствием
великолепия, ожидающего нас за гробом, мы стремимся в многообразных
сочетаниях преходящих вещей и мыслей получить хоть часть этой
Красоты, подлинные черты которой, вероятно, принадлежат только
вечности. И если благодаря Поэзии или Музыке, самому
восторженному из поэтических состояний, мы проливаем слезы, то,
вопреки предположению аббата Гравины, мы плачем не от избытка
наслаждения, а от досадного, тревожного чувства сожаления: ведь мы
не можем овладеть сейчас, целиком, здесь на земле, раз и навсегда
этой божественной, восхищающей радостью, мгновенные и зыбкие
отголоски которой дает нам стихотворение или музыка.
Стремление воспринять божественную Красоту — это
стремление поэтических душ — дало миру все то, что он воспринимает и
ощущает как поэзию.
Поэтическое чувство, конечно, может проявляться в разных
видах искусства — в Живописи, Скульптуре, Архитектуре, Танце,
особенно в Музыке и очень своеобразно и широко — в парковом
искусстве садовников-художников. Однако сейчас мы говорим
только о поэзии, выраженной в слове. И теперь позвольте мне коротко
сказать о ритме. Я убежден, что Музыка с ее разнообразными
видами размера, ритма, мелодии так много значит для Поэзии, что ею
никогда нельзя пренебрегать; она является жизненно важным
помощником Поэзии, и только глупец может обходиться без нее. Я не
буду останавливаться, чтобы снова доказывать эту истину.
Вероятно, именно в Музыке душа наиболее приближается к той великой
цели, к которой она стремилась, вдохновленная Поэтическим
чувством,—к созданию божественно Прекрасного. Возможно, эта
возвышенная цель иногда действительно достигается. И часто с
трепетным восторгом мы слышим, как в руках смертного арфа издает
такие звуки, которые, наверно, знакомы ангелам. Поэтому не
приходится сомневаться, что в сочетании Поэзии и Музыки — как ее
обычно понимают — мы найдем бескрайние просторы для развития
Поэзии. Древние барды и миннезингеры имели преимущества,
которых у нас нет, и Томас Мур, певший сам свои песни, естественно,
совершенствовал их как стихи.
Итак, я бы кратко определил Поэзию слова как «Созидание
Прекрасного в Ритмах». Ее единственным судьей является Вкус. Разум
991
и Совесть имеют к ней лишь косвенное отношение. Поэзия не
имеет никакого отношения ни к Нравственному Долгу, ни к Истине,
за исключением редких случаев.
Я поясню эту мысль в нескольких словах. Я убежден, что самое
чистое, самое возвышенное, самое сильное наслаждение нам
доставляет восприятие Прекрасного. Только в восприятии Прекрасного
можно ощутить то возвышенное наслаждение или душевное
волнение, которое мы называем Поэтическим чувством и которое так
легко отличить от Истины, питающей Разум, или от Страсти,
волнующей сердце. Поэтому я считаю, что в Прекрасном, которое
входит в понятие «возвышенного», это сфера каждого стихотворения
просто потому, что закон Искусства требует, чтобы пути от причин
к следствиям были как можно короче: никто до сих пор не был
столь беспомощным, чтобы отрицать, что особое возвышенное
чувство, о котором идет речь, скорее всего достигается в стихотворении.
Однако из этого вовсе не следует, что волнения Страсти,
предписания Долга или даже уроки Истины нельзя включать в
стихотворение; напротив, они могут в иных случаях по-разному содействовать
основным целям произведения; но истинный художник будет
стараться приглушить их и подчинить тому Прекрасному, которое
является атмосферой и настоящей сущностью стихотворения.
The completes poetical works of Edgar Allan Рое,
1919, p. 213—239. Перевод В. Либерзон.
УИТМЕН
1819-1892
Величайший поэт Соединенных Штатов Уолт Уитмен выступил как
смелый новатор, порвавший с традиционными формами и темами поэзии. Его
вольный стих со сложной метрической системой оказался способным выразить
гражданский пафос искреннего демократа и тончайшие нюансы душевного
мира этого незаурядного человека.
Уитмен декларировал разрыв с художественной культурой Западной
Европы, считая, что она несет слишком много следов феодализма. Его идеал —
культура и искусство, выросшие на почве истинной демократии. Такой была
для него культура демократического Севера в период борьбы против
рабовладельческого строя Юга. Но после победы Севера Уитмену стало очевидно, что
он переоценил демократический характер общественного строя и культуры
Соединенных Штатов.
992
Его «Демократические дали» (1871) содержат страстный протест против
подавления духовной жизни капитализмом. Идеал Уитмена — демократия,
свободная от власти своекорыстных интересов буржуазного меньшинства, новая
культура и искусство, связанные с прогрессом науки и техники. Критика
Уитменом пороков американской буржуазной демократии сочеталась с верой в
социальный прогресс, пророком которого он и выступал как в своих
поэтических, так и теоретических произведениях.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ДАЛИ
[...] В области наук и публицистики Америка как будто не
внушает тревог, напротив, у нас есть основания надеяться, что эта
литература будет и глубоко серьезна, и насущно полезна, и
жизненна. Во многом эти надежды, пожалуй, и сейчас уже стали
реальностью, они уже вполне современны. Но в области литературы
художественной для нашего века и для нашей страны требуется нечто
основное и существенное, нечто такое, что равносильно сотворению
мира. Политические мероприятия, видимость избирательного права
и законодательство не могут одни влить в демократию новую кровь
и поддержать в ее теле здоровую жизнь. Для меня нет никакого
сомнения, что, пока демократия не займет в человеческих сердцах,
в чувствах и в вере такого же прочного, надежного места, какое
в свое время занимали феодализм или церковь, пока у нее не будет
своих собственных вечных источников, бьющих всегда из глубин,—
ее силы будут недостаточны, ее рост сомнителен и главного
очарования в ней не будет. Два-три подлинно самобытных американских
поэта (или два-три живописца, или два-три оратора), поднявшиеся
над горизонтом, подобно планетам или звездам первой величины,
могли бы примирить между собой и слить воедино разные народы
и далеко отстоящие местности и придать этим Штатам больше
сплоченности, больше нравственного единства и тождества, чем все их
конституции, законодательства, политические, военные и
промышленные мероприятия взятые вместе. У каждого штата своя
история, свой особый климат, особые города, особый жизненный уклад;
потому-то им и необходимы общие типы, общие герои, общие успехи
и неудачи, общая слава и общий позор. И не менее, а более, гораздо
более им нужно целое созвездие могучих поэтов, художников,
учителей, способных стать выразителями всей нашей нации, того, что
есть универсального, общего, присущего всей стране, на севере, на
юге, у прибрежья и в центре.
[...] Во всяком случае, я убежден в необходимости для
Штатов — не сейчас, а в далеком будущем — объединения по принципу
993
искусства и нравственности, единственному надежному принципу.
Я утверждаю, что в минуты общей опасности естественным
объединителем Штатов станет и должен стать отнюдь не закон, не личный
интерес каждого, как обычно полагают у нас, не общность
денежных, материальных интересов, а горячая и грандиозная Идея,
расплавляющая все своим сокрушительным жаром и сливающая все
оттенки различий в одну-единственную, безграничную духовную,
эмоциональную силу.
Могут возразить (считаю такое возражение вполне
основательным) , что самое главное — это всеобщее благополучие,
зажиточность масс, обеспеченных жизненными удобствами всякого рода, что
это главное и ничего другого не надо. Могут указать, что наша
республика, превращая дикие степи в плодородные фермы, проводя
железные дороги, строя корабли и машины, уже тем самым создает
величайшие произведения искусства, величайшие поэмы и т. д. И мо·^
гут спросить, не важнее ли эти корабли, машины и фермы, чем
откровения самых великих рапсодов, художников, вещих
литературных жрецов?
Я с гордостью и радостью приветствую и корабли, и машины,
и фермы, но, воздав им должную дань восхищения, повторяю опять,
что, по-моему, душа человеческая не может удовлетвориться лишь
ими. Опираясь на них (подобно тому как опираются на землю
ногами) , душа жаждет высшего, того, что обращено к ней.
[...] Творчество, искусство человека может быть так же
величественно разнообразием хитроумных изобретений, улиц, товаров,
зданий, кораблей: великолепны спешащие, лихорадочные,
наэлектризованные толпы людей в проявлении своего многообразного делового
гения (отнюдь не худшего гения среди всех остальных), величаво
могущество тех неисчислимых и пестрых богатств, которые
сосредоточены здесь.
Но, закрыв глаза на этот поверхностный, внешний блеск и
сурово отвергнув его, всмотримся в то единственное, что имеет
значение, всмотримся в Человеческую Личность. Внимательно изучая
ее, мы задаем вопрос: существуют ли здесь у нас на самом деле
мужчины, достойные этого имени? Существуют ли атлетически
сложенные люди? Где совершенные женщины, которые были бы под
стать нашим материальным роскошествам? Окружает ли нас
атмосфера прекрасных нравов, прекрасного быта? Где милые юноши и
величавые старцы? Есть ли у нас искусства, достойные нашей
свободы и наших народных богатств? Существует ли культура
нравственная и религиозная, единственное оправдание большой
материальной культуры? Признайтесь, что для строгого глаза,
смотрящего на человечество сквозь нравственный микроскоп, все эти го-
994
рода, кишащие ничтожными гротесками, калеками, призраками,
бессмысленно кривляющимися шутами, представляются какой-то
выжженной, ровной Сахарой. В лавке, на улице, в церкви, в театре,
в пивной, в канцелярии — всюду легкомыслие, пошлость, гнусное
лукавство, предательство, всюду фатоватая, хилая, чванная,
преждевременно созревшая молодежь, всюду чрезмерная похоть,
нездоровые тела, мужские и женские, подкрашенные, подмалеванные,
в шиньонах, грязный цвет лица, испорченная кровь, способность
к материнству прекращается или уже прекратилась, вульгарные
понятия о красоте, дурные манеры или, вернее, полное отсутствие
манер, какого, пожалуй, не найти во всем мире.
Чтобы снова вдохнуть в этот плачевный порядок вещей
здоровую и героическую жизнь, нужна новая литература, способная не
только отражать или поверхностно копировать, не только угождать,
как проститутка, тому, что называется вкусом, не только забавлять
для пустого препровождения времени, не только прославлять
изысканное, стародавнее, изящное, не только выставлять напоказ свою
умелую технику, ловкую грамматику, ритмику,— нужна литература,
изображающая то, что под спудом, проникнутая религией, идущая
в ногу с наукой, властно и умело справляющаяся со стихиями и
силами жизни, способная преподать полезные уроки и закалку
мужчинам — и что важнее, ценнее всего — освободить женщину из
этих невероятных клещей глупости, модных тряпок, худосочного
опустошения души,— нужна литература, могущая создать для
Штатов сильное, прекрасное племя Матерей.
'[...] Народ! Он, как сама наша планета, может показаться
полным уродливых противоречий и недостатков и при общем взгляде
на него стоит вечной загадкой и вечным оскорблением для
поверхностно образованных классов. Только редкий космический ум
художника, озаренный Бесконечностью, может постичь
многообразные, океанические свойства Народа, а вкус, лоск образованных
и так называемая культура всегда были и будут его врагами. Ярко
позолочены самые гнусные преступления, самые свинские мерзости
феодального и династического мира в Европе, представители
которого — короли, и принцессы, и двор — так изящно одеты и блистают
такой красивой наружностью. А Народ невежествен, грязен, грехи
его неприглядны и грубы.
Литература, в сущности, никогда не признавала Народ и, что бы
ни говорили, не признает его и сейчас. До сих пор она, говоря
вообще, стремилась только к тому, чтобы создать сварливых, ни во что
не верящих людей. Кажется, будто существует какая-то вечная
взаимная вражда между жизнью литературы и грубым, крепким духом
демократии. Правда, позднейшей литературе не чуждо милостивое,
995
благосклонное отношение к Народу, но даже у нас редко
встречается должная научная оценка и почтительное понимание скрытых
в нем безмерных богатств и громадности его сил и способностей,
присущих ему художественных контрастов света и тени.
[...] Друг мой, неужели ты думал, что демократия существует
только для выборов, для политики и для того, чтобы дать
наименование партии? Я говорю: демократия нужна для грядущего, чтобы
цветом и плодами войти в наши нравы, в высшие формы общения
людей, в их верования, в литературу, в университеты и школы, в
общественную и частную жизнь, в армию и флот.
[...] Безвестные египтяне, чертящие иероглифы; индусы,
творящие гимны, заповеди и нескончаемый эпос; еврейский пророк с его
духовными озарениями, подобными молнии, раскаленной докрасна
совестью, со скорбными песнями-воплями, зовущими к мести за
угнетение и рабство; Христос, поникший головой, размышляющий
о мире и любви, подобный голубю; грек, создающий бессмертные
образы физической и эстетической гармонии; римлянин, владеющий
сатирой, мечом и законом,— иные из этих фигур далеки,
затуманены, иные ближе и лучше видны. Данте, худой, весь одни
сухожилия, ни куска лишнего мяса; Анджело и другие великие художники,
архитекторы, музыканты; щедрый Шекспир, великолепный, как
солнце, живописец и певец феодализма на закате его дней,
блещущий избыточными красками, распоряжающийся, играющий ими по
прихоти; и дальше — вплоть до германцев Канта и Гегеля, которые,
хотя и близки к нам, похожи на бесстрастных, невозмутимых
египетских богов, словно они перешагнули через бездны столетий.
Неужели этих гигантов и подобных им мы не вправе, пользуясь нашей
излюбленной метафорой, приравнять к планетам, планетным
системам, носящимся по вольным тропам в пространствах иного неба,
космического интеллекта, души?
Вы, могучие и светозарные! Вы возрастали в своей атмосфере
не для Америки, но для ее врагов — феодалов, а наш гений —
современный, плебейский. Но вы могли бы вдохнуть свое живое
дыхание в легкие нашего Нового Света — не для того, чтобы поработить
нас, как ныне, но на потребу нам, чтобы взрастить в нас дух,
подобный вашему, чтобы мы могли (смеем ли мы об этом мечтать?)
подчинить себе и даже разрушить то, что вы оставили нам! На ваших
высотах — даже выше и шире — должны мы строить здесь и теперь!
Мне нужно могучее племя вселенских бардов с неограниченной,
неоспоримой властью. Явитесь же, светлые демократические деспоты
Запада!
[...] Многие сейчас видят смысл жизни исключительно в том,
чтобы первую ее половину отдать лихорадочному накоплению денег,
996
а вторую — «развлечениям», путешествиям в чужие края и прочим
способам пустого препровождения времени. Но если взглянуть с
позиции более возвышенной, чем та, которую занимают эти люди,
с позиции патриотизма, здоровья, создания доблестных личностей,
религии, требований демократии, то вся эта кишащая масса стихов,
литературных журналов, пьес, порожденных американским
интеллектом, покажется смешной и бессмысленной. Эти произведения
никого не питают, никому не придают новых сил, не выражают
ничего типического, никому не указывают жизненной цели, и только
пустые умы самого низкого пошиба могут находить какое-то
удовлетворение в них.
Что касается так называемой драмы или драматического
искусства в том виде, в каком оно представлено на сцене американских
театров, скажу только, что оно заслуживает столь же серьезного
отношения к себе и должно быть поставлено рядом с такими
вопросами, как убранство стола для банкетов или подбор драпировок для
бальных залов. Я не хочу также наносить оскорбления умственным
способностям читателя (раз он уже проникся духом этих «Далей»)
и вдаваться в подробные объяснения того, по какой причине
обильные излияния наших рифмоплетов — известных и малоизвестных —
ни в какой мере не отвечают нуждам и высоким требованиям
нашей страны. Америке необходима поэзия, которая была бы такой же
дерзостной, современной, всеобъемлющей и космической, как она
сама. Не игнорировать науку и современность призвана наша
поэзия, а вдохновляться ими. Не столько в прошлое, сколько в будущее
должна она устремлять свой взгляд. Подобно самой Америке, ее
поэзия должна освободиться от влияния даже величайших образцов
прошлого, и пусть она, почтительно отдавая им должное, до конца
уверует только в себя самое, только в проявление своего
собственного демократического духа. Подобно Америке, она должна поднять
знамя священной веры человека в свое достоинство (этой
первоосновы новой религии).
Слишком долго наш народ внимал стихам, в которых простой
человек униженно склоняется перед высшими, признавая их право
на власть. Но Америка таким стихам не внемлет. Пусть в песне
чувствуется не согбенная спина, а горделивость, уважение человека
к себе,— и эта песня будет усладой для слуха Америки. [...]
Было бы вечным позором для Штатов, было бы позором для
всякой страны, отличающейся от прочих таким огромным и
разнообразным пространством, таким изобилием природных богатств, такой
изобретательской сметкой, такой великолепной практичностью,—
было бы позором, если бы эта страна не воспарила над всеми
другими, не превзошла бы их все также и самобытным стилем в лите-
997
ратуре, в искусстве, собственными шедеврами в интеллектуальной
и художественной области, прототипами, отражающими ее самое.
Нет страны, кроме нашей, которая хоть как-нибудь не оставила бы
своего отпечатка в искусстве. У шотландцев есть свои баллады, в
которых до тонкости отразилось их прошлое, их настоящее, целиком
сказался характер народа. У ирландцев — свои. [...] У Англии,
у Италии, у Франции, у Испании — свои. А у Америки? Повторяю
опять и опять: не видно даже первых признаков, что в ней
рождается соответствующий ее величию творческий дух, рождаются
первоклассные произведения искусства,— а между тем у нее есть
богатейший сырой материал, о каком другие народы не смели и думать,
ибо в одной только четырехлетней войне скрыты целые россыпи,
целые залежи эпоса, лирики, сказок, музыки, живописи и т. д. [...]
У. Уитмен, Избранное, М., 1954, стр. 269 —270,
270—271, 273—274, 274—275, 278, 281—282, 283—
284, 285. Перевод К. Чуковского.
ИЗ СБОРНИКА «ПАМЯТНЫЕ ДНИ»
[О значении Эдгара По]
В его поэзии нет ни крупицы моральных принципов, нет
чувства действительности и порождаемого ею героизма, нет простых
сердечных привязанностей. Эта поэзия со своим избытком
виртуозного мастерства, чрезмерной и неисправимой склонностью к
звучной рифме и к ночным темам, с демоническим подтекстом каждой
страницы — в конечном счете, вероятно, принадлежит к
электрическим прожекторам литературы, блестящим до ослепительности, но
лишенным тепла. [...]
Там же, стр. 264. Перевод И. Кашкина.
БИБЛИОГРАФИЯ
/. Общая литература
Gharvat W., Origins of American critical thought (1810—1835), Oxford,
univ. press, 1936, 218 p.
De Mille G. Ε., Literary criticism in America, N. Y., Dial press, 1931, 288 p.
Foerster N., American criticism. A study in literary theory from Poe to
the present, Boston, Houghton, 1928.
998
Knight W., The philosophy of the Beautiful being outlines of the history
of aesthetics, Lond., Murray, 1891, XV, 288 p.
Matthieson F. 0., American Renaissance. Art and expression in the age
of Emerson and Whitman, Lond., Oxford univ. press, [1941], XXVI, 678 p.
Smith В., Forces in American criticism. A study in the history of American
literary thought, N. Y., Harcourt, Brace, [1939], VIII, 401 p.
//. Литература к отдельным авторам
Эмерсон
Сочинения:
Emerson R. W., The complete works, v. 1—12. With a biogr. introd.
and notes by R. W. Emerson and a general index, Boston, Houghton,
Mifflin, 1903—1904.
Эмерсон P. У., Сочинения. С крит. очерком, т. 1—2, Спб., ред. «Нового
журн. иностр. лит.», 1902—1903.
Эмерсон Р. У., Взгляд Эмерсона на поэзию. Пер. Г. Лишиной, М., Куш-
нерев, 1887, 32 стр.
Литература:
Старцев А. И., Эмерсой.— В кн.: «История американской литературы»,
т. 1, М.—Л., 1947, стр. 209-222.
Hopkins V. С, Spires of form; a study of Emerson's aesthetic theory, Oxford,
Harvard univ. press, 1951, X, 276 p.
Sherman P., Emerson angle of vision, Cambridge, Harvard univ. press,
1952, VII, 268 p.
По
Сочинения:
Рое Ε. Α., Letters, tales, articles, criticism, poems, verse, opinions, sel. a.
ed. with an introd. by Ph. Van Doren Stern, N. Y., Viking press, 1957,
XXXVIII, 664 p.
По Э. Α., Полное собрание сочинений. Пер. М. А. Энгельгардта, т. 1—3, Спб.,
«Самообразование», 1914.
По 9. Α., Избранное. [Пер. под ред. В. Станевич. Предисл. М. Бобровой.
Коммент. М. Беккер], М., Гослитиздат, 1959, 343 стр.
Литература:
Сильман Т. И., Эдгар По.— В кн.: «История американской литературы»,
т. 1, М.— Л., 1947, стр. 240—267.
А 1 t е r t о η M., Origins of Poe's critical theory, Iowa, univ. press, 1925, 101. p.
С h a r ν a t W., Poe: journalism and the theory of poetry.— In: «Aspects of
American poetry», [Columbus, 1962], p. 61—78.
Cooke J. E., Poe as a literary critic. Ed. with an introd. and notes by N. B.
Fagin, Baltimore, Hopkins press, 1946, X, 15 p.
Foerster N., Quantity and quality in the aesthetic of Poe.— «Studies in
philology», v. XX, [1923], p. 1-51.
Q u i η η Α. Η., Edgar Allan Poe: a critical biography, N. Y., Ryerson press,
1941, 804 p.
999
Уитмен
Сочинения:
Whitman W., The complete writings. Ed. by R. M. Bucke, T. H. Harned
and H. L. Träubel, v. 1—10, N. Y., 1902.
Whitman W., The complete poetry and prose. Ed. by M. Cowley, v. 1—2,
N. Y., Garden city, 1954.
Whitman W., The collected writings, v. 1—2. Ed. by G. W. Allen and
S. Bradley, N. Y., univ. press, 1961.
Whitman W., The correspondence. Ed. by E. H. Miller, v. 1—2, N. Y., New
York univ. press, 1961.
Уитмен У., Избранное. [Вступит, статья M. Мендельсона], M.,
Гослитиздат, 1954, 307 стр.
Уитмен У., Листья травы. Вступи!, статьи К. Чуковского и М.
Мендельсона, М., Гослитиздат, 1955, 355 стр.
Литература:
Мендельсон М., Уолт Уитмен. Критико-биографический очерк, М.,
Гослитиздат, 1954, 254 стр.
Чуковский К. И., Уолт Уитмен и его «Листья травы», 6 изд., М.—Пг.,
Госиздат, 1923, 165 стр.
А г ν i η Ν., Whitman, N. Y., Macmillan, 1938, 320 p.
Briggs A. E., Walt Whitman, thinker and artist, Ν. Y., Philosophical
library, 1952, 489 p.
Η о 1 1 о w а у Ε., Free and lonesome heart: the secret of W. Whitman, N. Y.,
Vantage press, 1960, 232 p.
Whitman, A collection of critical essays. Ed. by R. H. Pearce, Prentice-
Hall, Enlewood Glifss, 1962, 184 p.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Кант, Портрет работы Таунлея.
«Гете в Кампаньи». Картина худ. Тишбейна
Шиллер. Портрет работы Симановица.
Гегель. Портрет неизвестного автора.
Гейне. Портрет работы Левинштейна.
Делакруа. Автопортрет.
Стендаль. Портрет работы Дедре-Дорси.
Бальзак. Рисунок неизвестного автора^
Бодлер. Портрет работы Курбе.
Золя. Портрет работы Мане.
Байрон. Портрет работы Уэстолла.
Шелли. Портрет работы Бюртона.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение. Μ. Φ. Овсянников
ГЕРМАНИЯ
Классическая немецкая эстетика
Вступительная статья. Г. М. Фридлендер . 45
Кант. Составление, вступительный текст и перевод Н. Д. Балашова . . 58
Гёте. Вступительный текст А. Г. Л е винт о на 83
Шиллер. Вступительный текст Л. Я. Рейнгардт 114
В. Гумбольдт. Составление, вступительный текст и перевод А. Г. Ле-
винтона 137
Фихте. Составление и вступительный текст В. П. Шестакова.
Перевод ' Ю. П. Попова 147
Шеллинг. Составление и вступительный текст Ю. Н. Попова. Перевод
П. С. Попова и Ю. Н. Попова 151
Гегель. Вступительный текст Л. Я. Рейнгардт 173
Фейербах. Составление и вступительный текст В. П. Шестакова . . . 202
Библиография. Составители В, П. Шестаков и Ю. Н. Попов 213
Составление раздела Л. Я. Рейнгардт и Ю. Н. Попова
Эстетика немецкого романтизма
Вступительная статья. В. П. Шестаков 222
Гельдерлин. Составление, вступительный текст и перевод Г. И. Ратгауза 230
Ф. Шлегель. Составление и вступительный текст Ю. П. Попова.
Перевод Ф. Гейман 238
А. Шлегель. Составление, вступительный текст и перевод Ю. Н. Попова 257
Вакенродер и Тик. Составление, вступительный текст и перевод
Ал. В. Михайлова 267
Новалис. Вступительный текст Н. И Балашова 279
Шлейермахер. Составление, вступительный текст и перевод А. П. Огур-
цова 288
Жан-Поль. Вступительный текст В. П. Шестакова. Перевод Ал. В.
Михайлова . 294
Арним. Составление, вступительный текст и перевод Ал. В. Михайлова 310
Клейст. Составление, вступительный текст и перевод Ал. В. Михайлова 316
Гофман. Вступительный текст В. П. Шестакова 327
Зольгер. Вступительный текст В. П. Шестакова. Перевод В. П. Зубова . 336
Шопенгауэр. Составление и вступительный текст Ал. В. Михайлова . . 350
1002
Вебер. Составление, вступительный текст и перевод Ал. В. Михайлова . 359
Шуман. Составление, вступительный текст и перевод Ал. В. Михайлова . 364
Библиография. Составители В. П. Шестаков и Ал. В. Михайлов .... 369
Составление раздела В. П. Швстакова
Немецкая эстетика 1830—1850-х годов
Вступительная статья. Ал. В. Михайлов 381
Гейне. Составление Л. Я. Рейнгардт. Вступительный текст А. Г. Левин-
тона - 392
Берне 406
Бюхнер 410
Винбарг 415
Мёрике 420
Гетнер. Составление, вступительный текст и перевод Г. М. Фридлендера 425
Вагнер. Составление, вступительный текст и перевод В. В. Ванслова . . 431
Геббель 438
Людвиг 449
Библиография. Составитель Ал. В. Михайлов. 451
Составление раздела, вступительные статьи и переводы Ал. В. Михайлова
АВСТРИЯ
Грильпарцер 461
Штифтер .... . . 471
Библиография. Составитель. Ал. В. Михайлов 478
Составление раздела, вступительные статьи и переводы
Ал. В. Михайлова
ДАНИЯ
Кьеркегор. Составление, вступительный текст и перевод Вяч. В. Иванова 483
Библиография. Составитель Вяч. В. Иванов 495
ФРАНЦИЯ
Эстетика французского классицизма и романтизма
Вступительная статья. В. Я. Бахмутский 499
М.-Ж. Шенье. Вступительный текст и перевод Ю. Божора 508
Давид. Вступительный текст /7. Р. Заборова . 512
Катрмер де Кенси. Вступительный текст и перевод П. Р. Заборова . . 514
Эмерик-Давид. Вступительный текст и перевод П. Р. Заборова . . . 517
Энгр. Вступительный текст П. Р. Заборова 519
Сталь. Вступительный текст и перевод П. Р. Заборова 521
Гюго. Вступительный текст Л. Я. Рейнгардт 525
Сент-Бев. Составление, вступительный текст и перевод М. С. Трескунова 538
Жорж Санд. Вступительный текст Л. Р. Заборова 544
Делакруа. Вступительный текст И. А. Кузнецовой 549
Берлиоз. Составление и вступительный текст В. В. Ванслова 558
Библиография. Составители П. Р. Заборов и А. В. Паевская 561
Составление раздела П. Р. Заборова и Л. Я. Рейнгардт
1003
Эстетика французского утопического социализма
Вступительная статья. Ю. П. Мадор 570.
Сен-Симон и сен-симонисты 574
Фурье. Составление и вступительный текст М. И. Чудновцева .... 579
Кабе 583
Дезами 586
Леру. Перевод А. В. Парнаха 588
Прудон. Составление, вступительный текст и перевод А. Г. Левинтона . 591
Библиография. Составители Ю. П. Мадор и А. В. Паевская . 597
Составление раздела и вступительные тексты Ю. П. Мадора
Эстетика французского классического реализма
Вступительная статья О. И. Ильинской . . 601
Бальзак . 609
Стендаль 625
Библиография. Составитель А. В. Паевская 636
Составление раздела Л. Я. Рейнгардт. Вступительные тексты
О. И. Ильинской . .
Французская эстетика 1850—1860-х годов
Вступительная статья. О. И. Ильинская 640
Флобер. Составление и вступительный текст В. А, Дынник 652
Мопассан. Составление и вступительный текст И. Д. Шкунаевой . . . 660
Шанфлёри. Вступительный текст Л. Я. Рейнгардт ......... 668
Курбе. Составление и перевод А. П. Тихомирова. Вступительный текст
О. И. Ильинской 671
Готье. Вступительный текст, составление и перевод И. А. Л иле ев ой . . 676
Леконт де Л иль. Вступительный текст и составление А. Г. Левинтона.
Перевод А. В. Парнаха 683
Бодлер. Вступительный текст, составление и перевод А. Г. Левинтона . 690
Золя. Вступительный текст А. Г. Левинтона. Перевод Ш. Брахман. . . 700
Эдмон и Жюль Гонкуры. Составление, перевод и вступительный текст
А. Г. Левинтона 708
Библиография. Составители И. А. Лилеева, А. В. Паевская 713
Составление раздела Л. Я. Рейнгардт
Эстетика французского позитивизма
Вступительная статья. А. Г. Левинтон 722
Конт. Перевод А. Г. Левинтона 725
Тэн. Перевод А. Г. Левинтона 733
Брюнетьер. Перевод А. Г. Левинтона 741
Библиография. Составитель А. В. Паевская ... 748
Составление раздела и вступительные тексты А. Г. Левинтона
АНГЛИЯ
Эстетика английского романтизма
Вступительная статья. Н. Я. Дьяконова 753
Блейк. Составление, перевод и вступительный текст Е. А. Некрасовой 761
Вордсворт 765
1004
Кольридж 772
Байрон 779
Шелли . . . 783
Ките . .' 790
Хэзлитт 793
В- Скотт 801
Библиография. Составитель Я. Я. Дьяконова 806
Составление раздела и вступительные тексты Я. Я. Дьяконовой
Английская эстетика 1830—1860-х годов
Вступительная статья. А. А. Аникст 814
Оуэн. Составление и вступительный текст Ю. П. Мадора 823
Джонс. Перевод Е. В. Корниловой. Составление и вступительный текст
А. Н. Николюкина 827
Диккенс. Вступительный текст Я. М. Катарского. Перевод О. А. Ложе-
жинской .... .... 832
Теккерей. Перевод О. Л. Пожежинской. Составление и вступительный
текст Я. А. Егуновой 839
Констебль. Составление, перевод и вступительный текст Е. А. Некрасовой 845
Карлейль. Перевод Я. Я. Левит 848
Рескин 853
Моррис 869
Спенсер - 879
Бейн. Перевод О. А. Пожежинской 889
Аллен. Перевод О. А. Пожежинской 893
Библиография. Составители М. А. Шерешевская и Ю. Левин .... 900
Составление раздела и вступительные тексты Ю. Левина и
М. А. Шерешевской
ИТАЛИЯ
Вступительная статья. И. Я. Голенищев-Кутузов 911
Чезаротти. Перевод Е. М. Солоновича 920
Фосколо. Перевод Е. М. Солоновича 921
Беркет. Перевод Е. М. Солоновича 927
Мандзони. Перевод Е. М. Солоновича 931
Леопарди. Перевод Е. М. Солоновича 937
Джоберти. Перевод Е. М. Солоновича 942
Мадзини. Перевод Я. Я. Голенищева-Кутузова 945
Де Санктис. Перевод Я. Я. Голенищева-Кутузова 947
Библиография. Составитель Я. Я. Голенищев-Кутузов 952
Составление раздела и вступительные тексты Я. Я. Голенищева-
Кутузова ·
ИСПАНИЯ
Вступительная статья. А. Л. Штейн 959
Галиано. Перевод Ю. Кирий 961
Де Ларра 971
Библиография. Составитель А. В. Паевская 978
Составление раздела и вступительные тексты А. Л. Штейна
1005
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Вступительная статья. А. А. Аникст 981
Эмерсон. Перевод В. Либерзон 984
Э. По. Перевод В. Либерзон -. 988
Уитмен 992
Библиография. Составитель А. В, Паевская 998
Составление раздела и вступительные тексты А. А. Аникста
«ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ» т. ш
М., «Искусство», 1967, 1008 стр. 7
Редактор Ю. Я. Попов
Оформление художника Е. А. Ганнушкина
Художественный редактор В. Д. Карандашов
Технический редактор М. Я. Ушков а
Корректоры Л. Я. Трофименко
и Я. Я. Прокофьева
А-16920. Подп. в печать 15/Х—66 г. Формат 70X90Vie.
Бум. л. 31,5. Печ. л. 63,75. Усл. п. л. 74,587. Уч.-изд.
л. 65,62. Тираж 23.200. Изд. № 17163. Зак. 5-532.
Цена 4 руб.
Издательство «Искусство»
Москва, Цветной бульвар, д. 25.
Книжная фабрика им. Фрунзе
Комитета по печати при Совете Министров УССР,
Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.