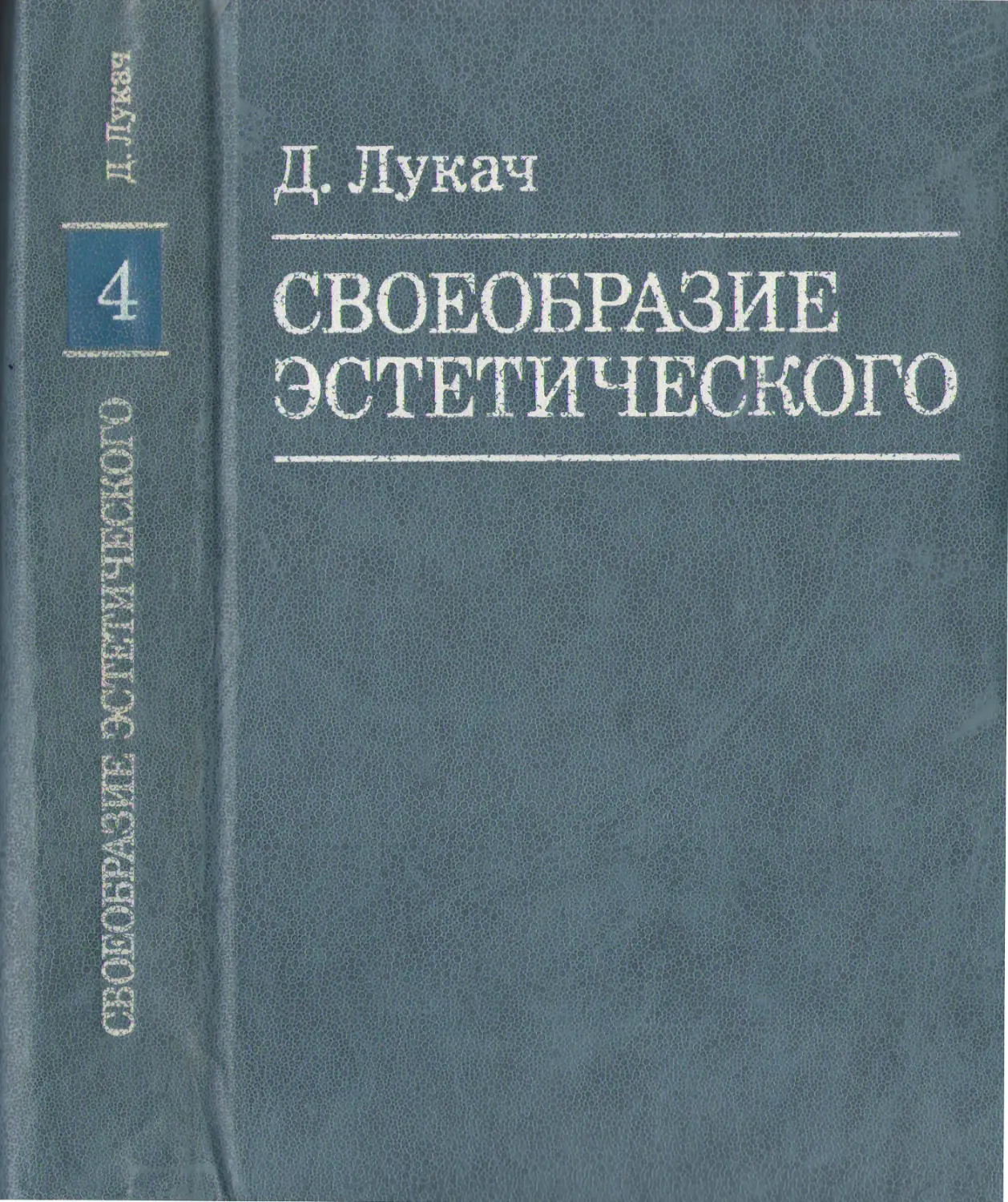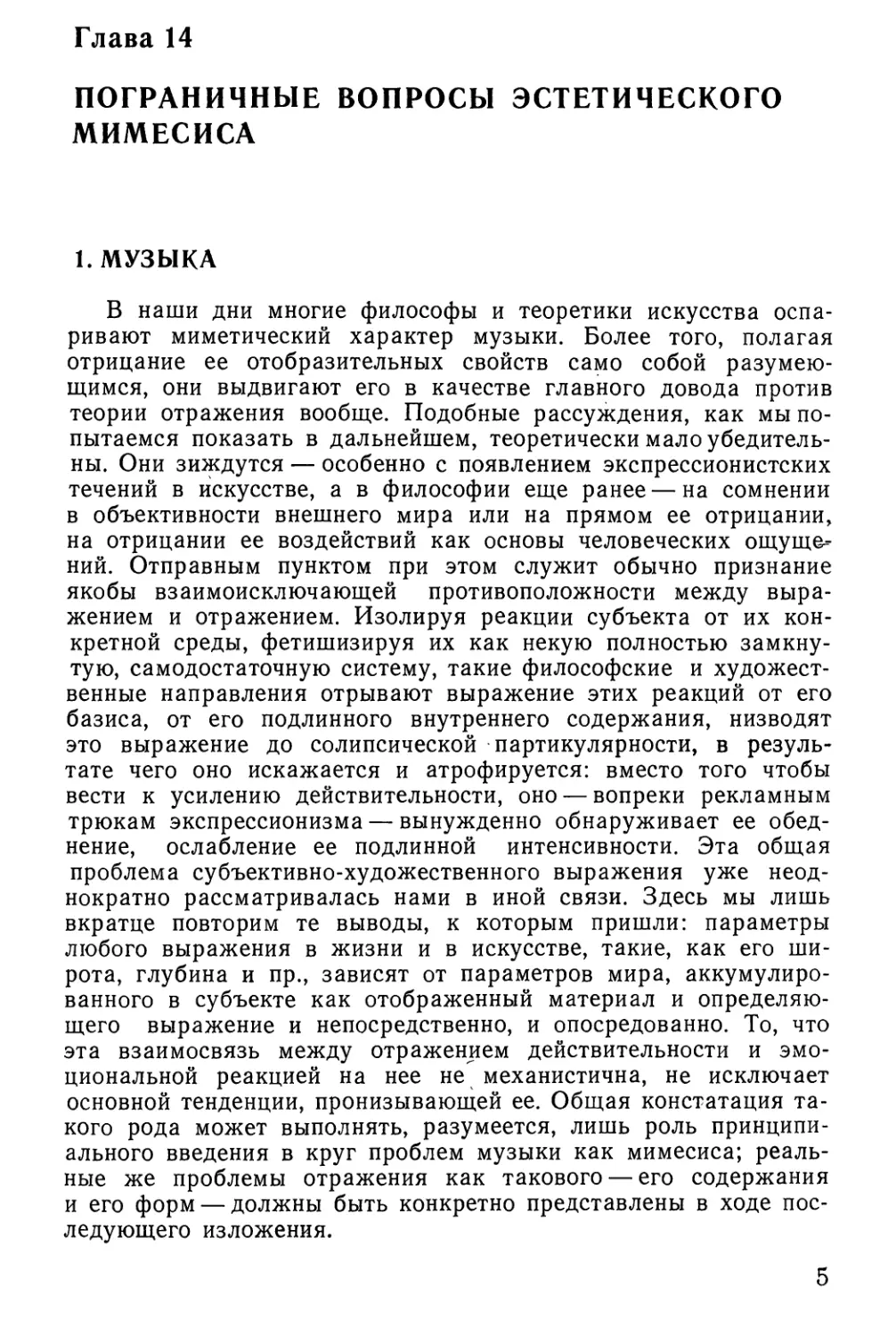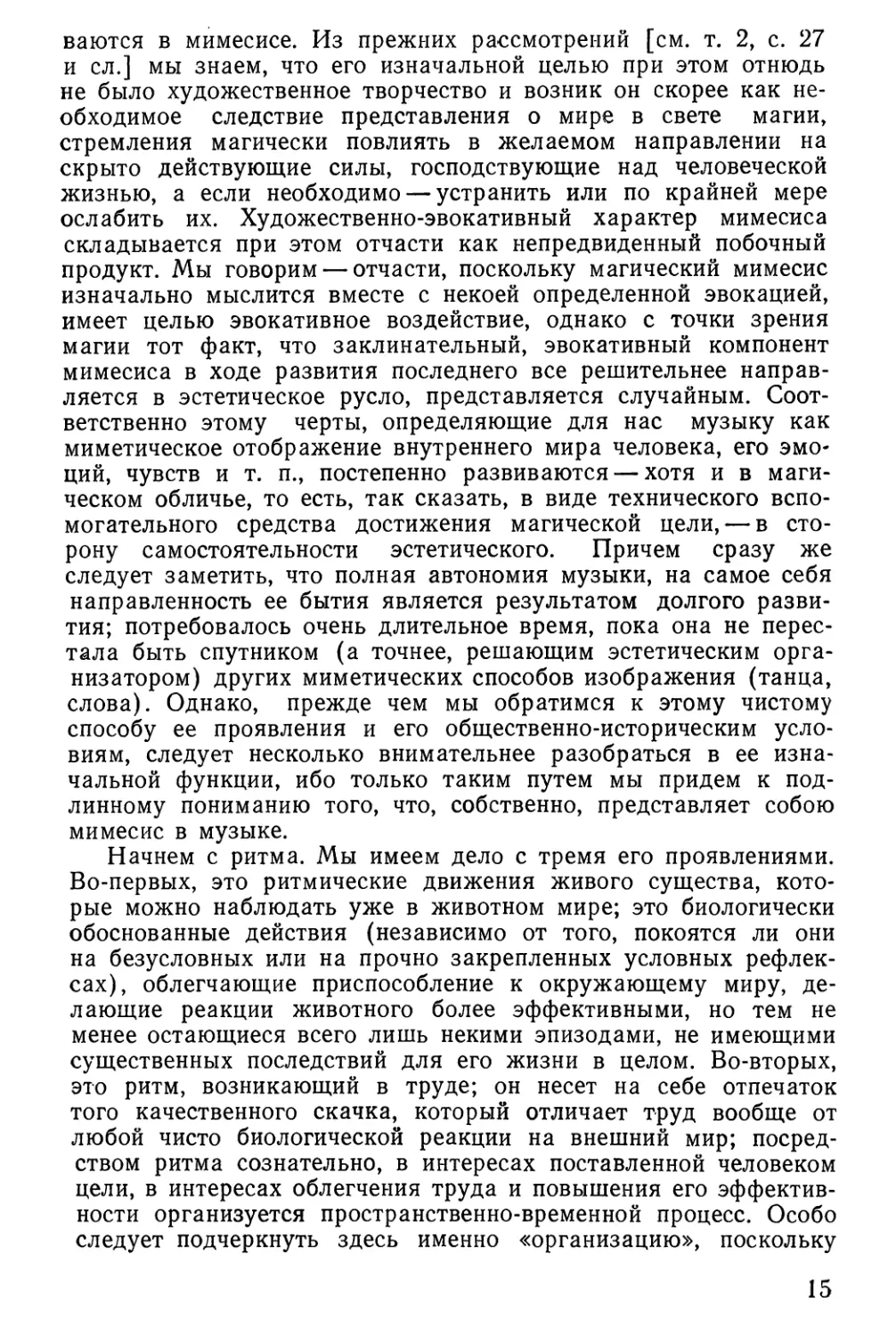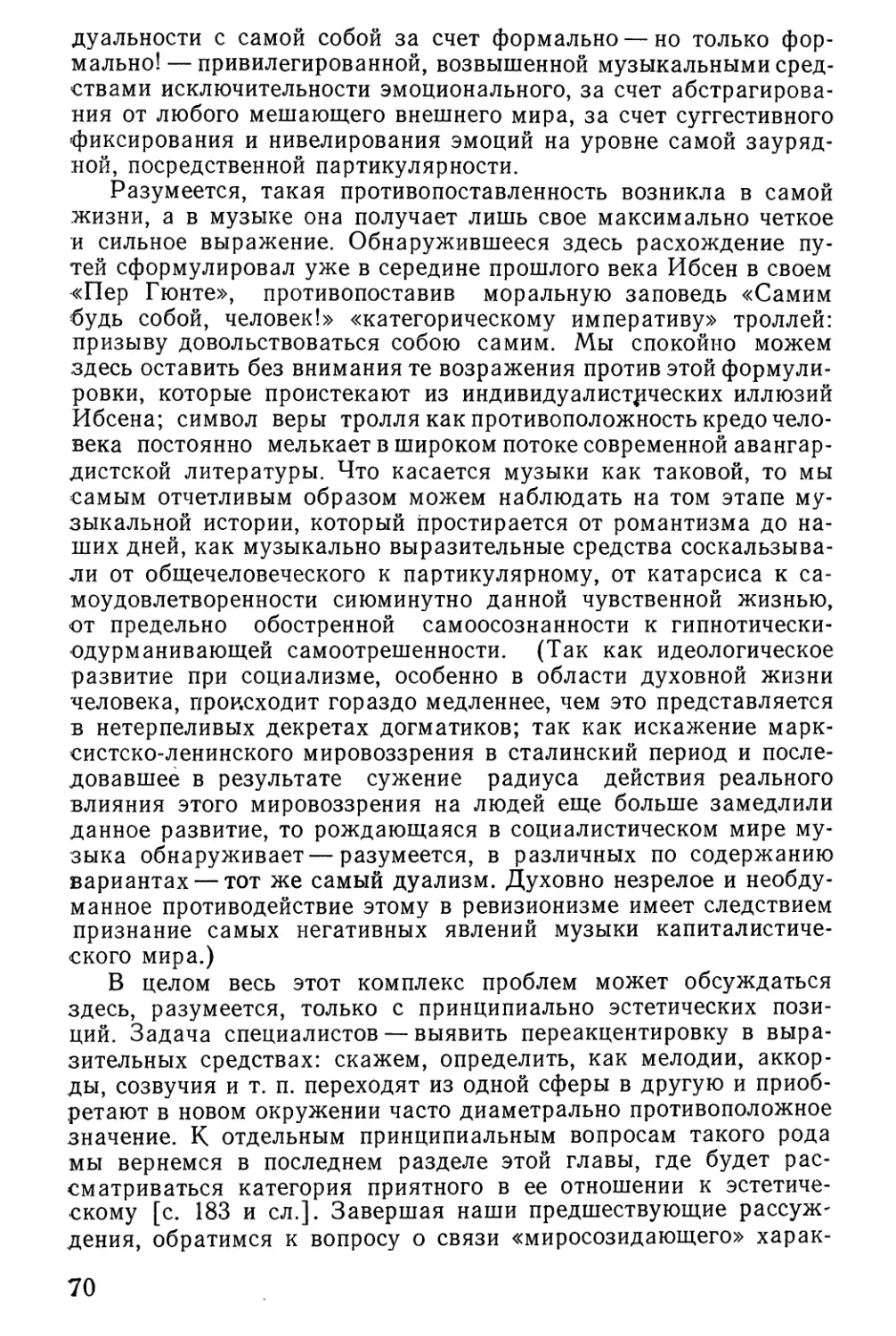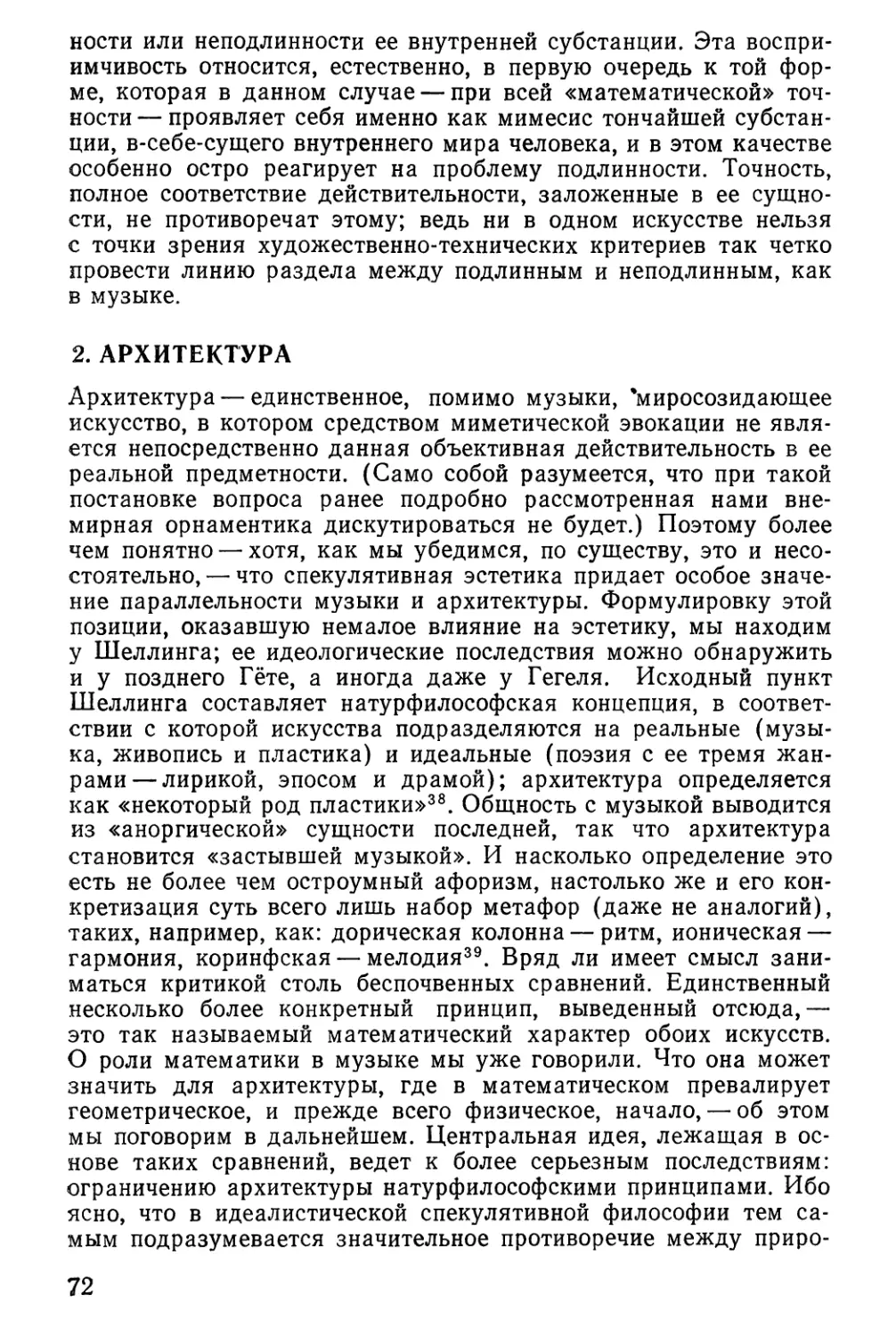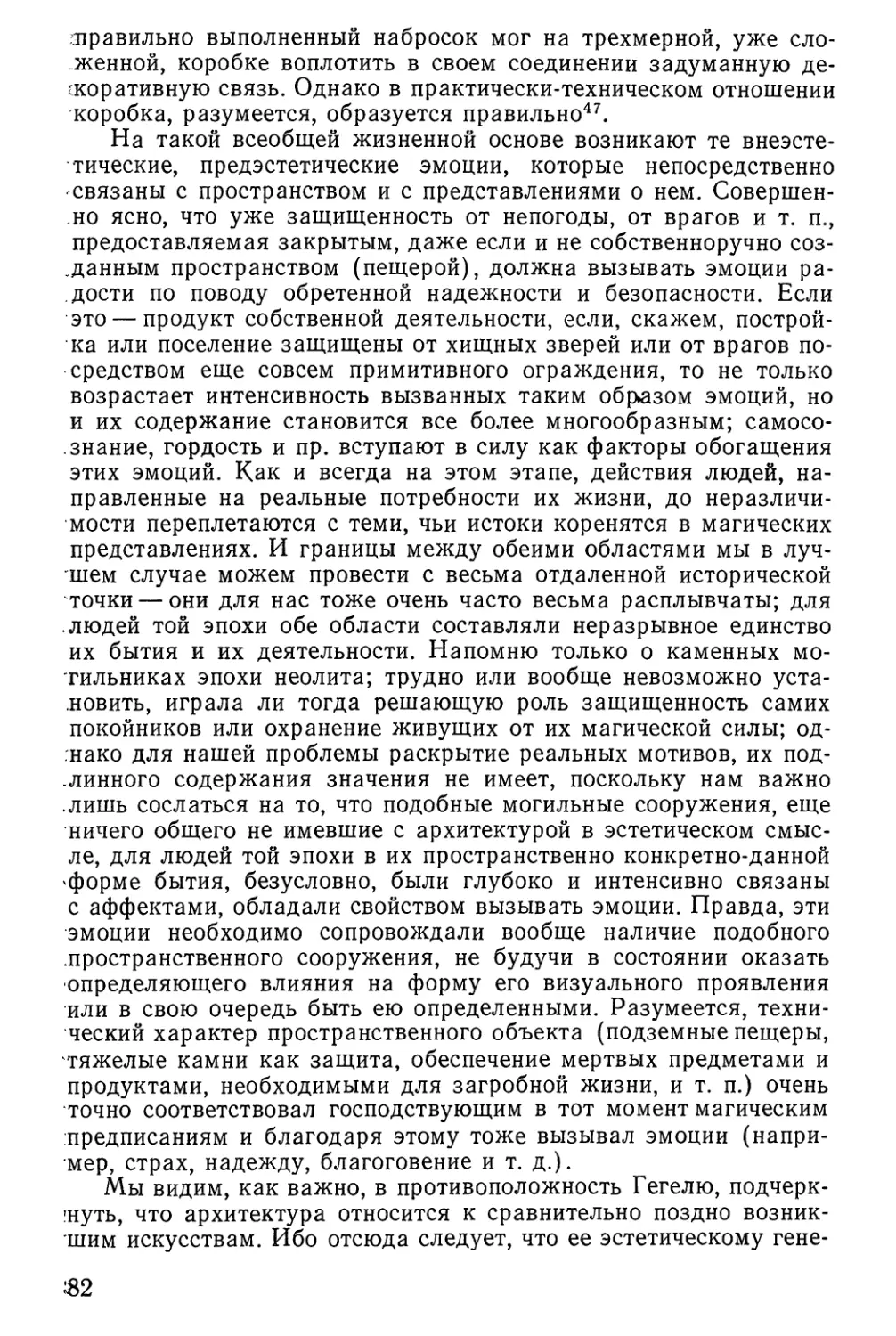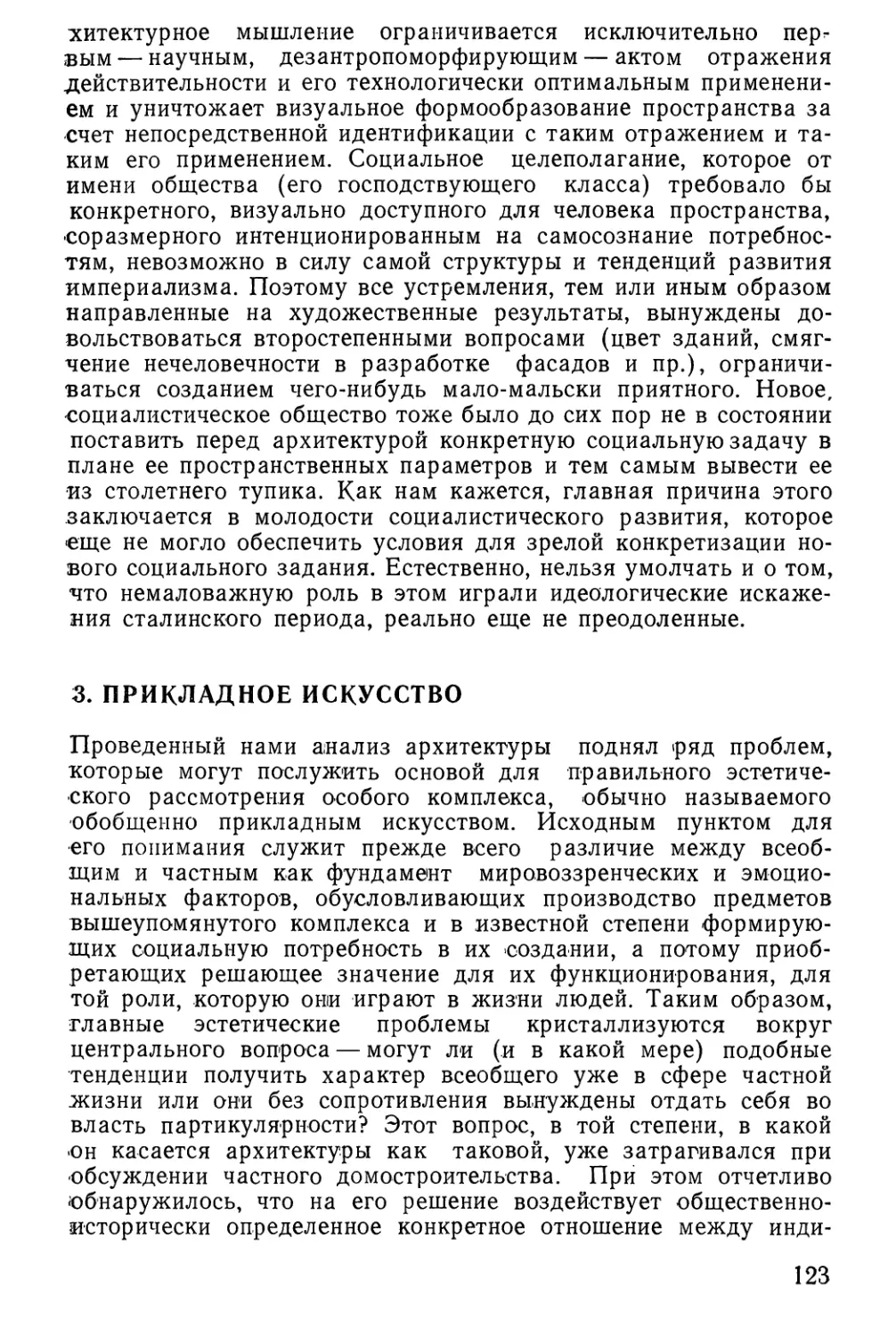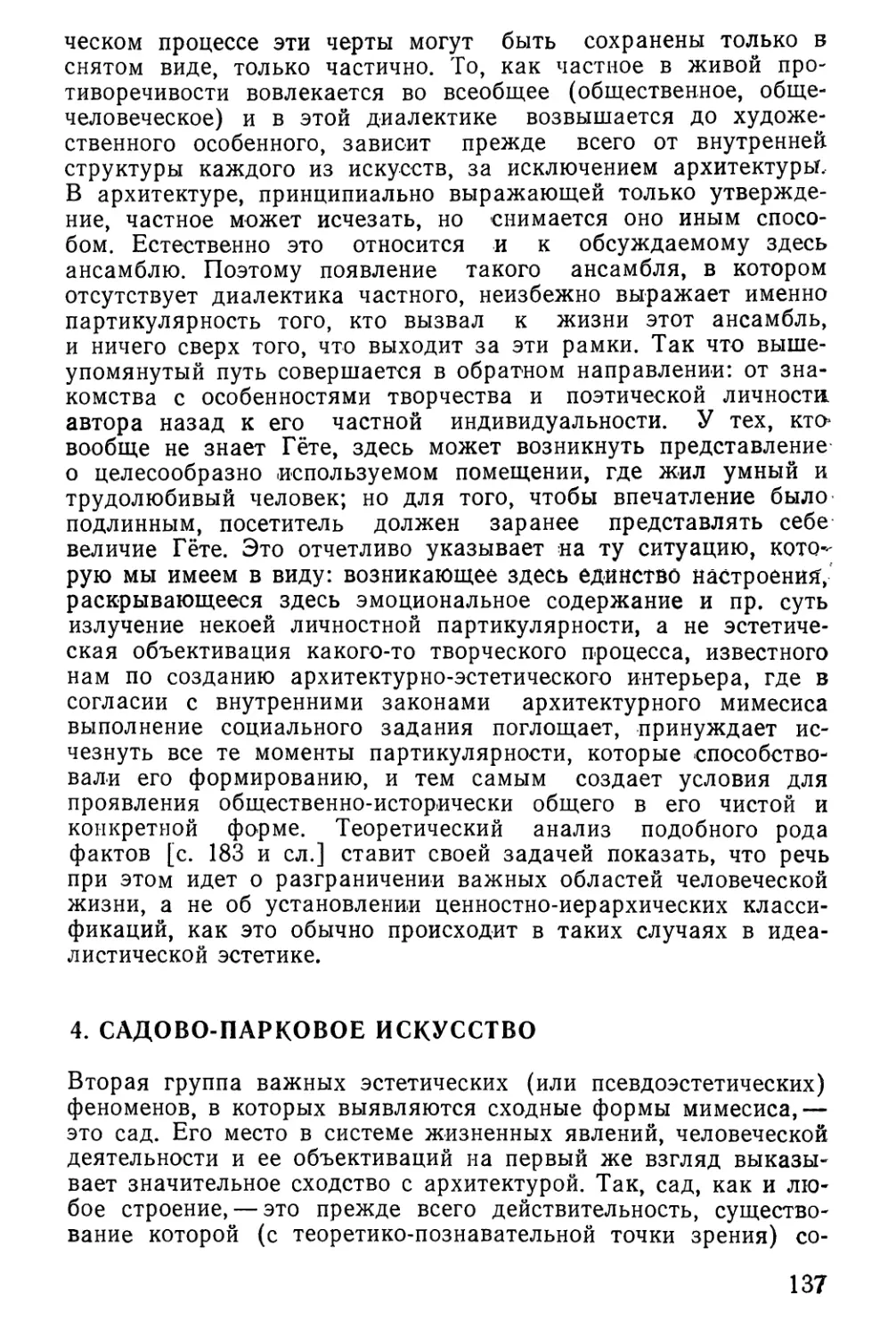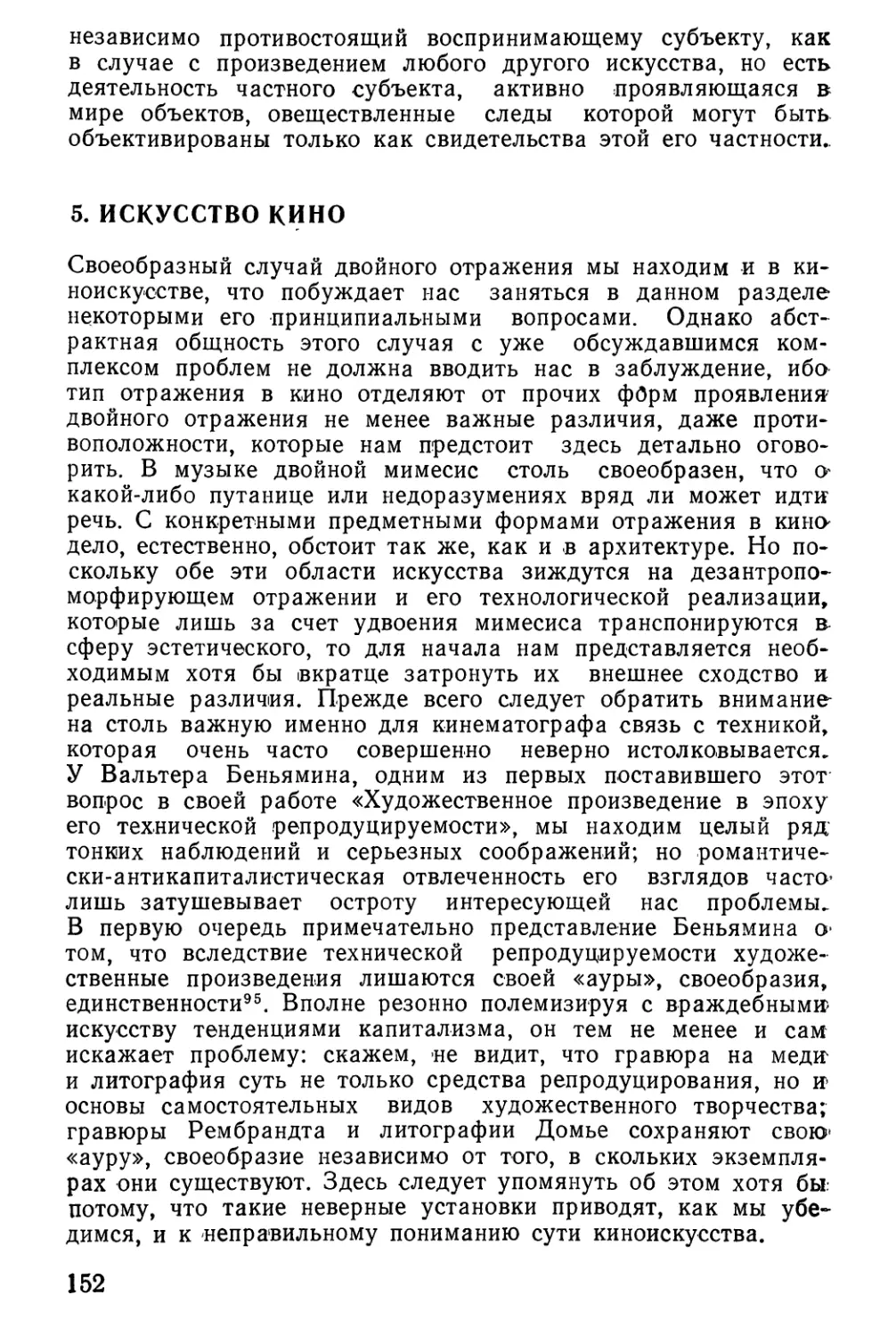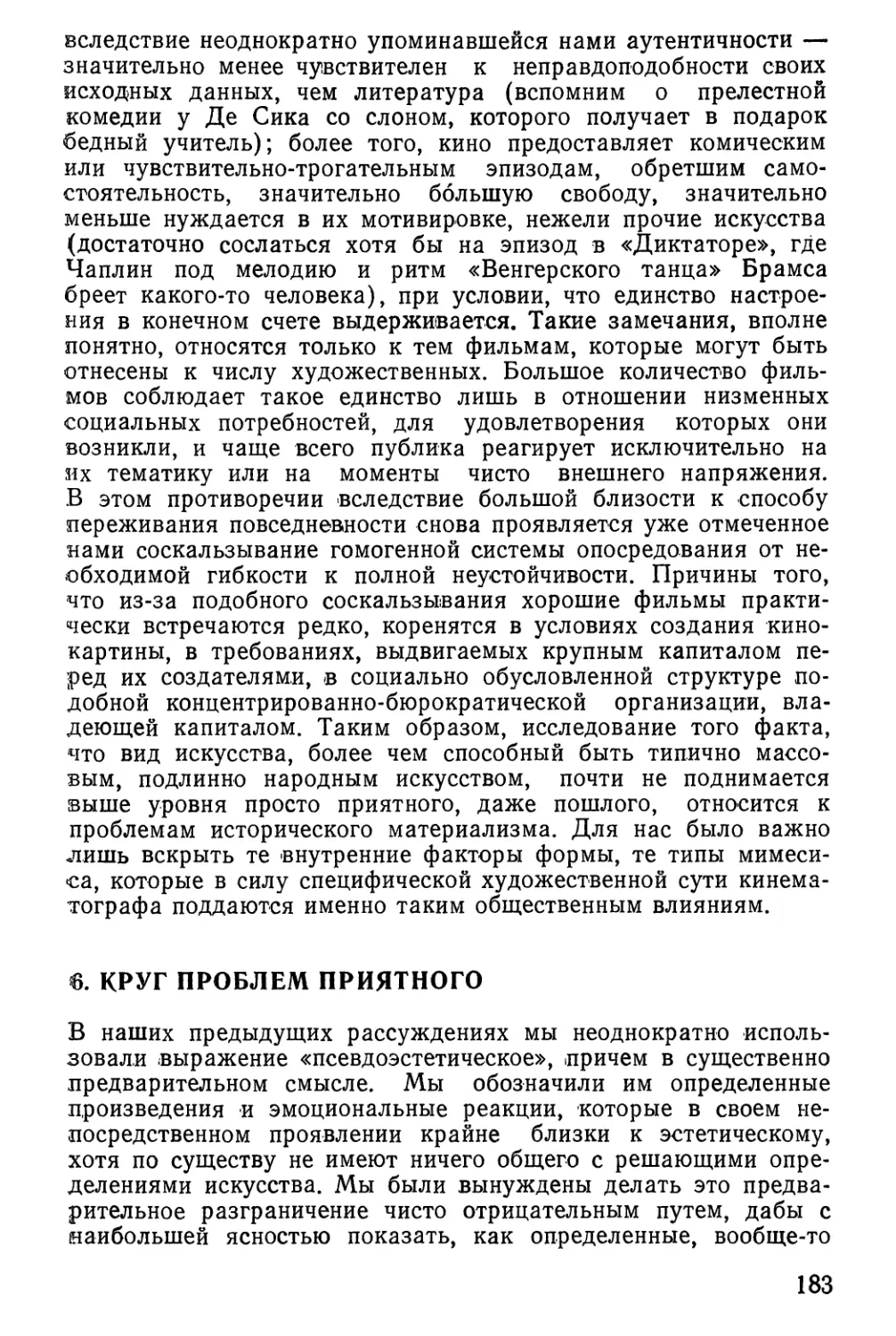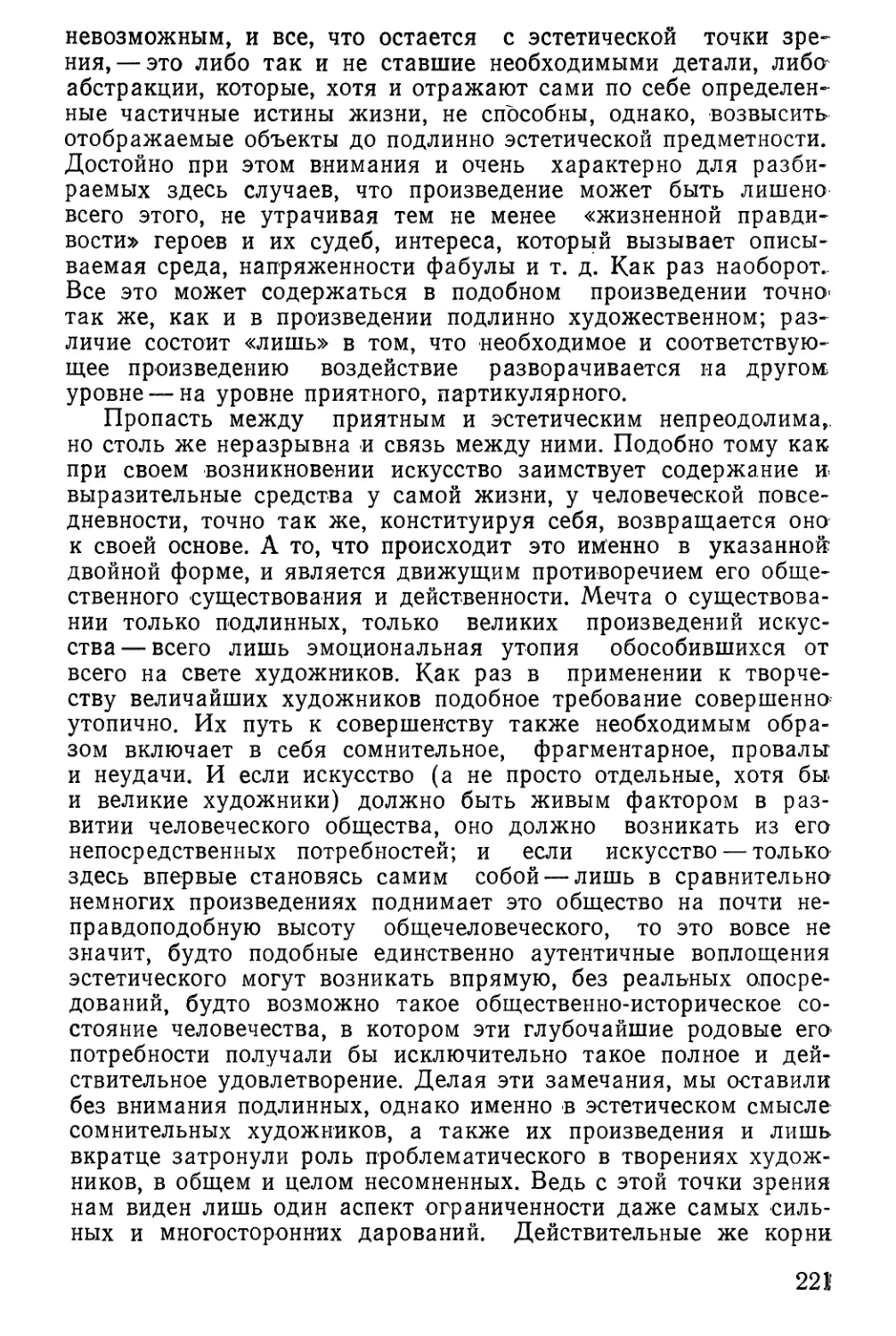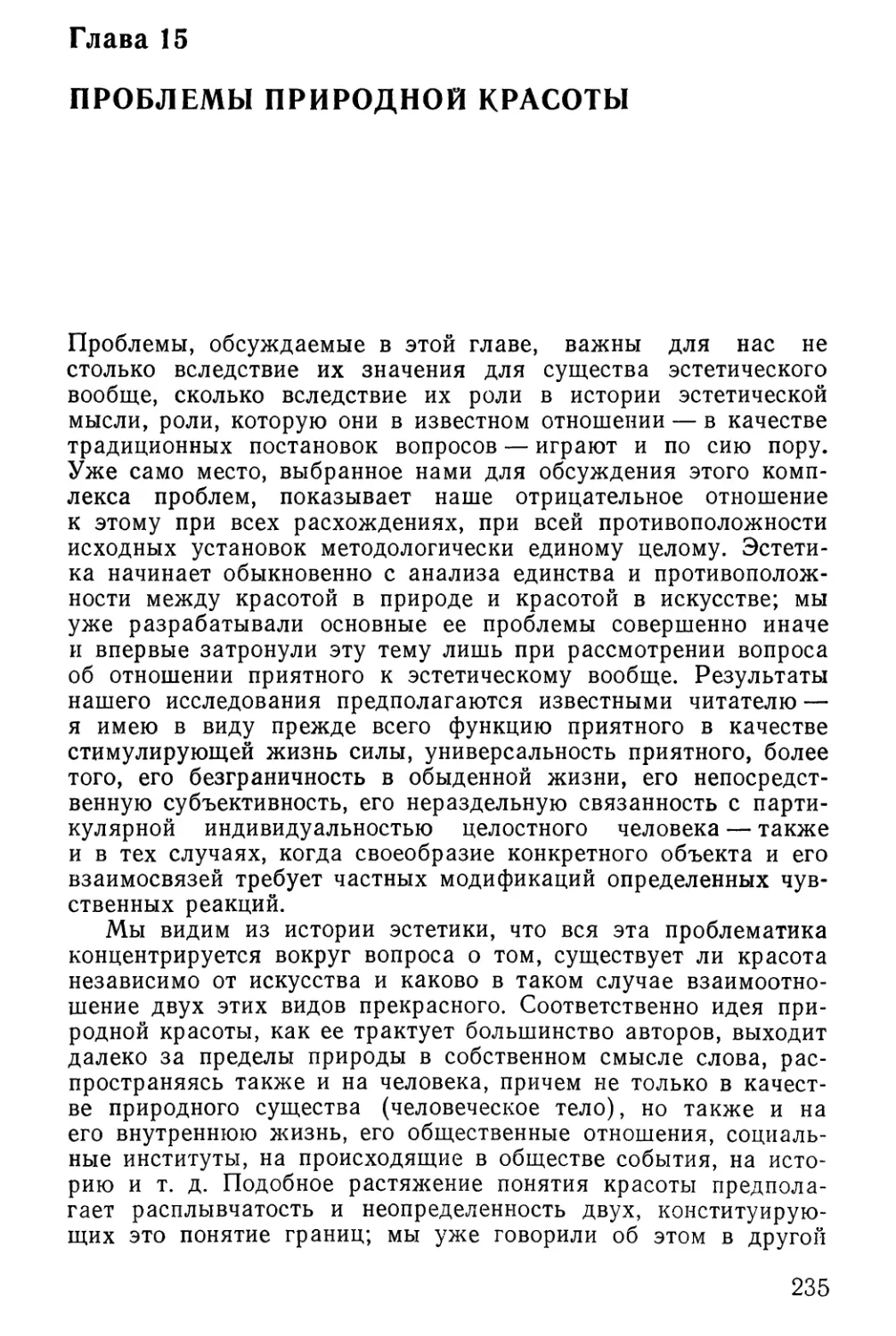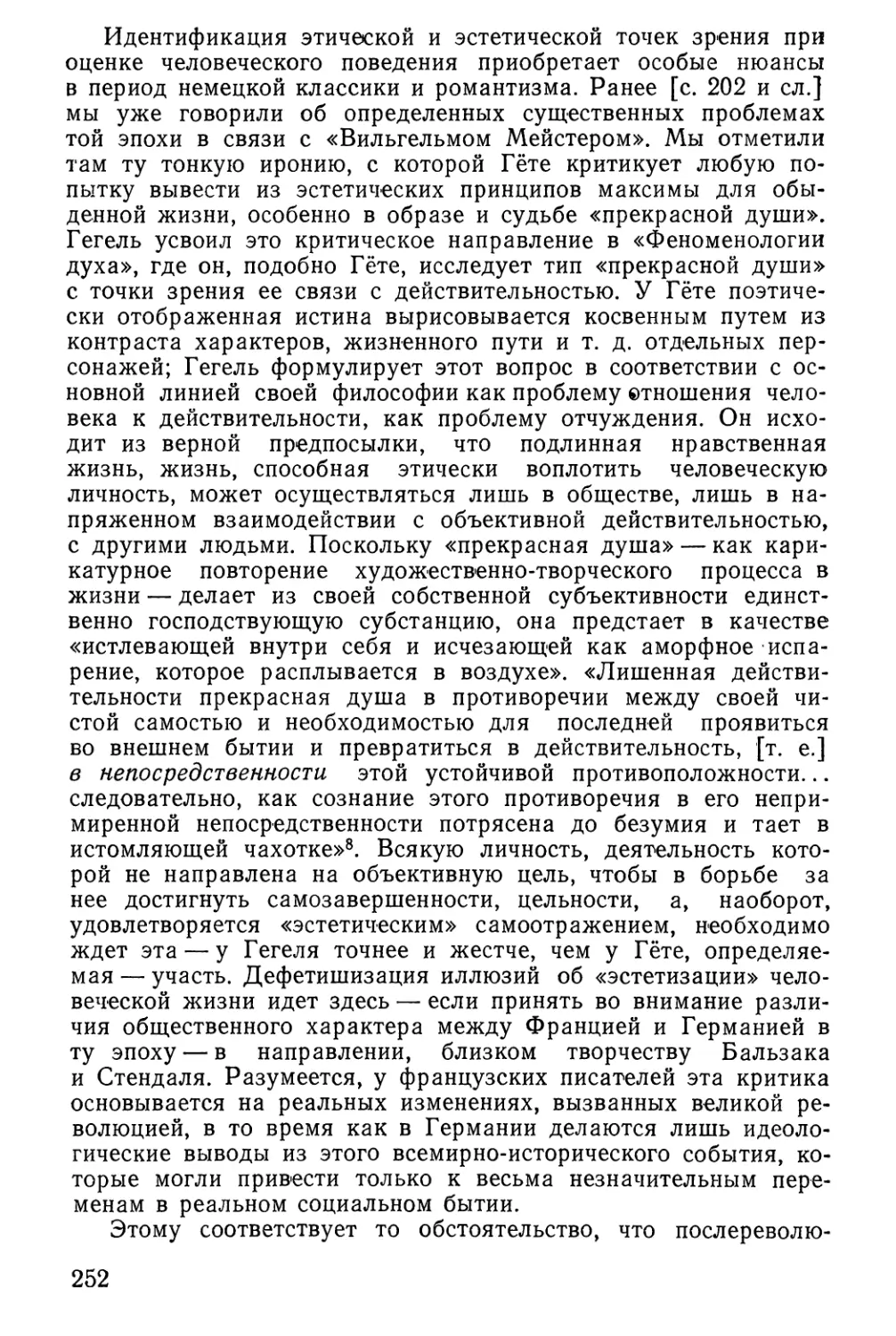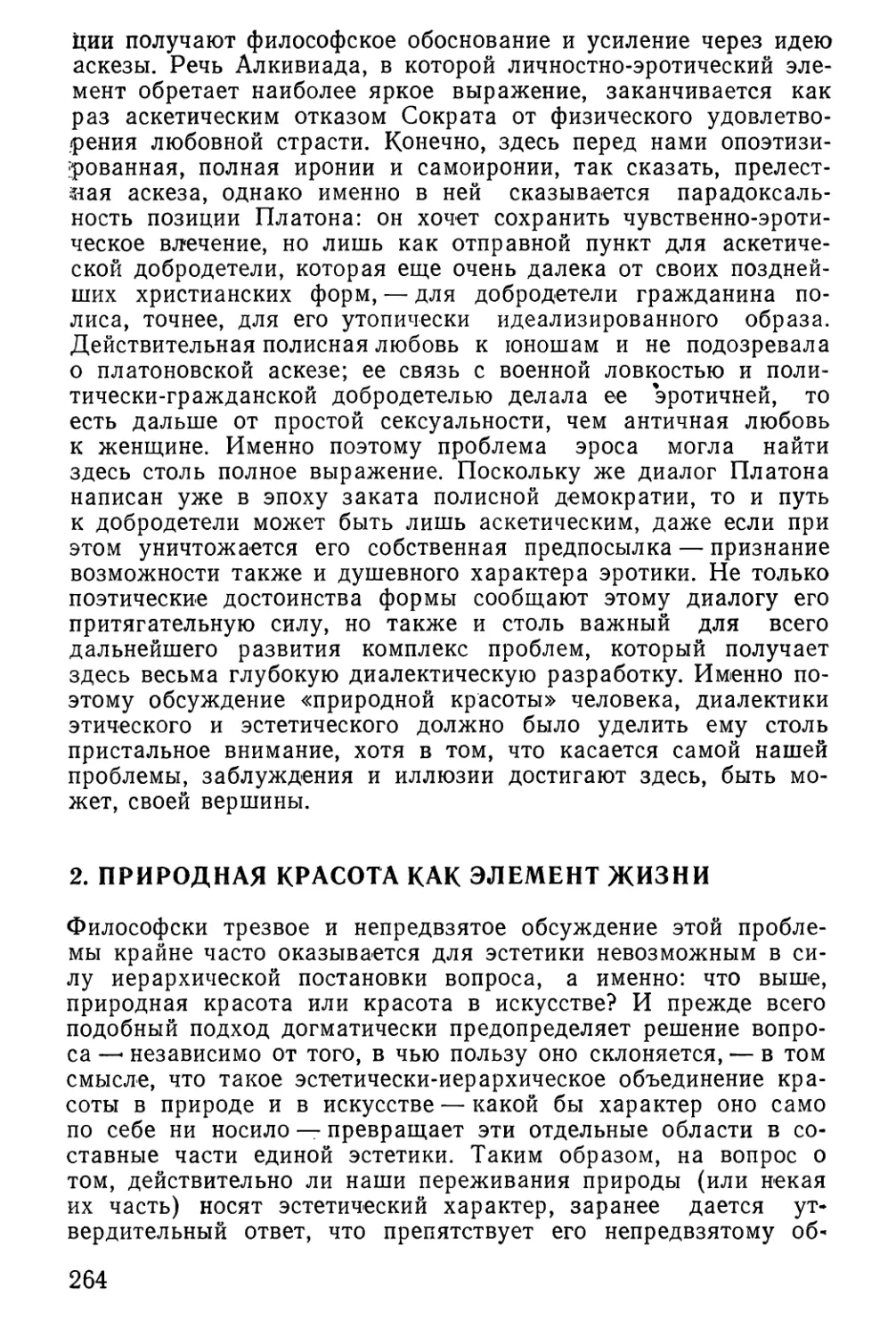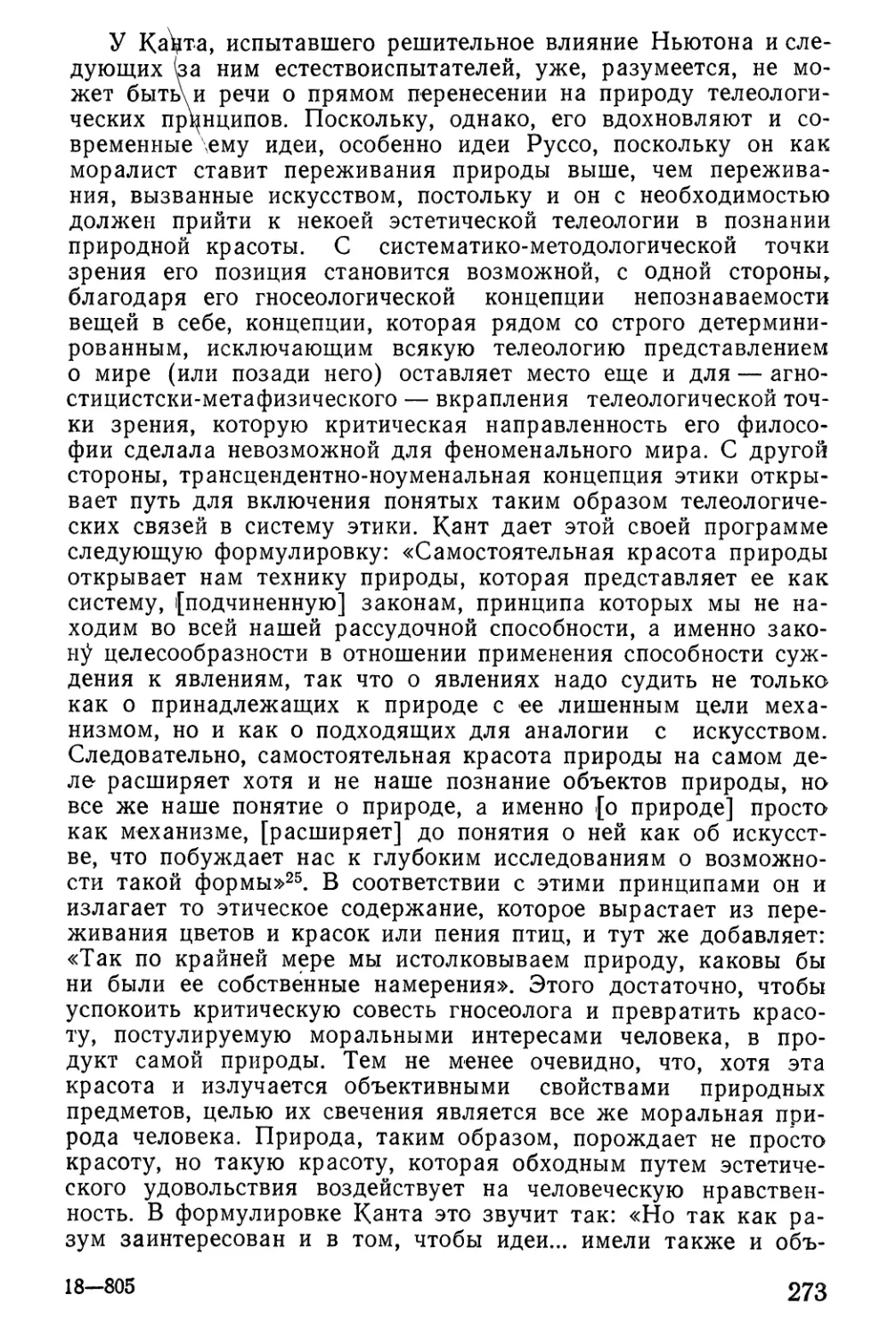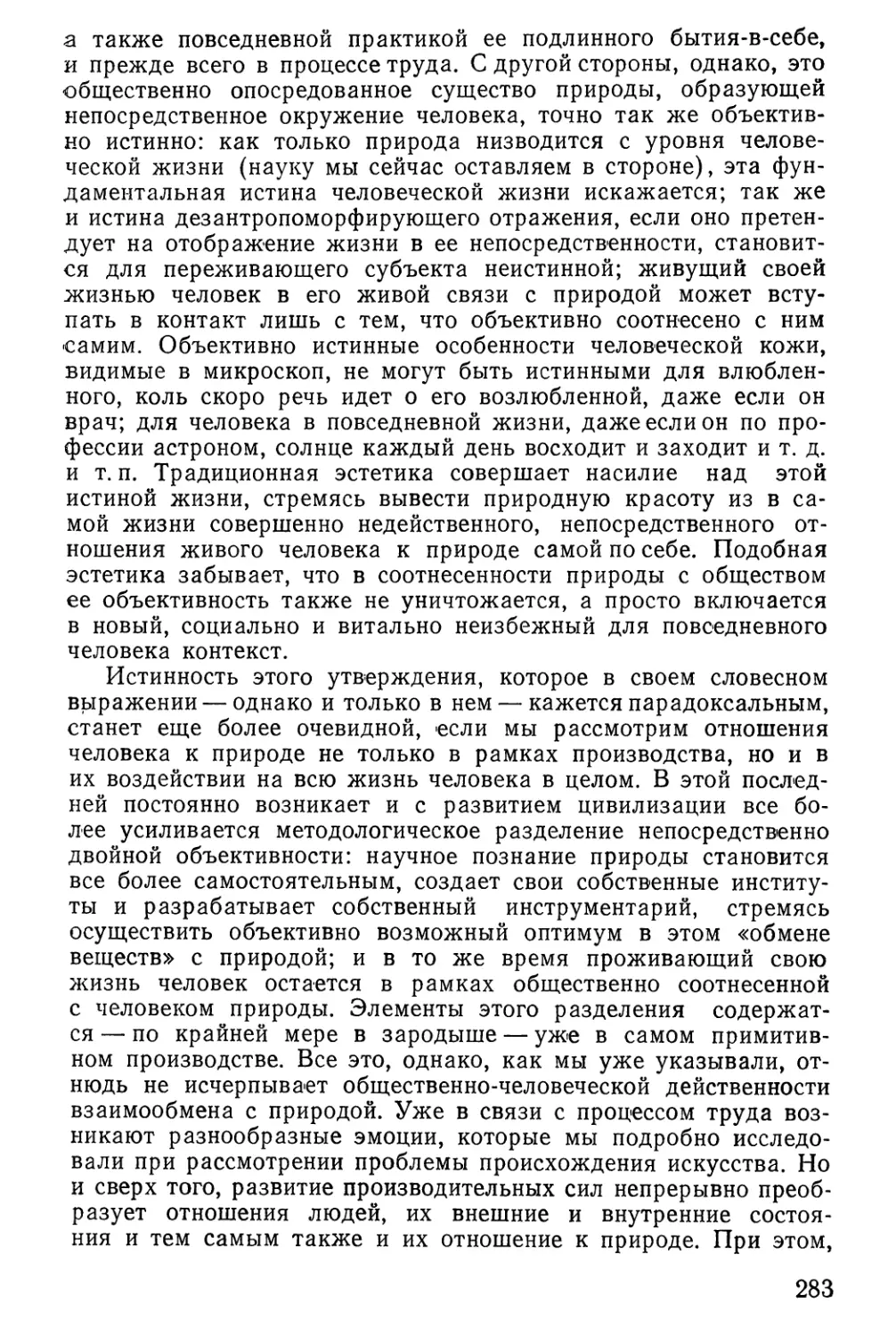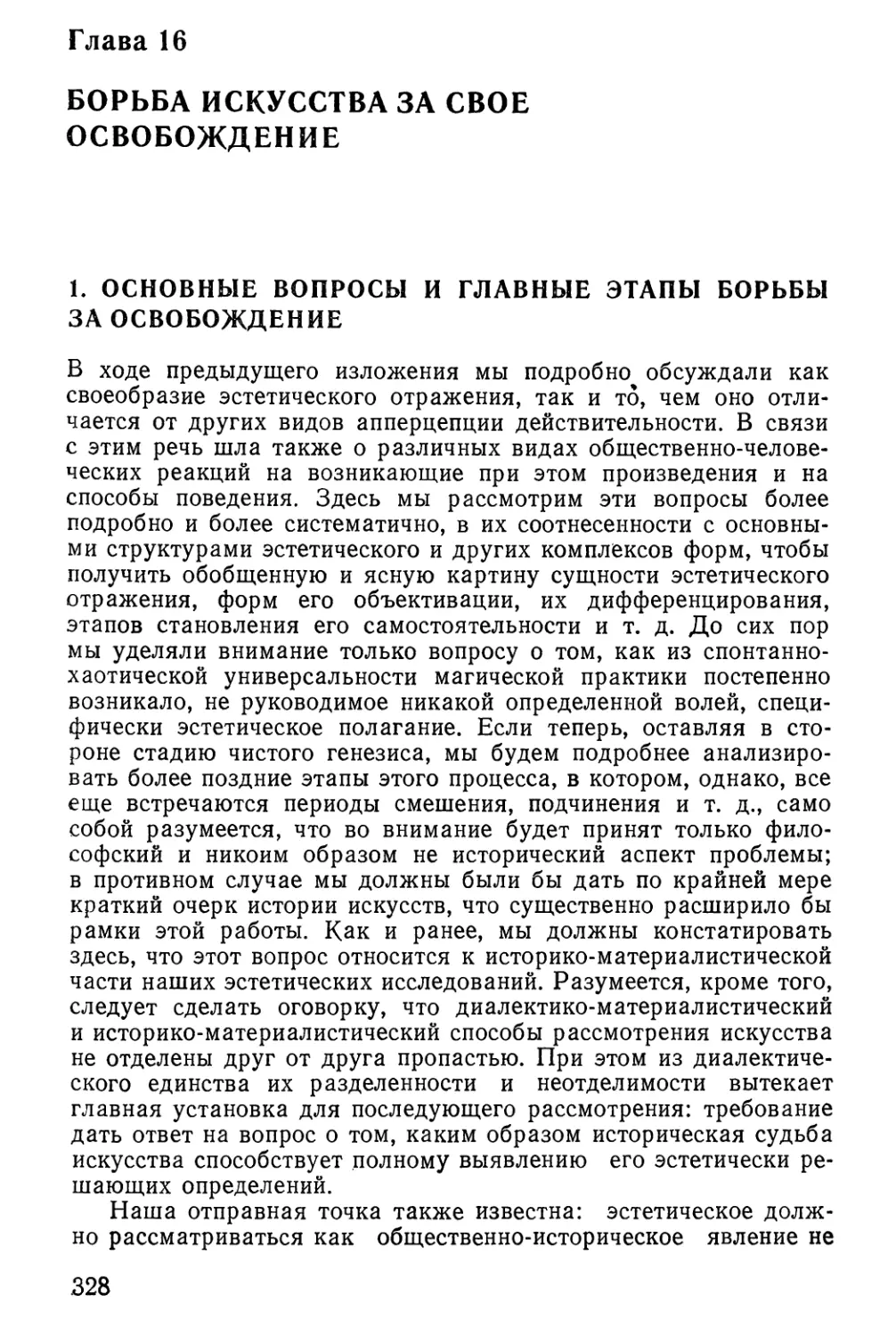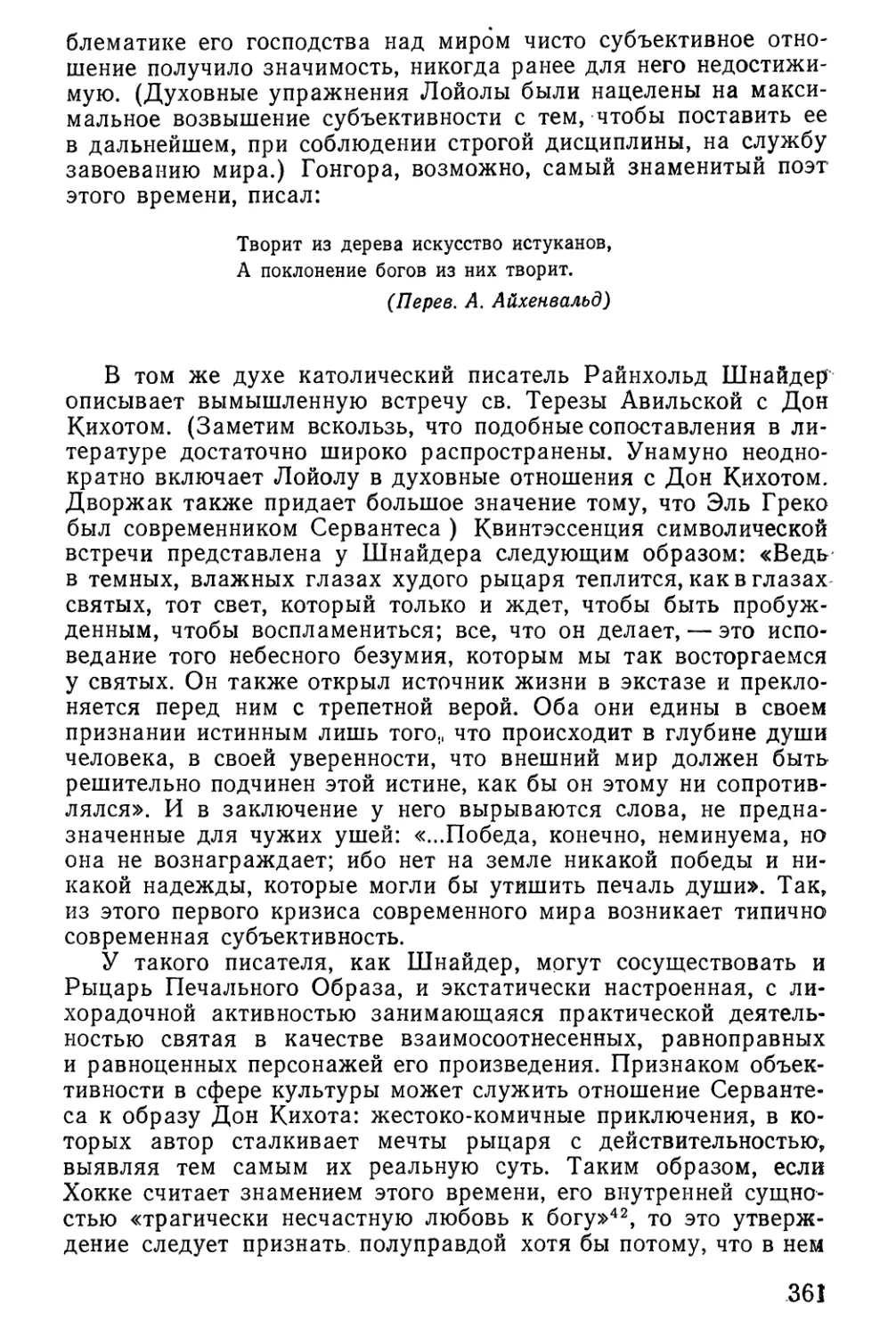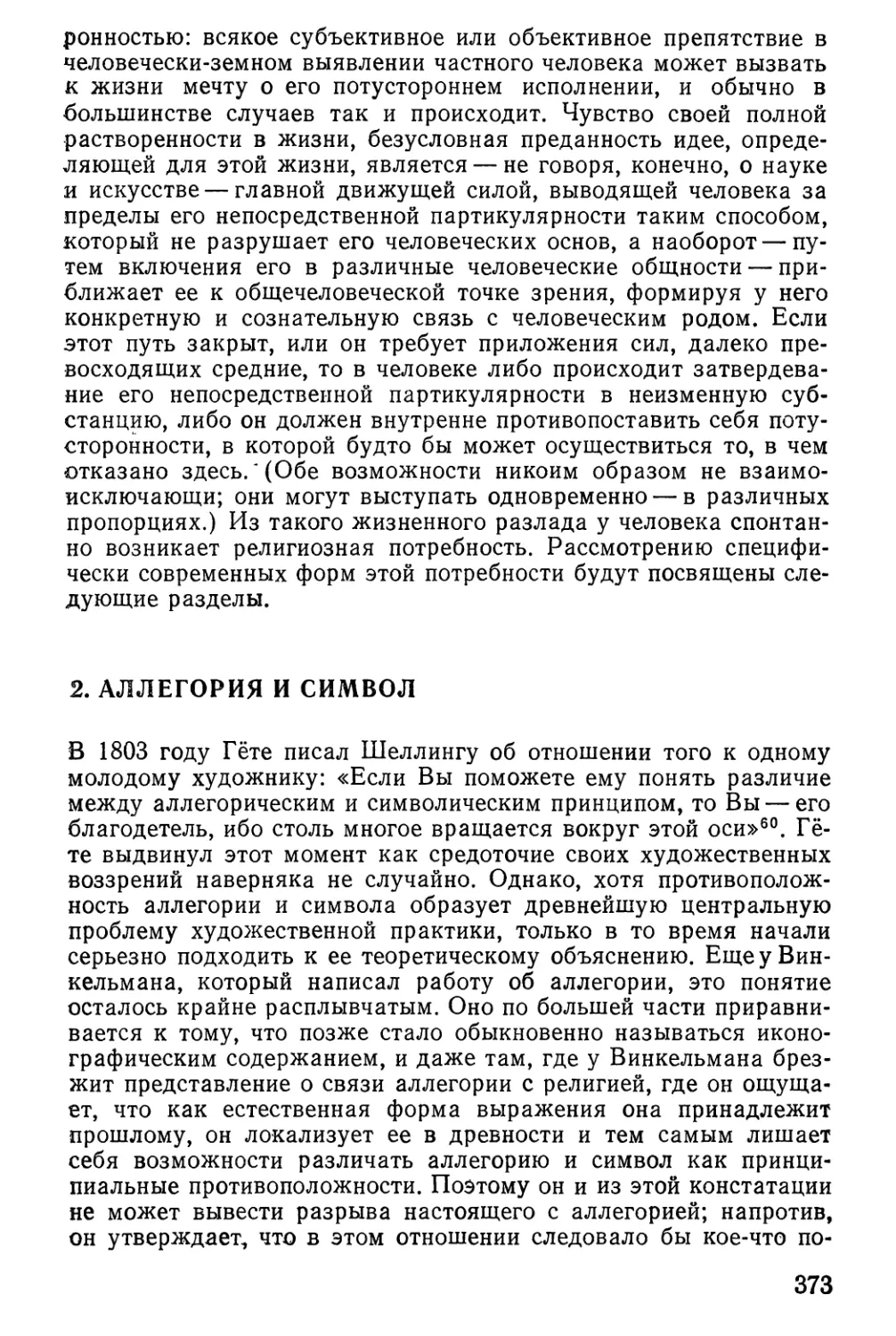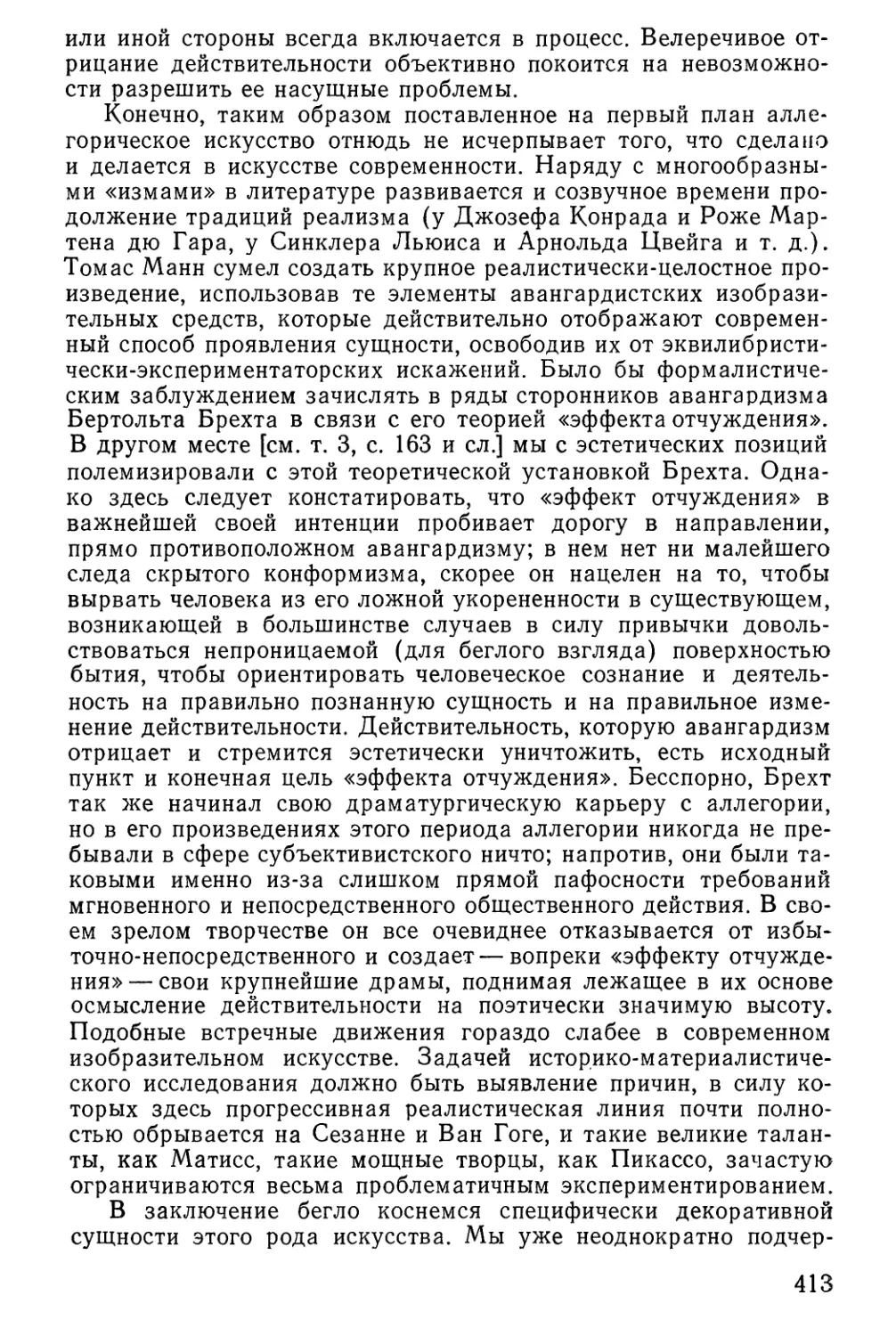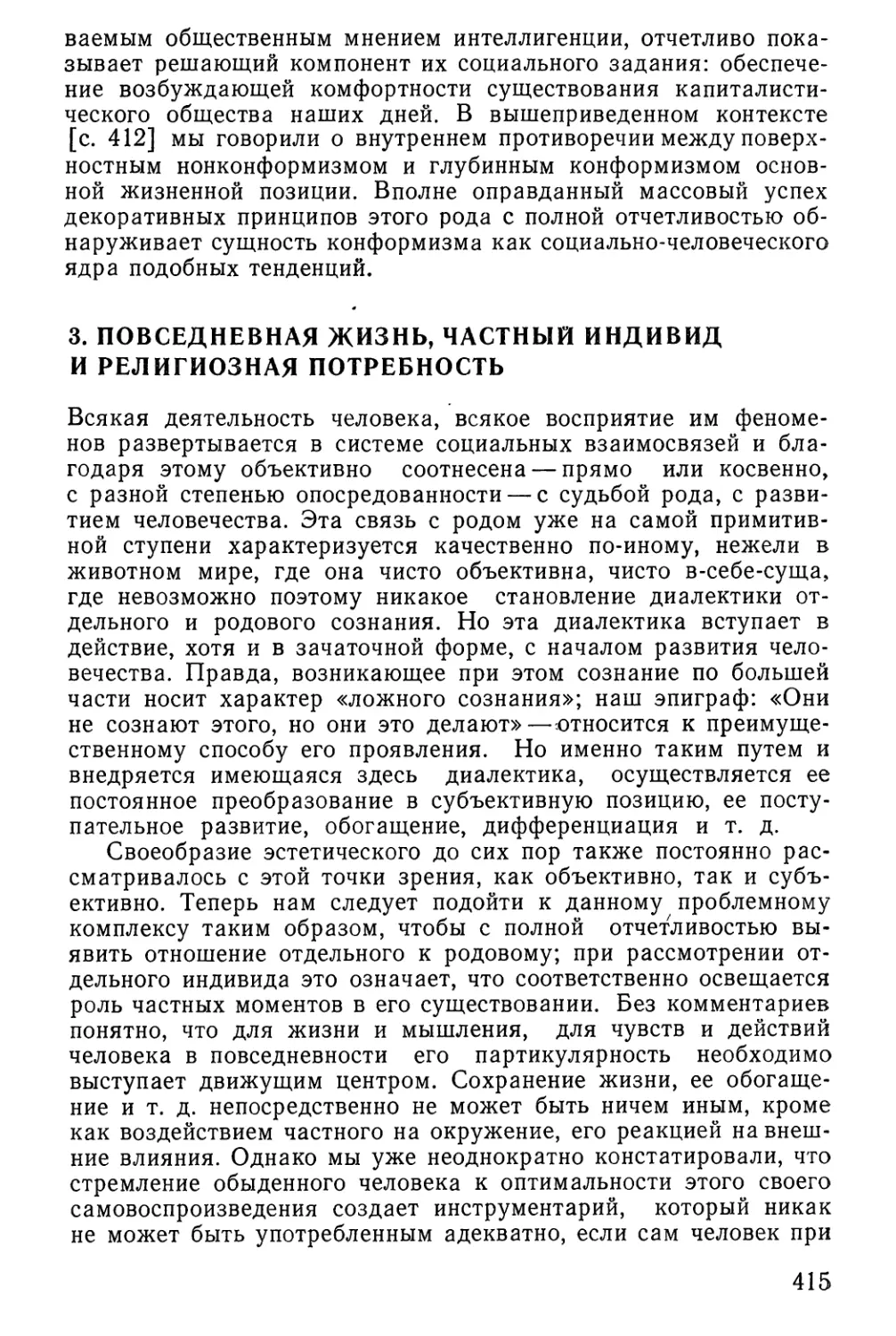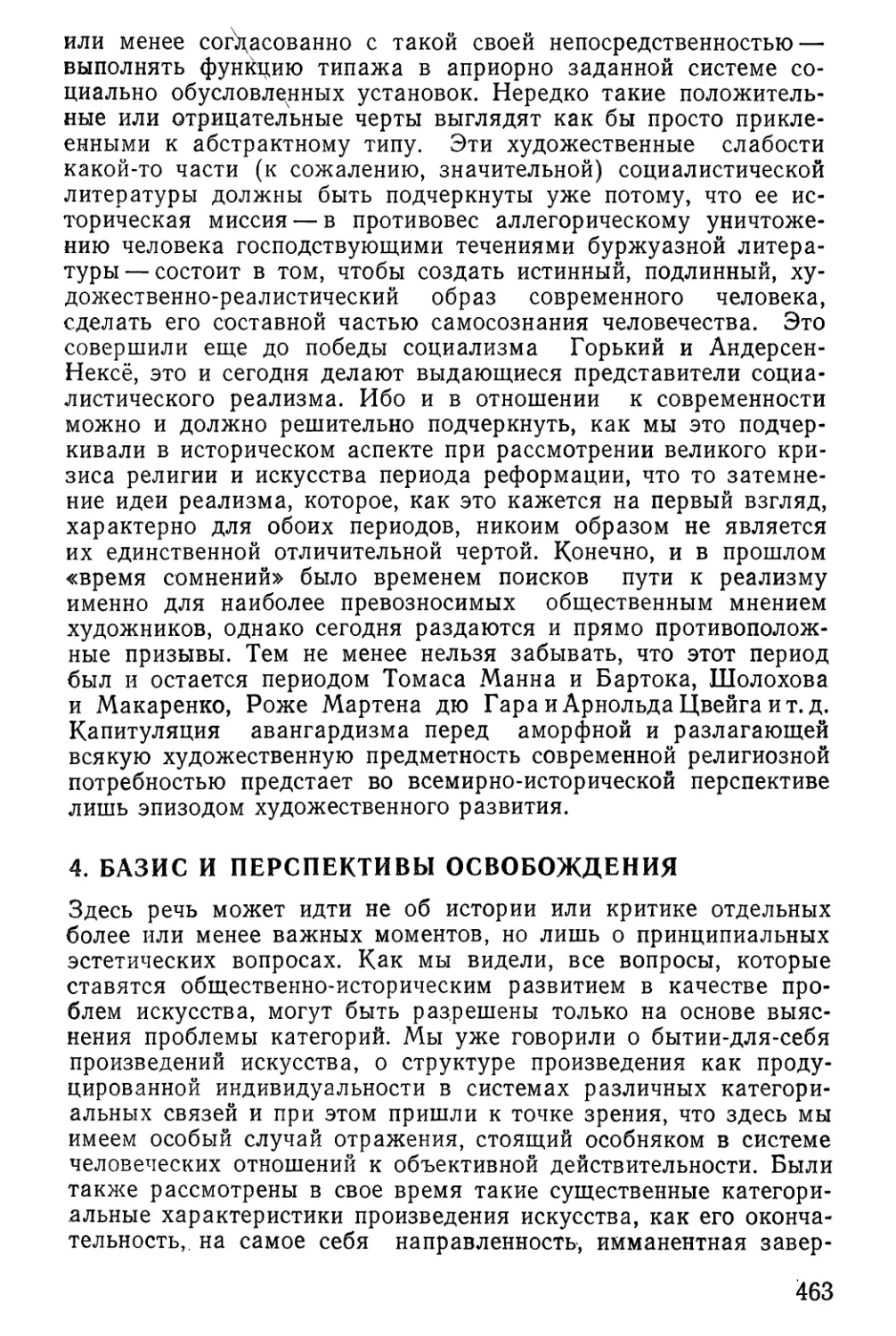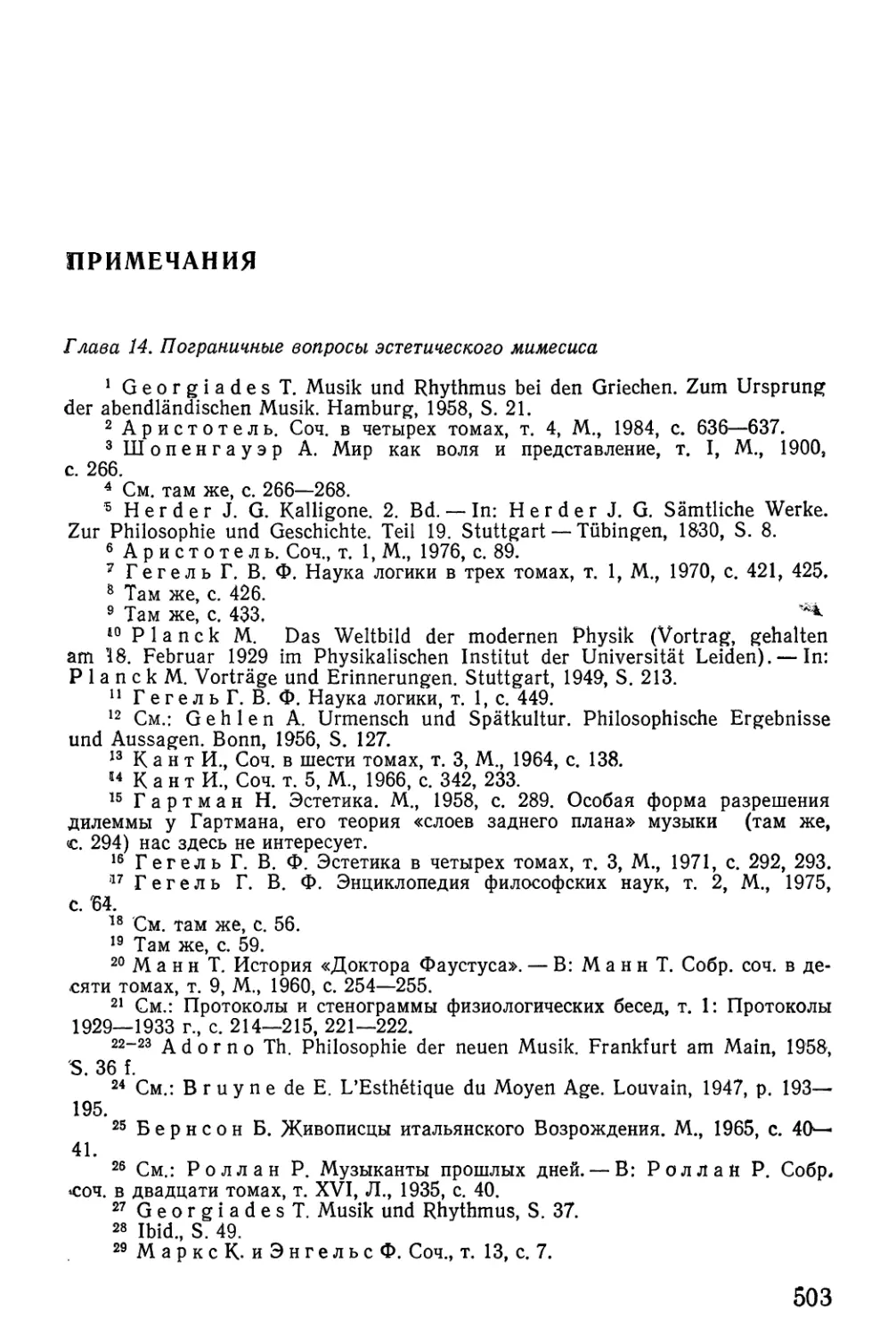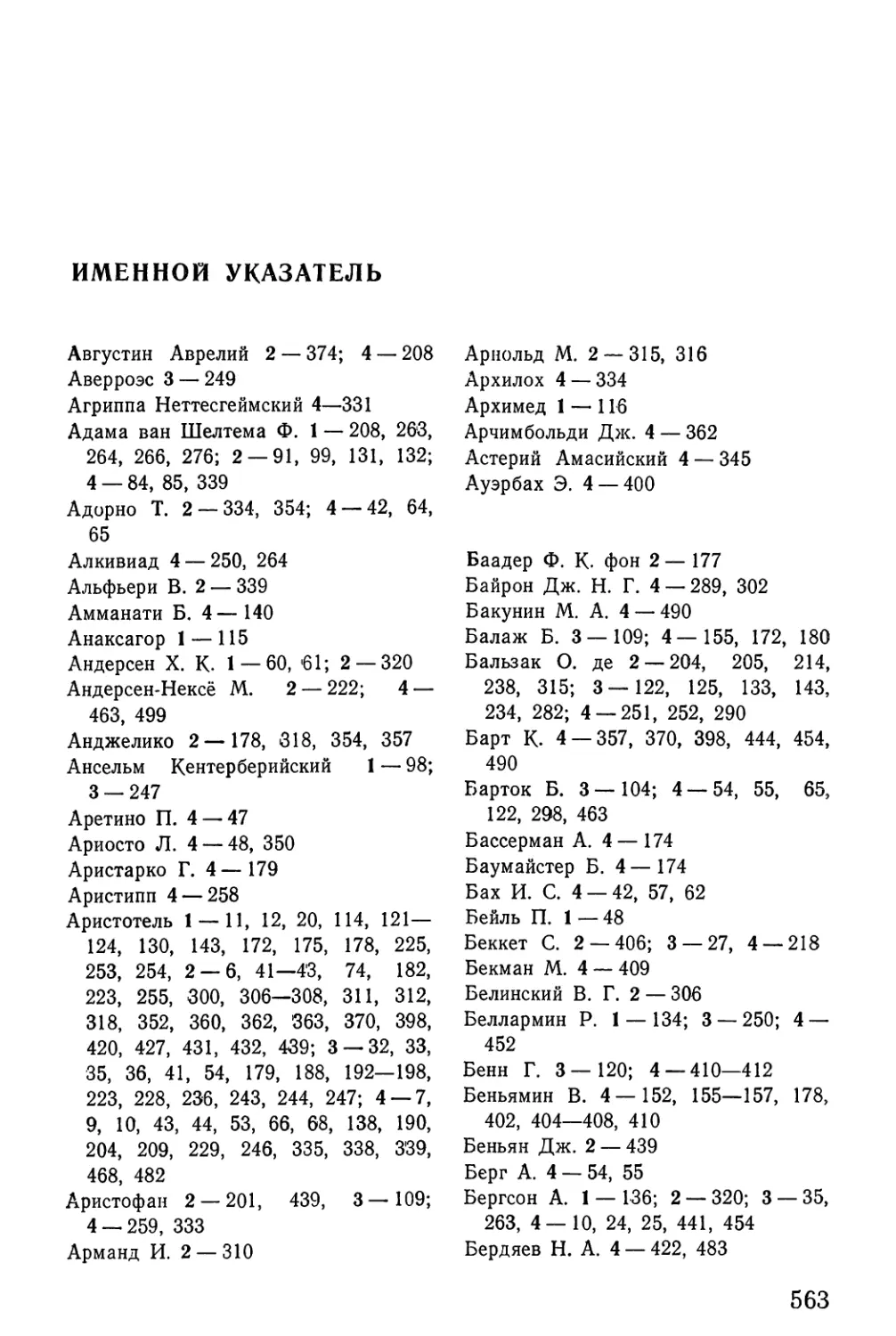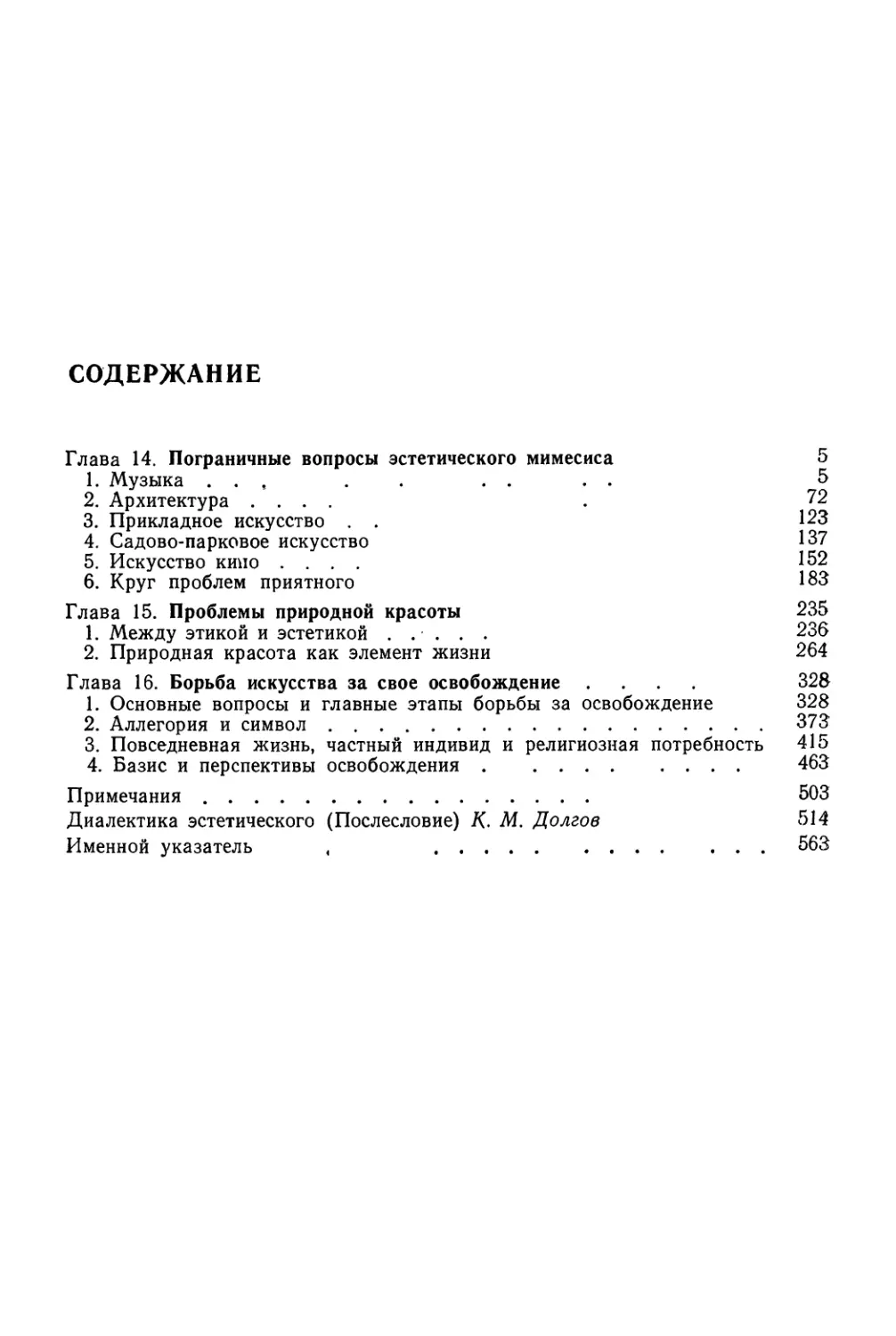Текст
Д. Лукач
ЭСТЕТИЧЕСКОГО
G. Lukäcs
DIE EIGENART
DES ÄSTHETISCHEN
Berlin und Weimar
Aufbau-Verlag
1981
Для научных библиотек
Д. Лукач
СВОЕОБРАЗИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ТОМ 4
Перевод с немецкого
Общая редакция и послесловие
доктора философских наук, профессора К. М. Долгова
Москва
«Прогресс»
1987
Переводчики: И. H. Бурова, M. А. Журинская,
К. Н. Иванов, А. А. Рыбаков
Книга известного венгерского философа Д. Лукача
представляет собой систематическое изложение проблем
марксистской эстетики, опыт разработки ленинской тео-
рии отражения применительно к эстетике.
Четвертый том русского перевода книги включает
главы 14—16-ую, рассматривающие пограничные проб-
лемы эстетического мимесиса (миметическое отражение
в музыке, архитектуре, киноискусстве и т.д.), а также
проблемы природной красоты и борьбы искусства за
свое освобождение от религии.
Редакция литературы по философии и лингвистике
© Ferenc Jânossy, 1963
© Перевод на русский язык. Послесловие. «Прогресс», 1987
0302060000—473
Л 006(01)—87 —26—87
Глава 14
ПОГРАНИЧНЫЕ ВОПРОСЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
МИМЕСИСА
1. МУЗЫКА
В наши дни многие философы и теоретики искусства оспа-
ривают миметический характер музыки. Более того, полагая
отрицание ее отобразительных свойств само собой разумею-
щимся, они выдвигают его в качестве главного довода против
теории отражения вообще. Подобные рассуждения, как мы по-
пытаемся показать в дальнейшем, теоретически мало убедитель-
ны. Они зиждутся — особенно с появлением экспрессионистских
течений в искусстве, а в философии еще ранее — на сомнении
в объективности внешнего мира или на прямом ее отрицании,
на отрицании ее воздействий как основы человеческих ощуще-
ний. Отправным пунктом при этом служит обычно признание
якобы взаимоисключающей противоположности между выра-
жением и отражением. Изолируя реакции субъекта от их кон-
кретной среды, фетишизируя их как некую полностью замкну-
тую, самодостаточную систему, такие философские и художест-
венные направления отрывают выражение этих реакций от его
базиса, от его подлинного внутреннего содержания, низводят
это выражение до солипсической партикулярности, в резуль-
тате чего оно искажается и атрофируется: вместо того чтобы
вести к усилению действительности, оно — вопреки рекламным
трюкам экспрессионизма — вынужденно обнаруживает ее обед-
нение, ослабление ее подлинной интенсивности. Эта общая
проблема субъективно-художественного выражения уже неод-
нократно рассматривалась нами в иной связи. Здесь мы лишь
вкратце повторим те выводы, к которым пришли: параметры
любого выражения в жизни и в искусстве, такие, как его ши-
рота, глубина и пр., зависят от параметров мира, аккумулиро-
ванного в субъекте как отображенный материал и определяю-
щего выражение и непосредственно, и опосредованно. То, что
эта взаимосвязь между отражением действительности и эмо-
циональной реакцией на нее не механистична, не исключает
основной тенденции, пронизывающей ее. Общая констатация та-
кого рода может выполнять, разумеется, лишь роль принципи-
ального введения в круг проблем музыки как мимесиса; реаль-
ные же проблемы отражения как такового — его содержания
и его форм — должны быть конкретно представлены в ходе пос-
ледующего изложения.
5
При этом необходимо заметить (тоже в качестве введения,
исторически дополняющего общие философские установки), что
искусства, и в особенности музыка, тысячелетиями трактова-
лись теорией как отражение, причем отражение внутреннего
jvmpa человека, и это считалось чем-то само собой разумею-
щимся, казалось даже не требовавшим доказательств. Само
то себе такое единодушие, естественно, не может истолковы-
ваться как доказательство: при некоторых обстоятельствах заб-
луждения могут длиться целые эпохи. Но здесь речь идет все-
таки о чем-то ином, о большем. Ведь греки, понимая музыку как
особую разновидность мимесиса, со всей — для них, впрочем,
неудивительной — диалектичностью настойчиво подчеркива-
ли в последнем именно то, что привносит музыка в космос
всех искусств, но одновременно — и неразрывно с этим — то,
что ее от них отличает, составляет ее специфику. Для греков
было несомненным, что любое — как научное, так и художест-
венное— отношение человека к действительности покоится на
отражении ее объективных свойств. И этого их убеждения ни-
когда не могли поколебать ни внутренние, ни внешние расхож-
дения между музыкой и другими искусствами. Вместе с тем
для них было очевидно, что миметически отраженный объект
музыки качественно отличается от аналогичного объекта про-
чих видов искусства; первый из них — это внутренний мир че-
ловека. Т. Георгиадес дает верный анализ такого понимания
игры на авлосе в 12-й пифийской оде Пиндара: «Однако эта
музыка, т. е. игра на авлосе, была не самим по себе выраже-
нием эмоций, а их воспроизведением сообразно требованиям
искусства. Стоны сестры Медузы — Евриалы (V. 20) — произ-
вели столь сильное впечатление на богиню Афину, что она не
могла не увековечить их. Она почувствовала потребность об-
лечь свое впечатление в определенную, объективную форму.
Это впечатление страдания, проявляющегося в потрясающих,
душераздирающих стонах, было представлено, изображено
(jjiiILi^aaiTo: V. 21) посредством, или, лучше сказать, в виде ме-
лодии авлоса. Стон превратился в искусство (%£%щ), в мастер-
ство, в игру на авлосе, в музыку. Афина как бы сплела эту
мелодию из интонаций стона (ôianX&aiGa: V. 8) Пиндар...
различает собственно страдание и духовное созерцание стра-
дания. Первое — выражение эмоций как таковое — есть чело-
веческое, признак жизни, сама жизнь. Второе же — то, что по-
средством искусства придает страданию объективный образ,—
есть божественное, избавляющее, есть духовное деяние»1. Здесь
видна зрелость эстетического мышления древних греков. В то
время как многие современные авторы — часто даже достаточ-
но серьезные — путают эмоцию с миметическим ее изображе-
нием или как минимум полагают, что таковое прямо и непос-
редственно вырастает из нее, Пиндар как раз главное видит
в качественном разрыве между ними. Мифологическое описа-
6
ние стремится именно к тому, чтобы подчеркнуть этот разрыв:*
то, что мимесис страдания предстает как божественное откро-
вение, тогда как само по себе страдание есть нечто чисто чело-
веческое, с одной стороны, заведомо исключает любое их сме-
шение, всякое растворение одного в другом, а с другой сторо-
ны устраняет любую субъективацию и возвышает «божествен-
ное» над обычной человеческой повседневностью именно как
мимесис, как отражение факта человеческого бытия. Небезын-
тересно отметить: важная мысль Аристотеля о том, что безоб-
разное и неприятное в жизни может в миметически преобра-
женном виде доставлять удовольствие, прослеживается еще
у Пиндара.
В наши задачи не входит детальное рассмотрение развития
этого взгляда. Приведем лишь общеизвестное место из «Поли-
тики» Аристотеля, где миметический характер музыки с его
специфическим объектом находит свое уже чисто философское,
очищенное от всякой мифологии выражение и где в то же вре-
мя— чем мы займемся позднее — точно определяются духовные
предпосылки и моральные последствия подобного отражения:
«Ритм и мелодия содержат в себе более всего приближающие-
ся к действительности отображения гнева и кротости, мужества
и воздержанности и всех противоположных им свойств, а так-
же прочих нравственных качеств (это ясно и из опыта: когда
мы воспринимаем ухом ритм и мелодию, мы изменяемся в ду-
ше). Привычка же испытывать огорчение или радость при вос-
приятии того, что подражает действительности, ведет к тому,
что мы начинаем испытывать те же чувства и при столкнове-
нии с действительностью»2. Можно с уверенностью утверждать,
что эта миметическая сущность музыки получила признание
всей эстетики в целом (опять-таки вплоть до недавнего прош-
лого и до наших дней!). Даже такой выдающийся представи-
тель гносеологического субъективизма и философского ирра-
ционализма, как Шопенгауэр, строит свою — вполне фантасма-
горическую и метафизическую — теорию музыки на ее мимети-
ческом характере. Он тоже стремится отграничить специфику
музыкального мимесиса от специфики прочих искусств, не под-
вергая сомнению ее существование как таковое. Он говорит по
этому поводу: «Музыка, следовательно, в противоположность
другим искусствам, вовсе не отпечаток идей, а отпечаток самой
воли, объективностью которой служат и идеи...»3 Нас здесь не
интересует идеалистический характер этого учения; его автор —
подобно Шеллингу —понимает мимесис как отражение и отоб-
ражение идей, подправляя (на плотиновской основе) противо-
речащее искусству платоновское «подражание подражанию»,
однако для проблемы, занимающей нас сейчас, это различие
не столь существенно. Следует лишь упомянуть, что при всей
детализированности своих построений Шопенгауэр основные
мысли последовательно до конца не доводит, но — под влияни-
7
ем романтической натурфилософии — трактует различные эле-
менты музыки как отображения различных ступеней развития
природы, включая человека; в результате цитированное выше
^положение по меньшей мере выхолащивается4. Ибо тем самым
исключается та специфически миметическая основа музыки,
'которую столь ясно осознали греки: мимесис внутреннего мира
зкак такового, а не того лишь, что формируется одновременно
с вызывающей его причиной или ограничивается преобразова-
нием внешнего мира с целью эвокации внутреннего.
Как раз в этом-то и проявляются собственно трудности ми-
месиса в музыке. Если мы хотим правильно подойти к пробле-
ме как таковой, необходимо прежде всего разобраться в двух
на первый взгляд противоположных точках зрения, в основе
которых, однако, лежит тот существенный общрй принцип, что
обе они связывают музыку непосредственно с природными фе-
номенами и пытаются вывести ее прямо из них. Выбирая Гер-
дера в качестве представителя первого направления, мы точно
знаем — и его воззрения, которые будут процитированы, дос-
таточно ясно это показывают, — что ему отнюдь не чужд чис-
то человеческий характер музыки, что он, более того, как раз
стремится вывести его из общих натурфилософских предпосы-
лок, из понимания человека как чисто природного существа.
Здесь, как и везде, где игнорируется роль труда и его общест-
венные и психологические последствия (напомню о второй сиг-
нальной системе и сигнальной системе I'), вполне оправданное
само по себе стремление упразднить резкий метафизический
разрыв между художественной деятельностью и соответствую-
щим природе существованием человека ведет к хаосу путаных
определений. В своей «Каллигоне» Гердер обращается к этой
проблеме: «Итак, все, что в природе звучит, есть музыка; все
звучащее заключает в себе ее элементы; и требуется лишь ру-
ка, которая извлекла бы их, ухо, которое бы их услышало,
чувство, которое вняло бы им. Ни один художник не выдумал
звучания и не наделял его мощью, которая не существовала бы
в природе и в его инструменте, а находил его и извлекал с ча-
рующей силой»5. Непоследовательность Гердера проявляется
не только в том,, что он тут же отказывается от своего парадок-
сального вступительного тезиса, но и в том, что это отступле-
ние он совершает абсолютно неосознанно, не замечая, что ухо,
которое в состоянии услышать музыку, художник, который ее
извлекает, инструмент, используемый при этом, отделены от
природы пропастью — пропастью общественного развития на
основе труда. Тот факт, что звучание инструмента тоже опре-
деляется законами природы, еще не выделяет его среди других
продуктов труда, но, пожалуй, практическая целесообразность
достигнутых эффектов отличает его от любого простого при-
родного феномена. В этом отношении, в познании специфичес-
кой сущности музыки, ее предпосылок, ее средств и т. д., миф
8
Пиндара с философской точки зрения стоит гораздо выше по-
зиции Гердера.
Однако музыку можно рассматривать и в ином натурфило-
софском аспекте: с точки зрения самой сущности, в противопо-
ложность поверхностной позиции Гердера, ограничившегося ее
чувственно-непосредственной стороной. То, что пифагорейцы
открыли в числовой структуре вещей средство их научной поз-
наваемости, было, бесспорно, огромным, эпохальным научным
достижением. Не имея здесь возможности должным образом
оценить значение и масштабы этого учения — влияние которого
на философию музыки можно проследить от ее сегодня почти
еще не изученных истоков до Кеплера и философии Возрожде-
ния,— мы должны тем не менее сказать, что его прямое при-
менение к явлениям природы и тем более к музыке таит в себе
серьезную опасность, принципиальные истоки которой мы долж-
ны здесь затронуть хотя бы вкратце, и в первую очередь, ес-
тественно, потому, что она представляет собой «западню» для
теории музыки; однако в связи с этим неизбежно приходится
хотя бы ненадолго остановиться также на некоторых общих
вопросах отношения математики и объективной действитель-
ности. Первое веское возражение против пифагорейской кон-
цепции мира и ее научных методов мы находим в полемике
Аристотеля; она тесно связана с его неприятием платоновского
учения об идеях, которое в отдельных своих моментах смыка-
ется с пифагореизмом. Как у платоновских идей, так и у чисел
и числовых соотношений Аристотель отрицает всякое само по
себе полностью самостоятельное, независимое от феноменов
и причинно их обусловливающее существование. Но при этом
интересно то, что Аристотель связывает признание идеальности
числа с выдвижением на первый план числового соотношения,
которое он трактует не как идею, а как конкретное, неотрыв-
ное от материальной субстанции определение вещей. Он заяв-
ляет: если «Каллий есть числовое соотношение огня, земли, во-
ды и воздуха», то и идея его будет числовым соотношением
некоторых других элементов, составляющих ее субстрат,
и «сам-по-себе-человек — все равно, есть ли он какое-нибудь
число или нет, — все же будет числовым соотношением» опре-
деленных элементов, и, следовательно, его идея не будет чис-
лом6. Разумеется, числовые соотношения играют важную роль
уже у пифагорейцев, в «Тимее» Платона и т. д. Значение же
аристотелевской критики заключается не просто в том, что чис-
ловое соотношение обретает столь большой вес, а в том, что
ниспровергается метафизическая, возвышающая субстанцию
всех вещей власть математического, числового, чисто количест-
венного, в том, что последнее включается в ряд различных су-
щественных определений вещей наравне с прочими, как одно
из многих, что поэтому оно уже не предстает неким «выс-
шим критерием» объективной истинности, но скорее его собст-
9
венная истинность должна соразмеряться с фактами объектив-
ной действительности.
То, что у Аристотеля обозначилось лишь намеком, находит
свою конкретную форму и точно обусловленное, систематизи-
рованное место в гегелевском учении о мере и соотношениях
мер. Великое достижение Гегеля состоит прежде всего в про-
яснении взаимоотношений качества и количества. Мы уже ссы-
лались по другим поводам [см. т. 3, с. 284 и ел.] на некоторые
основные моменты этой теории, в первую очередь на изначаль-
ную данность качества и на количество как его снятие, его
первое приближение к сущности. Однако количество, полностью
раскрываясь и выявляя имманентные ему определения, став
мерой предметности — и не утратив при этом своей количест-
венной сущности, не перестав быть выражением количествен-
ной структуры и изменения предметов, — включает снятое ра-
нее качество в определенность своего бытия: «Мера есть, прав-
да, внешний способ, некоторое «больше» или «меньше», но
в то же время она и рефлектирована в себя, есть не только
безразличная и внешняя, но и в-себе-сущая определенность;
она, таким образом, есть конкретная истина бытия... Мера есть
простое соотношение определенного количества с собой, его
собственная определенность в себе самом; таким образом, оп-
ределенное количество качественно»7. Поэтому мера как един-
ство количества и качества неразрывно связывается с бытием
отдельных вещей, их отношений, их закономерностей и т. д.
«Но всякое существующее, чтобы быть тем, что оно есть, и что-
бы вообще обладать наличным бытием имеет некоторую вели-
чину»8. Тем самым мера становится категорией бытия; из по-
нятия меры исчезает всякий след той «идеальности», того аб-
страктного витания в небесных сферах поверх и по ту сторону
конкретных реальностей — с чем, как мы видели, Аристотель
боролся у Пифагора и Платона,— а тем самым также и вся-
кий след какой бы то ни было фетишизированной противопо-
ложности между количеством и качеством, который столь часто
встречается в современном мышлении (вспомним, например,
Бергсона). «Мера есть, таким образом, имманентное количест-
венное отношение двух качеств друг к другу»9. Чем более слож-
ные отношения этих определений отражаются в мышлении, чем
больше отражение выходит за рамки лишь статических отно-
шений бытия, чем более оно выражает также и динамичес-
кие общие закономерности взаимосвязей явлений, их движе-
ния и пр., тем отчетливее проявляется неразрывная связь коли-
чества и качества как определений бытия в противоположность
платоновским идеям. Уже простые формулы типа 2яг или яг2
определяют конкретно-данное бытие, специфическое качество,
для-себя-бытие окружности относительно всех остальных кри-
вых, и Гегель в своих дальнейших рассуждениях о философии
меры и соотношении меры по праву ссылается на достижения
10
Кеплера и Галилея. Открытая Гегелем знаменитая узловая
линия отношений меры, переход количества в качество и vice
versa есть лишь диалектически-динамическое выявление той
внутренней — составляющей сущность вещей — связи количест-
ва и качества, мысленным отражением которой является логи-
ческая категория меры.
Однако тем самым обусловливается только правильное от-
ношение мышления как познания действительности к тому ми-
ру «чисто» количественного, который обрел свою научную фор-
му в математике. Очевидно, что имманентная диалектика
(и в этом ее великая, всепроникающая, всепобеждающая сила!)
развития возникающих таким путем формообразований в ходе
дезантропоморфирующего отражения действительности, в силу
того, что сущность последней сводится к этой системе количест-
венных отйошений и из этого сведения возникает «гомогенная
посредующая система» sui generis, оказывается способной вы-
разить предметности и их отношения с точностью и единооб-
разием, иным путем недостижимыми. В некоторых случаях та-
кая диалектика может выявить их суть раньше, чем к этому
придут путем наблюдений и экспериментов. Это, однако, ниче-
го не меняет в том основном факте, что критерием истинности
любого математически опеределенного отношения мер остается
действительность как таковая, то есть качественное конкретно-
данное бытие соответствующего феномена (в вышеприведенном
гегелевском смысле). Ибо при том, что имманентное матема-
тическое раскрытие количественной стороны отношений мер
проливает свет на бесконечный или, во. всяком случае, кажу-
щийся неисчерпаемым ряд возможностей, решить, какая из
них на самом деле соответствует объективной действительности,
средствами, свойственными математике, невозможно. Уже тот
факт, что определяюще важные физико-математические фор-
мулы содержат в себе постоянные величины, отчетливо указы-
вает направление подобной проблематики. Естественно, что
константа обладает количественными свойствами, однако имен-
но благодаря этому она выявляет совершенно специфическое
конкретно-данное бытие соответствующей реальной взаимосвя-
зи, качественно особый характер особого бытия, особого отно-
шения и т. д. Поэтому совершенно прав был Планк, говоря
о своем открытии в квантовой физике: «Это — та самая кон-
станта, тот новый таинственный посланец реального мира, ко-
торый все снова и снова заявлял о себе при различнейших из-
мерениях и все настойчивее домогался собственного места...»10
Таким образом, здесь сама действительность путем дезантропо-
морфирующих методов физики выбирает из кажущегося бес-
конечным числа чисто математических возможностей то отно-
шение мер, которое с наибольшей — из того, что достижимо
в том или ином случае, — приближенностью, адекватностью
отображает реальное бытие, с теми качествами, которые при-
11
сущи ему как конкретно-данному бытию. (Само собой разуме-
ется, что при этом большую роль играет математическое выве-
дение, разработка и формулирование соотношения мер, полу-
ченного из реальности как таковой; но ни с точки зрения тео-
рии познания, ни методологически это ничего не меняет в опи-
санном здесь принципиальном положении вещей.)
Если мы теперь обратимся к нашей собственной задаче —
выяснению этих отношений в музыке, — то мы должны будем
уделить особое внимание как тому, что действительно для обе-
их сфер в равной степени, так и тому, в чем они принципиально
отличаются друг от друга. Их методологически общие черты
верно описал Гегель в цитированной нами работе. Он говорит
о музыке: «...Отдельный тон также имеет свой смысл лишь
в отношении и соединении с другим и целым рядом других;
гармония или дисгармония в таком круге соединений составля-
ет его качественную природу, которая в то же время основы-
вается на количественных отношениях, образующих некий ряд
показателей и представляющих собой отношения обоих специ-
фических отношений, которые каждый из соединенных тонов
есть в самом себе. Отдельный тон есть основной тон некоторой
системы, но равным образом и один из членов в системе каж-
дого другого основного тона. Гармонии суть исключающие из-
бирательные сродства, качественная особенность которых, од-
нако, точно так же вновь разрешается во внешность чисто ко-
личественного нарастания»11. Таким образом, здесь проявляет-
ся та же двойственность количественного и качественного, что
и в физике, их взаимопереход друг в друга при сохранении
собственного существования и подчиняющихся собственным
законам возможностей развития каждого из этих двух катего-
риальных компонентов, N естественно, со всеми последствиями,
которые испытывает на себе эта борьба за единство. Уже
отсюда следует — mutatis mutandis, как мы убедимся, — что уста-
новленный выше критерий истины, то есть главенство факти-
чески истинного над чисто формально обоснованным матема-
тически возможным, относится и к области музыки. В правиль-
ности этой аналогии легко удостовериться. Как известно, в
музыкальной теории с различных точек зрения систематизируют-
ся количественно определяемые соотношения мер тонов и из
них выводятся правила для музыкального развития. Если
и есть какое-либо искусство, в котором такие правила должны
всерьез приниматься, осознаваться, по-настоящему усваивать-
ся, то это—музыка; разумеется, не только она одна, но она —
в первую очередь. Творческие биографии наиболее значитель-
ных новаторов в музыке свидетельствуют, что они всегда долж-
ны были пройти такую школу, чтобы быть в состоянии профес-
сионально, а не по-дилетантски сформулировать новое; впро-
чем, граница между высоким художественным уровнем и диле-
тантизмом в музыке обозначена гораздо отчетливее и раиио-
12
нально доказательнее, чем в других искусствах. С другой
стороны, и здесь действует то, что ранее было сказано по от-
ношению к физике: точное соблюдение «правил» теории ком-
позиции— даже если при этом автор не погрязает в педантиз-
ме, в школярстве, но, с точки зрения специалиста-теоретика,
избирает верный путь, проявляет изобретательность, оригиналь-
ность и пр. — еще никоим образом не гарантирует создания
содержательно цельного музыкального произведения. Музы-
кальная теория предоставляет лишь возможности, лишь, так
сказать, негативно установленные ограничения; тем, что и они
определяют специфические границы в музыке, мы займемся
позднее. Превращение теоретической возможности в художест-
венную реальность и здесь покоится на том, что эта возмож-
ность имеет дело с такой действительностью, которую призвана
отразить и миметически воплотить художественная реальность.
Однако тем самым мы пришли к решающему различию,
противоположности, разграничивающей эти две сферы отраже-
ния— физики и музыки — в их отношении к математическому.
Тем не менее мы не можем сказать ничего конкретного о под-
ходе к действительности в музыке, пока не достигнем доста-
точной ясности как относительно ее объекта, то есть того, что
она отражает, так и относительно взаимосвязи в ней субъекта
и объекта, определяющей то, каким образом она это делает.
При этом мы исходим из той точки зрения, повсеместно гос-
подствовавшей уже в Древней Греции, что объект музыкально-
го отражения есть внутренний мир человека, его эмоциональ-
ная жизнь. Здесь можно сослаться на любой опыт конкретиза-
ции. Однако этот внутренний мир не существует непосредст-
венно и изначально как относительно самостоятельная сфера
человеческой жизни. Он является продуктом общественно-ис-
торического развития человечества, и, как мы увидим, его ста-
новление и развертывание происходят строго параллельно воз-
никновению и расцвету музыки как самостоятельного искусст-
ва. В свое время [см. т. 1, с. 208 и ел.] мы рассматривали
связь труда и ритма, опираясь на исследования Бюхера. В со-
ответствии с этим на первый план мы выдвинули объективное
функционирование ритма, организующее и потому облегчающее
трудовой процесс. Если теперь взглянуть на этот феномен
с субъективной стороны, то ясно, что уменьшение трудовых
усилий при повышении эффективности трудовой деятельности
знаменует собой начало освобождения внутреннего мира, рас-
крытия, самовыявления чувств, сопровождающих труд, а тем
самым — и формирования эмоциональной жизни целостного
человека. Повышение производительности труда влечет за
собой — прежде всего благодаря увеличению свободного вре-
мени и сокращению занятости человека в производственном
процессе, обеспеченному за счет роста производительности
труда, — усиленное овладение внешним миром как в мышлении
13
человека, так и в сфере его внутренней эмоциональной жизни.
Если теперь рассмотреть этот внутренний мир несколько
детальнее, то — вопреки современным предрассудкам — необхо-
димо отметить связанность каждого эмоционального акта с вы-
зывающим его внешним миром, то есть тот элементарный факт,
что чувственные реакции человека изначально по сути своей
конкретны, а именно неразрывны с вызывающей их причиной,
относящейся к окружающему предметному миру. Причем если
они не несут в себе с необходимостью конкретные проявления
вызвавшего их объекта, то по своему содержанию, по своей
интенсивности и т. п. они существенно связаны со своим воз-
будителем; никакая эмоция, никакое чувство, скажем любви
или ненависти, не возникают непосредственно как таковые, но
всегда — как любовь или ненависть определенного лица в опре-
деленной ситуации. Сколько бы общего ни содержали в себе
такие важнейшие эмоциональные состояния, как страх и на-
дежда, любовь и ненависть и т. д., они, безусловно, в течение
очень длительного времени существовали и проявлялись в кон-
кретных, крайне дифференцированных формах, прежде чем
люди свели их воедино в теоретически обобщенном понятии
как данные специфические эмоции. И само собой разумеется,
этому языково-понятийному сведению в определенную катего-
рию на основе одной из унифицирующих характеристик пред-
шествовал чувственно-непосредственный синтез родственных
друг с другом групп и подгрупп эмоций. Этот процесс мы уже
затрагивали при обсуждении языка, языкового выражения
предметного мира и указывали на достаточно позднее появле-
ние таких на первый взгляд непосредственно-чувственных обоб-
щений, каковыми являются цвета [см. т. 1, с. 43 и ел., т. 2,
с. 122]. Совершенно очевидно, что такое направление развития
к духовной жизни относится еще в большей мере, ибо чем при-
митивнее язык, тем определеннее он выражает внутреннее не
непосредственно, а путем изображения того внешнего мира,
в котором оно пробуждается и получает свое развитие. Гелен
приводит в этой связи высказывание мадам де Сталь, утверж-
давшей, что древние никогда не создавали из своей души объ-
ект стихотворчества12. Так как наши знания относительно прош-
лого касаются достаточно высоких стадий развития, поневоле
напрашивается вывод, что к начальным этапам эти слова при-
менимы еще в большей мере.
Поэтому пробуждение, организация, осознание (в широчай-
шем смысле слова) эмоций и чувств совершается в сфере ми-
месиса и его воздействия на «реципиентов» — зрителей и слу-
шателей. Как известно, ритм уже в трудовом процессе играет
и в этом отношении столь важную роль, что именно благодаря
ему появляются первые ростки того самого освобождения
внутреннего мира, которое служит здесь предметом нашего
обсуждения. Эти тенденции качественно, скачкообразно усили-
14
ваются в мимесисе. Из прежних рассмотрений [см. т. 2, с. 27
и ел.] мы знаем, что его изначальной целью при этом отнюдь
не было художественное творчество и возник он скорее как не-
обходимое следствие представления о мире в свете магии,
стремления магически повлиять в желаемом направлении на
скрыто действующие силы, господствующие над человеческой
жизнью, а если необходимо — устранить или по крайней мере
ослабить их. Художественно-эвокативный характер мимесиса
складывается при этом отчасти как непредвиденный побочный
продукт. Мы говорим — отчасти, поскольку магический мимесис
изначально мыслится вместе с некоей определенной эвокацией,
имеет целью эвокативное воздействие, однако с точки зрения
магии тот факт, что заклинательный, эвокативный компонент
мимесиса в ходе развития последнего все решительнее направ-
ляется в эстетическое русло, представляется случайным. Соот-
ветственно этому черты, определяющие для нас музыку как
миметическое отображение внутреннего мира человека, его эмо-
ций, чувств и т. п., постепенно развиваются — хотя и в маги-
ческом обличье, то есть, так сказать, в виде технического вспо-
могательного средства достижения магической цели, — в сто-
рону самостоятельности эстетического. Причем сразу же
следует заметить, что полная автономия музыки, на самое себя
направленность ее бытия является результатом долгого разви-
тия; потребовалось очень длительное время, пока она не перес-
тала быть спутником (а точнее, решающим эстетическим орга-
низатором) других миметических способов изображения (танца,
слова). Однако, прежде чем мы обратимся к этому чистому
способу ее проявления и его общественно-историческим усло-
виям, следует несколько внимательнее разобраться в ее изна-
чальной функции, ибо только таким путем мы придем к под-
линному пониманию того, что, собственно, представляет собою
мимесис в музыке.
Начнем с ритма. Мы имеем дело с тремя его проявлениями.
Во-первых, это ритмические движения живого существа, кото-
рые можно наблюдать уже в животном мире; это биологически
обоснованные действия (независимо от того, покоятся ли они
на безусловных или на прочно закрепленных условных рефлек-
сах), облегчающие приспособление к окружающему миру, де-
лающие реакции животного более эффективными, но тем не
менее остающиеся всего лишь некими эпизодами, не имеющими
существенных последствий для его жизни в целом. Во-вторых,
это ритм, возникающий в труде; он несет на себе отпечаток
того качественного скачка, который отличает труд вообще от
любой чисто биологической реакции на внешний мир; посред-
ством ритма сознательно, в интересах поставленной человеком
цели, в интересах облегчения труда и повышения его эффектив-
ности организуется пространственно-временной процесс. Особо
следует подчеркнуть здесь именно «организацию», поскольку
15
этот ритм уже не «естественный», а «искусственный», возникаю-
щий из координации движений, наиболее удобных с точки зре-
ния трудового процесса, их временной последовательности и пр.,
а также из приемов, наименее утомительных для работающего.
То, что происходящее при этом облегчение трудового процесса
вызывает приятные ощущения, является естественным следстви-
ем, но с точки зрения объективной целевой установки — всего
лишь побочным продуктом. Конечно, сознательная организован-
ность воздействует — безразлично, спонтанно или преднамерен-
но,— также и на работающего субъекта, а именно прежде всего
в направлении более определенного подчеркивания ритма сопро-
вождающим труд пением, которое, как указывает Бюхер, пона-
чалу, по всей видимости, не имело текста и только путем выкри-
ков, возгласов выражало чувства, посредственно отражающие
труд как таковой. Тексты древнейших трудовых песен, дошедших
до нас, относятся к сравнительно более поздним периодам, ко вре-
мени после распада первобытного коммунизма, к эпохе рабского
труда. Во избежание всяких недоразумений следует заметить,
что речь здесь идет исключительно об артикулированном сло-
весном выражении. Конкретизировался ли еще раньше трудовой
процесс как таковой музыкально-миметическими средствами, ска-
жем, с помощью сопроводительных инструментов, в данном
случае несущественно. Таким образом, теперь чисто трудовой
ритм пополняется артикулированными словами, тем их музы-
кальным сопровождением, в котором уже проявляется отноше-
ние целостного человека к соответствующему специфическому
труду, его субъективное отношение к совокупности трудовых
процессов в его жизни, к условиям труда, производственным
отношениям вообще как содержанию мимесиса чувств. Перехо-
ды от одного этапа к другому, проследить которые было бы
крайне важно при исследовании возникновения мелодии и гар-
монии, насколько я зйаю, неизвестны. (Автор опять-таки поль-
зуется возможностью открыто признать, что он не может пре-
тендовать на профессиональную компетентность в области му-
зыки и ее истории.)
Таким образом, более развитая фаза трудовой песни уже
обнаруживает ясные черты третьей ступени — развито мимети-
ческой. Еще очевиднее проявляется этот момент во всех при-
митивных обществах в другой области применения музыки,
прежде всего в танце. Танец изначально имел отчетливо миме-
тический характер, будучи изображением важнейших видов
жизнедеятельности первобытного человека (войны, охоты, жат-
вы и т. п.). Мы уже занимались подробно этим вопросом в дру-
гом месте [см. т. 2, с. 71 и ел.]; здесь же наше внимание сос-
редоточивается не столько на танце как таковом, миметичес-
кая сущность которого не нуждается в пояснениях, сколько на
роли музыки в человеческо-эвокативном характере мимесиса,
спонтанно переходящем в эстетическое. При этом нужно преж-
16
де всего подчеркнуть то важное обстоятельство, что значитель-
ная часть миметически изображенных в танце действий не от-
носится к той группе человеческих отправлений, которые под-
верглись ритмизации уже в повседневной жизни подобно мно-
гим видам труда. Какую бы важную роль приобретенные при
этом навыки и сноровка ни играли, например на охоте или вой-
не, в жизни как таковой возникающие в данных сферах целе-
сообразные движения не могут быть подчинены какому-либо
строго зафиксированному и постоянно выдерживаемому рит-
мическому упорядочению; так что их ритмизация, происходя-
щая в танце, является изначально миметической, определяемой
миметически-эвокативными целевыми установками, а не сооб-
разующейся с техникой труда. Однако этот приоритет мимети-
ческого распространяется и на трудовые процессы, ритмизован-
ные уже в самой действительности (сеяние, косьба и пр.).
Ведь для труда как такового совершенно естественно то пра-
вило, что каждый из его видов должен иметь свою собственную
ритмику, вытекающую из его конкретной специфики; таким
образом, при различных видах труда не может быть ни ритми-
зованной связи между различными действиями, ни ритмичес-
ких переходов из одного вида в другой; по техническим при-
чинам каждый трудовой процесс изолирован и ритмизован
сам по себе. Однако в одном из предыдущих анализов танца
[см. т. 2, с. 69 и ел.] мы показывали, что каждый из них — ка-
кой бы многообразный комплекс человеческих движений он ни
охватывал — с точки зрения социального задания, выдвигаемого
магией, должен составлять некое единство. Тем более что, как
мы уже видели [см. т. 2, с. 33 и ел.], и магическая целевая ус-
тановка включает в себя эвокативное действие по меньшей мере
как необходимый момент, как всеобще-непосредственный сим-
вол, в известной степени как ощутимое подтверждение воздей-
ствия трансцендентных сил. Из всего этого вытекает унифици-
рованная музыкально-миметическая обработка каждой из свя-
занных групп танцев, благодаря чему перед трудом ставятся
уже в ритмическом отношении совершенно новые задачи: не
просто свести воедино качественно отличающиеся друг от дру-
га— и сохраняющие свое различие — комплексы движений, но
дать им возможность с помощью эвокации возникать друг из
друга таким образом, чтобы чередовались напряжения и рас-
слабления, довести эти динамические связи до апогея, увенчи-
вающего целое.
Ясно, что эта целевая установка—а она происходит еще
непосредственно из магии, и эстетические определения длитель-
ное время пребывают в ней спонтанно-неосознанными — поне-
воле далеко выходит за рамки чисто ритмического упорядоче-
ния движений; так как при этом должны миметически эвоци-
роваться самые различные эмоциональные состояния,
сопровождающая музыка — посредством сопровождения и в со-
2—805
17
провождении организующая конкретный мимесис— вынуж-
дена сама в себе развивать миметические элементы. Ибо толь-
ко благодаря им миметический процесс может обрести полное
внутреннее раскрытие, необходимую упорядоченность, органи-
чески проистекающую из присущих ему свойств. Возникает ме-
лодия и гармония как миметические средства выражения чувств,
сопровождающих события. Таким образом, музыка, еще
не созревшая как искусство до некоего самостоятельного бытия-
для-себя, должна развивать в себе исконнейшие определения,
чтобы фигурировать в качестве эстетически-эвокативного прин-
ципа для областей, лежащих за свойственными ей пределами.
Отчетливее всего это проявляется опять-таки в первобытном
танце. Ибо — позднее мы рассмотрим это подробнее [с. 55
и ел.] — насколько бы ни углублялась связь между определен-
ными видами словесного искусства и музыкой, общественно-
историческое развитие в то же время порождает здесь четкое
разграничение; и лирическая поэзия постепенно отходит от
обязательного музыкального сопровождения, и музыка относи-
тельно рано становится способной выражать лирические чувст-
ва без слов. (Сошлемся еще раз на то, как представлена ме-
лодия авлоса у Пиндара [с. 6 и ел.].). В отличие от этого
танец без организующей функции музыки вообще не может су-
ществовать не только в принципе, но даже как способ прояв-
ления повседневного досуга. Музыка сама по себе способна
совершить это отделение в той мере, в какой, скажем, в наше
время музыкально обработанные танцевальные мелодии все
больше освобождаются от собственно танцев и используются
лишь как мелодическая основа для выражения определенного
внутреннего эмоционального мира. Танец же никогда не может
отделиться от музыки; даже когда он полностью перестает
быть миметическим воплощением важных жизненных проявле-
ний (как это еще имеет место во многих крестьянских танце-
вальных обрядах) и превращается просто в развлечение пов-
седневной жизни, музыка все равно остается неотъемлемой
и организующей его основой. (Проблема качества подобной му-
зыки в данный момент не обсуждается.)
Наоборот, танец начальных периодов своего существования,
связь которого с музыкой нас теперь интересует, был мимети-
ческим отображением важнейших событий жизни, ее поддержа-
ния и сохранения, ее защиты от врагов и т. д. Поэтому орга-
низующая функция музыки не могла ограничиваться ритмичес-
ким регулированием повторяющихся движений. В разнообраз-
ных подъемах и спадах, во всевозможных нарастаниях и за-
медлениях некоего драматического, но безмолвного, бессловес-
ного действия она должна была не только создавать этот
направляющий эвокацию порядок, но одновременно эвокативно
раскрывать заключенное в нем эмоциональное содержание, ко-
торое не могло бы реализоваться просто в языке жестов. То,
18
что — как известно — такая связь танца и музыки спонтанно
возникает во всех примитивных культурах (эстетически совер-
шенно неосознанно), имеет свои основания, коренящиеся глу-
боко в сущности предмета. Ведь человеческий жест несет в се-
бе весь внутренний мир, хотя еще и не артикулированный.
Этот мир предстает, как мы видели [см. т. 2, с. 344 и ел.],
в живописи и скульптуре, которые улавливают и отражают его
в чисто зримых образах, как явно неопределенная предмет-
ность, пусть даже эстетически обоснованная и необходимая.
Эстетическое отключение от времени, совершаемое гомогенны-
ми посредующими системами этих искусств, полное снятие
прошлого и будущего в возвышенном до «вечности» настоящем
обусловливают возникновение напряжения, благодаря которому
может обрести действенность подлинно художественное созву-
чие определенной (визуальной) и неопределенной (чисто внут-
ренней) предметностей. Если же жесты, выражающие внутрен-
ний мир, остаются такими, какими мы видим их в жизни самой
по себе, а именно постоянно пребывающими в движении, мель-
кающими мгновениями, внезапно возникающими как предвос-
хищение будущего, растворяющимися в каком-то — сохраненном
памятью или забытом — прошлом, то они никоим образом не
могут нести в себе описанного выше интенсивного слияния
внутреннего и внешнего. Чтобы жесты как таковые, как чисто
визуальное внешнее не выродились в бессмыслицу (когда глу-
хонемые превращаются в сумасшедших, как остроумно-язви-
тельно говорил Геббель о пантомиме), внутренний мир должен
обрести открытое и артикулированное воплощение.
В жизни такое соотношение регулируется до известной сте-
пени само собой. Разумеется, всегда существуют жесты без
словесного выражения; однако в континуальности вербально вы-
раженных преддействия и последействия они занимают столь
отчетливо определенное место, что охваченный этими
жестами внутренний мир либо ясно выражается «сам собой»,
либо в своей возможной многозначности достаточно мотивиру-
ется ходом событий или ситуацией. Излишне говорить здесь
о драматургическом мимесисе, поскольку это соотношение в его
границах очевидно. Совершенно иначе дело обстоит в танце.
Тут внутренний мир, скрытый за непрерывными жестами, ни-
коим образом не может быть выражен словами. Исторические
факты свидетельствуют, что такое раскрытие всегда осущест-
вляется посредством музыки, «сопровождающей» танец, дра-
матургию его жестов. Слово «сопровождающая» мы поставили
в кавычки, так как речь здесь идет не просто о сопровождении,
а о чем-то качественно большем. Возникает как бы единый ми-
метический образ, где два типа отражения, противопоставлен-
ных друг другу, сливаются в новое единство: зримое и подвиж-
ное танцевальное отражение событий жизни, в котором чувст-
ва, вызывающие действия, равно как и те, что сами ими
2*
19
вызваны, вынужденно остаются неопределенными, и тот музы-
кальный мимесис чувств (полностью совпадающий с танцеваль-
ным отражением), объекты которого тоже необходимо пребы-
вают в неопределенности. Таким образом, эстетическая возмож-
ность взаимопроникновения обоих искусств предопределяется
мимесисом. То, что оба они дополняют и взаимно поддержива-
ют друг друга в указанном выше смысле, сказано не совсем
точно. Речь идет скорее о полном слиянии, в котором времен-
ная последовательность чувств и их зримое пространственно-
жестикуляционное воплощение образуют неразрывное единство.
(Само собой разумеется, что чем проще и очевиднее содержа-
ние танца, тем проще, «примитивнее» может быть музыка;
можно представить себе такие крайние случаи начальной ста-
дии — насколько я знаю, нам они не известны, — когда музыка
могла бы ограничиться чуть ли не одной ритмической органи-
зацией, без участия дифференцированной звуковысотности.
С другой стороны, если жестикуляционный язык танца обед-
няется, бледнеет по своему жизненному содержанию, если он
в соответствии с этим становится формально застывшим, пол-
ностью условным, как это случилось впоследствии в придвор-
ном балете, может возникнуть разногласие противоположного
характера: неопределенная предметность музыки станет более
динамичной, драматичной, эмоционально более наполненной,
чем определенно-визуальная предметность танца. Однако вы-
текающие отсюда проблемы выходят за рамки нашего рассмот-
рения.)
Единственно, что нас здесь интересует, — это тот факт, что
музыка может осуществить функцию, необходимо налагаемую
на нее общественно-историческими отношениями каждой за-
рождающейся культуры, только как мимесис внутренней жизни.
Задача же философии искусства состоит в том, чтобы вскрыть
действующие при этом категориальные связи. Совершенно яс-
но, что упомянутая выше организующая функция музыки долж-
на быть по сути своей временной. Пространственно-визуальная,
экспрессивная организация движений и жестов танцующих осу-
ществляется хореографией; последняя же всегда подчиняется
музыкальной организации. Эта субординация отнюдь не слу-
чайна; поскольку мимесис танцевальных движений служит эво-
цируемому эмоциональному содержанию, естественно, что пос-
леднее должно в конечном счете играть для данного мимесиса
роль упорядочивающего принципа. Таким образом, простран-
ственно-временная гомогенная система опосредования, в дан-
ном случае посредующая система танца, подпадает под господ-
ство чисто временной системы музыки. (Для драмы, когда она
освобождается от музыки и становится чисто словесным ис-
кусством, в ходе сценической постановки возникают проблемы
совершенно иного рода, в которых пространственно-временное
снова получает перевес над чисто временным; но и в опере, где
20
решающее значение приобретает музыка не сама по себе,
а связанная с пением на слова, перед исполнением и режиссу-
рой встают совершенно новые, трудно разрешимые и теорети-
чески мало разработанные проблемы.) Эти связи относительно
ясны; сложности начинаются только при необходимости рас-
смотрения самой музыки как мимесиса. Если при этом вспом-
нить, насколько само собой разумеющимся был отражательный
характер музыки' во времена античности и затем вплоть до
эпохи Просвещения, то представляется необходимым разобрать-
ся в имеющем место в настоящее время сопротивлении такому
пониманию с точки зрения его философских основ. Это кажется
тем правомернее, что подобный анализ служит как дальнейшей
конкретизации общей сути мимесиса, так и более полному про-
яснению специфического характера музыкального мимесиса.
Первое обстоятельство, в этом плане привлекающее к себе
внимание, давно уже известно: это — допущение, что отражение
подобно фотокопии, из чего выводится опровержение (хотя это
беспочвенное утверждение с полным основанием может быть
оспорено) миметического характера искусства, прежде всего —
музыки. Учитывая изложенное ранее [см. т. 2, с. 7 и ел.],
можно сказать, что сторонники этого взгляда чаще всего ссы-
лаются на несходство оригинала и изображения, а в нашем
случае, следовательно, — на то, что определенным, объективно
точно фиксируемым в числах колебаниям противостоят с субъ-
ективной стороны слуховое восприятие и сопровождающие его,
связанные с ним чувственные восприятия. Такая непосредст-
венная несхожесть — бесспорный факт; отчетливее всего он про-
является в прямых физиологических воздействиях внешнего
мира на людей. Безусловно, прямого подобия, например, между
зеленым цветом, в котором мы воспринимаем какой-то лес или
луг, и комплексом колебаний, обусловливающим его, не сущест-
вует. Это побуждало еще выдающегося исследователя Гельм-
гольца, подчеркивая полную разнородность представления и
представляемого объекта, усматривать в цвете всего лишь
«символ», то есть условный знак, который должен утвердиться
и закрепиться практически. Такое понимание совершенно игно-
рирует философскую проблему отражения. Ибо независимо от
того, как понимается отражение — идеалистически или мате-
риалистически, то есть безразлично, идет ли речь о связи идеи
с отображением или о связи материального объекта с отобра-
жением, ни одно учение об отражении не утверждает здесь
единства, полного совпадения, монистической однородности, —
противопоставление оригинала и отображения, их двойствен-
ность, которую невозможно отрицать, является философской
основой любой теории отражения. Непоследовательность Гельм-
гольца, повторяющая непоследовательность Канта в вопросе
о вещи в себе, состоит в том, что он, с одной сторо-
ны, усматривает в чувственных восприятиях чистые «символы»,
21
то есть нечто условное, а с другой стороны, трактует их как
необходимые следствия воздействия объекта на нас. Но если,
скажем, зеленый цвет возникает в сознании как физиологичес-
ки необходимая реакция на определенное число колебаний, что
же он есть такое, как не отражение этого феномена в челове-
ческой душе?
Несостоятельность позитивистской подмены отражения ус-
ловными знаками проявляется еще отчетливее, когда отраже-
ние, понимаемое в духе диалектического материализма, трак-
туется всего лишь как приближение к неисчерпаемому, беско-
нечному объективному миру. Если отсутствие «подобия»,
«сходства» не может служить доказательством от противного
уже в непосредственно-физиологическом отражении, тем более
оно не может выступать таковым в гораздо более опосредован-
ном мыслительном процессе отражения объективной действи-
тельности. Мы уже подробно говорили о дезантропоморфирую-
щих методах. Их суть заключается в том, что создается физи-
ческий и духовный инструментарий, с помощью которого
могут быть отражены строго в их бытии-в-себе даже непосред-
ственно скрытые, принципиально недоступные для человеческо-
го чувственного восприятия предметы, отношения, связи и т. п.
Чем больше отражается именно их сущность, тем меньше может
идти речь о «подобии» в непосредственном смысле, вообще как
о проблеме, хотя критерий понимания сущности здесь тем бо-
лее может заключаться только в соответствии в-себе-сущего
оригинала его отображению. Слабость любого недиалектичес-
кого учения об отражении состоит как раз в том, что оно не-
способно понять объективности сущности, ее существования
независимо от сознания. Мы уже несколько раз обсуждали этот
вопрос. Следует лишь заметить: при отражении сущности го-
ворить о каком-либо непосредственном «подобии» в подразуме-
ваемом смысле оснований еще меньше, чем при непосредствен-
ных чувственных восприятиях.
Ясно, что эта общая схема действительна — mutatis mutan-
dis— и для антропоморфирующего отражения в искусстве.
Причем при явном отсутствии «подобия» отображения непос-
редственно вызывающему его раздражителю из внешнего мира,
то есть непосредственному оригиналу, здесь все же возникает
отражение, касающееся сущности объективного существования
человеческого рода, как она проявляется в отдельных его пред-
ставителях, отражение, верно воспроизводящее тот или иной из
основных моментов существования этих последних. Психологи-
ческой основой этого процесса выступает ранее обстоятельно
охарактеризованная нами сигнальная система Г. Проблема
«подобия» при этом диалектически заостряется и углубляется:
та новая непосредственность художественного произведения,
которая снимает и вновь воспроизводит непосредственность
повседневной жизни, с одной стороны, существенно отдаляет
22
воплощенное им от отображенной «модели», взятой из повсед-
невности, более того, может даже изобразить некий фантасти-
ческий мир, вообще на первый взгляд не имеющий жизненного
прообраза; с другой стороны, именно поэтому «подобие» худо-
жественно отображенного существенным моментам объектив-
ной действительности развития человечества подчеркивается
значительно сильнее и оказывается эвокативнее, чем это обыч-
но наблюдается в жизни. О «несхожести» непосредственного
психофизиологического отражения с вызывающим его физичес-
ким явлением уже говорилось [ с. 21 и ел.]. Художествен-
ное отражение благодаря развитию сигнальной системы Y от-
ходит (не уподобляясь, однако, при этом дезантропоморфирую-
щему отражению) от непосредственно-психологического отоб-
ражения человеком объективной действительности, развивает
его, очищая, гомогенизируя, выстраивая в порядке важности
для человека его основные элементы; именно этим обусловли-
вается то своеобразие художественного отражения, о котором
мы уже подробно говорили: диалектическое, полное плодотвор-
ных противоречий единство «сходства» и «несходства» с реаль-
ным прототипом на уровне новой непосредственности, нераз-
рывно связанной с приобретением существенными моментами
развития человеческого рода непосредственных эвокативных
свойств; причем «сходство» в отражении таких свойств прояв-
ляется в том, что они могут непосредственно переживаться на
протяжении больших отрезков времени и пространства. Здесь
характер отражения в каждом из искусств, включая и музыку,
при отсутствии прямого «подобия» становится конкретно ощу-
тимым: именно великие художественные произведения, отра-
жающие и воплощающие существенное, выявляют и утверждают
непреходящее в жизни рода, при этом не как нечто «вневремен-
ное», общечеловеческое, а как конкретный момент развития
вместе с конкретными обстоятельствами его исторического про-
явления; тогда как поверхностное и потому более «похожее»
отображение преходящих временных явлений обречено ходом
истории оставаться непонятым и преданным забвению.
В исследуемом случае характер отражения в музыке рас-
сматривается пока еще в рамках отобразительной системы дру-
гих искусств, хотя несомненно, что именно в ней диалектика
«подобия» обретает свою наиболее заостренную и отчетливую
форму. Однако ее специфическое своеобразие станет значитель-
но понятнее, если обратить внимание еще на одно философское
заблуждение нашей эпохи: мы имеем в виду проблему времени.
То неверное его понимание, которое имеет хождение в наши
дни, в значительной степени предопределено теорией познания
Канта. В своей «трансцендентальной эстетике» он, как извест-
но, трактует время — а также пространство — в отрыве от проб-
лем теоретической постижимости объектов и в пределах этих
узких рамок как особую, самостоятельную априорность челове-
23
ческой чувственности, существенные признаки которой поэтому
должны оставаться строго отделенными от соответствующих
признаков пространства. Мы не считаем необходимым останав-
ливаться здесь на том, что последующие, идущие от Бергсона
философские системы выводят из этого метафизически-жестко-
го разделения враждебную противопоставленность пространст-
ва и времени, поскольку наша полемика направлена против
отрицания неразрывного единства времени и пространства в
целом и нюансы переходов от чистого дуализма к некоей эмо-
ционально-окрашенной противоположности не могут дать ниче-
го существенно нового для прояснения основополагающей проб-
лемы. Сошлемся на те важные мысли Канта, которые имеют
прямое отношение к интересующему нас вопросу: «Время есть
не что иное, как форма внутреннего чувства, то есть созерца-
ния нас самих и нашего внутреннего состояния. В самом деле,
время не может быть определением внешних явлений: оно не
принадлежит ни к внешнему виду, ни к положению и т. п.; на-
против, оно определяет отношение представлений в нашем
внутреннем состоянии»13.
При обсуждении дефетишизирующей миссии искусства мы
говорили об объективной неразрывности пространства и вре-
мени [см. т. 2, с. 317 и ел.] и пытались показать, что это их
независимое от сознания свойство, их объективная реальность
имеют далеко идущие последствия для их эстетического отра-
жения. Кантовскому пониманию мы противопоставляли при
этом внутреннюю оправданность того естественного, стихийного
воззрения, которое всегда видит пространство и время нераз-
рывно связанными друг с другом и вместе с тем «полными»
движущейся материи. Гегелевская философия подвела под это
жизнеощущение философский фундамент. Уже то, что Гегель
в отличие от Канта рассматривает пространство и время не
во введении в теорию познания как абстрактные априорности,
а в общих вводных рассуждениях к натурфилософии, указыва-
ет на решающий момент этого различия: проблему времени
невозможно исследовать рационально, в согласии с реальными
фактами иначе, чем в неразрывной связи с проблемой прост-
ранства, материи и ее движения. (Это не исключает объективно
дезантропоморфирующего отдельного рассмотрения онтологи-
ческого своеобразия пространства и времени, как это имеет мес-
то в натурфилософии Николая Гартмана и что чрезвычайно
важно в плане противостояния субъективистским тенденциям
современной физики. Правда, эта проблема представлена в
плоскости, никак не затрагивающей обсуждаемые здесь вопро-
сы.) Изолированное от пространства и движущейся материи,
чисто внутреннее время есть фетишизированная и фетишизи-
рующая абстракция, которая, разумеется, как всякая широко
распространенная и утвердившаяся теория, должна иметь свои
корни в общественном бытии определенных слоев капиталисти-
24
ческого общества; однако такого рода социальная обусловлен-
ность еще ничего не говорит в пользу ее соответствия объектив-
ной действительности. Напротив, именно детальный анализ со-
циального генезиса этой абстракции может вскрыть основы
фетишистского извращения в ее рамках истинной структуры
времени. Такой анализ, весьма важный для понимания пред-
метности в современном искусстве, относится к историко-мате-
риалистической части эстетики.
Для того чтобы ближе подойти к специфической предмет-
ности музыки, коснемся еще раз проблемы времени. В этом от-
ношении сопоставление концепций Канта и Гегеля вскрывает
две тесно взаимосвязанные противоположные позиции: проти-
воположность объективного и субъективного времени, с одной
стороны, и пустого, «сосудообразного» и предметно заполнен-
ного, то есть абстрактного и конкретного времени, с другой.
В обеих дилеммах позиция, опеределяемая влиянием Канта,
прямо ведет к толкованию временных переживаний как пол-
ностью «очищенной» от всего внешнего формы внутреннего
чувства, внутреннего состояния; любая предметность и даже
любое противостояние субъекта и объекта в границах этого
последнего как бы снимаются, становятся несуществующими;
предметная реальность объектов предстает проистекающей
только из априорности пространства (и формирующей деятель-
ности рассудка и разума самих по себе). Время, которое при
этом неизбежно (правда, у самого Канта еще не столь реши-
тельно) все более отождествляется с переживанием, ощущени-
ем времени субъектом, выступает перед нами подчиненным за-
гадочной силе протекания, текучести как таковой, бесследно
поглощающей все, что в переживаемый момент, казалось бы,
должно обладать бытием. Вне зависимости от эмоциональной
окрашенности такой позиции — трагически-скорбной, как у мо-
лодого Гофмансталя, или ликующе-устремленной к постижению
«истинного», нематериального бытия космоса, как у Бергсона,—
суть ее сводится к тому, что время и все к нему относящееся
все более отделяются от действительного материального мира
и все решительнее трактуются как отдельное от этого мира,
самостоятельное бытие в сфере чистой субъективности, в ее
фетишизированной отграниченности от окружающего мира и
фетишизированной противопоставленности ему. Неизбежно
происходящее исчезновение во времени предстает падением
в бездну, где все предметы бесследно исчезают или, в лучшем
случае, благодаря таинственной внутренней деятельности субъ-
екта, его памяти, воспоминаниям чисто субъективным образом,
будучи соотнесенными исключительно с субъектом, пребывают
в тени между бытием и небытием, как в дантовом чистилище.
Так это изолированное и замкнутое на субъекте понимание
времени приводит к своеобразному эмоциональному солипсиз-
му. Можно было бы, подобно Ганслику, отрицать связь между
25
чувством и музыкой, но поскольку такой формализм делает му-
зыку совершенно внемирной, то при подобном ее восприятии
в качестве необходимого субъективного коррелята внемирности
объекта возникает некий солипсический субъект, сущность ко-
торого должна быть — вопреки всем теориям Ганслика — бла-
годаря музыке чувственно-определенной.
Крайним выражением подобного рода субъективации и про-
тивопоставления времени является в теории музыки чистый фор-
мализм. Уже Кант видит в музыке «прекрасную игру ощуще-
ний», относя музыку без текста к рубрике «чистой» (не «при-
вязанной», предметно не определенной) красоты, то есть
признавая ее стоящей в одном ряду с «рисунками à la grecque,
орнаментом из листьев, вырезанным на картинных рамах, обо-
ях и т. д.»14. В другой связи мы уже указывали,[см. т. 2, с. 351
и ел.], что из подобных предпосылок у Ганслика родилось по-
нимание музыки как «звукового калейдоскопа». Это в своем
крайнем выражении абсурдное представление так или иначе
присутствует порой у действительно серьезных, стремящихся
к объективности теоретиков. Например, Н. Гартман категори-
чески отказывается трактовать музыку как «шахматную игру
со звуками». Однако, конкретизируя свои воззрения, он оказы-
вается перед следующей дилеммой: с одной стороны, он опреде-
ляет субъективный акт ее воздействия — в подчеркнутом проти-
вопоставлении процессу восприятия в изобразительных искус-
ствах и в литературе — в том смысле, «что собственная
душевная жизнь полностью поглощается в музыкальном про-
изведении и включается в модус его движения, который при-
соединяется к нему и при увлечении становится его частью.
Этим предметное отношение фактически снимается и превра-
щается в нечто другое: музыка как бы проникает в слушателя
и становится его достоянием»; с другой стороны, дабы в ре-
зультате такой трактовки не оказаться перед лицом растворе-
ния музыки в бессодержательном, беспредметном эмоционализме
или в столь же бессодержательном, беспредметном формализме,
он в своих последующих рассуждениях приходит к выводу:
«Однако музыка остается предметной»15. Сам Гегель, теория
времени которого послужила для нас решающим импульсом
при исследовании этой проблемы, в своей «Эстетике» кое-где
поддается соблазну мысленно объединить временные моменты
чисто аудитивного начала с безобъектностью музыкально-
эстетического проявления и даже с его эстетической сущностью.
Этот отход Гегеля от собственного же диалектического пони-
мания времени теснейшем образом связан с его идеализмом,
вынудившим философа реанимировать средневековый тезис,
будто бы слух носит «еще более идеальный характер, чем зре-
ние». В связи с этим он говорит о музыке, что разграничение
между наслаждающимся субъектом и объективным произведе-
нием в ней не такое устойчивое и фиксированное, как в изоб-
26
разительных искусствах, а «напротив, ее реальное существова-
ние (чувственное бытие объекта. —Д. Л.) исчезает в непосред-
ственном протекании во времени... [Музыка] овладевает
сознанием, которое не противостоит больше какому-либо объ-
екту...»16. К счастью, Гегель в этом вопросе непоследователен
и не доводит свою точку зрения до абсурдных выводов.
При этом, как мы уже отмечали [см. т. 2, с. 321 и ел.],
именно гегелевская теория о неразрывном единстве простран-
ства, времени, материи и движения есть единственный путь к
правильному пониманию своеобразия музыки. Обратимся к свя-
зи танца и музыки, о чем выше мы упоминали [с. 18 и ел.].
Когда Гегель в своих предварительных замечаниях по физике
говорит: «Движение является процессом, переходом времени
в пространство, и наоборот. Напротив, материя является отно-
шением между пространством и временем как их покоящимся
тождеством»17, он тем самым философски точно обосновывает
пространственно-временной характер ритма, о чем также шла
речь раньше [см. т. 1, с. 214]. Неразрывность этих категорий
обусловлена самой жизнью; они обретают отчетливую форму
в труде, и их дальнейшее развитие, совершаемое музыкой, есть
лишь упрочение — разумеется, качественное — верно понятого
Гегелем основного положения вещей. Лишь геометрия (и, сле-
довательно, геометрический орнамент) может воплотить пло-
дотворную для картины мира абстракцию — утвердить прост-
ранство без времени. Однако Гегель правильно указывает на
то, что эта абстракция необратима: время без пространства
немыслимо, «геометрия» времени невозможна18. Даже в самой
абстрактной своей форме время не может отрешиться от про-
странства, материи и движения. По Гегелю, это находит вы-
ражение в определениях времени как «единства бытия и ничто».
Прошлое, настоящее и будущее, с одной стороны, образуют
своеобразное единство этих противоположностей, с другой сто-
роны, в плане возникновения и протекания во времени они от-
личаются друг от друга. Заслуга Гегеля состоит в том, что он
во всех этих отношениях выдвигает как объективность, так и
предметность. «Прошедшее было действительно как всемирная
история, как события природы, но оно полагается под опреде-
лением небытия», в то время как — с философской точки зре-
ния— «в будущем... небытие является первым определением,
а бытие является позднейшим, хотя и не по времени... Настоя-
щее представляет собой это отрицательное единство», чистое
«теперь». «В положительном смысле можно поэтому о времени
сказать так: лишь настоящее существует, предшествующего
же и последующего не существует. Но конкретное настоящее
есть результат прошедшего и оно чревато будущим.»
Высказывание, которым Гегель заключает эти рассуждения —
«истинным настоящим, таким образом, является вечность»19,—
на первый взгляд кажется абсолютно идеалистическим, почти
27
мистическим. Однако жизнь подтверждает, что только возве-
дение прошлого и будущего до настоящего способно преобра-
зовать некое бытие-в-себе в бытие-для-нас, причем, естествен-
но, не-сущее в своей необходимой положенности может быть
возведено только до бытия-для-нас, но не до бытия-в-себе,
вследствие чего эта вечность, если смотреть критически, остает-
ся необходимой и верно отражающей действительность, но все
же чисто субъективной категорией. Этот характер субъектив-
ности, необходимо обусловленной сущностью объекта, должен
утвердиться и в художественном, в частности в музыкальном
отражении. Напомним о наших прежних рассуждениях относи-
тельно квазипространства в музыке, которое мы тогда тоже
характеризовали как субъективное [см. т. 2, с. 330 и ел.]. Эс-
тетически субъективные свойства квазипространства в музыке
(равно как и в поэзии) не отрицают объективности ее действия.
Ибо, как мы видели, сосуществование разделенных во времени
предметностей и, следовательно, субъективное снятие течения
времени являются неизбежной предпосылкой воздействия худо-
жественного произведения как единства. Томас Манн правиль-
но определяет общее для музыки и поэзии свойство этого акта:
«Произведение искусства всегда вынашивается как единое це-
лое, и хотя философия эстетики утверждает, что произведение
литературное и музыкальное, в отличие от произведений изоб-
разительного искусства, связано определенной временной пос-
ледовательностью, тем не менее оно тоже стремится к тому,
чтобы в каждый данный момент предстать целиком перед чи-
тателем или слушателем. В начале уже живут середина и ко-
нец, прошлое пропитывает настоящее, и даже предельная сос-
редоточенность на настоящем не мешает заранее заботиться
о будущем»20. Таким образом, как постулат эстетического воз-
действия полагание квазипространства в его субъективной не-
обходимости полностью оправданно. Следует лишь признать,
что за этим требованием тоже стоит обосновывающая его по
существу необходимость: конкретный и объективный характер
времени как такового, который должен найти свое претворение
в его эстетическом отражении. Вспомним еще раз о том, что
говорил Гегель о настоящем как вечном и о нашей интерпре-
тации этого высказывания. Благодаря тому что воплощенные
в музыке настоящее, прошлое и будущее, сохраняя свою изна-
чальную сущность, преобразуются в некую переживаемую еди-
новременность, они обретают истинную полноту времени, ста-
новятся его субъективным снятием. Но поскольку этот акт яв-
ляется лишь отражением, субъективной реализацией того, что
составляет сущность объективного и конкретного времени са-
мого по себе, а именно его неразрывного, бытийственного един-
ства с пространством и движущейся в нем материей, он лиша-
ется всяких признаков субъективного произвола. Особенно в
музыке (как мимесисе мимесиса в понимании Пиндара и древ-
28
них греков вообще), где мир эмоций, чувственных восприятий
отделяется от вызывающего их объективного внешнего мира
ради того, чтобы обеспечить им полное проявление, эта фор-
мальная и субъективная обратная связь с объективной струк-
турой внешнего мира становится спасением подлинного внут-
реннего мира, находящего свое выражение в музыке для того,
чтобы преобразовать свои общечеловеческие связи со всем кос-
мосом внутреннего мира, а не для того, чтобы наделить этот
последний пустым и самодовольным, мнимо для-себя-сущим
существованием.
Здесь, однако, кроется то, о чем Гегель не говорит, но что
составляет один из самых важных по содержанию моментов
его философии: каждый конкретный отрезок времени имеет в
конечном счете исторический характер. Известное изречение
Гераклита «в одну и ту же реку нельзя войти дважды» зву-
чит парадоксально только в силу абстрактности его формули-
ровки, в силу абстрактности содержания его абстрактного объ-
екта и его нейтральности относительно нормального преобра-
зования для субъекта. В действительности же оно выражает
конкретную сущность времени как всеобщего возникновения
и исчезновения каждой конкретной предметности, каждой свя-
зи предметов, а одновременно и вследствие, этого через отра-
жение этого процесса — подлинное (сохраняющее себя в ста-
новлении) бытие каждой субъективности. Погружение прошло-
го в ничто, возникновение будущего из ничто лишь на высшем
уровне абстракции, как замечает Гегель, может стать соответст-
вующим способом проявления времени. В конкретной предметной
действительности сформированное^ бытия всегда в значитель-
ной степени сохраняется благодаря тому, что в данный мо-
мент стало уже прошедшим, тогда как будущее в виде разного
рода ростков, тенденций, наметок и т. п. уже присутствует в
настоящем. Абстрактно-теоретическая истинность времени тем
самым не опровергается, поскольку его необратимость остается
непоколебленной; прошедшее как таковое пребывает в своем
неизменном больше-не-бытии, лишь измененные при этом объ-
екты и связи продолжают действовать и составляют необходи-
мый компонент данного настоящего; все тенденции, устремлен-
ные к будущему, отделены от их воплощения качественным
скачком. Абстрактная диалектика бытия и ничто конкретизи-
руется, таким образом, в противоречивом единстве непрерыв-
ности и прерывности, сохраненности в процессе изменений и
изменения в рамках самосохраненности. Непрерывность следу-
ет понимать прежде всего в объективном смысле, то есть приз-
навая, что качественное изменение объективного мира, совер-
шающееся на фоне необратимости течения времени, для обре-
тения исторического характера не нуждается в субъекте. То,
что изменения часто требуют длительных периодов времени,
несоразмерных с человеческой практикой и потому получающих
29
для человека видимость «вечного существования», не имеет ни-
чего общего с объективной историчностью всех временных про-
цессов. Ведь и для истории в более узком смысле слова, то
€сть для истории человеческого рода, характерно признание на
протяжении многих тысячелетий «вечным» того, что только
позднее было понято в качестве исторически возникшего; сама
по себе восприимчивость к историческому характеру порой все-
го лишь микроскопических изменений является продуктом ис-
тории, общественно-исторического развития субъективности.
Только на этой основе проясняется подлинный характер от-
ражения временных процессов в искусстве. Мы уже говорили
[см. т. 1, с. 268 и ел.] об особом положении, занимаемом гео-
метрической орнаментикой, а также о том, как оно проявляется
в изобразительных искусствах (проблема квазивремени); о свя-
занных с этим специфических вопросах архитектуры речь бу-
дет идти в следующем разделе. Если теперь обратиться к тем
искусствам, в которых прямое отражение временного фактора
является неотъемлемым компонентом их гомогенной посредую-
щей системы, а именно к поэзии и музыке, то их родство и раз-
личие обнаруживаются с первого взгляда. Поэзия отражает
конкретное течение времени как таковое именно в его историч-
ности, в его предметной диалектике возникновения и исчезно-
вения, непрерывности и прерывности, и отражает так, что в
ней всегда находят воплощение как сама объективная действи-
тельность, так и субъективные реакции на нее во внутреннем
мире человека. То, что при этом в формировании отдельных
жанров важную роль играют различия в удельном весе тех и
других компонентов, общеизвестно; мы здесь также не раз упо-
минали об этом. Поэтому вкратце заметим, что — вопреки от-
дельным современным теориям — лирика в этом отношении
принципиально не отличается от других поэтических жанров:
в ней тоже отражение действительности возникает в живой
взаимосвязи ее субъективных и объективных моментов. Специ-
фический характер отражения в лирической поэзии — сколь бы
важным он ни был для теории литературных жанров — в дан-
ном контексте не является решающим, так как речь везде идет
о некоем едином (пусть даже в каждом случае своеобразно
«гомогенизированном») процессе отображения субъективных
и объективных факторов человеческой действительности в их
конкретных взаимодейстиях. Это означает, что равным обра-
зом поэтически воспроизводятся как объективные жизненные
факты, находящие отображение во внутреннем мире человека,
так и обусловленные ими субъективные отражения, возникаю-
щие в сфере внутренней жизни изображаемого человека. Та-
ким образом, персонажи произведений художественной литера-
туры во всех ее видах и жанрах предстают (порой выступая
как непосредственное выражение самого автора) одновременно
отражением действительности как таковой и отражением отра-
30
жений. Последнее же всегда — в рамках соответствующей го-
могенной системы опосредования эпоса, лирики или драмы —
приводится к тому неразрывному, хотя и противоречивому,
единству, которым должны обладать их оригиналы в жизни
самих людей, чтобы иметь возможность полностью реализовать
свои нормальные реакции на условия их существования. Лишь
полноты ради напомним о том (уже обсуждавшемся нами)
факте, что изобразительные искусства — в непосредственном
смысле — не в состоянии воплотить отражения отражений; та-
ковые проявляются в них только в форме неопределенной пред-
метности, которая вызывает (разумеется, с эстетической необ-
ходимостью, вытекающей из предметного претворения) у зри-
теля отражение действительного оригинала [см. т. 2, с. 344
и ел.].
Только такое общее соотношение внутренней жизни человека
и раскрытия его внешней судьбы дает возможность более точно,
чем это было возможно ранее, определить специфически то по-
ложение, которое занимают при этом чувства и эмоции. Ибо как
бы необходимо ни было исходить из того, что чувства и эмоции,
подобно другим элементам внутреннего мира человека, порож-
даются лишь взаимоотношениями человека с окружающим его
миром и только в их рамках могут действенно повлиять на его
жизнь, все же никогда нельзя забывать, что в общем комплексе
внутреннего мира они занимают совершенно особое положение;
вне всякого сомнения, они составляют наиболее субъективную
часть человеческой психики. Естественно, это не значит, что
субъективность характеризуется исключительно или хотя бы да-
же преимущественно ими. Правда, они в значительной степени
определяют ту атмосферу, которая окружает каждую личность,
то специфическое качество, которое последняя сохраняет в об-
щении с другими людьми. Но диапазон индивидуальности на-
много шире, чем мир чувств и эмоций; одни они не способны
были бы дать ей исчерпывающее определение. Мы уже занима-
лись в иной связи проблемой человека как в конечном счете
практического существа; отсюда необходимо следует, что и его
внутренняя судьба зависит от решений, исход, конечный резуль-
тат которых может иногда резко противоречить его привычным
чувствам и эмоциям. Разумеется, мы тем самым не утверждаем,
что последние редко играют чрезвычайно важную, даже опреде-
ляющую роль в выборе подобного рода решений, однако импуль-
сы, более непосредственно следующие из общественного бытия
и личностной сути, могут преобразовать действия и мысли чело-
века (вплоть до мировоззренческих позиций) намного более ра-
дикально, чем это были бы в состоянии сделать его чувства и
эмоции. Впрочем, к этому следовало бы добавить, что таковые
во многих случаях проявляют необычайно сильный «остаточный
магнетизм», то есть могут продолжать функционировать более
или менее в своей старой динамике, даже если образ жизни че-
31
ловека, его жизненная позиция, убеждения и т. п. получили уже
диаметрально противоположную направленность. По-видимому,
это имеет свои физиологические основания. Павлов, например,
обращал внимание на то, что у собак, у которых была удалена
кора головного мозга, первая сигнальная система прекращала
функционировать, тогда как эмоциональный фонд все еще дей-
ствовал21. Само собой разумеется, в нормальной жизни эта не-
зависимость не абсолютна. Просто она вызывает крайне сложное
взаимодействие между миром эмоций и другими формами духов-
ной реакции человека на внешний мир.
Если теперь перейти от этих функций эмоционального мира
в духовной жизни людей к его внутреннему своеобразию, то пер-
вое, что бросается в глаза, — это менее прочная в сравнении с
другими типами реакций его связь с объектом., На пути от про-
стого восприятия до четкой мысли не только всегда вступает
в действие нацеленность на определенный объект, но и вообще
сущность каждой такого рода психической деятельности опреде-
ляется тенденцией трактовать своими специфическими средства-
ми реальный характер предмета, который ее вызывает и на ко-
торый она направлена, превращать бытие-в-себе этого предмета
в бытие-для-нас. Естественно, эта связь тем сильнее, чем непо-
средственнее она стимулирует практику, практическую деятель-
ность. У чувств и эмоций соответствующее отношение значитель-
но менее устойчиво и определенно. Это отнюдь не означает, буд-
то бы они не вызываются, как правило (а в конечном счете —
всегда), непосредственно внешним миром, что они не являются
реакциями на него. Но данные реакции всегда по сути своей
имеют субъективный характер, определяя не столько объектив-
ное бытие-для-нас какого-то предмета, сколько чисто личное,
чисто субъективное отношение человека к нему. К тому же они
в относительно большой степени независимы от объекта и его
изменчивых связей с субъектом. Если все практические типы
реакции на действительность, включая приостановку прямой
практической деятельности, определяются именно посредством
таких живых взаимодействий с объектом, в них и через них
крепнут, ослабляются, сохраняют, модифицируют или ликвиди-
руют свое содержание и направление, то для отношений чувств
и эмоций к действительности вполне допустимы качественно раз-
личные типы действия. Слова «И пусть тебя люблю я, тебе-то
что?» выражают тот тип реакции, который структурно характе-
рен именно для данной области внутреннего мира человека, хотя
здесь перед нами крайний случай. (Спинозовская «amor dei in-
tellectualis» [«интеллектуальная любовь к богу»], послужившая
моделью для Гёте, дает тот метод, который позволяет в процессе
объективного познания действительности сохранить незыблемой
цель познания, невзирая на все субъективные склонности. Таким
образом, психологически она являет собой противоположность
в высшей степени правдивым и глубоким словам гётевской Фи-
32
лины именно потому, что последние связаны с миром чувств,
а формула Спинозы — с миром идей).
Итак, вполне возможно допустить, что чувства, эмоции вызы-
ваются определенным событием внешнего мира, но затем осво-
бождаются от его дальнейших воздействий на субъект и обрета-
ют в последнем собственную жизнь, независимую от прочих впе-
чатлений внешнего мира, более того, их отношение к нему в
известном смысле может напоминать «плавание против течения».
Результатом всего этого может быть, далее, то, что внешние раз-
дражители все отчетливее приобретают характер просто побуж-
дения, повода, что адекватность возбудителя чувств им самим,
по видимости, в значительной степени стирается, даже уничто-
жается. Следовательно, чувства и эмоции в той мере, в какой
они являются отражениями действительности, намного субъек-
тивнее, намного меньше проявляют тенденцию приближения к ее
подлинным свойствам, чем все прочие реакции человека на нее.
Момент субъективного реагирования преобладает в них над по-
требностями и характерными свойствами воспринимающего субъ-
екта; последние уже в повседневной жизни часто ведут чуть ли
не к удвоению процесса отражения. Это уже не столько непо-
средственно действующий объект, сколько его преобразующее от-
ражение в эмоциональной жизни субъекта. Мы не имеем воз-
можности рассматривать здесь эту группу феноменов во всем
богатстве вариантов. С одной стороны, это самостоятельное бы-
тие внутреннего мира, мира эмоций относится к типичным про-
явлениям роста культуры, с другой стороны, однако, само это
развитие при сильном преобладании данной тенденции представ-
ляет собой немалую опасность именно для внутренней жизни
людей. Так что если усиление подобного собственного динамиз-
ма чувств и эмоций обогащает внутреннюю жизнь людей, и преж-
де всего тем, что делает взаимоотношения с окружающим миром
более широкими, глубокими, дифференцированными и развиты-
ми, то чрезмерное ослабление этих связей может вести к измель-
чанию, истощению самих чувств, к утрате содержательности
их динамизма. (Можно вспомнить здесь о гётевской и гегелев-
ской критике «прекрасной души» [см. т. 2, с. 200 и ел.].) Данная
проблематика выступает еще более отчетливо, когда отдельные
компоненты, составляющие духовную целостность и единство,
фетишизируются и отторгаются друг от друга, даже противопо-
ставляются друг другу как враждебные силы.
Все это выявляет еще один момент диалектического отноше-
ния внутреннего и внешнего, который значительно реже прини-
мается во внимание. Мы имеем в виду тот факт, что взаимодей-
ствие между внутренним и внешним, в плодотворности которого
мы имели возможность убедиться, в то же время сдерживает
полное раскрытие эмоций как таковых. Дело в том, что эмоции,
как и мысли, имеют свою, если можно так выразиться, «логику»,
свою собственную динамику развития. Но и жизни с ее постоян-
3-805
33
но изменяющимися «насущными потребностями», пробуждающи-
ми эмоции, мысли, которым они непосредственно призваны слу-
жить, свойственна своя динамика как логика sui generis, очень
часто тормозящая, даже полностью препятствующая созреванию
мыслей и эмоций каждого субъекта до имманентного им совер-
шенства. Однако качественные различия между мыслями и чув-
ствами в их соотнесенности с объектом порождают качественные
различия в подобных взаимосвязях между субъективностью и
объективным миром в зависимости от того, чувства или мысли
составляют решающий фактор в реакции субъекта на внешний
мир. В предыдущих рассуждениях мы пытались показать, что
живущий в обществе человек вынужден временно отказываться
от непосредственно-практических целевых установок, если он хо-
чет последовательно, до конца реализовать мысленное отраже-
ние действительности, полное раскрытие мыслей. Эту возмож-
ность мышлению как силе, отражающей мир, предоставляет дез-
антропоморфирующее отражение действительности, и опыт ты-
сячелетий показывает, что человеческая практика лишь таким
окольным путем могла стать подлинно преобразующей. Но и наш
анализ художественной деятельности выявил аналогичное соблю-
дение некоторой дистанции между нею и жизнью, тоже позво-
ляющей ей в результате лучше служить жизни, поскольку бла-
годаря временной приостановке, прерыванию связи с содержа-
нием и формами повседневной жизни мир человека обретает
ясные очертания и поскольку сотворенный человеком собствен-
ный мир может стать тем самым его собственным достоянием
только как эстетическое бытие-для-нас — в сущем-для-себя про-
изведении искусства. Во всех этих случаях, и именно лишь в слу-
чаях непосредственной практики, речь идет о телеологических
процессах, в которых мыслям, художественно-творческим спо-
собностям, служащим им восприятиям и т. д. отводится роль
некоего органа, инструмента для реализации телеологической
целевой установки. Когда задача успешно решена, мысли, твор-
ческие способности и т. п. полностью исчерпывают себя, находят
свое воплощение в созданном произведении, в совершенном дея-
нии, и при всем их отличии друг от друга в этом смысле они
подчиняются сходным законам, имеют одинаковые судьбы.
Совсем иной характер носят отношения чувств и эмоций с
объективной действительностью. Именно вследствие этого, как
мы видели, они изначально не имеют телеологического характе-
ра, в их существе не заложено с необходимостью практическое
воплощение. (Естественно, они могут порождать пристрастия,
увлечения, об осознанности и ориентированности которых на
реализацию посредством целенаправленно-практических дейст-
вий мы уже говорили в другой связи [см. т. 3, с. 124 и ел.].)
Следовательно, до тех пор пока чувства и эмоции не претворятся
в телеологически ориентированную практику, внешняя (добавим:
чаще всего также и внутренняя) жизнь человека должна под-
34
чиняться динамике и логике событий объективной действитель-
ности. Соответственно собственная динамика и логика чувств и
эмоций не могут раскрыться полностью, постоянно прерываются
условиями внешнего мира, отклоняются в своем развитии, пере-
водятся на другие рельсы и т. д. Мы уже указывали — вспомним
о глубокой внутренней проблематичности «прекрасной души» —
на то, что отстранение от внешнего мира, замыкание в собствен-
ном внутреннем мире не подсказывает решения, но, напротив,
дает чувствам и эмоциям неправильное направление, ложное со-
держание, более того, во многих случаях обрекает, в сущности,
на бесплодность даже для переживающих их людей. Следует за-
метить, что полное раскрытие чувств, которому ничто не препят-
ствует извне, может до конца реализоваться в жизни только в
патологических формах как эмоциональная основа мономании.
Эта противоречивость показывает, что речь идет об основопола-
гающем обстоятельстве во взаимодействии внутреннего мира че-
ловека и жизненной реализации человеческого существования,
когда противоположные силы и тенденции, действующие с оди-
наковой необходимостью в повседневной жизни, могут быть сба-
лансированы только в исключительных случаях. Подобные ис-
ключения не могут приниматься в расчет применительно к обще-
социальным потребностям. Такой глубоко чувствующий, даже
порой сентиментально-чувствительный поэт, как Теодор Шторм,
писал:
Пусть ты любимое похоронил! И все же
На свете стоит жить; в потоке дней
Ты утвердишь себя и1 возродишься.
(Перев. А. Айхенвальд)
Генрик Ибсен в своей драме «Маленький Эйолф» дает ирони-
чески-психологическую зарисовку, показывая, что даже самая
искренняя скорбь об утрате единственного ребенка, даже горе,
усугубляемое угрызениями совести, не может сохранять посто-
янной свою психологическую напряженность. И дело не только
в том, что ^окружающие в таких случаях из сострадания пыта-
ются как-то отвлечь человека, но и в том, что у него самого не-
избежно возникают сдерживающе-отвлекающие моменты. Так,
терпит провал попытка Альфреда Алмерса полностью отдаться
своему горю. В какой-то момент он говорит сестре Асте, пытаю-
щейся утешить его: «Он (умерший сын. — Д. Л.) выскользнул
у меня из ума. Совсем вон из памяти. Он не встал предо мной
ни на одну минуту, пока мы сидели тут и разговаривали с тобой.
Я совсем забыл о нем в это время». И дальше — еще резче:
«Пока ты не пришла, я сидел тут и бесконечно страдал... изны-
вал от боли, от горя... Я вдруг поймал себя на мысли о том,
а что у нас будет сегодня к обеду». Во избежание недоразуме-
ний подчеркнем еще раз: то, что жизнь не может предоставить
3*
35
эмоциям как таковым условия для их исчерпывающего проявле-
ния, в целом следует считать как в социальном, так и в обще-
человеческом смысле не ограничением, а необходимым следстви-
ем единственно возможной практической реакции человека на
окружающий мир. И хотя существование подобной потребности
в полном раскрытии эмоций, обогащение и углубление в ходе их
миметической реализации внутреннего мира человека подтверж-
дают, что большинство общественных формаций ставит препят-
ствия на пути его всестороннего развития, но все же прежде все-
го это свидетельствует о том, что само развитие человеческих
способностей нуждается в созданных человеком средствах, до-
полняющих его естественное бытие, расширяющих и углубляю-
щих его способности.
Мы увидим — как могли уже это видеть на примере оды Пин-
дара,— что музыка возникает из этой универсальной обществен-
но-человеческой потребности, ради ее удовлетворения создает
свою специфическую, единственную в своем роде гомогенную
посредующую систему, ради нее утверждает себя как искусство
в форме двойного мимесиса. То, что эта потребность пробивает
себе дорогу и независимо от музыки, подтверждает, например,
некогда широко распространенный обряд оплакивания умерших;
вопли и стенания плакальщиц со всей их безудержностью при-
званы были служить миметическим отображением эмоций скор-
би, причем таким, при котором возбуждению имитированных
эмоций не препятствуют ни внешние, ни внутренние сдерживаю-
щие факторы. Таким образом, полное раскрытие эмоций проис-
ходит здесь не непосредственно в самой жизни, как ответное
переживание, прямая реакция на события, но как реакция, све-
денная к миметическому изображению, концентрирующаяся ис-
ключительно— без всякой примеси чего-либо чужеродного — на
этом круге эмоций и тем самым вызывающая в человеке,, пре-
вращенном жизнью в непосредственный субъект этих событий,
чувства очищения, катарсиса. При этом нужно особо отметить
три момента, которые лучше всего могут прояснить суть такого
рода мимесиса. Во-первых, в подобном обычае оплакивания речь
идет не о чувствах как таковых, а об их мимесисе, при котором
«подражание» событию, действительным фактам и обстоятель-
ствам как таковым сознательно оттесняется на задний план и
почти прекращается. Во-вторых, по этой причине воспринимаю-
щий, у которого данные инсценировки вызывают эмоциональную
разрядку вплоть до катарсиса, осознает, что он оказывается
перед лицом копии, отражения действительности, а не перед нею
самой. В-третьих, здесь не происходит никакой идентификации
воспринимающего с миметическим изображением; оно вызывает
в нем эмоции большей силы и безудержности, чем способны бы-
ли бы пробудить жизнь и его собственные реакции на нее, но
именно по той причине, что эти его реакции, объективируясь,
противостоят ему, что они специально рассчитаны на то, чтобы
36
направить поток его эмоций на усиление, на полное раскрытие,
проявление; он противостоит им как некоей вполне определенной
объективации.
Путь к объективации человеческих эмоций в их субъективной
чистоте и подлинности берет свое начало, как и везде, от особой
сути жизненного материала, хотя, разумеется, абсолютная объ-
ективация с этой точки зрения достижима только посредством
качественного скачка. Мы уже говорили, что в чувствах и эмо-
циях очень часто кроется тенденция к относительному отрыву от
возбуждающих причин и поводов, тенденция к самоотображе-
нию, которая может вести к спонтанному мимесису мимесиса.
Таким образом, эта тенденция — с точки зрения тех потребно-
стей, которые мы здесь анализируем, — вынужденно становится
бесплодной. Полное субъективное погружение в собственные
чувства, их сентиментальное или ироническое, самодовольное или
самоистязательное отражение в собственном «Я» не могут ничего
существенно изменить ни в структуре эмоций и чувств, ни в их
связи с внешним миром; таким образом, миметические элементы
этого отражения не снимают основного противоречия. Спонтанно
миметические обряды, подобные упомянутым выше обрядам с
участием плакальщиц, как мы видели, уже переходят от дейст-
вительности к ее отражению и тем самым предоставляют простор
для неограниченного, несдерживаемого проявления чувств на
миметической основе. Однако, с одной стороны, это приемлемо
только для совершенно определенных чувств, а отнюдь не для
всей их сферы в целом, охватывающей все жизненные проявле-
ния — как общественные, так и частные, как всеобщие и типично
повторяющиеся, так и чисто индивидуальные, неповторимые;
с другой стороны, здесь было найдено такое решение, которое
может быть действенным только на примитивном уровне. Ибо,
несмотря на преобладание чисто чувственных проявлений, речь
идет все же о гомогенной посредующей системе вербального вы-
ражения, история внутреннего развития которой необходимо ве-
дет к отображению чувств и эмоций не просто в их внутреннем
состоянии, но как раз в их живом взаимодействии с объективной
действительностью, то есть к тому, чтобы стать поэзией. Вряд ли
нужно говорить, насколько важным для человечества стал этот
тип отражения. Но как раз его сила не позволяет ему дать ответ
на поставленный здесь особый вопрос.
Таким образом, если мы ищем философско-теоретические ис-
токи наиболее специфического свойства музыки в некоей непо-
средственной негативности, то есть в ее — уже известной нам —
принципиально неопределенной предметности относительно внеш-
него мира, то на первый взгляд это может показаться парадок-
сальным. И хотя интенсивная целостность как основа всякого
искусства, всякой продуцированной индивидуальности выража-
ется повсеместно самым позитивным, формообразующим, миро-
созидающим образом, однако никогда не следует забывать, что
37
соответствующее полагание того или иного типа интенсивной це-
лостности неизбежно влечет за собой абсолютное и радикальное
отрицание безграничного множества определений, свойственных
самой по себе отражаемой действительности как экстенсивной
и интенсивной целостности. Столь часто цитируемая формула
Спинозы: «Omnis determinatio est negatio» [«Всякое определе-
ние есть отрицание»] — полностью может быть отнесена к ситуа-
ции полагания любой гомогенной системы опосредования. То,
что в музыке это проявляется отчетливее всего, ничего не меняет
в универсальной значимости этой ситуации для всякого другого
искусства. Так, искусство ваяния «отрицает» все взаимодействия
пластически воплощенного скульптором тела с его окружением;
это тело пребывает в некоем для-себя-бытии, в некоей в-себе-за-
конченной самозавершенности, чистой самообоснованности. Та-
кое воплощение человека как телесного существа (а поэтому и
благодаря этому — и как телесно-духовного существа) с его бес-
конечным диапазоном выражения, простирающимся от покоя-
щейся в себе самой гармоничной красоты до трагического пафо-
са его для-себя-бытия, было бы немыслимо без решительного
исключения бесконечного ряда основополагающих определений
объективной действительности из сферы пластики. Последняя
может утвердить свою собственную значимость только посред-
ством позитивизации этого отказа, этого отрицания. Сущность
какого бы искусства ни рассматривалась, подобные выводы не-
избежны, с той лишь разницей, что содержание и тип отрицания,
содержание и тип возникающей таким образом своеобразной для
каждого вида искусства позитивности радикально отличаются от
любого другого вида.
Такой ход рассуждений с очевидностью подтверждает мни-
мый характер кажущейся парадоксальности нашей исходной по-
зиции. В результате становится понятной примечательная осо-
бенность музыки: высшая степень ее удаленности от жизни и
вместе с тем несомненная близость к ней. Ибо ее удаленность
от жизни, отсутствие в ее гомогенной посредующей системе не-
посредственно общих черт с данной объективной действительно-
стью, из-за чего она прямо не выступает в качестве мимесиса
действительности, — все это само по себе органично сочетается
с близостью музыки к жизни в том отношении, что она, казалось
бы, без всякого опосредования выражает субъективнейшую, глу-
биннейшую сущность человека (разумеется, если исходить из
упомянутого выше отрицания как из ее определения). Гомоген-
ная посредующая система музыки может выразить чувства и
эмоции человека во всей ничем не ограниченной полноте, ничем
не омраченной чистоте именно потому, что в этом часто спонтан-
но происходящем миметическом отображении действительности
посредством двойного мимесиса она радикально освобождает эти
чувства и эмоции прежде всего от их противоречивой связанно-
сти с объектом. Так как благодаря двойному мимесису и образо-
38
вавшейся таким путем гомогенной посредующей системе тонов
отображенные чувства и эмоции в силу их неопределенной пред-
метности лишаются всякой внешней соотнесенности с объектом
и могут до конца раскрыться в согласии с собственной логикой
и динамикой, мим'етический образ не только полностью сохраня-
ет истинность отраженного жизненного прототипа, но и дает воз-
можность реализации, которая для этих чувств и эмоций в жиз-
ни как таковой вынужденно оставалась недоступной. Более того,,
вновь возникает мнимо парадоксальная ситуация: то, что в са-
мой жизни было наиболее уязвимым моментом в известной пло-
скости жизненных отношений, а именно изменчивая, неустойчи-
вая связь чувств и эмоций с объективным миром, в мимесисе как
неопределенной предметности становится основой максимальной
эвокативности миметически преобразованного жизненного мате-
риала. Но и в этом для философии искусства нет ничего абсо-
лютно нового. Каждый знает, что кажущееся хаотичным смеше-
ние случайности и необходимости является одним из серьезней-
ших препятствий для удовлетворительной мысленной ориентации
в мире и тем более для его эмоционального освоения и приятия.
Именно поэтому трагедия путем устранения случайности, а клас-
сическая новелла путем утверждения ее господства создают свои
гомогенные посредующие системы, в рамках которых достовер-
ное отражение действительности предстает как миметически пре-
образованный мир, целесообразный и полный смысла для чело-
века, а потому умственно и духовно близкий ему. Как в примере
с пластикой, который мы приводили ранее, так и в данном слу-
чае нетрудно понять, что двойной мимесис музыки, то есть отра-
жение чувств и эмоций, отражающих действительность, по своей
основной структуре не только не противостоит взаимоисключаю-
щим образом другим типам эстетического отражения, но даже
не отличается от них. То, что в музыке совершенно особое отно-
шение человека к действительности получает совершенно особое
миметическое воплощение, отличает ее, как в эмоциональном
плане, так и конкретно эстетически, от всех других искусств, но
только на основе тех принципов, которые по своей исходной уни-
версальной сути являются общими для всех миросозидающих
искусств.
Музыка становится самостоятельным искусством, если этот
мимесис пробужденных жизнью эмоций, это отражение отраже-
ния, оказывается в состоянии быть воплощением своего собст-
венного объекта со всеми внутренне присущими ему качествами,
то есть в его отрешенности от прямой связи с вызывающей его
к жизни причиной. Такой отрыв можно понять только в том слу-
чае, если рассматривать его одновременно и как абсолютный,
и как относительный. Он абсолютен, поскольку музыка создает
свой собственный «язык» (в том смысле, как мы его определили
при рассмотрении сигнальной системы Г), однозначность, точ-
ность отображения и выразительность которого покоятся как раз
39
на том, что в нем отсутствуют или по крайней мере сведены к
минимуму «знаки» для передачи конкретных объектов жизни.
Описанное нами как внешнее, так и внутреннее положение, за-
нимаемое эмоциями в духовной жизни практически действующе-
то, реально существующего целостного человека, ясно свидетель-
ствует о том, что их полное раскрытие возможно только в опре-
деленных условиях посредством особого «языка», который не
преодолевает каждый раз конкретно эти препятствия, но просто
полагает их в своей сфере несуществующими. И в той же мере,
в какой предстает абсолютной организационная сторона отраже-
ния отражений, содержательная сторона данного комплекса мо-
жет отмежеваться от жизни лишь относительно, причем как в
целом, так и в деталях. Вспомним, что мы говорили о музыке
при рассмотрении категории особенного [см. т. 3, с. 212 и ел.].
Здесь перед нами необходимо совершающаяся трансформация
пробужденных действительностью и отражающих ее эмоций,
в которых, как мы видели, устранена сиюминутность, hic et nunc,
их возбудителя, а тем самым и его конкретность, так сказать,
личностно-биографическая обусловленность его конкретно-данно-
го бытия, вследствие чего этот «язык» утрачивает специфические
признаки единичного; с другой стороны, поскольку «язык» здесь
не может иметь вербального характера — даже если музыка,
а тем более стенания плакальщиц выражаются словами, — он не
обладает более в понятийном смысле предметной определенно-
стью. «Язык» превращается в комплекс конструктивных элемен-
тов соответствующей данному настроению атмосферы, в нем от-
сутствует та однозначноть формулировок, то «округление в сто-
рону большего», которое выражается категорией общего.
Тем не менее нельзя сказать, что этот «язык» неясен и пред-
ставляет собой нечленораздельный лепет сплошных излияний
чувств. С одной стороны, особенное, как очевидное обобщение,
возвышается над всем отдельным и — именно будучи таковым —
стремится к тому, чтобы выделить типичные черты каждого част-
ного явления; с этой точки зрения музыка отличается от других
искусств тем, что последние представляют типическое в тесной
связи с единичным, признаки, черты которого в каждом верном
художественном воплощении тщательно отобраны, в то время
как в музыке формируется типическое как таковое, без углубле-
ния в сферу единичного. С другой стороны, в музыке не общее
должно конкретизироваться в некое особенное, как это происхо-
дит прежде всего в поэзии посредством специфического процесса
стилизации, а особенное выступает как наивысшая из достижи-
мых в ней степень проявления всякого общего. Таким образом,
музыкальное отображение эмоций (отражение отражений) ин-
дивидуализировано в конкретнейшем смысле как в отношении
характера того целого, в котором конкретно-данное бытие нахо-
дит свое выражение путем раскрытия становления чувств, так и
в отношении деталей, моментов хотя и освободившихся от опре-
40
деленной предметности побудительной причины, но сохраняющих
в себе в целости ее специфические эмоциональные последствия и
даже поднимающих ее с помощью типизации на более высокую
ступень индивидуализации.
Тем самым мы определили в общих чертах контуры специфи-
ческой гомогенной системы опосредования в музыке. Другие ис-
кусства непосредственно отражают конкретную предметность
внешнего и внутреннего мира человека, и полученные таким об-
разом— соответствующие данному искусству — конкретные фор-
мы предметности объединяются в обладающие неким единством
композиции с тем, чтобы через них выразить управляющее, вы-
зывающее эвокацию функционирование эстетически воплощен-
ных форм. Напротив, гомогенная посредующая система музыки
ограничивается исключительно этой направляющей, эвокативной
ролью. Поскольку, однако, она реализует свою задачу не путем
вскрытия и осуществления направляюще-эвокативных возможно-
стей в конкретных предметных жизненных формах, а путем очи-
щения и возвышения до уровня художественного духовного ма-
териала, самого по себе уже эвокативно насыщенного, сущест-
вующего исключительно как средство эвокации, то здесь легко
возникают уже упоминавшиеся нами ложные концепции относи-
тельно «сущности» музыки: и концепция «чистой», безобъектной
субъективности ее действия, представляющегося почти мистиче-
ским, и концепция ее чисто формального характера. Несостоя-
тельность этих концепций мы уже доказали. По поводу первой
следует лишь заметить, что если, скажем, прежние эмоции
всплывают в памяти, где они в качестве отражений отражений —
хотя и не в эстетическом смысле — становятся для субъекта на-
стоящим, то при этом трудно было бы отрицать, что они являют-
ся противопоставленными ему объектами. Относительно второй
концепции можно сказать, что основные возражения против нее
мы сформулировали, когда останавливались на специфических
особенностях гомогенной посредующей системы музыки. Доба-
вить нужно следующее: так как трансформированные в музыке,
отраженные ею эмоции вынуждены включить свое содержание —
именно как основную характеристику их качественного своеобра-
зия — в их новое бытие, а последнее может стать действенным
только за счет полного раскрытия этого своеобразия композици-
онными средствами, то здесь должен быть признан давно уже
констатированный в других искусствах приоритет содержания
по отношению к форме, понимание последней как формы некоего
особого содержания. Тем самым снимаются и возможные ссылки
на то, что этот якобы неповторимый по чистоте характер выяв-
ления двойного отражения эмоций означает беспроблемность их
существа и их связей. И хотя музыкально-миметически претво-
ренные эмоции порывают с вызвавшей их реальной причиной,
хотя они преобразуют соотнесенные с ними объекты в некую
неопределенную предметность, хотя они преодолевают все поме-
41
хи и препятствия, ограничивающие их проявление в жизни,—
тем не менее эта трансформация не уничтожает их сущностные
свойства, их сформированное действительностью конкретно-дан-
ное бытие, а тем более внутренние проблемы, возникающие из их
взаимосвязи. Ибо только таким путем раскрытие эмоций, осуще-
ствляемое через гомогенную посредующую систему музыки, мо-
жет стать подлинным их раскрытием, претворением, миросози-
дающим принципом. Естественно, мы часто испытываем цельные
в своей чистоте эмоции, неудержимому потоку которых невоз-
можно противостоять, например слушая Баха или Генделя; но
уже в сонатах Бетховена мы нередко ощущаем надломленность,
противоречивость, конфликтность и т. п. Причем по жизненным
меркам и в том, и в другом случае можно говорить о чистой реа-
лизации эмоций. Историчность в принципах построения музы-
кальных образов, которая часто характеризуемся сугубо фор-
мально, как раз и проистекает из этой — общественно-историче-
ски обусловленной — внутренней динамики их эмоционального
материала. Осознание возникающих здесь связей открывает путь
не только к историческому пониманию соответствующей музы-
кальной композиции, но и к ее эстетической оценке.
Тем самым полностью исторический характер музыки утверж-
дается как с точки зрения содержания, так и с точки зрения фор-
мы. Сам по себе этот факт именно в наши дни стал бесспорным
и естественным. Широкую известность получили тоновые систе-
мы, качественно отличающиеся от наших, — древние, восточные,
народные и т. п., а вместе с тем с появлением атональной музы-
ки мы стали свидетелями возникновения некоей новой системы.
И здесь — как и в других искусствах — одна система не исклю-
чает другую, как это имеет место, скажем, в науке, где( более
правильная теория отрицает ту, которая оказывается неверной
или недостаточно полной; истинно художественные произведе-
ния полностью сохраняют свою эстетическую значимость незави-
симо от того, в какой тоновой системе они созданы. С другой
стороны, то, что какая-то новая система формируется как по-
рождение определенной эпохи, определенных общественно-исто-
рических условий, то, что все ее элементы подчинены историче-
скому развитию не только в их генезисе, но и в их воздействиях,
все это ставит музыку — если не касаться ее сущностных харак-
теристик— в один ряд с другими искусствами. Адорно говорит:
«Принятие историчности музыкальных средств противоречит тра-
диционному пониманию материала музыки. Физически, по край-
ней мере с точки зрения психологического восприятия звучания,
он определяется как совокупность звуков, имеющихся в распо-
ряжении каждого из композиторов. Но композиторский матери-
ал отличается от нее так же, как речевой язык от запаса звуков,
входящих в его состав. Композиторский материал не только со-
кращается или. расширяется с ходом истории. Все его специфи-
ческие черты носят на себе отпечаток исторического процесса.
42
И они тем полнее отражают историческую необходимость, чем
меньше в них ощущается преобладание непосредственного ха-
рактера над историческим. В тот момент, когда какому-то аккор-
ду его историческое «лицо» больше не позволяет быть использо-
ванным, он настоятельно требует, чтобы то, что его окружает,
учитывало его исторические связи и обусловленности. Они пре-
вратились в его неотъемлемое свойство. Смысл музыкальных
средств не зарождается в их генезисе, но тем не менее неотделим
от него»22-23.
Таким образом, тот внутренний мир, который с помощью, ка-
залось бы, чисто формально организованной гомогенной системы
опосредования объективируется как эвокативно воздействующее,
воспринимаемое слухом явление, становится именно «миром»,
интенсивной целостностью, специфическим для нее способом
охватывающей и возвышающей до оформленного образа все, что
во взаимосвязи человека с окружающей средой существенно для
ее полного раскрытия и завершения, в результате чего внутрен-
ний мир обретает самостоятельность и выступает как действен-
ная сила общественной жизни человека. Мы уже указывали на
диалектическое противоречие, заложенное в этой самостоятель-
ности внутренних потенций человека, на характер его проявле-
ния. Приписывание внутреннему миру существования, независи-
мого от материального бытия человека, свойственно большинству
религий. Не останавливаясь здесь на проблематике такого рода
истолкования «души» как особой, для-себя-сущей субстанции,
мы должны еще раз напомнить: то, что мы называем внутренним
миром, душой (без кавычек), реальной значимости которых как
в личной, так и в социальной жизни человека никто не будет
оспаривать, является продуктом общественно-исторического раз-
вития. Даже простая способность человека определить свою
связь с окружающим миром со всеми вытекающими отсюда обу-
словленностями и- взаимодействиями как субъектно-объектное
отношение есть, как мы видели [см. т. 1, с. 68], результат труда.
Неоднократно описывавшееся нами возрастание значения субъ-
ективного фактора, тенденция к его обособлению во внутренний
мир является следствием все более сложных задач, которые об-
щественно-историческое развитие ставит перед каждым отдель-
ным человеком. Напомним лишь о наших высказываниях отно-
сительно роли такта в человеческом общении [см. т. 3, с. 30
и ел.]; однако и такие социально более важные функции, как,
например, выдвижение на первый план моральных и этических
реакций и отмена их «естественного» регулирования обычаями,
свидетельствуют, насколько серьезной общественной проблемой
стало расширение, углубление и прочие внутренние трансформа-
ции духовной жизни и, следовательно, какую социальную значи-
мость приобретает ее дальнейшее развитие. Достаточно вспом-
нить о том, какую роль играл этот комплекс проблем в греческой
культуре у Сократа, Платона, Аристотеля. И отнюдь не случай-
43
но, что их этические взгляды, их система воспитания человека,
уже сформировавшегося как индивидуальность, настоящим граж-
данином очень большую роль отводили музыке. Даже если Пла-
тон и Аристотель в серьезных вопросах занимали диаметрально
противоположные позиции, то в отношении важности музыки
для социальной педагогики между ними не возникало никаких
разногласий. Это единодушие — при всех прочих, как философ-
ских, так и социальных, расхождениях — основывается на том,
что оба они понимали музыку как мимесис человеческих эмоций
и ждали от нее, как и от поэзии, очищающего, катарсического
воздействия на этос будущего, реально действующего гражда-
нина.
В результате вызванное музыкальным мимесисом действие,
которое на начальных этапах развития, в эпоху магии, было
всего лишь побочным — более или менее случайным — продуктом
мимесиса как колдовства, занимает центральное место, а тем
самым процесс становления музыки как самостоятельного искус-
ства представляется завершенным. Мы говорим «представляет-
ся», ибо, насколько нам известно, в этом становлении имели ме-
сто качественные скачки, и особенно тот скачок, который отде-
ляет музыку последних столетий как совершенно самостоятель-
ное искусство от музыки любой из более ранних эпох. То, что
лишь современная музыка породила инструментальное искус-
ство, получившее самостоятельное значение и почти неведомое
прежним историческим периодам, является, на наш взгляд, ско-
рее следствием новой ситуации, а не ею самой. Ибо, с одной
стороны, вплоть до самого последнего времени вновь и вновь
создается серьезная музыка, вовсе не предназначенная для само-
стоятельного воздействия, но совершенно сознательно следую-
щая,— в известной степени, как в древности, — слову и движе-
нию; с другой стороны — и цитированные выше слова Пиндара
[с. 6 и ел.] это подтверждают, — уже очень давно появилась
потребность в чисто музыкальных «подражаниях» эмоциям, не
нуждавшихся в опоре на слова и движения, конкретизированно
выраженный смысл которых иллюстрировал, пояснял бы этот
мимесис. (Проблемой, которая здесь кроется, мы займемся в
дальнейшем.) Таким образом, как бы ни пытались свести это
противоречие к количественным соотношениям, сколько бы ни
обнаруживалось плавных с исторической точки зрения перехо-
дов, качественный скачок все же имеет место; однако его обос-
нование следует искать не в имманентном развитии музыкаль-
ных средств выражения и способов эвокации, а в преобразова-
нии конечного объекта музыкального мимесиса, в изменении
внутреннего мира человека.
Разумеется, мы не можем здесь даже вкратце описать эту
эволюцию, к тому же автор вполне отдает себе отчет в недоста-
точности собственной профессиональной компетентности и в дан-
ном вопросе. История показывает нам, как от формации к фор-
44
мации в стремительно возрастающей степени общественное раз-
витие в известном смысле «высвобождает» внутренний мир чело-
века; иными словами, все более высокого уровня достигают те
социально-экономические, государственные, классовые отноше-
ния и связи, которые определяют осуществление деятельности
людей, обусловленной их общественным бытием, в форме их ин-
дивидуальных умозаключений и решений. И дело не в том, что
исключается именно общественно детерминированная необходи-
мость, а в том, что изменяется ее прямое функционирование, то
есть эта необходимость, с одной стороны — с точки зрения инди-
вида,— во все возрастающей мере обретает форму свободы, на-
лагает на отдельного индивида как такового ту ответственность,
которая в прежних обстоятельствах ему поневоле была неведо-
ма; с другой стороны, необходимость проявляется значительно
более абстрактно, чем в прежние времена, что часто порождает
иллюзию большей свободы, хотя объективно неизбежность и обя-
зательность скорее возрастают, а не уменьшаются. Тем не менее
конкретный характер самоутверждения общественной необходи-
мости открывает простор для раскрытия внутреннего мира, в ре-
зультате чего кажется, что действующий индивид в своих отдель-
ных поступках все активнее и непосредственнее руководствуется
собственными инициативами. Достаточно вспомнить о средневе-
ковом городе с его обязательной цеховой принадлежностью, ре-
гулированием цен и т. д. и сравнить его с капиталистическим
рынком, чтобы заметить, что этот качественный сдвиг в структу-
ре человеческой деятельности произошел в сторону развития
субъективности. О чисто идеологических сторонах этого развития
подробно говорить нет смысла, поскольку они общеизвестны.
Реформация, вызванные ею борьба мировоззрений, религиозное
сектантство и т. п. обнаруживают тенденции, которые раньше
если и проявлялись, то спорадически, отныне же приняли вид
массовых явлений.
Сопоставление старого и нового искусства на этой основе на-
блюдается уже у Шиллера; более развитую форму оно приобре-
тает в трудах молодого Фридриха Шлегеля, в эстетике Шеллин-
га и Зольгера. Наконец, Гегель, в своей эстетике рассматриваю-
щий только современную ему музыку, эстетически кодифицирует
ее как романтическое искусство; наряду с живописью он харак-
теризует ее как типичное искусство романтической эпохи, то есть
нового времени. Мы уже указывали — и вынуждены будем сде-
лать это еще раз при обсуждении архитектуры — на то, что уста-
новление Гегелем прямой подчиненности отдельных искусств от-
дельным ступеням исторического развития представляет собой
идеалистическую конструкцию, которая наряду с раскрытием не-
которых важных взаимосвязей вносит большую путаницу в по-
знание подлинного развития искусств. То, что в конечном счете
в некоторые периоды отдельные искусства поднимаются до уров-
ня господствующих и их общественно-историческая роль способ-
45
ствует более полному раскрытию заложенных в них' возможно-
стей,— эта мысль Гегеля правильна и глубока. Одцако встроен-
ная в архитектонику идеалистической системы, та^ая концепция
вынужденно совершает идейное насилие над действительным
историческим процессом. Так же обстоит дело и;с обсуждаемым
здесь вопросом музыки и живописи как романтических искусств.
Что касается музыки, то здесь игнорируются целые тысячелетия
ее предшествующего развития; по отношению же к живописи не
принимается в расчет качественный скачок, разделяющий искус-
ство средневековья и нового времени. Если мы ненадолго оста-
новимся на последнем обстоятельстве, то лишь для того, чтобы
с какой-то иной стороны полнее осветить намечающуюся здесь
«автономизацию» внутреннего мира, решающую для новой му-
зыки. Дело в том, что и для средневековья живопись тоже была
одним из господствующих искусств. Однако официальное стиму-
лирование такого ее развития — а на этом основывалось и ме-
ценатство со стороны церкви — объяснялось тем, что в ней виде-
ли средство довести до неграмотных, то есть до преобладающего
большинства населения, ту истину, которую несла им религия24.
Возрождение внесло функциональные изменения в те обще-
ственные потребности, которые удовлетворяла живопись. Ярче
всего это проявилось в Венеции. Бернсон правильно говорит, что
«в жизни венецианца XVI века живопись занимала почти такое
же место, какое музыка занимает в нашей»25. Мы не ставим себе
задачу прослеживать это развитие, равно как поворот в живопи-
си эпохи Высокого Возрождения, маньеризма и барокко к мону-
ментализму; мы имеем в виду линию, наметившуюся, скажем,
от «Станц» Рафаэля к Рубенсу, но, конечно, при основательном
изменении как содержания, так и выразительных средств. На эту
перемену в общественном назначении следует указать уже пото-
му, что лишь в этой плоскости можно правильно понять то спе-
цифически новое, что привнес в живопись внутренний мир, бурно
прокладывавший себе дорогу. Мы имеем в виду новый мир
чувств, а вместе с ним и новый способ выражения, который про-
является— разумеется, у каждого художника по-своему — у Тин-
торетто, Эль Греко, Рембрандта. То, что их живопись, вопло-
щающая крупные и важнейшие тенденции эпохи, не могла стать
официально господствующей, обусловлено классовой борьбой то-
го периода, когда временную победу одержала абсолютная мо-
нархия и приспосабливавшаяся к ней — а вместе с ней и к тог-
дашней стадии развития капитализма — контрреформация. Есте-
ственно, именно по этой причине они тоже представляли по срав-
нению со средневековьем новую ступень в обретении внутренним
миром самостоятельности, но обретении, тщательно и утонченно
направляемом силами этого общественного строя, в то время как
у вышеупомянутых «аутсайдеров» новый внутренний мир прояв-
ляется в своей чистой форме. Мы не имеем возможности деталь-
но останавливаться здесь на этих противоположностях. Заметим
46
лишь, что \1ьетро Аретино обвинял позднего Микеланджело, по-
ложившего ь^ачало совершенно новому внутреннему миру в изо-
бразительных^ искусствах, в том, что свобода, которую тот себе
позволяет, может сыграть на руку лютеранству26.
ХарактерноХв этой связи замечание Ромена Роллана, пола-
гавшего, что именно такая форма подавления внутреннего мира,
проявляющегося ^открыто и по содержанию определенно, способ-
ствовала начинающемуся расцвету музыки. Эта констатация ис-
ходит из синтеза в музыке эмоциональной однозначности с воз-
можной интеллектуальной анонимностью, способного уберечь ее
от окольных путей, тупиков, конфликтов, компромиссов, траги-
ческих столкновений даже там, где для поэзии или изобразитель-
ного искусства все это было бы почти неизбежным. (Вспомним
о судьбе Рембрандта.) Поэтому самая глубокая музыка может
сопровождать придворные церемонии, официально-парадные
празднества, не понеся ущерба в главном — в чистоте выраже-
ния внутреннего мира. Поэтому же она может сочетаться с са-
мой что ни на есть закоснелой религиозностью, нисколько не
теряя в своей глубине, не измельчаясь, не выхолащиваясь из-за
такого объединения, ибо она — и только она! — способна апелли-
ровать непосредственно к чувственному содержанию истинно ре-
лигиозных текстов, поднимать их смысл до высот той субъектив-
ности, которая наилучшим образом отвечает духу времени. И при
этом совершенно не обязательно, чтобы объективно возникающее
здесь несоответствие превращалось в явное или скрытое кощун-
ство (как в сцене распятия у Брейгеля), чтобы новая интер-
претация— переосмысление мира религиозных чувств как совер-
шенно нетеологического, недогматического духовного мира — не-
избежно вела к конфликту художника со своим временем, со
своим окружением, как это произошло с поздним Рембрандтом.
Такое положение дел, весьма благоприятное для новой музыки,
проистекает из того, что своеобразная широта и своеобразная
ограниченность ее способа выражения (кстати, последняя не на-
несла никакого урона характеру музыки как «мира») благодаря
счастливому стечению общественно-исторических обстоятельств
совпадают с глубинными требованиями эпохи, причем тем силь-
нее, чем энергичнее музыка может развиться как средство выра-
жения обретающего самостоятельность духовного мира. Соци-
альное задание, таким образом, не только поощряет новую тен-
денцию в целом, но и влияет на усиление ее специфически «пер-
вопроходческих» черт. Речь идет именно о том, что впервые
появляется здесь на мировой сцене, то есть о духовном мире че-
ловека как «мире»-для-себя, как заключенном в себе космосе,
содержание которого объемлет все, что движет человеком извне,
все то, чем он отвечает на вопросы внешнего мира, обращенные
к его сущности, все вопросы, которые он сам ставит перед ним,
все победы его духа над этим миром и все его поражения. Само
собой разумеется, что при этом должны постоянно углубляться
47
чувственные отражения, а при их посредстве и возможности му-
зыкального воплощения интеллектуальной, мыслительной сторо-
ны человеческой жизни. Музыка из-за этого не «иктеллектуали-
зируется», но ее мир расширяется и обогащается/Создаваемый
ею космос эмоций охватывает действительно все,/что существует
и действует в духовном мире человека. Своеобразие такого кос-
моса заключается в том, что он формирует свои «мир» в той ме-
ре, в какой он отрешается от предметного мира; а точнее говоря,
этот последний, со всеми его следами, как тончайшими, так чл
грубейшими, как благороднейшими, так и извращеннейшими,
пребывает всюду и нигде. В данном противоречии нет ничего
удивительного; оно просто выражает тот факт, что музыка как
мимесис мимесиса нашла самое себя, конституировалась как
бытие-для-себя.
Такая форма может возникнуть только как результат глубин-
ных общественно-человеческих потребностей и только тогда, ког-
да она в состоянии выступить в качестве решающего способа их
удовлетворения. О подобной тенденции в обществе, а также в
других искусствах мы уже говорили. Если мы сейчас останавли-
ваемся еще на одном аналогичном явлении, то делаем это преж-
де всего для того, чтобы пролить свет на специфическую сущ-
ность музыки; речь идет о «Дон Кихоте». Новое в этом романе
с точки зрения мировой литературы заключается в том, что здесь
впервые внешний мир и внутренний, духовный мир человека про-
тивопоставляются как самостоятельно действующие враждебные
силы. Разумеется, постоянный рост силы и значения внутреннего
мира человека происходил и раньше; такая линия прослежива-
ется, скажем, от Данте к Ариосто. Однако в те времена удель-
ный вес духовной жизни человека непрерывно возрастал лишь в
контексте неразрывной связи человека с окружающим его миром.
Новаторство Сервантеса состоит в том, что его герой внутри
себя самого создает целый «мир» и воинствующе противопостав-
ляет его внешнему; что при каждом неизбежном фактическом
поражении он всякий раз вовлекает победоносного неприятеля
в этот созданный им самим внутренний мир, превращает его в
составную часть своей собственной устойчивой духовной жизни.
Разумеется, борьба заканчивается поражением Рыцаря Печаль-
ного Образа, который в конце концов отступает от своей химе-
рической «системы самообмана» и снова включается в нормаль-
ную действительность как нормальный человек. Вспомним, однако,
о той меланхолии, о том потрясающем катарсическом сожа-
лении, с которым читатель узнает об «излечении» героя. Конеч-
но, само по себе замкнутое пребывание только в собственном
внутреннем мире — это, в сущности, психология безумного. Но
трагикомедия Дон Кихота так глубока потому, что правота и
неправота внутреннего мира в ней точно уравновешены: если бы
его отрицание нового мира, приход которого грозил уничтоже-
нием рыцарства, не было при всем чудачестве глубоко справед-
48
ливым, еслк бы человечество на пути своего обновления не было
вынуждено сохранить в неприкосновенности, как свое неотъем-
лемое наследие, неверие Дон Кихота в оправданность, справед-
ливость этого Чювого мира, то он казался бы просто глупцом.
Тогда как на скмом деле он предстает воплощением оправдан-
ности, правомерности некоторых форм духовной жизни, противо-
поставленных простому, чисто внешнему ходу истории: «Victrix
causa dus placuit, vsed victa Catoni» [«Боги отстаивали дело по-
бедителей, Катон же — дело побежденных»]. Задумаемся далее
о том, насколько глубоко, вплоть до наших дней, эта совершенно
новая структура проникает в эпическую поэзию, каждый раз
проявляясь в новых формах, в новой по содержанию диалектике.
Если понимать форму в плане всемирно-историческом, а не кон-
структивном, можно сказать, что здесь перед нами — «модель»
музыки нового времени. Само собой разумеется, такую «модели-
рованность» не следует трактовать буквально. Ведь в поэзии не
просто реальный мир побеждает (в только что упомянутом смыс-
ле) фантазии, иллюзии — пусть даже исторически оправдан-
ные— чисто духовного мира, но и тот, и другой предстают в
плане образного воплощения, в неразрывной взаимосвязи. Мо-
делированность означает лишь на самое себя направленность,
самообоснованность, способность создавать свой мир, которой
наделено духовное, когда оно отражает реальные тенденции ис-
тории человечества, возможность связывать живущие в ней от-
ражения в некое — имманентное — столь же полное смысла един-
ство, как и то, которое предлагает человеку сама действитель-
ность.
Именно это может стать источником художественной чистоты
и совершенства музыки. Причем музыки не как некоей прими-
тивной или застывшей обособленности, самоизоляции от внешне-
го мира, а как в известной степени мировоззренчески обоснован-
ного полагания духовного мира в его бытии-для-себя, в котором
предметы, отношения, события объективной действительности
снимаются как таковые, сохраняясь лишь в виде неопределенной
предметности. Тем самым изменяются все акценты типичной для
нового времени судьбы Дон Кихота: то, что в соотношении ду-
ховного мира с окружающим его историческим миром общеисто-
рически оправданно (то есть предстает как нечто большее, чем
субъективно-частное), может беспрепятственно развиваться и
проявлять себя в музыке, полностью следуя своим имманентным
определениям, причем внешняя судьба духовного в его взаимо-
связи с исторической реальностью здесь более или менее, иногда
до неузнаваемости, приглушена. Однако это не означает несовер-
шенства музыкального единства формы и содержания. Напротив,
именно здесь кроются корни его всепобеждающей способности
даже при неблагоприятных обстоятельствах подниматься до под-
линного величия, увлекать, покорять, очаровывать даже тех, кто
обычно отгораживается от подобных явлений. Ибо миссия духов-
4—805
49
ного мира в жизни человеческого рода именно в том и состоит,
чтобы независимо от возможности практического осуществления,
независимо от исторических судеб притязаний, неоформленно
присутствующих в чувствах, то есть независимо от того, станут
ли они или нет жизненными требованиями дня /ли даже эпохи,
последовательно и неуклонно развивать это мироощущение до
уровня устойчивого и завершенного «мира». /
Без комментариев очевидно, что в силу приведенных причин
это возможно только в музыке. Она несет в себе глубочайшую
и всеохватнейшую истинность, ибо она выражает эти эмоции в
их первозданной чистоте и внутренней завершенности; в то же
время она абсолютно ирреальна, непосредственно совершенно
независима от сиюминутных требований социальной борьбы, ибо
тот мир реальных вещей и отношений, в рамках которого эти ве-
щи и отношения реализуются, растворяется в не*й или в крайнем
случае ощущается просто как намек, как мираж, встающий где-
то на горизонте. На этой почве формируется специфическая глу-
бина музыкального воплощения, происходит расцвет подобных
эмоций,, не сдерживаемый внешним миром, темпами и структурой
его развития и т. д. Однако влияния внешнего мира сводятся на
нет художественными средствами только как таковые, только
в их непосредственно-фактической действенности; ведь изначаль-
но они служат источником музыкально претворенных эмоций,
и эта новая посредующая система музыкально воспроизводит их
во всей первозданности их конкретно-данного бытия; по суще-
ству они являются его отображением. И музыка как отражение
таких отражений не может полностью устранить, аннулировать
их существенное внутреннее содержание, выступающее как опре-
деление самих эмоций, не может не учитывать того, что все не-
однократно предпринимавшиеся попытки такого рода приведут
лишь к разрушению ее собственных основ. Упомянутое выше
стирание, потускнение непосредственно воспринимаемой пред-
метности внешнего мира, впрямую воплощаемой всеми другими
искусствами, проявляется в музыкальном мимесисе эмоций толь-
ко как ее особая окрашенность, как ее своеобразное подчеркива-
ние, как ее специфическое эмоциональное содержание. Таким
образом, эта независимость есть независимость формальная, при-
чем форма может реализоваться только в том случае, если ее
содержание общественно-исторически значимо. Социальная судь-
ба последнего играет свою роль по всем параметрам творческого
формообразования, но именно только как обусловленный и огра-
ниченный формой духовный мир. Достаточно, пожалуй, указать
на резкое столкновение мечты о свободе с глубоко пере-
живаемым бесчестьем порабощенности в целом ряде ораторий
Генделя.
И рационалисты, и иррационалисты сходятся в том предубеж-
дении, что при подобном отделении, при подобной ориентирован-
ности на самих себя эмоции должны стать хаотическими; в дан-
50
ном случае^ несущественно, принимается или отрицается этот
хаос. Поскольку эмоции отражают существующую, внутренне
взаимосвязанную историческую упорядоченность мира, они тоже
опираются на -V иногда, впрочем, завуалированную — логическую
взаимосвязь, которая, однако, как мы видели, в действительно-
сти должна быть подчинена взаимосвязанности внешнего мира.
Только благодаря охарактеризованному здесь мимесису мимеси-
са в музыке возрождается, развивается до присущей ей завер-
шенности обычно вытесняемая, подавляемая логика эмоций; она
полностью реализуется имманентным ей образом только как
опосредованное отражение объективной действительности и как
прямой ответ на эту действительность. Такая реализация, есте-
ственно, не исключает самых резких противоречий; просто в рам-
ках этой гомогенной посредующей системы они имеют иной ха-
рактер, чем обычно в жизни. Они проявляются не столько в ви-
де антагонизмов между субъективностью и объективностью, как
в «Дон Кихоте», сколько преимущественно в облике имманент-
ной противоречивости самого внутреннего мира, причем в опре-
деленных случаях смутно, но все еще ощущаемое внешнее может
придать этой противоречивости специфическую окраску. Только
при таком понимании конечного объекта музыки наши прежние
полемические замечания относительно формализма, наш призыв
к сближению музыкального мимесиса с действительностью обре-
тают свой ясный смысл. На этой основе должна строиться и
внутренняя иерархия музыкального мимесиса с точки зрения
искусства в целом и с учетом своеобразия музыки. Выявляющая-
ся в отражении отражения духовная жизнь может охватывать
весь мир или быть сугубо частной, глубокой или поверхностной,
богатой или бедной и т. п.; вместе с -тем здесь получает свое
выражение то, какую действительность затрагивает музыкаль-
ный мимесис и как он это делает. Однако нужно отметить одну
особенность музыки: эстетическое преобразование целостного че-
ловека в цельного человека происходит здесь стремительнее, чем
в других искусствах; преддействие, проистекающее из реальной
жизни, чаще всего не выступает здесь как серьезное препятствие
на пути этого превращения; в свою очередь последействие ока-
зывается не столь содержательно определенным, менее ориенти-
рованным на какое-то определенное содержание. Таким образом,
музыка одновременно и ближе к жизни, и отдаленнее от нее, чем
другие искусства; она более непосредственно содержит в себе
категории этических решений и в то же время значительно менее
конкретно влияет на них; она более непосредственно захватыва-
ет и увлекает своих слушателей, но вместе с тем значительно
меньше обязывающа по характеру своего последействия. Часто
это совершенно особое положение музыки в системе искусств
затушевывается отождествлением ее субъективности с субъек-
тивностью лирической поэзии. При этом забывают, что даже
самое субъективное, полностью погрузившееся в эмоции лириче-
4*
51
ское стихотворение вынуждено непосредственно отражать — ра-
зумеется, средствами поэтического языка — определенные объек-
ты внешнего мира, что оно воплощает вызванные/этими объек-
тами эмоции в рамках системы их взаимоотношений как равно-
ценных компонентов, в то время как в музыке объекты внешнего
мира могут присутствовать только в качестве/неопределенной
предметности. Достаточно сравнить, скажем, действие стихов
Шелли с действием «Героической» или Девятой симфоний Бет-
ховена, чтобы ясно увидеть это различие, и особенно потому, что
все эти произведения были революционной реакцией на эпоху
после Французской революции. Большая затрудненность вос-
приятия таких стихов даже людьми, безусловно восторгавшими-
ся симфониями Бетховена, может служить иллюстрацией затро-
нутой нами особенности музыкального воздействия. Естественно,
здесь можно было указать лишь на наиболее общие черты свое-
образия этого воздействия, его категориального характера: ре-
альная конкретизация, равно как и философский анализ, отно-
сятся к теории жанров.
До сих пор мы рассматривали те всемирно-исторические си-
лы, которые привели к расцвету музыки как самостоятельного
искусства. Но у этого поступательного развития есть и свои чи-
сто художественные стороны, на которых мы, тоже не конкретно,
а лишь абстрактно-категориально, но все же должны остановить-
ся. Мы снова видим — и в иной связи с этим уже не раз сталки-
вались, — что каждое искусство есть продукт длительного обще-
ственно-исторического развития, а отнюдь не относится к врож-
денным, антропологическим (или даже онтологическим) свой-
ствам человека. Очевидно, что самостоятельность музыки нового
времени предполагает наличие высокоразвитого музыкального
«языка» как с точки зрения владения выразительными средства-
ми, так и в отношении готовности и способности их понимания.
То, что такого языка поначалу не существовало, вполне естест-
венно хотя бы потому, что объект, духовная жизнь человека,
«мир» человеческих эмоций сами по себе являются продуктом
этого развития. Поэтому вполне понятно, что мимесис, его изо-
бразительные формы и способность их восприятия не могли воз-
никнуть раньше, чем само явление. Трудности, связанные с про-
блемой генезиса музыки и ее понимания, тоже бросаются в гла-
за: мы не располагаем никакими документальными свидетель-
ствами относительно первой фазы развития музыки, как, ска-
жем, относительно первых орудий труда. Даже самые примитив-
ные из известных нам народов шагнули уже очень далеко вперед
в области музыки. Тем не менее следует сказать, что при той
очень тесной связи танца, пения и музыки, которая характерна
для относительно ранних стадий развития, было бы крайне ма-
ловероятно, чтобы на самых начальных этапах не существовало
еще более тесной их общности. Даже у столь высокоразвитого
в художественном отношении народа, каким были греки, Геор-
52
гиадес констатирует теснейшее переплетение музыки с танцем
и пением. «Ctjïxh Пиндара были не только музыкой, но и танцем,
они были не только «поэзией», не только «пением», но %opeUx.
(choreia), то есть «совокупностью танца и пения». Таково опре-
деление Платона («Законы» 654 В). У Аристотеля («Метафизи-
ка» 1087 Ь) один из фрагментов тоже показывает, что для греков
ритм был внутренне связан с чувством телесного, что он не мог
мыслиться сам по себе, абстрактно, как «только-музыкальное»
явление. В качестве примера единого для ритмической меры
Аристотель приводит стопу и слог. Ему, наверное, даже не при-
ходит в голову назвать в этом случае, скажем, «длительность»,
то есть чисто музыкальный элемент, как, вероятно, мы обозна-
чали бы какую-нибудь нотную величину, например четверть
или восьмую..., или даже некую абсолютную, абстрактную
временную величину по метроному»27. И Георгиадес считает, что
в V в. до н. э. с приходом «нового дифирамба» устанавливается
более свободная связь музыки с другими искусствами, против
чего резко протестовал Платон28. Конкретное определение и ха-
рактеристика этапов этого развития — задача специалистов. Ав-
тор не считает себя вправе выносить окончательные суждения
по таким вопросам. И тем не менее общие тенденции развития
на каждом из этапов говорят за то, что в целом оно шло от тес-
нейшей связи танца, пения и музыки к их постепенной дифферен-
циации, а с ней — и к подлинной самостоятельности музыки.
В плане наших философских рассуждений нужно подчеркнуть
следующее: во-первых, столь богатая и — относительно — для-се-
бя-сущая эмоциональная жизнь, которая выступает в этом своем
качестве как базис музыки нового времени, по существу, не мог-
ла не быть продуктом длительного исторического развития; во-
вторых, есть все основания полагать, что музыка — как мимесис
эмоций — первоначально сопровождала, в какой-то мере эмоцио-
нально комментировала первичный мимесис, мимесис жизненных
явлений, вызывавших эмоции, и в соответствии с собственными
потребностями упорядочивала и стилизовала их миметически не-
посредственно ясное представление (в танце и пении). Способ-
ность музыкального выражения эмоций и готовность к его вос-
приятию на протяжении этого длительного времени развивались
явно в неразрывном единстве, распространялись на все области
жизни, совершенствовались для выражения все более дифферен-
цированных эмоций и воспитывали восприимчивость к их тончай-
шим оттенкам и сложнейшим проявлениям. Когда же обществен-
но-историческое развитие дало возможность внутреннему миру
эмоциональной жизни вырасти до социально самостоятельной
жизненной силы, музыкальный мимесис эмоций смог объективи-
роваться как в-себе-сущее формообразование. Маркс писал: «Че-
ловечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно
может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда
оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда ма-
53
териальные условия ее решения уже имеются налицо, или, по
крайней мере, находятся в процессе становления»29;
Эта связь разных искусств — самая тесная и глубокая из
всех известных нам в сфере эстетического; в этом/отношении она
намного превосходит связь архитектуры со скульптурой и живо-
писью. Что касается танца, то именно для него она неразрывна,
тогда как словесное искусство уже довольно рано освобождается
от подобных абсолютных уз. Если же взглянуть на эти отноше-
ния с точки зрения музыки, то мы увидим, что ее направленность
на самое себя имеет вполне определенные внутренние границы,
то есть завоевание эстетической самостоятельности отнюдь не
подразумевает радикального отхода от любой связи с танцем и
пением. Можно было бы, очевидно, попытаться объяснить такие
связи на первых переходных стадиях чисто социальной обуслов-
ленностью, социальным заданием, усмотреть в »них нечто внеш-
нее, навязанное, независимо от того, носит ли такая обусловлен-
ность придворный или церковный характер (опера и балет, с од-
ной стороны, мессы, «страсти» и т. п. — с другой). Однако такое
понимание, если оно претендует быть исчерпывающим объясне-
нием, представляется поверхностным. Ведь мы видим, что, ска-
жем, в XIX и XX веках, когда музыка, подобно прочим искус-
ствам, переживает ослабление, иссякание социальной обуслов-
ленности, эти связи тем не менее не утрачивают своего значения
для ее развития. Даже в творчестве таких художников, как Шён-
берг и Стравинский, Барток и Альбан Берг, важную роль играют
опера, балет, кантаты и т. п., не говоря уже о песне, которая
именно теперь стала решающе важной в большом искусстве.
Этот феномен может вызвать самые различные истолкования,
в XIX столетии широко дискутировалась теория Вагнера о «син-
тетическом произведении искусства», а молодой Ницше даже
хотел, чтобы «из духа музыки» родилась трагедия. Мы полагаем,
что такие гипотезы сегодня можно спокойно считать окончатель-
но похороненными; греческие трагедии столь же мало были не-
ким «синтетическим творением», сколь и «музыкальные драмы»
самого Вагнера; первые были, в сущности, литературными про-
изведениями, при исполнении которых музыка играла (ныне уже
с трудом реконструируемую) вспомогательную роль, последние
же — это индивидуально специфицированная разновидность опе-
ры, один из этапов в развитии музыки. Но и совершенно проти-
воположное, чисто формалистическое объяснение, согласно кото-
рому композитор якобы просто использует тембр и другие свой-
ства человеческого голоса в целях, во всех остальных отношени-
ях имманентно музыкальных, замкнутых, изолированных от про-
чих сфер, и роль применяемых при этом вербальных средств
выражения как таковых совершенно несущественна, тоже не со-
ответствует действительному историческому развитию музыки
нового времени. Музыку «Волшебной флейты» так же невозмож-
но представить себе вне духовного содержания, вне атмосферы
54
исторических и человеческих судеб, как и «Воццека» Альбана
Берга или «Светскую кантату» Бартока.
Эта потрясающая притягательность, как по содержанию, так
и по форме, лучшей и величайшей музыки вопреки всем самым
радикальным изменениям социального заказа указывает посред-
ством слова, выступающего носителем конкретно духовного,
и посредством экспрессивного жеста на такие пласты взаимосвя-
занности, которые в каждом отдельном случае приводятся в дви-
жение конкретными общественными условиями и устремлениями,
но в то Же время коренятся глубоко в сущности музыкального
мимесиса. Мы имеем в виду специфическую форму неопределен-
ной предметности в музыке, охватывающую как раз то, что спо-
собны выразить слово и жест, а именно те данности внешнего
мира, которые вызывают эмоции, отражаемые затем в музыке.
Возникающее здесь соотношение, как мы видели [с. 18 и ел.],
в танце выступает совершенно ясно в своей непосредственной на-
глядности. В этом случае может возникнуть полное единство
эмоций и их внешнего выражения, которое на начальном этапе
было явно значительно более глубоким и всеохватывающим, чем
впоследствии; однако даже сегодня это единство ощутимо в тан-
цах восточных народов, у которых старые традиции оказались
более живучими, чем в Европе. Последующее развитие, естест-
венно, обнаруживает крайне расходящиеся тенденции. Во-пер-
вых, заурядные, посредственные танцы становятся все менее со-
держательными, менее выразительными; поскольку сопровож-
дающая их музыка вынужденно согласуется с этими тенденция-
ми, она все больше выпадает из сферы искусства. (При рассмот-
рении проблем приятного мы еще вернемся к этому вопросу.)
Во-вторых, танцевальные мотивы могут стать элементами чисто
музыкальных композиций. То, что при этом их ритмика и прочие
компоненты способствуют эвокации особого типа эмоций, то, что
в их неопределенной предметности могут пробудиться воспоми-
нания, отголоски специфической динамической насыщенности
«оригинала», ничего не меняет в том отношении, что такие те-
мы, мотивы являются для музыки мотивами, еще только пред-
назначенными для обработки, принципиально не отличающими-
ся от рожденных в других областях. Таким образом, в качестве
подлинной проблемы остается незатронутым только балет в уз-
ком смысле. В этой сфере настоящая музыка всегда была
устремлена к тому, чтобы снова создать на основе мимесиса со-
вершенно новых эмоций некое новое органическое единство ее
самой, языка жестов и языка танца. Судя по всему, проблемати-
ка этих устремлений сегодня заключается не столько в самой
музыке, сколько в направлении, которое выбрала для себя тан-
цевальная культура нового времени. Придворная опера создала
для своих вставных балетных номеров соответствующий — изы-
сканно-условный— выразительный язык движений, который еще
в XIX столетии, не говоря о современности, был непригоден для
55
того, чтобы преобразовать новые эмоции, получающие распро-
странение в музыке, в адекватный им мир жестов. В какой мере
эта ситуация отражается на музыке как таковой, могут судить
только компетентные специалисты; наша задача заключалась
лишь в том, чтобы в самых общих чертах представить эту про-
блему саму по себе.
Намного более сложной с теоретической точки зрения выгля-
дит связь слова и музыки, однако именно эта непосредственно
проявляющаяся осложненность, запутанность указывает путь к ее
принципиальному решению. Прежде всего следует вспомнить
о том, что говорилось в главе, посвященной сигнальной систе-
ме Г, относительно поэтического языка [см. т. 3, с. 146 и ел.],
а именно: этот язык непрерывно стремится снять абстрактное,
логическое содержание, заключенное в каждом слове, в каждом
предложении (язык как вторая сигнальная система). Снятие
следует понимать здесь во вполне определенном смысле: это
абстрактное содержание никоим образом так просто не уничто-
жается (иначе язык утратил бы способность однозначно опреде-
лять предметы). С одной стороны, оно всегда соотносится с
субъектом, то есть вынуждено не просто выражать предмет
вообще, но предмет в его чувственно-духовном своеобразии, в его
неповторимой взаимосвязанности с другими предметами, с людь-
ми, человеческими отношениями, и эти последние также постоян-
но и неразрывно связывать с определенной субъективностью.
(В лирике и эпосе последняя воплощается поэтом или писате-
лем, в драме же она всегда устанавливается непосредственно
через действующий в данный момент персонаж, через ансамбль
ее образов, то есть сам драматург выступает здесь лишь опосре-
дованно.) С другой стороны, такая антропоморфизация языка
создает равновесие между смыслом и чувственной ощутимостью
слов, часто даже с преобладанием последней; слова, предложе-
ния отходят от чистой понятийности, стремятся к представляемо-
сти, обретают специфическую, в своем роде исключительную и
тем не менее типичную тональность, ауру тех эмоций, которые
они вызывают и которыми они сами вызываются. Разумеется,
музыка обращается к такому поэтически трансформированному
языку; было бы, однако, недопустимым упрощением на этом
остановиться и полагать, будто одного поэтического языка до-
статочно, чтобы обеспечить музыке ту степень проясненное™ ее
неопределенной предметности, которая способствовала бы му-
зыкальному формообразованию, выступая в роли своеобразной
размерности, «пространства» между безусловно необходимым
минимумом и неким точно установленным максимумом. Есте-
ственно, здесь возможны исключения. Конечно, не случайно ве-
ликая немецкая лирическая поэзия от Гёте до Гейне могла слу-
жить вербальной основой песенного творчества периода Шубер-
та — Брамса в своем неизмененном виде. Но даже при предель-
но точном следовании окончательно сложившемуся поэтическому
56
тексту заметно, что музыка в своем претворении поэзии намного
превосходит ту ауру, ту духовную атмосферу, которые порожда-
ются созвучиями слов как таковых, и что — как раз в этом отно-
шении — есть много примеров, когда с поэтической точки зрения
совершенно посредственные стихи музыка окружает ореолом
вечных чувств. Так что и здесь на первый план выступает отра-
жение отображений в чистом виде. Даже самые выдающиеся
поэтические строки, как и все внешнее, служат здесь лишь пово-
дом; конечно, тем поводом, который в то же время обеспечивает
двойному мимесису большую внутреннюю конкретность. Впро-
чем, последняя в свою очередь может служить вербально-пояс-
няющей основой самой посредственной музыки.
Противоречие между художественной логикой слова и логи-
кой музыки, нуждающееся здесь в разрешении, вытекает, как мы
уже показали, из того, что музыка вынужденно основывается на
полном раскрытии чувств, в то время как в поэтическом, словес-
ном творчестве последние составляют лишь один из многих эле-
ментов и поэтому каждый раз обязаны подчиняться ходу целого,
действию и его диалектическому развитию. Поэтому в драме они
занимают место в тех же пропорциях (разумеется, при качест-
венном усилении интенсивности), что и в жизни, тогда как в му-
зыке их имманентное раскрытие может происходить безо всяких
ограничений. В мессе, оратории, кантате и подобных жанрах эта
противопоставленность организующих и направляющих принци-
пов слова и звука может теми или иными средствами сглажи-
ваться; лишь в опере этот гордиев узел должен быть разрублен.
Ибо в «Страстях», ораториях и т. д. Баха или Генделя из самой
задачи органически, как нечто само собой разумеющееся, выте-
кает, что все чувственные моменты соответствующей конкретной
действительности (независимо от того, какой они имеют харак-
тер сами по себе — эпический, лирический или драматический)
могут быть полностью раскрыты музыкальными средствами в их
ничем не ограничиваемой самостоятельности, без непосредствен-
ного соотнесения с предшествующим и последующим. Музыкаль-
но-духовное содержание какого-либо произведения как продуци-
рованной индивидуальности проявляется как раз в контрастах —
порой крайне резких — этого последования, когда ничто не вы-
нуждает сочетать чувственные моменты друг с другом как-либо
иначе, чем только в соответствии с настроением. В результате
самое широкое поле деятельности, обеспечивающее максималь-
ную свободу, предоставляется здесь специфически музыкальной
драматургии, и именно потому, что она совершенно не обязана
принимать в расчет общую драматическую композицию искус-
ства словесного. Значительно более сложна, труднее разрешима
и редко адекватно решаема эта проблема в опере. Вагнер эту
проблему еще больше запутал, причем с точки зрения музыки,
которая как раз и является единственно определяющей, его тек-
сты оказываются тем лучше, чем менее последовательно ему
57
удавалось реализовать выношенные им идеи. Старая итальян-
ская опера решала этот вопрос с наивной естественностью,
с беспрекословным подчинением действия, его перипетий, харак-
теристик, диалога и т. д. потребностям музыкального выражения.
Ромен Роллан дает ярко-живописную характеристику возникаю-
щей здесь ситуации: «Итак, у итальянской публики XVIII столе-
тия мы встречаем крайнее равнодушие к драматическому дей-
ствию, к пьесе: в этой гордой беззаботности относительно сюже-
та доходили до того, что играли второй или третий акт оперы
раньше первого... Но та же самая публика, пренебрегавшая дра-
мой в целом, приходила в неистовство от какого-нибудь отдель-
ного, не зависящего от действия момента. Это потому, что она
прежде всего лирически настроена, но в этом лиризме нет ничего
абстрактного, он выражает реальные страсти и частные слу-
чаи»30.
Слово «лиризм» должно здесь пониматься не педантично уз-
ко, а в максимально широком смысле. Ромен Роллан и источни-
ки, из которых он черпал сведения, подразумевают под ним то,
что в музыке составляет именно в музыкальном отношении самое
существенное, то, что мы называли полным раскрытием эмоций,
их строго логический порядок от проявления к проявлению, стал-
кивающийся здесь с их вербальной миросозидающей деятельно-
стью, с построением «мира» посредством слова. Резкий контраст
между тем и другим обнаруживается здесь по всем внешним и
внутренним параметрам, и прежде всего — уже в темпах формо-
образования. Хильдебранд, скульптор-классицист, стремившийся
к строгости формы, ясно выразил это в письме к Козиме Вагнер:
«Я не выхожу за рамки разных внутренних темпов, разделяю-
щих драматическое слово и музыку. Я это представляю себе
так: внутренние процессы, развитие, настроение и прочее может
прояснить всего одно слово... Ведь язык может быть невероятно
кратким, и чем лаконичнее, тем сильнее впечатление. С другой
стороны, тем не менее, нам для истолкования простейших внеш-
них явлений или действий нужна масса слов и времени. Музыка
же, симфоническая, представляет внутренний ход событий, саму
внутреннюю стихию, от начала до конца, виток за витком... Так
одна строка может породить симфонию... И тогда мы оказываем-
ся в каком-то ином временном мире, нежели тот драматургиче-
ский, который создается словом»31. Безусловно, эти мысли были
изложены Хильдебрандом совершенно независимо от Кьеркегора,
формулировавшего то же самое явление аналогичным образом
несколькими десятилетиями раньше: «Интересы драмы требуют
бурного действия, стремительного темпа. Чем больше драма про-
никнута рефлексией, тем неудержимее и стремительнее она про-
двигается вперед... Подобная спешка не заложена в существе
и характере оперы; ей свойственны некоторая неторопливость,
замедленность, спокойное и размеренное развитие во времени
и пространстве»32.
58
Если бы с этой точки проанализировать текстовую основу
других великих произведений музыки, то пришлось бы столк-
нуться—и нередко в более углубленной и концентрированной
форме —с той же проблемой. И. В. Видман описывает, как пред-
ставлял себе такую основу для задуманной оперной композиции
Брамс: «Прежде всего, переложение на музыку всей драматиче-
ской основы целиком, подряд ему казалось делом ненужным,
даже вредным и антихудожественным. В звуках должны быть
воплощены только кульминационные моменты и те места дей-
ствия, где музыке по самой ее сути действительно есть что ска-
зать. Тогда, с одной стороны, либреттист получает большую сво-
боду и простор для драматического развития темы, а с другой
стороны, композитору всякие обстоятельства не так мешают
жить чисто музыкальной направленностью его искусства, кото-
рая лучше всего была бы осуществлена, собственно, в том слу-
чае, если бы в какой-то определенной ситуации он мог со всей
страстью отдаться музыке, например получил бы возможность
самому сказать свое слово, которое вылилось бы в какой-
нибудь блестящий ансамбль. Напротив, было бы варварством
требовать от музыки, чтобы она на протяжении многих актов
непременно сопровождала в виде музыкального фона собствен-
но драматический диалог»33. Если вспомнить о тексте Бойто
для «Отелло» Верди, представляющем, на наш взгляд, луч-
шую переработку выдающейся драмы в либретто, способствую-
щее созданию музыки, то нетрудно уже в текстовых купюрах
обнаружить ту же тенденцию, что лежит и в основе требований
Брамса. Бойто решительно вычеркивает всю поэтическую исто-
рию зарождения любви Отелло и Дездемоны; лишь пригодные
для передачи лирических эмоций фрагменты включаются им
в большую любовную сцену в конце первого акта. Он последова-
тельно исключает и все, что относится к взаимоотношениям
Отелло с Венецианской республикой (многими комментаторами
этого драматургического шедевра оставляемые без внимания,
но объективно для трагедии в высшей степени важные), обра-
зующим нужный фон для взлета и крушения великой любви
в драме и пронизывающим все творение Шекспира от экспози-
ции до предсмертного монолога Отелло. Даже там, где Бойто
что-то использует из этого комплекса отношений, — скажем, ча-
сти потрясающего монолога Отелло, испытавшего утрату своей
веры в Дездемону, в котором герой и государственный муж под-
водит итог своей жизни и прощается с нею, зная, что теперь он
беспомощен и страстями своими обречен на гибель, — даже там
духовно-эмоциональная связь совершенно иная: в трагедии дан-
ный монолог — это передышка, последнее тревожное затишье
перед бурей, в опере он целиком вовлечен в поток страстей, раз-
жигаемых клеветой Яго, теряет всякую чувственно-духовную са-
мостоятельность34. Мы здесь не имеем возможности задержи-
ваться на других деталях, хотя та последовательность, с которой
59
их отбирает либреттист, сама по себе тоже очень интересна, на-
пример упрощение характера Эмилии и т. д. В основе этой по-
следовательности лежит цель свести широкий и объемный жиз-
ненный материал трагедии к истории любви двух человек так,
чтобы при самом необходимом минимуме носителей действия,
послужившего источником сюжета, исключительно в рамках го-
могенной посредующей системы эмоций и страстей, выплески-
вающихся и разыгрывающихся полностью, до конца, здесь нашел
бы выражение трагический поворот от безоглядно-восторженно-
го счастья любви в начале через неистовство ревности и отчуж-
дение друг от друга тех, кто еще недавно был так глубоко бли-
зок, к смерти и самоубийству.
Если с этой точки зрения проанализировать, скажем, «Вол-
шебную флейту» в ее связи с эпохой Просвещения, выводы ока-
жутся в принципе аналогичными. Диаметрально противополож-
ное отношение к тексту, когда одни считают его бессмыслицей,
другие же, наоборот, — воплощением глубокомыслия, снимается,
если вдуматься в то, что Моцарт, решительно отбрасывая все
прагматически-каузальные связи и мотивы, разрабатывает ис-
ключительно те моменты, где воплощенные в музыке важнейшие
эмоции, вызывающие—в духе эпохи Просвещения—столкнове-
ние сил света и тьмы, без труда находят свое выражение в самых
разнообразных оттенках — от пафоса до юмора. Принципиальная
обоснованность такого подхода коренится в специфической не-
определенной предметности музыки и является необходимым
следствием ее эстетической сущности как отражения эмоциональ-
ной целостности, то есть как мимесиса какого-то мимесиса. По-
этому неудивительно, что история музыки порождает бесконеч-
ное богатство эмоциональных градаций, являющихся результатом
двойного отражения объективного мира и демонстрирующих
диапазон этой их соотнесенности с последним, простирающийся
от внешне полной неопределенности до тех определенностей, чьи
внутренние границы мы пытались обозначить в наших предыду-
щих рассуждениях. Подобное обращение к определенности
(крайне относительной) путем вовлечения в музыку слова и же-
ста было бы эстетически невозможно, если бы оно означало
ничем не опосредованный разрыв с музыкой как искусством,
ориентированным исключительно на самое себя. Но об этом не
может быть и речи. В соотнесении с настоящей, чисто музыкаль-
но оформленной предметностью весь этот ряд оттенков неопреде-
ленной предметности не обнаруживает никаких различий: одни
и те же — разумеется, музыкально-исторически развивающиеся и
изменяющиеся — эстетические законы музыкальной организации
одинаково проявляются во всей области. Встречается немало
случаев относительно конкретизированной неопределенной пред-
метности в бестекстовой, чистой музыке, где четко прослежива-
ется родство внутренней структуры с вышеприведенными прин-
ципами. В качестве примера можно привести хотя бы «Фауст-
60
симфонию» Листа. Здесь решительно отбрасывается вся драма-
тургическая канва литературного оригинала, и тем не менее
квинтэссенция поэтического содержания, переданного музыкаль-
ными средствами, сохраняется благодаря тому, что вызываемые
основными персонажами эмоциональные отражения конденсиру-
ются в музыкальные портреты Фауста, Гретхен и Мефистофеля,
выражающие различные оттенки настроения. Такая последова-
тельность порождает музыкально-динамическое нарастание, на-
гнетающее пессимистическую атмосферу, которая затем разря-
жается заключительным хором. Поскольку таким путем в неоп-
ределенной предметности стремятся проявить себя важные мо-
менты духовного содержания, лежащего в основе любого про-
изведения, эту проблему нельзя считать безразличной и для раз-
вития музыки как таковой. В то же время следует, однако, осо-
знать, каким образом и в какой мере оно определяет эстетиче-
ский характер произведений. Из вышеприведенных рассуждений
само собой вытекает, что с этой точки зрения невозможно по-
нять стиль какого-то периода, индивидуальность того или иного
художника, этапы его творческого пути. На первый взгляд ка-
жется, что различия в степени ясности, четкости очертаний неоп-
ределенной предметности имеют значение для характеристики
жанров в музыке. Правильно ли это, автор компетентно судить
не может. Против говорит то, что рассматриваемое здесь диф-
ференцирование распространяется и на те музыкальные произ-
ведения, которые для выражения их неопределенной предметно-
сти вовсе не нуждаются в связи со словом или жестом. Начав
с серьезно продуманных, художественно обоснованных называ-
ний отдельных произведений, направленных на определение
специфики музыкально отраженных и преобразованных эмоций
(«Героическая», «Пасторальная», «Аппассионата» и т. д.), это
движение пошло так далеко, что в XIX веке сформировалось как
особое направление, а именно — программная музыка.
Но и здесь «программа» так же не может служить базисом
эстетической' оценки, как и иконографическая расшифровка в
изобразительных искусствах (даже с учетом различия этих про-
блем в обоих искусствах). И в том, и в другом случае эстетиче-
ское содержание произведения должно быть — аудитивно или
соответственно визуально — ясным, глубоким, богатым, ориги-
нальным, внутренне дифференцированным и т. д., должно полно
и основательно выражать имманентный ему смысл совершенно
независимо от того, согласуется ли он и насколько с заданным
в программе или иконографии значением. Однако такое утверж-
дение если и правильно, то только лишь абстрактно. В другой
связи мы уже указывали [см. т. 2, с. 140 и ел.] на то, что иконо-
графически заданная тематика — конкретно опосредованная свое-
образием общественно-исторического социального запроса, лич-
ностью художника и т. п. — может оказывать серьезное влияние
на художественные принципы композиции, а потому отнюдь не
61
безразлична для чисто эстетического понимания произведения.
Аналогичная ситуация — разумеется, с соответствующими по-
правками— существует и в музыке. И прежде всего потому, что
хотя для правильного осознания различий искусств было необ-
ходимо отделить друг от друга точно и четко определенную и не-
определенную предметности, однако та и другая как в процессе
возникновения, так и в воздействии произведения неразрывно
связаны друг с другом. Все, что в неопределенной предметности
более или менее конкретизируется как содержание, интенсив-
ность, направление и другие параметры музыкально отраженных
чувств, несомненно, играет решающую роль в выстраивании му-
зыкальной композиции. И поскольку в этой последней неопреде-
ленная предметность всегда и во всем связана с определенной,
может проявиться только через нее и в ней, то в плане конкрет-
но-эстетическом они практически неотделимы двуг от друга.
Правда, при чисто формалистическом подходе к музыке не-
определенную предметность могут счесть несущественной, просто
следствием случайных ассоциаций при прослушивании произве-
дения; но это свидетельствует лишь о том, что сугубо психологи-
ческое понимание художественных процессов весьма проблема-
тично. Ибо с формально-психологической точки зрения эмоцио-
нальное содержание переживаний музыки есть всего лишь ассо-
циация «в связи» с произведением. Вызвана ли она чисто слу-
чайно или заложена в глубинах самого произведения — это уже
вопрос содержания. Даже самые серьезные расхождения в ин-
терпретации содержания выдающихся музыкальных творений не
дают убедительного доказательства подобного рода нигилизма
по отношению к формулируемому содержанию. Ибо при тща-
тельной проверке обнаружилось бы, с одной стороны, что рас-
хождения здесь ненамного значительнее и радикальнее, чем
в других искусствах; достаточно вспомнить о различных понима-
ниях произведений Леонардо или Микеланджело, Эль Греко или
Рембрандта; даже в литературе, где содержание зафиксировано
с помощью слов и, казалось бы, однозначно, толкования, ска-
жем, «Гамлета» или «Фауста», разумеется, не более однозначны
и не больше совпадают друг с другом, чем интерпретация сочи-
нений Баха, Моцарта или Бетховена. С другой стороны, разли-
чия в содержании рецептивного акта заложены в сущности вся-
кого эстетического воздействия. Поскольку каждый раз по-ново-
му воспроизводимый момент общепричастности, tua res agitur,
выступает как важный критерий неизменной жизненности, «веч-
ной молодости» творений искусства, расхождения в пострецеп-
тивных формулировках содержания (а вместе с тем и формы)
принципиально неизбежны. В какой мере при этом будет достиг-
нут прогресс в объективном понимании и какие существуют для
этого критерии, эти вопросы могут конкретно рассматриваться
отчасти при типологическом анализе видов эстетической практи-
ки, отчасти в историко-материалистическом разделе эстетики.
62
Эта взаимосвязанность — при всей понятийной и практически-
рецептивной разделенности — определенной и неопределенной
предметностей в музыке приводит к тому, что достоверные, бо-
лее или менее четко выраженные указания на глубинное, истин-
ное эмоциональное содержание какого-то произведения могут
способствовать и его чисто художественному пониманию. Слово
«могут» должно быть при этом подчеркнуто, так как всякое ме-
ханическое преувеличение таких указаний или комментариев бу-
дет иметь обратный эффект: истинное содержание, подлинный
мир форм останутся незамеченными. В каждом отдельном слу-
чае о степени точности в использовании подобных указаний поз-
воляет судить только — инстинктивное или воспитанное общей
музыкальной культурой — чувство меры, поскольку объективно
степень определенности неопределенной предметности в разных
произведениях (даже одного и того же автора) может быть очень
различной. Поэтому можно утверждать, что всякая неопределен-
ная предметность является таковой в каждом случае только не-
ким точно определенным образом. Но эта определенность изна-
чально наличествует лишь в сфере чистых эмоций, хотя ее содер-
жание может охватывать все сферы — от общечеловеческих
чувств до индивидуально-личностных аффектов или настроений.
Поэтому при переведении на вербально-понятийный уровень она
очень легко может деформироваться в искажающую смысл
сверхопределенность или в гипостазированную неопределенность.
Но в связи с этим изначальная определенность отнюдь не стано-
вится иррациональной: ее переживание (а также трансформиро-
ванные показания о ней) может приблизиться к ней так же, как
и в любом другом искусстве, и приводимые композитором более
точные определения, к числу которых относятся и программы,
могут здесь, как и в других искусствах, способствовать этому
процессу приближения, придать ему соответствующее направ-
ление.
Тем самым мы затрагиваем в последнее время часто возни-
кающую проблему: имеем ли мы право, не отступая от здравого
смысла, говорить применительно к музыке о реализме и его про-
тивоположностях? Сам по себе этот вопрос нередко запутывается
неверным и чуждым музыке приложением данного понятия. Мы
вовсе не имеем в виду тех, кто в непосредственном — «жизненно
достоверном» или «далеком от жизни» — отражении единичных
явлений ищет критерий реализма в музыке. Совершенно ясно,
что сущность последнего не имеет абсолютно ничего общего
с такого рода «похожестью» или «непохожестью» деталей. Зна-
чительно более серьезны те точки зрения, которые — как это
встречается у отдельных догматичных защитников социалисти-
ческого реализма — возвышают так называемую «основную»
идею произведения до уровня абстрактной всеобщности, рассчи-
тывая найти критерий музыкального реализма в истинности или
неистинности этой идеи. Однако при этом неопределенная пред-
63
метность музыки получает недопустимое и потому искаженное
осмысление. Ибо хотя безусловно возможно (и даже необходи-
мо) формулировать содержание неопределенной предметности
понятийно, абстрактно, очевидно, что такое обобщение — чтобы
оставаться верным объекту — должно иметь четкие границы в
каждом искусстве, и прежде всего в музыке, где, как мы видели,
уже в определенной предметности происходит более сильное сти-
рание, более полное снятие общего, чем в формообразовании,
присущем, например, словесному искусству. Так что дальнейшее
мысленное обобщение легко может заблудиться в сферах, уже
совсем или почти совсем не связанных с той конкретной музы-
кой, которую оно намеревалось объяснить; и, разумеется, тем
безнадежнее, чем больше это обобщение базируется даже не на
самом произведении, а на отдельных внешних проявлениях и вы-
сказываниях его автора. Поскольку эта тенденция имеет более
широкие круги приверженцев, чем упомянутая выше догматиче-
ская, проиллюстрируем ее некоторыми высказываниями Адорно
о Бартоке. Исходя из заявлений художника о его связи с народ-
ным искусством, Адорно находит ее «странной и удивительной»
для человека, который «как личность неуклонно противостоит
всем „народным" соблазнам и искушениям». Укоренение в
народном искусстве трактуется здесь столь абстрактно, что это
уже чревато опасной близостью с фашистским понятием «народ-
ного», и из этого должен быть «сделан вывод» об отходе Бартока
от музыкального авангарда35. Можно понять, когда со стороны
формалистов на подобного рода абстрактные толкования неопре-
деленной предметности реагируют полным непризнанием за ней
какого бы то ни было понятийно постижимого содержания; при
этом само собой разумеется, что психологическая оправданность
таких реакций отнюдь не компенсирует отсутствия в них объек-
тивной истинности.
Всем этим ложным отклонениям следует и в музыке противо-
поставить свое tertium datur. Исходя из формы, найти такое ре-
шение в принципе не сложно, что, однако, во всех отношениях
отнюдь не означает, будто бы его конкретная реализация не
встретит никаких затруднений. Ведь уже само существование
звуковых элементов в музыке — от простейших интонаций и ме-
лодий до изощреннейших гармоний — при каждой попытке их
истолкования указывает на глубину или поверхностность, все-
охватную широту или мертвящую узость тех чувств, которые
включаются в двойной мимесис музыки как отражения отраже-
ний событий внешнего и внутреннего мира. Так что если даже
на этом уровне верный анализ какого-либо музыкального произ-
ведения состоит в прослеживании постоянного взаимоперехода
содержания и формы, то тем более мы можем говорить об этом
при рассмотрении произведения в его целостности. Никакое тол-
кование неопределенной предметности не может быть плодотвор-
ным и точным, если его незыблемую основу не составляет нераз-
€4
рывная «сращенность» неопределенной предметности с опреде-
ленной, органически необходимое произрастание ее из этой по-
следней. Для того чтобы с методологических позиций до конца
пояснить эту — саму по себе очевидную — мысль, приведем в ка-
честве примера заключительные слова Серенуса Цейтблома к
«Апокалипсису» Адриана Леверкюна в «Докторе Фаустусе» То-
маса Манна. Он говорит, что эта пьеса «написана под знаком
того парадокса (если это парадокс), что диссонанс выражает
в ней все высшее, серьезное, благочестивое, духовное, тогда как
гармоническое и тональное отводится миру ада, в данной связи,
стало быть, миру банальности и общих мест». И если мы приме-
ним подобный подход к творчеству Бартока, то станет ясно, что
основное содержание неопределенной предметности его произве-
дений (понятой в вышеуказанном смысле)—это борьба гуман-
ного с берущей верх силой античеловеческого в период возник-
новения и затем прихода к власти фашизма. Нетрудно также
увидеть, что истоки живущего в Бартоке противодействия, кото-
рое может вырасти до провозглашения антагонизма естествен-
ного и противоестественного, следует искать как раз в его связи
с народом. Однако эту борьбу нельзя, как это делает Адорно,
возводить на уровень абстрактной понятийности и затем проеци-
ровать на злободневные политические вопросы. Из текста «Свет-
ской кантаты», где парадоксально-трагическим образом вопло-
щается глубочайшее отчаяние Бартока, было бы легко и слиш-
ком соблазнительно сделать поспешные и абстрактные выводы
о его отношении к народу и природе; однако сама музыка здесь
высказывает — не противореча словам — нечто более глубокое и
мудрое. В пении сыновей, превратившихся в оленей и резко от-
вергающих призыв вернуться домой, к отцу с матерью, возвра-
титься в мир людей, в этом «нет» существованию сегодняшнего
человека передано — музыкальными средствами! — больше ис-
тинного vox humana, чем в родительском крике тоски. Здесь че-
рез художественное начало постигается противоположность Бар-
тока модернистскому леверкюновскому типу творца, то обраще-
ние к народу и природе, которое лежит в основе его творчества.
(То, что автор не в состоянии конкретизировать свое отношение
к этой неопределенной предметности на том эстетическом уровне,
который доступен Томасу Манну, свидетельствует лишь об огра-
ниченности его личных возможностей, но никак не снимает саму
проблему.)
Следовательно, чем строже требование понимать музыку в
границах специфического своеобразия ее определенной и неопре-
деленной предметностей, тем более родственными представляют-
ся общие критерии реализма в музыке с критериями в других
искусствах. Ведь и тот, кто с художественной непосредственно-
стью воспроизводит непосредственную предметность внешнего
мира, стремится — именно с точки зрения эстетического реализ-
ма— не к простому или даже фотографически точному отобра-
5-805
65
жению явления, а к наглядному подтверждению того совпадения
явления и сущности, которое происходит в этом последнем в
рамках новой непосредственности соответствующей гомогенной
системы, делая его одновременно и в большей мере близким к
жизни и далеким от нее. Упомянутый нами формальный подход
к музыке представляет собой специфическую реализацию этого
принципа. Еще отчетливее выступает эта связь в структуре, в ха-
рактере содержания, эвоцируемого конкретной целостностью
каждого произведения. Реалистичность его характера констати-
руется в зависимости от того, насколько глубоко и метко, на-
сколько объемно и верно оно в состоянии воспроизвести и обо-
значить проблемы, связанные с индивидуальными и исторически-
ми условиями его возникновения, в перспективе их устойчивого
значения для развития человечества. Разумеется, все те конкрет-
ные моменты, посредством которых раскрываются эти принципы
в отдельных искусствах и даже в конечном счете в отдельных
художественных произведениях, качественно отличны друг от
друга как в структурном, так и в содержательном отношениях.
Однако именно в этих различиях реализуется — в соответствии
с неоднократно отмечавшимся плюралистическим характером
эстетической сферы — эстетическое единство главнейших прин-
ципов. И в этом смысле мы, резко возражая против широко рас-
пространенных взглядов, полагаем, что можно с полным пра-
вом говорить о реализме в музыке.
Нам кажется важным подчеркнуть сходство музыки в таких
вопросах с родственными ей искусствами. Именно здесь ее спе-
цифический характер становится более отчетливым. При этом он
отнюдь не вступает — как это происходит у Шопенгауэра и
Ницше — в чрезмерное противоречие с соседними искусствами.
Такое разъяснение представляется необходимым прежде всего
в связи с воздействием музыки, с ее местом в жизни человека.
В общем изложении учения об отражении мы указывали на ка-
тарсис как всеобщую категорию художественного воздействия.
Если теперь мы еще раз вернемся к этому вопросу в специфи-
ческой области музыки, мы обратимся к древнейшим и лучшим
традициям; еще Платон и Аристотель очень обстоятельно рас-
сматривали этическое и потому социально-педагогическое значе-
ние музыки, а вместе с тем подчеркивали ее катарсическую дей-
ственность— именно в близком нашему расширенном понима-
нии— не меньшую, чем, скажем, у трагедии. Таким образом,
в самой общей формулировке катарсис означает, что отображен-
ный феномен или группа феноменов, сохраняя внутреннюю жиз-
ненную правду, перерастают тот уровень, который вообще дости-
жим в повседневной жизни. Говоря об этом возвышении — по-
средством эстетического мимесиса — над нормально-человечески
достижимым, мы все же должны осознавать, что речь здесь идет
тем не менее лишь о самом внешнем осуществлении вполне опре-
деленных человеческих возможностей, а не о фокусе «избавле-
66
ния» в некоей трансцендентности. Катарсис состоит как раз в том,
что человек утверждает самое существенное в своей собственной
жизни, обнаруживая его с помощью волшебного зеркала худо-
жественного изображения, которое потрясает и посрамляет его
своим величием, показывает всю шаткость, половинчатость, не-
способность к самосовершенствованию его собственного обыден-
ного существования. Катарсис есть переживание подлинной дей-
ствительности человеческой жизни, сравнение которой с повсе-
дневной жизнью вызывает очищение страстей под воздействием
художественного произведения, приводящее их на уровне его
последействия в сферу этического.
Музыка и по своему катарсическому действию отличается от
других искусств тем, что не взаимоотношения внешнего и внут-
реннего миров человека, не объективно отраженные конфликты
или катастрофы этих взаимоотношений вызывают освобождаю-
щее, избавительное потрясение, а скорее действующий в ней ми-
месис мимесиса без явного соотнесения с событиями жизни де-
лает возможным — субъективно обычно недостижимое — раскры-
тие эмоций во всей их полноте. Поэтому сравнение, имманентно
заключенное в переживании произведения и осознаваемое на
стадии его последействия, направлено исключительно на внут-
ренний мир человека, который раскрывается, обретает интенсив-
ность самым неожиданным, непредсказуемым образом; таким
образом, степень переживаемости внутреннего мира в художе-
ственном произведении резко отличается от внутренней жизни
человека в повседневности. Именно поэтому здесь освобождение,
потрясение сильнее, глубже, чем в других катарсических воздей-
ствиях; увлеченность новым миром, самозабвенная преданность
ему может быть намного безусловнее, чем где бы то ни было.
Но как раз поэтому переход к последействию значительно труд-
нее. Поскольку в данном случае переживается нечто такое, что
в обычных условиях вообще не может быть пережито — то есть
происходит не просто усиление уже наличествующих, хотя и бо-
лее слабых и рассредоточенных переживаний, как в других ис-
кусствах,— то «применение» к жизни, переведение эстетического
катарсиса в плоскость его этических последствий, в выводы для
жизнедеятельности оказывается значительно более трудным.
Этот комплекс проблем мы обсуждали в связи с катарсисом во-
обще [см. т. 2, с. 425 и ел.]. Многозначность катарсиса предопре-
делена не противодействующими факторами, а отсутствием — до
известной степени — у самих эмоций определенной направленно-
сти вне однозначной основы в объективном мире, равно как и их
интенционированностью на вполне неопределенные предметы.
Рассмотрение музыки XIX—XX веков четко выявляет эту
проблематику музыкального катарсиса. При этом становятся
понятными и ничем не ограниченный, некритический энтузиазм
Шопенгауэра, и метания между безоглядной увлеченностью и
глубоким неверием у Кьеркегора или Ницше. Выдающиеся писа-
5*
67
тели XX века, тесно связанные с музыкой, часто очень образно
выражают эту раздвоенность музыкального катарсиса. В «Док-
торе Фаустусе» Томас Манн весьма основательно занимается
этой проблемой, и, хотя в конечном счете он говорит о трагиче-
ском состоянии всего искусства своего времени в целом, все-таки,
безусловно не случайно именно музыка становится у него пред-
ставительницей этого глубокого разлада. В одном из своих вы-
ступлений, говоря о Германии, Томас Манн утверждает: «Музы-
ка — область демонического; Серен Кьеркегор, выдающийся хри-
стианский мыслитель, убедительнейшим образом доказал это
в своей болезненно-страстной статье о «Дон Жуане» Моцарта.
Музыка —это христианское искусство с отрицательным знаком.
Она точнейше расчисленный порядок и хаос иррациональной
первозданности в одно и то же время; в ее арсенале заклинаю-
щие, логически непостижимые звуковые образы — и магия чисел,
она самое далекое от реальности и в то же время самое страст-
ное искусство, абстрактное и мистическое»36. И Герман Гессе
вкладывает в уста героя романа «Степной волк» слова: «Вместо
того чтобы... прислушаться к интеллекту, к логосу, к слову, мы,
люди интеллигентные, все сплошь мечтаем о языке без слов,
способном выразить невыразимое, высказать то, чего нельзя вы-
сказать. Вместо того чтобы как можно верней и честней играть
на своем инструменте, интеллигентный немец всегда фрондиро-
вал против слова и разума, всегда кокетничал с музыкой». Не-
сомненно, такие рассуждения вызваны непосредственно события-
ми общественно-исторической жизни Германии; однако их пря-
мое отношение к музыке отнюдь не случайно, напротив — выра-
жает особую проблематику музыкального катарсиса в такое вре-
мя, которое, с одной стороны, требует от людей высочайшей чет-
кости нравственных критериев, а с другой стороны, поднимает
до небывалых высот колдовскую власть неопределенности му-
зыки.
Первые намеки на подобную проблематику ощущаются уже
в замечаниях Платона и Аристотеля (при всем различии их кон-
цепций); единство и расхождения их взглядов в большой степени
определяются их представлением о том, какая музыка отражает
какие этические чувства, какие нравственные качества, тем са-
мым пробуждая их в слушателе. Музыка нового времени с ее
беспредельным — как экстенсивным, так и интенсивным — рас-
ширением сферы эмоций (что, само собой разумеется, является
в первую очередь художественным выражением развития обще-
ственной жизни) в масштабах, ранее совершенно немыслимых,
превращалась в орудие индивидуальной, а тем самым и частной
жизни. Мы не имеем здесь возможности даже бегло обрисовать
это развитие само по себе с его радикально новыми чертами по
сравнению с античностью и средневековьем. Нам здесь важны
лишь его последствия для музыки. Ибо частный человек, инди-
вид как таковой и в объективно социальном плане, и, следова-
68
тельно, как субъект музыки имеет два лица: с одной стороны,,
в его судьбе выражается судьба эпохи, распад старых, непосред-
ственно действующих социальных общностей, в рамках которых,
отдельный человек в качестве их члена принимал участие в жиз-
ни всего общества; с другой стороны, человек, выступающий как
частное лицо, проживает свою жизнь-для-себя в мнимой незави-
симости от участи общества в целом; его мысли, действия, эмо-
ции, казалось бы, не поднимаются над уровнем этого бытия, не
выходят за его рамки. Революции XVIII столетия — после дли-
тельных подготовок в общественном бытии и сознании людей —
произвели в каждом человеке подлинное отделение человека от
гражданина. Молодой Маркс правильно показал, что «человек»
в декларациях прав человека, провозглашавшихся в революци-
онные периоды, был в конечном счете буржуа, человеком капи-
талистической формации, буржуазного общества. «Но право че-
ловека на свободу основывается не на соединении человека с че-
ловеком, а, наоборот, на обособлении человека от человека.
Оно — право этого обособления, право ограниченного, замкнуто-
го в себе индивида»37.
В связи с этим высвобождение мира эмоций человека в му-
зыке, их полное проявление в ней — одновременно и неограни-
ченное, и организованное в плане реализации — должно выра-
зиться двумя способами. Музыка может освободить все эмоции,
приведя их к конечным следствиям, проистекающим из все более
осложняющихся, все более трагических условий жизни в капита-
листическом обществе, когда сама жизнь в этой формации сдер-
живает такие эмоции, сковывает, искажает; музыка может рас-
крыть их так, чтобы на этом уровне, именно в их музыкально
очищенном, гомогенизированном воплощении стала ощутима
теснейшая, пусть даже глубоко скрытая связь этих обреченных
на изоляцию эмоций с жизнью, с развитием, с борьбой и надеж-
дами, с отчаянием и перспективами рода человеческого. Это —
тот своеобразный, по своей интенсивности ранее неведомый ка-
тарсис, который способен зажечь, увлечь за собой музыку нового
времени. Однако из той же самой общественной ситуации и ее
влияния на музыку вытекает и совершенно противоположный
тип раскрепощения эмоций. Так как частный индивид вследствие
своей непосредственной направленности на самого себя в плане
эмоциональном погружен в чисто частное, то акт освобождения,
предоставления внутренней жизни условий для самопроявления
может реализовать, воплотить именно эту вновь возникающую
партикулярность. Поэтому суггестивные средства музыки, кон-
центрация ее гомогенной посредующей системы на сущем-в-себе
внутреннем мире, который здесь миметическими средствами вы-
плескивается наружу, могут эвоцировать и раскрепощенность, са-
модостаточность чистой партикулярности. При этом возникает
прямая противоположность катарсису: то есть иными средствами
труднодостижимое примирение частной, партикулярной индиви-
.69
дуальности с самой собой за счет формально — но только фор-
мально!—привилегированной, возвышенной музыкальными сред-
ствами исключительности эмоционального, за счет абстрагирова-
ния от любого мешающего внешнего мира, за счет суггестивного
фиксирования и нивелирования эмоций на уровне самой зауряд-
ной, посредственной партикулярности.
Разумеется, такая противопоставленность возникла в самой
жизни, а в музыке она получает лишь свое максимально четкое
и сильное выражение. Обнаружившееся здесь расхождение пу-
тей сформулировал уже в середине прошлого века Ибсен в своем
«Пер Гюнте», противопоставив моральную заповедь «Самим
будь собой, человек!» «категорическому императиву» троллей:
призыву довольствоваться собою самим. Мы спокойно можем
здесь оставить без внимания те возражения против этой формули-
ровки, которые проистекают из индивидуалистических иллюзий
Ибсена; символ веры тролля как противоположность кредо чело-
века постоянно мелькает в широком потоке современной авангар-
дистской литературы. Что касается музыки как таковой, то мы
самым отчетливым образом можем наблюдать на том этапе му-
зыкальной истории, который простирается от романтизма до на-
ших дней, как музыкально выразительные средства соскальзыва-
ли от общечеловеческого к партикулярному, от катарсиса к са-
моудовлетворенности сиюминутно данной чувственной жизнью,
от предельно обостренной самоосознанности к гипнотически-
одурманивающей самоотрешенности. (Так как идеологическое
развитие при социализме, особенно в области духовной жизни
человека, происходит гораздо медленнее, чем это представляется
в нетерпеливых декретах догматиков; так как искажение марк-
систско-ленинского мировоззрения в сталинский период и после-
довавшее в результате сужение радиуса действия реального
влияния этого мировоззрения на людей еще больше замедлили
данное развитие, то рождающаяся в социалистическом мире му-
зыка обнаруживает — разумеется, в различных по содержанию
вариантах — тот же самый дуализм. Духовно незрелое и необду-
манное противодействие этому в ревизионизме имеет следствием
признание самых негативных явлений музыки капиталистиче-
ского мира.)
В целом весь этот комплекс проблем может обсуждаться
здесь, разумеется, только с принципиально эстетических пози-
ций. Задача специалистов — выявить переакцентировку в выра-
зительных средствах: скажем, определить, как мелодии, аккор-
ды, созвучия и т. п. переходят из одной сферы в другую и приоб-
ретают в новом окружении часто диаметрально противоположное
значение. К отдельным принципиальным вопросам такого рода
мы вернемся в последнем разделе этой главы, где будет рас-
сматриваться категория приятного в ее отношении к эстетиче-
скому [с. 183 и ел.]. Завершая наши предшествующие рассуж-
дения, обратимся к вопросу о связи «миросозидающего» харак-
70
тера искусства с преодолением партикулярности субъекта. Этот
вопрос мы обсуждали выше в общем плане [см. т. 2, с. 203 и ел.];
теперь же его нужно лишь вкратце конкретизировать в прелом-
лении к специфическим проблемам музыки. Тот неоспоримый
факт, что каждое подлинное музыкальное произведение создает
некий «мир», является глубоким эстетическим основанием для
отказа как от любого формалистического подхода к музыке, так
и от тех теорий, которые усматривают в ее переживании псевдо-
мистическое слияние слушаемого с услышанным. Сильнейшее
воздействие музыки заключается именно в том, что она погру-
жает воспринимающего в свой «мир», заставляет жить в нем и
переживать его; но и при самом глубоком проникновении, при
самом полном высвобождении эмоций речь всегда идет о «мире»,,
который противостоит личности, «Я» воспринимающего как
«мир», отличающийся от него и именно в этом своем специфиче-
ском отличии для него важный. Характер музыкального произве-
дения как в-себе-сущего «мира» формируется содержанием му-
зыки: самоценной целостностью проявляющих себя в ней эмоций..
Только если эти эмоции существенны с общечеловеческой точки:
зрения, только если музыка способна до конца, без всяких огра-
ничений, раскрыть пробужденные ею эмоции — может возник-
нуть ее «мир» в художественном смысле. Последовательность,,
оригинальность, смелость, целостность формотворчества рож-
даются в борьбе художника за адекватное выражение этой все-
охватывающей упорядоченности во всем ее своеобразии.
Какие эмоции требуют и допускают, чтобы из них развился
некий «мир», — вопрос прежде всего общественно-исторический.
Старые народные песни, народные танцы и т. п., отражающие
и выражающие — как экстенсивно, так и интенсивно — крайне
ограниченный мир эмоций, могут воплотить самоценно-музыкаль-
ную целостность, поскольку та действительность, которую они:
воспроизводят, при всей ее узости была все же ориентирована
на человеческое сообщество, где разрешались существенные про-
блемы человеческой жизни. Там же, где «модель» музыкально
отображенных эмоций замыкается на партикулярности «повсе-
дневного» человека, музыка просто ведет их внутреннюю ску-
дость и никчемность к внешней, формальной и «примиряющей»
сглаженности, округленности; мимесис этого мимесиса никогда
не сможет создать свой «мир» и потому никогда не сможет во-
плотиться в подлинно художественной форме. И на что бы ни
опиралось формотворчество в такой музыке—будь то ценней-
шие традиции или рискованнейшие новшества, — тривиальность
чисто частного низводит все это к пошлой, безвкусной банально-
сти. Признание приоритета человеческого содержания, определе-
ние формы как выражения данного конкретного содержания и
его своеобразия музыка разделяет со всеми другими искусства-
ми. Однако именно из-за внутренней, духовной сущности этога
содержания форма в музыке особенно чувствительна к подлин-
71
ности или неподлинности ее внутренней субстанции. Эта воспри-
имчивость относится, естественно, в первую очередь к той фор-
ме, которая в данном случае — при всей «математической» точ-
ности— проявляет себя именно как мимесис тончайшей субстан-
ции, в-себе-сущего внутреннего мира человека, и в этом качестве
особенно остро реагирует на проблему подлинности. Точность,
полное соответствие действительности, заложенные в ее сущно-
сти, не противоречат этому; ведь ни в одном искусстве нельзя
с точки зрения художественно-технических критериев так четко
провести линию раздела между подлинным и неподлинным, как
в музыке.
2. АРХИТЕКТУРА
Архитектура — единственное, помимо музыки, %миросозидающее
искусство, в котором средством миметической эвокации не явля-
ется непосредственно данная объективная действительность в ее
реальной предметности. (Само собой разумеется, что при такой
постановке вопроса ранее подробно рассмотренная нами вне-
мирная орнаментика дискутироваться не будет.) Поэтому более
чем понятно — хотя, как мы убедимся, по существу, это и несо-
стоятельно, — что спекулятивная эстетика придает особое значе-
ние параллельности музыки и архитектуры. Формулировку этой
позиции, оказавшую немалое влияние на эстетику, мы находим
у Шеллинга; ее идеологические последствия можно обнаружить
и у позднего Гёте, а иногда даже у Гегеля. Исходный пункт
Шеллинга составляет натурфилософская концепция, в соответ-
ствии с которой искусства подразделяются на реальные (музы-
ка, живопись и пластика) и идеальные (поэзия с ее тремя жан-
рами— лирикой, эпосом и драмой); архитектура определяется
как «некоторый род пластики»38. Общность с музыкой выводится
из «аноргической» сущности последней, так что архитектура
становится «застывшей музыкой». И насколько определение это
есть не более чем остроумный афоризм, настолько же и его кон-
кретизация суть всего лишь набор метафор (даже не аналогий),
таких, например, как: дорическая колонна — ритм, ионическая —
гармония, коринфская — мелодия39. Вряд ли имеет смысл зани-
маться критикой столь беспочвенных сравнений. Единственный
несколько более конкретный принцип, выведенный отсюда,—
это так называемый математический характер обоих искусств.
О роли математики в музыке мы уже говорили. Что она может
значить для архитектуры, где в математическом превалирует
геометрическое, и прежде всего физическое, начало, — об этом
мы поговорим в дальнейшем. Центральная идея, лежащая в ос-
нове таких сравнений, ведет к более серьезным последствиям:
ограничению архитектуры натурфилософскими принципами. Ибо
ясно, что в идеалистической спекулятивной философии тем са-
мым подразумевается значительное противоречие между приро-
72
дой и духом, и все искусства, гомогенная посредующая система
которых не возводится на абстрактно-теоретической вербальной
основе, должны получить натурфилософское обоснование. Разу-
меется, Шеллинг в период «философии тождества» понимал это
еще отнюдь не уничижительно. И все же в любом идеалистиче-
ском мировоззрении из этого необходимо проистекает иерархи-
ческая субординация, в рамках которой «идеальным» искусствам
априорно обеспечивается духовное и эстетическое преимущество.
Натурфилософское понимание архитектуры ведет в первую
очередь к полному или как минимум частичному отрицанию ее
связи с человеком, с человеческой жизнью. По крайней мере
Шеллинг исходит из органического как основного принципа и
для «естественных» искусств и сводит архитектуру к некоему
«закону», по которому «организм в природе возвращается опять
к порождению аноргического». Таким образом, архитектура
связывается с так называемым «художественным инстинктом»
животных40. Шопенгауэр, конструирующий систему искусств на
совершенно иных принципах, усматривает в архитектуре'объек-
тивацию «тех идей, которые представляют собой самые низкие
ступени объективности воли». Конечно, конкретно он больше,
чем Шеллинг, приближается к одной из существенных сторон
архитектуры, поясняя приведенное определение следующим об-
разом: «...А именно, тяжесть, сцепление, косность, твердость, эти
общие свойства камня, эти первые, самые простые, самые глухие
видимости воли, генерал-басы природы, — и затем, наряду с ни-
ми, свет, который во многих отношениях является их противопо-
ложностью»41. Тем самым архитектура еще решительнее, чем
у Шеллинга, помещается на самую низкую ступень в иерархии
искусств; возникает субординация по материалу или содержанию
искусств от неорганической природы до человека, причем за ар-
хитектурой неизбежно закрепляется низшая ступень. При чрез-
вычайно высоком мнении Шопенгауэра о сущности музыки даже
речи быть не может о сравнениях ее с архитектурой в шеллин-
говском духе. Однако связывание эстетической сущности архи-
тектуры с неорганическим характером ее типичного материала,
с частью действующей в ней совокупности законов (на правиль-
ной оценке которых мы еще подробно остановимся в дальней-
шем) сохраняет силу вплоть до возникновения эстетики Гегеля.
Подходя к эстетике с исторических позиций, Гегель трактует
архитектуру как первое из искусств; он считает, что «[его] надо
рассматривать как первое искусство и по своему существова-
нию»; архитектура, пишет Гегель, «сформировалась ранее
скульптуры, живописи и музыки»42. Как всегда у Гегеля, при
этом перемешиваются правильные и ошибочные теории относи-
тельно истории искусств. Он, безусловно, прав, возводя прямое,
недиалектически-эволюционное образование архитектуры к ху-
дожественно-нейтральным, примитивным истокам, решительно
подчеркивая ее абстрактный характер. Однако этой правильной
73
тенденции вдвойне препятствует его идеалистическая предвзя-
тость. Прежде всего, теории Гегеля, помещающей архитектуру
в начало художественной деятельности людей, противоречат
факты реального исторического развития. Правда, ко времени
разработки его эстетики эти факты были мало или вообще не-
известны. К ним относится, например, пещерная живопись, ко-
торая представляет собой пусть одностороннее и проблематич-
ное, однако подлинно живописное искусство, причем на той сту-
пени, где еще не могло существовать даже дохудожественного
строительства; кроме того, следует упомянуть трудовые песни,
магические танцы, орнаментику и т. д. Но заблуждение Гегеля
вытекает отнюдь не просто и непосредственно из незнания по-
добных фактов, а прежде всего из общей идеалистически-иерар-
хической концепции его системы. Дело в том, что его критиче-
ское отношение к начальным периодам искусства (справедли-
вость которого применительно к простому перерастанию физио-
логических или антропологических проявлений в искусстве мы
уже отмечали) имеет специфически идеалистическое содержание:
неизменяемость (то есть антиисторичность) эстетических идей,
которые поэтому различаются в конечном счете лишь степенью
приближения к максимально адекватной их реализации, но не
могут иметь подлинного генезиса, настоящей истории. Эстетиче-
ская идея — как искусства вообще, так и отдельных искусств —
возникает, по Гегелю, из диалектического развития идеи как та-
ковой, а не из реальной диалектики истории. Так что уже в из-
начальной форме своего проявления — как идеи — она заверше-
на и окончательна, содержит в себе все свои исконнейшие опре-
деления; впрочем (согласно известной гегелевской общеистори-
ческой концепции), она содержит их в сугубо абстрактной фор-
ме, так что последующее ее развитие может состоять только
в том, чтобы превращать абстрактно и скрыто наличествующее
в конкретное и явное.
В результате прежде всего становится методологически не-
возможным познание истинного исторического генезиса отдель-
ных искусств; поскольку этим вопросом мы уже занимались
в иной связи, здесь от его обсуждения можно отказаться. Еще
важнее — особенно для проблемы архитектуры — то, что завер-
шенное наличное бытие эстетической идеи архитектуры изна-
чально, хотя и сугубо абстрактно и имплицитно, выдвигает за-
ведомо ложные критерии для суждений как о ее зарождении, так
и о последующих этапах ее развития. Это означает, что в голове
исследователя будет постоянно витать эстетическая идея в ее
максимально возможном на данный момент развитии, и так как
при рассмотрении более ранних стадий она будет перманентно
сохранять свою «современность», то — вольно или невольно — со-
держание и форма ранних типов художественного творчества
будут расцениваться без учета их собственных предпосылок,
а некоторые из их специфических особенностей будут тракто-
74
ваться как «несовершенные» воплощения того принципа, кото-
рый исторически появился на свет значительно позже. Однако»
такое спекулятивное искажение исторического своеобразия ха-
рактерно отнюдь не для одного Гегеля, скорее оно выражает —
в противоречии (неосознанном) с его собственными, часто под-
линно историческими устремлениями, — общую тенденцию фило-
софского идеализма. Даже у таких теоретиков искусства, как
Ригль или Воррингер, непосредственно никак с Гегелем не свя-
занных, на каждом шагу встречаются подобные предвзятости,
искажающие специфику исторических обстоятельств. У самого
Гегеля отсюда проистекает диалектичность периодизации архи-
тектуры, которая, как это у него часто бывает, основывается на:
правильно понятой противоречивости, но в конкретном своем
применении совершает насилие над явлениями. Так, Гегель исхо-
дит из того верно отмеченного факта, что архитектура является
одновременно и средством осуществления внехудожественных:
целей, и завершенным в себе искусством. В соответствии с этим
его диалектика истории архитектуры выстраивается следующим
образом: самостоятельное значение (Египет), служебная роль,,
а именно в качестве окружающей среды, зданий для богослуже-
ний (Эллада), и, наконец, единство этого противоречия (готика).
То, что архитектура Ренессанса и барокко у него вообще отсут-
ствует, уже свидетельствует о спекулятивном формализме уста-
новленной таким образом противоречивости. Ибо хотя те три:
больших периода, которые имеет в виду Гегель относительно^
искусства (символический, классический, романтический), строго-
говоря, доходят у него только до средневековья, а новое время:
он считает той эпохой, когда на смену созерцанию (искусству)
и представлению (религии) в качестве новой силы, господствую-
щей над человеческой жизнью, пришло понятие (философия),,
однако что касается музыки, живописи и особенно литературы,
то здесь под давлением фактов Гегель изменяет своей схеме си-
стематизации, доводя подробное рассмотрение поэзии до Шекс-
пира и Гёте. Рассмотрение же архитектуры он, напротив, вдруг
обрывает на готике, и это говорит о том, что псевдосинтез этой:
гегелевской противоречивости полностью исчерпал свои внутрен-
ние возможности.
При этом понятно, что элементы такой противоречивости:
с точки зрения абстрактной всеобщности затрагивают централь-
ную проблему архитектуры. Противоречие и единство противо-
речий в диалектике «внешней», внехудожественной и чисто эсте-
тической целесообразности действительно являются ее основным
вопросом. Если Гегель оказывается здесь способным лишь на
абстрактную его постановку, то на это есть две причины, каждая
из которых связана с идеалистически-иерархическим построени-
ем его эстетики. Во-первых, идеалистически преувеличивается:
«самостоятельность» других искусств и теоретически недооцени-
вается социальный заказ, определяющий их форму и содержание.
75
При соблюдении правильных пропорций эти противоречия и их
единство проявляются в архитектуре как показательнейший слу-
чай художественного осуществления социального задания. Каче-
ственное различие состоит в том, что здание способно полностью,
исчерпывающим образом удовлетворить социальные требования,
даже не затронув в своих формах мир эстетического, в то время
как в других искусствах несоблюдение эстетических норм не до-
пускает никакой нейтральности бытия. Естественно, может быть
и так, что какое-нибудь литературное произведение, музыкаль-
ная пьеса, картина, и не обладая художественной ценностью,
в состоянии выполнить свою социальную функцию. Но тогда речь
идет о том, что в самом произведении открыто проявляется внут-
ренне присущая ему в этом отношении противоречивость; ска-
жем, «Хижина дяди Тома» или «Прощай, оружие!» —посред-
ственные романы, внесшие тем не менее большой вклад в успеш-
ное разрешение важной общественной задачи. Тогда как, напри-
мер, в Древнем Риме дом, предназначенный для аренды, был не
то что эстетически неполноценным, а просто пребывал вне вся-
кой эстетики. Подобная возможность, эстетические основы и по-
следствия которой мы будем подробно анализировать в дальней-
шем, указывает на такое качественное различие; но она высту-
пает (чего Гегель не учитывает) всего лишь как предельное за-
острение всеобщей эстетической детерминации «извне».
Во-вторых, основополагающие эстетические проблемы архи-
тектуры преодолеваются именно там, где внеэстетическое целе-
полагание должно перейти в эстетическое. Разумеется, в самых
общих чертах отправная позиция правильна. По Гегелю, эстети-
ческая задача архитектуры состоит «в такой обработке внешней
неорганической природы, при которой она в качестве художест-
венно преображенной внешней среды стала бы родственной ду-
ху»43. Если же это определение задач архитектуры конкретизи-
руется: «Ведь ее призвание в том и заключается, чтобы над са-
мостоятельно существующим духом, над человеком или над изо-
бражениями богов, которых он создал и сформировал в виде
объектов, возвести внешнюю природу в качестве некоего замкну-
того пространства, имеющего свой источник в самом себе и пре-
образованного искусством в красоту»44, то происходит не только
сведение ее назначения к служению религии, но и превращение
ее просто в рамки, всего лишь в «замкнутое пространство» для
изображений богов, для адекватно их представляющего искус-
ства, то есть для скульптуры. Уже само по себе сомнительное
определение архитектуры как «неорганической скульптуры» ста-
новится одним из моментов идеалистически-иерархической си-
стематизации искусств, в которой теряется как раз специфиче-
ски-эстетическое начало архитектуры, поскольку — как это не-
двусмысленно поясняет Гегель при рассмотрении классического
периода — ее роль становится сугубо служебной, в то время как
задача скульптуры — воплощать подлинно внутреннее45. Таким
76
образом, все ошибочные позиции Гегеля в этом вопросе — в его
понимании архитектуры как начальной ступени искусства, исто-
рической диалектики ее развития, эстетической связи ее сущно-
сти с социальным заданием, определяющим ее осуществление,
и отношения последнего к собственно эстетическим проблемам —
тесно взаимосвязаны; в основе их всех лежит недооценка цент-
ральной эстетической проблемы архитектуры — создания про-
странства. Даже когда Гегель говорит о задаче создания «замк-
нутого пространства», он подразумевает лишь пространство в аб-
страктно-теоретическом смысле, в крайнем случае — как оно вос-
принимается в повседневной жизни; собственно эстетические
проблемы, связанные с созданием своеобразного пространства,
рассчитанного на то, чтобы стать объектом эстетического пере-
живания, у Гегеля вообще не затрагиваются.
Поскольку главная эстетическая проблема архитектуры кро-
ется именно здесь, понятно, что нередко остроумные и отчасти
верные умозаключения Гегеля не могли не выродиться в пустые
конструкции. Полемика против таких воззрений была неизбеж-
ной не только потому, что они даже в настоящее время имеют
многочисленных приверженцев, и не только потому, что — как
мы видели — отдельные воззрения такого рода, не укоренившись
в диалектике, все еще живут в подсознании, — но прежде всего
потому, что для философского понимания архитектурного вопло-
щения пространства совершенно необходимо получить хотя бы
самое общее представление о его генезисе: понять, что реаль-
ность архитектурного (эстетического) пространства, его способ-
ность вызывать переживание возникали постепенно; понять, что
существование и действенность этой реальности и способности,
даже потребность в них, не даны сами по себе вместе с физиоло-
гическими и антропологическими свойствами человека. Одним
словом, и здесь речь идет о том, что эстетическое возникает по-
степенно, шаг за шагом, в процессе развития человечества, а не
является отношением к миру, возникшим одновременно с суще-
ствованием человека. Поэтому вопрос о том, что архитектура не
стоит у истоков развития искусства, означает для эстетики нечто
гораздо большее, чем простую констатацию факта. Разумеется,
сам по себе этот факт очень давно подтвержден археологией и
этнографией. Теперь же речь идет лишь о том, чтобы сделать из
очевидной, не подлежащей сомнению ситуации соответствующие
философские выводы для эстетики, и прежде всего — для эсте-
тики архитектуры.
Само собой разумеется, что все внеэстетические моменты ар-
хитектуры— как потребность в пространстве-помещении, защи-
щающем от сил природы, от врагов вообще, так и осознание со-
ответствующих данным целям свойств найденного или созданно-
го пространства, а также осознание средств его выбора или
производства — существовали и действовали на протяжении очень
длительного времени прежде, чем могло возникнуть хотя бы ка-
77
кое-то представление об архитектурном, эстетическом простран-
стве. Другие искусства тоже, как мы видели, изначально порож-
даются не эстетическими потребностями. Однако уже с самого
начала они должны были содержать в себе определенные эле-
менты эстетического — хотя бы для того, чтобы осуществлять
свою функцию в рамках практики, стоящей на службе магии.
Каким бы примитивным ни был мимесис в танце или пении,
в живописи или пластике (хотя отдельные искусства уже на
самых начальных стадиях достигают очень высокого его уровня),
решающие определения их предметности с самого начала долж-
ны были носить эстетический характер. Это не касается, однако,
первых шагов в деле удовлетворения потребностей в области
строительства. Не говоря уже о найденных, то есть не сотворен-
ных, а в лучшем случае приспособленных человеком пещерах,
даже самые первые из построенных людьми домов были рассчи-
таны исключительно на достижимую в те времена полезность,
и даже когда — значительно позднее — такое строение как-то ор-
наментально украшается, то в плане эстетического воздействия
мы можем говорить здесь лишь об орнаменте, а не о составной
части архитектурного целого. Конечно, и в этом случае дает
о себе знать потребность, которая позднее будет развиваться в
сторону выражения эмоций, вызываемых переживаниями, свя-
занными с постройкой, и стремящихся — именно как такого рода
эмоции — обрести собственную значимость. (Пещерная живо-
пись, как мы видели [см. т. 2, с. 90 и ел.], еще не имеет ничего
общего с украшением покрываемых ею поверхностей.) Однако
эти эмоции сперва стимулируются только общим значением зда-
ния для человека, вызываются этим значением, но еще не в со-
стоянии в свою очередь воздействовать на объект сам по себе,
на его внешнее оформление.
Возникновение и развитие таких эмоций здесь еще больше,
чем в других искусствах, представляет собой процесс, берущий
свое начало из различных, часто разнородных источников, ко-
торые лишь очень постепенно сливаются в один поток, становят-
ся социальным заданием какому-то искусству. Следует заметить,
что подобное происхождение из очень различных жизнеощуще-
ний неизбежно для генезиса любого искусства; впрочем, оно не
могло бы ни расширить до некоего «мира» то, что воплощается
этим искусством, и сконцентрировать его на внутреннем, ни ока-
зать эстетическое воздействие на целостного человека с его мыс-
лями и чувствами, взращенными насыщенной жизнью. Такие
эмоции, в жизни сами по себе разнонаправленные, со време-
нем— в период генезиса какого-то искусства — должны быть,
однако, сфокусированы и под влиянием тенденции общественно-
го развития, определяющей особенности подобного центра фоку-
сирования, гомогенизированы в плане возникающего таким об-
разом социального задания. Изначальная разнородность этих
эмоций становится затем элементом напряжения внутри нового,
78
ставшего благодаря этому действенным единства, превращает
его в единство плодотворных противоречий. Только когда таким
путем сформируется гомогенная посредующая система, возни-
кающая из потребностей жизни, но отделенная от возможных
в ней переживаний качественным скачком, — только тогда можно
сказать, что генезис искусства завершен. Тот факт—более чем
достаточно подтвержденный историей искусства и неоднократно
обсуждавшийся уже здесь, — что и в искусстве, эстетически уже
обоснованном, в ходе исторического развития могут возникнуть
радикально новые факторы, обстоятельства, выразительные
средства и т. п., принципиально ничего не меняет в данном раз-
граничении генезиса и развития какого-то ставшего уже само-
стоятельным искусства.
Если мы теперь хотим с философской точки зрения просле-
дить этот процесс в архитектуре, то необходимо выяснить, каким
образом претворение такого пространства, соотнесенного с чело-
веком, то есть антропоморфированного, но тем не менее объек-
тивно существующего и таковым осознанного, становится испол-
нимой, удовлетворяемой общественной потребностью, каким об-
разом из этого вырастает социальный заказ и его эстетическое
осуществление. Исходя из понимания пространства в повседнев-
ной жизни, следует сразу же констатировать, что оно всегда за-
ведомо должно иметь тенденцию к антропоморфизации. Это обу-
словлено уже необходимым характером существующего непо-
средственно для людей пространства. Ранее мы уже приводили
замечание Гегеля [см. т. 1, с. 235], что вертикальная ось в систе-
ме координат любого такого пространства указывает в направ-
лении центра Земли и что, следовательно, непосредственному пе-
реживанию пространства в повседневной жизни имманентна гео-
центрическая, антропоморфирующая тенденция, которая в гра-
ницах своей непосредственности не может быть снята. Совершен-
но очевидно, что жизненно важное событие в очеловечивании
человека — начало прямохождения — еще больше усиливает эту
тенденцию, закрепляет ее неупразднимость. Вместе с большей
дифференциацией взаимоотношений человека с окружающим его
миром — что влечет за собой повышающееся практическое овла-
дение окружающим его пространством — решительно антропо-
морфирующий характер приобретают также и другие координа-
ты, например направление: вперед — назад, направо — налево.
Чтобы практически ориентироваться в окружающем простран-
стве и благодаря этому господствовать над ним, человек в по-
вседневной жизни, не имея представления о системе координат,
должен в качестве действующего в данном случае центра подоб-
ной системы поставить самого себя; естественно, такая система
смещается, изменяется для каждого человека с каждой переме-
ной места, но именно поэтому она может служить основой непо-
средственно-практической ориентации в окружающем простран-
стве.
79
Потребности практики относительно быстро выводят за пре-
делы этой наивной и спонтанно антропоморфической позиции.
Мы уже могли видеть, что дезантропоморфирующая трактовка
пространства — геометрия — возникла на относительно ранних
стадиях и что она необходимо выходит за рамки непосредствен-
ности спонтанно антропоморфированной повседневной жизни.
Впрочем, до тех пор, пока она остается неразрывно связанной
с повседневной практикой, она должна сохранять геоцентриче-
ский характер вертикальной оси [см. т. 1, с. 236], что становится
решающе важным, в особенности для архитектуры. Но уже гео-
метрия поверхности решительно порывает с такими антропо-
морфными определениями, как справа — слева, впереди — сзади.
(О том, что в художественно-геометрической орнаментике тоже
не существует проблемы право- и левосторонности, как и в пред-
метно-миметическом изобразительном искусстве,, мы уже говори-
ли [см. т. 1, с. 237]. Здесь следует лишь указать на то, что, не-
смотря на развитую геометрию, изначальный антропоморфизм
в эстетически-миметическом изображении внешнего мира сохра-
няется.) Разумеется, развитие дезантропоморфирующего пони-
мания пространства в геометрии происходит очень медленно.
Для нас и здесь значение имеют не его отдельные этапы и их
исторические даты, а исключительно общая тенденция этого по-
нимания в жизни и в мировоззрении человека. Тем более что
техническое совершенствование строительного дела, поначалу не
связанного с эстетическими проблемами и принципами архитек-
туры, без геометрии никогда бы не осуществилось. Роль геомет-
рии должна быть особо подчеркнута потому, что она, с одной
стороны, в качестве точной науки о пространственных отношени-
ях представляет собой дезантропоморфный полюс, противопо-
ложный антропоморфированному, эстетико-архитектурному пред-
ставлению пространства, с другой стороны — потому, что как
точная наука геометрия развилась намного раньше и полнее,
чем другие теоретические обоснования строительства (статика,
материаловедение и т. д.); последние в течение длительного вре-
мени функционируют просто как эмпирический трудовой опыт46,
причем и здесь нельзя забывать, что их объективная тенденция
даже в наиболее эмпирических, самых робких начальных опытах
является заведомо дезантропоморфирующей. Отсюда следует
(и с точки зрения отличия архитектуры от всех остальных ис-
кусств это крайне важно), что техническая сторона зодчества, то
есть возведение здания как полезного для человеческого обще-
ства объекта — независимо от того, насколько осознан этот его
характер, — образует замкнутую, научную, то есть дезантропо-
морфированную, систему, конкретно-данное бытие которой не
может быть снято архитектурно-эстетическим полаганием, подоб-
но тому как это происходит, скажем, с законами теории перспек-
тивы в живописи или свойствами слова как элемента второй
сигнальной системы в поэзии и т. д. В противоположность этому
80
архитектура как искусство должна усвоить научные результаты
в качестве незыблемой основы ее специфического типа полага-
ния, должна исходить из них во всех своих формообразованиях;
то, что она к ним добавляет, есть «всего лишь» эстетически соот-
ветствующий способ проявления, благодаря которому последние^
не утрачивая характера научно понятых взаимосвязей, преобра-
зуются в новую, собственно гомогенную посредующую систему:
из научно обоснованной конструкции какого-то пространственно-
го сооружения рождается пространство как собственный мир че-
ловека на определенной ступени общественно-исторического раз-
вития.
Эмоции, вызываемые ранним, еще внеэстетическим строитель-
ством, часто идентичны тем, которые пробуждает любая деятель-
ность начальных этапов как труд и результат труда, то есть
прежде всего радость и гордость от — хотя бы еще и частично-
го— овладения природой и одновременно от развития собствен-
ных способностей. В очень рано возникшем украшении орудий
труда эти эмоции выражаются с величайшим многообразием;
разумеется, суть дела здесь определяется тем, что их выражение
не может выйти за пределы орнаментального украшения. И все-
таки само пробуждение в этой связи и обретение эмоций в плане
нашей проблемы должно учитываться как человеческая предпо-
сылка, тем более что в ходе такого развития предметы и их об-
работка могут превратиться в осознаваемые возбудители подоб-
ных эмоций, которые, впрочем, часто просто лишь усиливают,,
концентрируют эмоции, возникающие при обычном употреблении
этих предметов, но иногда могут пробудить и такие эмоции, ко-
торые очень мало связаны с этими последними. В результате
всего этого связи человека с непосредственно окружающим его-
миром становятся все богаче и дифференцированнее. Первона-
чально такие эмоции вызываются, естественно, благодаря при-
умножению и совершенствованию инструментов и приспособле-
ний. Однако именно украшение орудий труда показывает, что
при этом параллельно с данным процессом происходит и эмоцио-
нальное обогащение: мир человека, мир его взаимоотношений
с окружением пополняется не только практически и с точки зре-
ния более глубокого понимания благодаря обобщению практики,
но и эмоционально. Разумеется, в интересующем нас плане тем
самым раскрывается лишь одна совсем общая и весьма опосре-
дованно действующая предпосылка. Ведь конкретные предмет-
ные формы, вызывающие эмоции, еще не создают пространства.
Двухмерная орнаментика не ведет — в эстетическом плане —
к трехмерности часто даже тогда, когда последняя может уже
реализоваться в практическо-техническом смысле. Боас приво-
дит интересный пример из жизни индейцев, рассказывая, как они
изготовляют коробки путем складывания; они рисуют и расписы-
вают заготовку интересным декоративным узором, но им недо-
стает пространственного воображения для того, чтобы двухмерно
6-805
81
правильно выполненный набросок мог на трехмерной, уже сло-
-женной, коробке воплотить в своем соединении задуманную де-
коративную связь. Однако в практически-техническом отношении
■коробка, разумеется, образуется правильно47.
На такой всеобщей жизненной основе возникают те внеэсте-
тические, предэстетические эмоции, которые непосредственно
связаны с пространством и с представлениями о нем. Совершен-
но ясно, что уже защищенность от непогоды, от врагов и т. п.,
предоставляемая закрытым, даже если и не собственноручно соз-
ванным пространством (пещерой), должна вызывать эмоции ра-
дости по поводу обретенной надежности и безопасности. Если
это — продукт собственной деятельности, если, скажем, построй-
ка или поселение защищены от хищных зверей или от врагов по-
средством еще совсем примитивного ограждения, то не только
возрастает интенсивность вызванных таким образом эмоций, но
и их содержание становится все более многообразным; самосо-
знание, гордость и пр. вступают в силу как факторы обогащения
этих эмоций. Как и всегда на этом этапе, действия людей, на-
правленные на реальные потребности их жизни, до неразличи-
мости переплетаются с теми, чьи истоки коренятся в магических
представлениях. И границы между обеими областями мы в луч-
шем случае можем провести с весьма отдаленной исторической
точки — они для нас тоже очень часто весьма расплывчаты; для
.людей той эпохи обе области составляли неразрывное единство
их бытия и их деятельности. Напомню только о каменных мо-
тильниках эпохи неолита; трудно или вообще невозможно уста-
новить, играла ли тогда решающую роль защищенность самих
покойников или охранение живущих от их магической силы; од-
нако для нашей проблемы раскрытие реальных мотивов, их под-
-линного содержания значения не имеет, поскольку нам важно
.лишь сослаться на то, что подобные могильные сооружения, еще
ничего общего не имевшие с архитектурой в эстетическом смыс-
ле, для людей той эпохи в их пространственно конкретно-данной
<форме бытия, безусловно, были глубоко и интенсивно связаны
с аффектами, обладали свойством вызывать эмоции. Правда, эти
эмоции необходимо сопровождали вообще наличие подобного
.пространственного сооружения, не будучи в состоянии оказать
определяющего влияния на форму его визуального проявления
или в свою очередь быть ею определенными. Разумеется, техни-
ческий характер пространственного объекта (подземные пещеры,
тяжелые камни как защита, обеспечение мертвых предметами и
продуктами, необходимыми для загробной жизни, и т. п.) очень
точно соответствовал господствующим в тот момент магическим
предписаниям и благодаря этому тоже вызывал эмоции (напри-
мер, страх, надежду, благоговение и т. д.).
Мы видим, как важно, в противоположность Гегелю, подчерк-
нуть, что архитектура относится к сравнительно поздно возник-
шим искусствам. Ибо отсюда следует, что ее эстетическому гене-
«2
зису предшествовали, с одной стороны, длительный период раз-
вития технически полезного строительства различных типов,.
с другой стороны, продолжительное развитие эмоций, связанных
с пространственными представлениями. Качественный скачок, по>
уже приведенным причинам значительно отчетливее разделяю-
щий здесь предэстетическое от эстетического, подготовлен, без-
условно, тем опытом, который мы вкратце обрисовали. Он совер-
шается в тот период, который Гордон Чайлд характеризует как
«вторую», или «урбанистическую», революцию48 и который ярка
проявился в работах, связанных с регулированием рек, прежде
всего в Передней Азии, Египте и т. д. Развитие производитель-
ных сил сделало возможным и вызвало строительство более-
крупных городов на месте небольших деревенских поселений:
эпохи неолита. В связи с этим появляются строения неведомых
прежде размеров. Количественное изменение содержит в себе,,
однако, и качественно новое: если, скажем, на месте частоколов,
возникают мощные каменные стены как защита города; если
в основном небольшие, защищенные несколькими каменными
блоками могилы сменяются монументальными святилищами и
надгробиями и т. п., то это уже технически нечто значительно^
большее, чем простое количественное увеличение. К этому еще
нужно как решающий момент добавить коллективный характер
таких строений, причем не просто в том смысле, что сооружение,,
скажем, какой-то пирамиды могло осуществляться только на ос-
нове организованной мобилизации больших масс, а — с нашей
точки зрения — прежде всего как строений, коллективная функ-
ция которых не в последнюю очередь состоит в пробуждении
коллективных чувств. Это относится даже к бытовым построй-
кам. Естественно, каменная стена, окружающая город, предназ-
начается в первую очередь для того, чтобы реально отразить вра-
га. Однако чувство безопасности, которое рождает в жителях
города ее высота, массивность и пр., отнюдь не случайное сопут-
ствующее явление, не просто связанная с ней ассоциация, а ско-
рее необходимое следствие подобных строительных мероприятий,,
поскольку и в повседневной жизни объективная и субъективная
безопасность совершенно необходима для ее нормального тече-
ния. Для нас здесь важно то, что эмоции, вызываемые в таком
случае, уже не только связаны с общим и объективным фактом
безопасности, а рождаются непосредственно самим зрительным
обликом городской стены (снова: высота, массивность и пр.)..
При этом следует, разумеется, еще раз указать — вопреки извест-
ным предрассудкам — на рассмотренное нами разделение чувств
по сферам действия, благодаря которому первоначальные осяза-
тельные ощущения могут испытываться непосредственно визу-
ально. Поскольку такие ощущения, переведенные в сферу визу-
ального, как было в свое время отмечено [см. т. 1, с. 65 и ел.,
169 и ел.], являются продуктом накопленного трудового опыта,,
вновь подтверждается необходимость трактовать архитектуру
6*
es
как относительно поздно возникшее искусство, предполагаю-
щее— тоже относительно — высокий уровень способности визу-
ального восприятия.
Если эта связь эмоций, вырастающих из жизненного опыта,
со зримым обликом какого-то строения действительна даже в
приведенном простом практическом случае городской стены, то
ясно, что там, где здание служит магически-религиозным целям,
уже по своей сути основанным на эмоциях, такое действие ока-
зывается еще интенсивнее и многообразнее. Нам важно лишь
показать, что подобное усиление опосредуется сформированным
пространственным творением. При этом непосредственно мимети-
ческий характер строения, как вскоре будет ясно, не играет ре-
шающей роли, хотя есть целый ряд свидетельств, указывающих
на то, что на ранних этапах миметические моменты в строитель-
стве имели гораздо большее значение, чем на уровне архитекту-
ры, уже полностью отошедшей от мимесиса. Даже Воррингер,
который вообще склонен к тому, чтобы изъять мимесис из рас-
смотрения искусства как принцип, менее полноценный по срав-
нению с экспрессией, абстракцией, подмечает в каменных арте-
фактах египетских пирамид то, что каждая из них «представляет
собой искусственно созданный и прочно сделанный курган, при
этом сооруженный в подражание тем естественным холмам, ко-
торые были местом захоронения мертвых, предоставленным при-
родой, и которые тоже соответствующим образом служили на-
вершием глубоко вырытых пещер»; равным образом и египетские
колонны у него предстают как миметическая форма, которую он
резко критикует за слишком большую близость к природе,
;а именно за то, что «на нижней части колонн находились голу-
бые цветовые следы, указывающие на воду, из которой во время
затопления вырастали пучки растений»49. Мы оставляем здесь
открытым вопрос о том, в какой мере эти миметические формы
в подобных случаях все же способствовали архитектурному про-
странственному решению или, как полагает Воррингер, препят-
ствовали ему; но никаких сомнений в их миметическом характере
не возникает. И если при расмотрении шумерской архитектуры
Гордон Чайлд говорит «об искусственных горах» (зиккуратах)
как основах для истинных святилищ50, то и здесь, хотя он не за-
нимается подобным архитектурным анализом, констатируется
миметическая основа данной строительной темы. Примеров та-
ких миметических моментов в архитектуре ранней стадии можно
привести сколько угодно, но мы не будем на этом останавливать-
ся, поскольку, как вскоре убедимся, проблема мимесиса в архи-
тектуре решается не здесь.
Весьма поучительным для перехода от чисто практического
(а также магически-практического) бытового строительства к
подлинной архитектуре является пример Стонхенджа, относя-
щийся к ранней эпохе бронзы, которому Шелтема посвящает
серьезное исследование. Желая, как мы видели [см. т. 2, с. 131
84
и ел.], доказать полную независимость северного искусства от
классической античности, его выдающееся значение для будуще-
го, он даже называет Стонхендж «собором св. Петра нашей глу-
бокой древности»51. Надо сразу же сделать скидку на фантасти-
ческую преувеличенность этого сравнения хотя бы потому, что
Стонхендж, несомненно, представляет собой необыкновенно ин-
тересное переходное явление между зарождением архитектуры
•и ее художественным для-себя-бытием. Прежде всего — и это
касается наших недавних рассуждений — здесь все еще очень
сильны непосредственно миметические тенденции; в сущности,
все строение в целом является — на что Шелтема совсем не об-
ращает внимания — воспроизведением поляны в лесу. Правда,
при этом можно отметить качественное отличие, скажем, от упо-
мянутых египетских колонн: хотя окружающие свободное про-
странство каменные столбы представляют собой «подражание»
деревьям на краю поляны (Шелтема отмечает, что в Англии на-
шли подобные пространства, окруженные также и деревянными
столбами, где данная суть обнаруживается еще отчетливее),
этот их характер тут же снова снимается, так как они покрыты
поперечными балками и таким образом связываются друг с дру-
гом в некую окружность. Это показывает, что речь здесь идет не
просто о миметическом изображении деревьев как таковых, но
о мимесисе их функции ограничения образующегося благодаря
этому особого пространства — поляны. С ее помощью должно
•быть эвоцировано переживание определенного пространства, при-
чем — на что указывают уже жертвенный камень и большие под-
водящие дороги — пространства, которое для коллектива являет-
ся ареной эвокации важного совместного переживания. То, что
природа сама по себе столь часто предоставляет для магических
пли религиозных церемоний (рощи, поляны и т. п.), здесь созна-
тельно производится самим человеком. Это значит, что мимесис
обращается не столько на отдельные объекты природы или их
отношения, сколько на их совокупность, каковая предоставляется
людям в виде пространства, пригодного для их коллективных
действий. Благодаря эвокативным воздействиям пространства,
благодаря воздействию, вызываемому искусным выделением это-
го пространства внутри его естественного окружения, совершае-
мые ритуалы и церемонии, сами по себе уже направленные на
эвокацию, еще больше усиливают ее. Так что здесь с очевидно-
стью представлена та изначальная ситуация, когда пробужден-
ные эмоции вызываются не просто по случаю какого-то про-
странственного творения вообще, а за счет его четко сформиро-
ванной пространственной композиции.
Шелтема прав, отмечая большое значение этого памятника
зодчества, хотя культовое начало его при этом интересует боль-
ше, чем архитектурное. Приведенное нами его сравнение так же
экзальтированно и так же ложно, как и предшествующее, когда
юн называет пещерную живопись Альтамиры «Сикстинской ка^
85
пеллой древности». Правильно в этих сравнениях лишь то, что
в обоих случаях речь идет о древнейших шедеврах, которые как
раз поэтому — с точки зрения развития живописи и соответствен-
но архитектуры — не заключали в себе возможностей для даль-
нейших дериваций, а значит, были блестящими тупиками. Эта
бесперспективность обнаруживается в том, что Стонхендж смело
расширяет рамки возможной в те времена архитектурной зада-
чи — формирования внешней архитектоники сооружения, ставя
своей целью создание одновременно и внешнего, и внутреннего
пространства; в том, что проблема, для архитектуры решающе
важная, а именно: противодействие силы тяжести и жесткости
несущего материала, по меньшей мере представлена (попереч-
ные балки на столбах), но без возможности конкретно раскрыть
динамику этого противодействия (хотя столбы несут на себе
поперечные балки, последние на себе ничего пЪ несут); в том>
далее, что связь преобразованного пространства с естественным
окружением заявлена тоже смело, но при упомянутой ограни-
ченности формообразовательных средств происходило скорее
включение архитектурных элементов в природную картину (то
есть в пространство, само по себе человеку чуждое), нежели
превращение фрагмента природы в пространство, подчиненное
человеческой деятельности и подвластное его переживаниям,
приспособленное к ним и таким образом освоенное человеком.
Так как мы имеем здесь дело не с вопросами истории искус-
ства (и не с их объяснением с позиций исторического материа-
лизма), а исключительно с философскими проблемами генезиса
архитектурного пространства, то есть с философским определе-
нием его характера как эстетического мимесиса, то мы вынуж-
дены некоторые моменты этого столь интересного предшествен-
ника, прообраза собственно архитектуры анализировать отдель-
но. И разумеется, говорить здесь о прообразе можно только в его
функционально-эстетической сути, только как об отправной точ-
ке следствий, далеко выходящих за рамки, определяемые их при-
чиной, чтобы таким образом установить основополагающие чер-
ты мимесиса в архитектуре. Поэтому мы начнем с рассмотрения
проблемы противодействия, столкновения силы тяжести и жест-
кости как принципа архитектуры. Мы уже цитировали воззрения:
Шопенгауэра [см. с. 73], ясно осознавшего центральное значе-
ние этой проблемы, хотя — как мы вскоре увидим — и несколько»
односторонне. Рассуждая о «борьбе тяжести и косности», он пи-
шет: «Даже на этой глубокой ступени объектности воли мы уже
видим, как сущность ее выражается в раздоре: ведь собственно=
борьба между тяжестью и косностью служит единственным со-
держанием изящной архитектуры; самыми разнообразными спо-
собами вызвать вполне ясное проявление названной борьбы —
вот задача этого искусства. Оно решает ее тем, что преграждает
этим неодолимым силам кратчайший путь к удовлетворению и
задерживает их на окольном пути, отчего борьба становится про-
86
должительнее и неисчерпаемое стремление обеих сил проявляет-
ся разнообразными способами»52.
Тем самым четко выражается фундаментальная проблема ар-
хитектуры. Для нас здесь представляют интерес два очень важ-
ных момента. Во-первых, эта проблема указывает на мимесис
гораздо более высокого типа, на значительно менее непосред-
ственное отображение внешнего мира, чем приводившееся в ка-
честве примеров до сих пор. Речь идет об активно обобщенном
мимесисе, отражающем сущность, внутренние закономерности
важных областей действительности. Разумеется, его эстетиче-
ский характер выступает у Шопенгауэра еще отнюдь не одно-
значно и определенно. Правда, он и здесь, и позже справедливо
говорит, что отраженная действительность в архитектуре «про-
является», становится видимой. Но поскольку он — как кантиа-
нец, интерпретирующий взгляды своего учителя в духе Беркли,—
понимает и видение, и пространство чисто субъективно, то кон-
кретное пространственное формообразование выпадает из его
эстетики архитектуры и зримость тоже не приобретает своего
специфически эстетического значения. Отношение научного (дез-
антропоморфирующего) и эстетического (соотнесенного с чело-
веком) отражения ставится у него с ног на голову, так как со-
отнесенность с человеком проявляется как признак сугубо бы-
тового строительства, а в качестве основы эстетического призна-
ется только тотальность противоборства сил природы53. Однако
эта тотальность, безусловно, должна наличествовать уже в (на-
учной) конструкции сооружения; дезантропоморфирующее обоб-
щение действующих сил, их отношение друг к другу является
необходимой предпосылкой любого строительства и поэтому ле-
жит в основе всякой архитектуры как эстетического феномена.
Так как Шопенгауэр почти не придает значения видимому, а соз-
данию пространства — и вовсе никакого; так как — в тесной свя-
зи с этим — целевые установки человека он принижает такими
•определениями, как «поверхностные», «произвольные», то инте-
ресно сформулированная им проблема остается для него самого
неразрешимой. Здесь тоже обнаруживается, насколько ошибочно
усматривать в архитектуре начало искусства. Понимается ли это
исторически, как у Гегеля, или натурфилософски (то есть с точки
зрения объекта отражения), как у Шопенгауэра, — отрицатель-
ные результаты предопределены и в том, и в другом случае. Об
эстетической связи этих категорий мы будем говорить ниже.
Данные рассуждения приводят нас ко второму моменту: речь
идет о том, что мимесис борьбы упомянутых сил природы, пра-
вильно обрисованный Шопенгауэром, должен образовать систе-
му, целостность, чтобы поднять их отображение до уровня про-
изведения архитектурного искусства. Ибо только из многократно
варьированных, расчлененных, усиленных взаимодействий этих
сил может возникнуть замкнутый в себе, на самого себя направ-
ленный, действительно сам в себе завершенный и в качестве та-
87
кового действующий «мир», то есть подлинно архитектурно-ху-
дожественное произведение. Таким образом, сравнение Стон-
хенджа с пещерной живописью Альтамиры, возникшей на основе
совершенно иных представлений, а потому и полностью иных
принципов формообразования, оправданно и поучительно только
в том отношении, что и там, и здесь — на стадии генезиса соот-
ветствующего искусства — отдельные моменты их творчески пре-
образованного мира поднимались до невероятных высот формо-
творчества вследствие объективных обстоятельств их возникно-
вения, не будучи, однако, в состоянии достичь целостности худо-
жественного совершенства творений.
Если мы теперь обратимся к проблеме внешнего и внутрен-
него пространства, то речь сразу же пойдет об объекте мимесиса
в архитектуре. Как мы видели, в Стонхендже миметически вос-
производится определенное явление природы, причем на относи-
тельно высокой ступени обобщения. Однако здесь мы все же еще
не можем говорить о претворении в жизнь основного принципа
архитектуры, который — исходя из сказанного выше — можно,
пока что очень абстрактно, сформулировать следующим образом:
это есть визуальное воспроизведение столкновения сил природы,
а именно путем осознания его людьми, подчинения благодаря
такому осознанию человеческим целеполаганиям и воссоздания
возникшего тем самым отношения мира к человеку в форме
преобразованного зримого пространства. Если рассматривать ге-
незис архитектуры с этой точки зрения (не забывая об эмоцио-
нальном воздействии тех или иных сооружений), то окажется само
собой разумеющимся, что внешнее пространство может обрести
подобного рода эстетический характер раньше, чем внутреннее.
В центр этих эмоций мы поставили переживания, связанные
с чувством защищенности от природных сил, врагов, магических
сил и т. п., со всеми их разветвлениями и углублениями. Если
признать это правильным, то можно считать очевидным, что за-
щищенность как таковая раньше, чем чрезвычайно разнообраз-
ные ее аспекты и интересы, нуждающиеся в защите, может вы-
расти в чувственно определенную объективацию. Последние на
протяжении длительного развития претерпевают значительные
преобразования. Многое из того, что первоначально было маги-
ческим ритуалом и потому выступало как пережиток прежних
верований, постепенно включалось в более расчлененную, более
насыщенную и гибкую религиозную церемонию или даже, как
в Элладе, демократически секуляризовалось. Таким образом,
эмоции намного перерастают свои первоистоки и концентриру-
ются как конкретное социальное задание, ведущее к формиро-
ванию пространства. Только чувство защищенности в его разно-
образных проявлениях, привыкание людей к безопасности созда-
ют ту сферу переживаний, которая постепенно охватывает со-
вместную жизнь людей в целом. Само собой разумеется, что
расширение, углубление и совершенствование переживания ар-
88
хитектурного пространства оказывают модифицирующее влияние
и на его внешнюю структуру. По крайней мере история архитек-
туры подтверждает такую линию развития. Ригль, точно и убе-
дительно систематизирующий ее важнейшие этапы, рассматри-
вает Пантеон в Риме как «старейшее из сохранившихся, полно-
стью замкнутое внутреннее пространство воистину огромных раз-
меров и явно художественного замысла», причем он указывает
на то, что решительный сдвиг в направлении совершенствования
интерьеров произошел, безусловно, уже во времена диадохов54.
В данном случае совершенно несущественно, обоснованно ли
предположение Ригля с точки зрения истории искусств или прио-
ритет Пантеона может быть оспорен в пользу какого-либо друго-
го сооружения. Не подлежит сомнению, что ни египтяне, ни клас-
сическая Греция не знали интерьеров в подлинном смысле; что,
таким образом, длительное, многообразное, призванное демон-
стрировать величие развитие внешнего пространства предшест-
вовало развитию внутреннего.
Правда, история могла бы выявить здесь значительно больше
промежуточных оттенков, чем дает интересный набросок Ригля;
мы же не считаем возможным даже бегло останавливаться на
этом. И все же именно в интересах философского генезиса архи-
тектурного пространства было бы, как нам кажется, поучитель-
ным указать на два принципиальных заблуждения выдающегося
историка искусств. Первая ошибка Ригля состоит в том, что из
тенденции античного искусства «воспроизводить предметы внеш-
него мира в их очевидной материальной индивидуальности» он
выводит заключение, что эта тенденция «должна была намерен-
но отрицать существование пространства». И даже там, где он
добавляет, что за воплощенными вещами «признается полная
трехмерность», он тотчас ограничивает эту уступку, утверждая,
что это пространство должно проявляться как «непроницаемо
замкнутое, кубически измеримое», а «не как бесконечная бездна
между отдельными материальными вещами»55. Несмотря на то
что Ригль здесь сознательно исходит из определенных позити-
вистских догм (ближний вид, дальний вид и т. п.), думается, что
при этом не обошлось все же без влияния неверной гегелевской
теории архитектуры как «неорганической скульптуры». Ригль
явно относит свои замечания только к пластике; в ней простран-
ство действительно изначально «кубично», и весь пространствен-
ный внешний мир — насколько он вообще учитывается как пере-
живаемое пространство — сводится к непосредственному окруже-
нию творения. С точки же зрения архитектуры всегда что-то
конкретно пространственное включается в конкретный, тоже про-
странственный мир; искусство начинается там, где формообразо-
вание не просто объективно пространственно, а сознательно фор-
мируется так, чтобы его пространственное бытие-в-себе превра-
тилось в пространственное бытие-для-нас. Если бы самая прими-
тивная архитектура тоже была чисто «кубической», она не могла
89
бы быть искусством; так, каменные блоки старинных склепов
в действительности лишь «кубичны» и потому архитектурно
мертвы, не будучи способными пробудить никакой внутренней
жизни, никаких эстетически-пространственных эмоций. Принцип
жизненности в любом пластическом искусстве проистекает из
противоречивости изображаемого движения; диалектика «сию-
минутного», конкретно данного как зафиксированного состояния
неотрывна здесь от его предшествующего и его последующего
состояний.
У такого рода динамичности не может быть архитектурного
образа; противодействие силы тяжести и жесткости все время
приводится — хотя бы и за счет сложной системы опосредова-
нии— к статическому равновесию, к состоянию покоя. Поскольку
статика равновесия является объективным (самым общим, еще
дохудожественным) принципом любого строительства, поскольку
преобразование бытия-в-себе в эстетическое бытие-для-нас ни-
когда не может покоиться на неистинности, то в архитектуре
вообще не может быть никакого движения, динамичности, со-
ставляющих формальный принцип скульптуры. Поэтому совер-
шенно очевидно, что рассуждения Ригля о двухмерности никак,
не могут относиться к архитектуре. Они абсолютно правильно
характеризуют определенные, преимущественно египетские и пе-
реднеазиатские, формы рельефов, причем в наши задачи здесь
не входит хотя бы и самое беглое обсуждение их развития в сто-
рону трехмерности. Однако даже такая наиболее недифферен-
цированная архитектурная форма, как пирамида, не только объ-
ективно трехмерна, но и визуально воздействует как простран-
ство, хотя в некоторых ракурсах видна бывает только одна ее
сторона. Здесь обнаруживается вторая ошибка в теоретических
выкладках Ригля: он бессознательно исходит из таких высоко-
развитых форм преобразования архитектурного пространства,
как готика и барокко, применяет — опять-таки бессознательно —
этот критерий к ранним пространственным решениям и в резуль-
тате, последовательно доводя до конца свои ложные предпо-
сылки, находит на ранних этапах «отрицание» пространства. Од-
нако тем самым он путает и затемняет как раз ту линию разви-
тия, которую в остальном сам же правильно и проводит: ведь
не из отрицания же пространства проистекает позитивное архи-
тектурное пространственное восприятие. Скорее оно развивается
из первоначально относительно абстрактных и общих отношений
людей с тем пространством, которое они эмоционально-спонтанно
утверждают как свое собственное, пространством, все более раз-
вивающимся, все более обогащающимся социально значимыми
определениями. Так протекает процесс развития внешнего про-
странства от первых миметически преобразованных каменных
глыб и курганов до греческих храмов и развития интерьера, от
египетских «маленьких склепов с неприметными подступами, ко-
торых снаружи почти вообще не было видно»56, до Пантео-
90
на, верно охарактеризованного и проанализированного Риглем.
Все эти моменты генезиса в их динамической целостности
позволяют понятийно сформулировать эстетическую сущность ар-
хитектурного пространства. Однако сначала, в качестве конкрет-
ного наглядного примера, приведем интересные соображения
Леопольда Циглера по поводу купола работы Брунеллески, увен-
чивающего собор Санта Мария дель Фьоре во Флоренции; это
послужит исходным пунктом для наших последующих рассужде-
ний. Циглер описывает прежде всего новизну и оригинальность
его конструкции; детали и даже принципиальные выводы этого
описания мы можем оставить в стороне, поскольку в своей кон-
кретности они не относятся к рассматриваемой нами проблеме.
Циглер правильно отмечает, что значительная часть этих объек-
тивно обязательных конструктивных моментов, воплощенных
в зримой форме, не попадает в поле зрения. «Так что из дей-
ствительной конструкции обозреваем лишь минимум. Но что
очень существенно по своим последствиям, видимым оказывается
именно тот конструктивный минимум, который необходим для
наглядного представления о технической задаче и ее решении.
Ведь зрительное восприятие реагирует на конструктивное свое-
образие строения лишь в той мере, в какой оно получает яркое
и покоряющее наглядное представление о нем через внешнее
пространственное изображение... Таким образом, купол Санта
Мария дель Фьоре потому дарит столь невыразимо полное удов-
летворение, что конструктивные принципы перекрытия свода вы-
ражаются им через созерцание пространства, через формальный
ритм предельной упрощенности и лаконичности. Этот ритм внеш-
них форм сооружения, эта статически-математическая мысль,
транспонированная в наглядность, как раз и есть то, что делает
из конструктивно правильного сооружения произведение искус-
ства»57. Мы потому так подробно цитировали эти высказывания,
что в них с удивительной ясностью представлен принципиально
важный момент: воспринимаемое непосредственно как сущее,
каждое произведение архитектуры есть научно организованная
система отношений статического равновесия. Здесь, как и в каж-
дом технологическом применении научного отражения действи-
тельности, эти отношения трактуются как дезантропоморфиро-
ваныые, то есть при их претворении в практику рождается кон-
кретное и реальное пространственное формообразование (внеш-
нее и внутреннее пространство). Этот художественно сформиро-
ванный объект, разумеется, обнаруживает конкретную обуслов-
ленность формы и поэтому сам по себе совершенно не обязан
иметь дело с потребностями и запросами человеческой чувствен-
ности. С технологической точки зрения он может быть чрезвы-
чайно остроумным и для специалиста ясным и понятным (подоб-
но конструкции какой-то сложной машины), даже если для не-
посредственно-чувственного человеческого зрительного восприя-
тия он являет собой полный хаос.
91
Для того чтобы выявить возникающее здесь эстетическое
своеобразие архитектуры, необходимо в свете сказанного со всей
определенностью отметить его отличие от «математического» ха-
рактера музыки. Каждое музыкальное произведение строится из
одного и того же материала — звукового, образующего единую
(для всей музыки в целом) систему тонов; оно может рассмат-
риваться как в плане эвокативной аудитивности, так и в плане
математически-физической соразмерности, пропорциональности
и т. д., но в любом случае оно остается нерасчленимым (в от-
ношении материала) и в своей единости, нечленимости неупразд-
няемым, пребывающим творением. Как мы только что видели,
такая нечленимость в сфере архитектуры отсутствует. «Матема-
тическая» (точнее, дезантропоморфирующая) система отраже-
ния существует здесь независимо от ее эстетического преобразо-
вания, будучи сама по себе эстетически нейтральной. Роковая
для развития архитектуры теоретическая и практическая ошиб-
ка многих современных подходов (например, при строительстве
жилых зданий) заключается именно в том, что в объективно-
технологической конструкции какого-то сооружения — если она
удачна как таковая — усматривают нечто само собой разумею-
щееся эстетическое. Циглер же — и именно в этом его заслуга —
отмечает, что в плане эстетическом архитектурное произведение
должно обнаруживать качественно новые черты. То, что такие
черты были сформулированы здесь прежде всего негативно,
а именно как исключение из эвокативной системы визуального
объекта целого ряда моментов, необходимых в конструктивно-
технологическом отношении, не может ослабить этой радикаль-
ной новизны. Можно даже утверждать, что такого рода отбра-
сывание, отказ значат в художественном творческом процессе
нечто гораздо большее, чем просто отрицание. «Рисовать — зна-
чит пропускать», — говорил обычно Макс Либерман. Благодаря
этому возникает нечто качественно новое, и только тогда оно
фиксируется как эстетическое. Ибо любое подлинно художе-
ственное «отсечение» направлено на то, чтобы утвердить значи-
мость эстетической — антропоморфированной, соотнесенной с че-
ловеком,— конструкции (которая в архитектуре столь же непо-
средственно и очевидно не тождественна конструкции технологи-
ческой, сколь и пластически-визуальная не тождественна анато-
мической в скульптуре) как бесспорно суверенного, единственна
ведущего начала в переживании. Таким образом, опускание, от-
сечение— в том смысле, как это подробно изложено выше,—
есть отрицание, создающее конкретные и позитивные определе-
ния, и, следовательно, в эстетическом плане оно превосходит
чистое отрицание, образуя новые взаимосвязи, новую иерархи-
ческую систему взаимозависимостей и соподчинений.
Отметить различие между технологической и эстетической
конструкциями в архитектуре совершенно необходимо. Однако
если этот вопрос рассматривать подлинно диалектически, то нуж-
92
но сразу же добавить, что данное различие одновременно таит
в себе и момент единства. В противоположность всем другим
искусствам, в которых связь художественного отражения с его
непосредственным, отображенным прототипом в объективной
действительности часто чрезвычайно ослаблена, в которых имеет
силу лишь требование соответствия сущности, требование нахож-
дения и воплощения явлений, непосредственно и адекватно зри-
мо представляющих эту сущность, в архитектуре эта связь не-
сравнимо более отчетлива и обязательна. Система и иерархия
конструктивных факторов, составляющих эстетическую сущность
сооружения, в своей технической конструкции недвусмысленно
предопределены как по содержанию, так и по форме. Не только
анализированное выше отбрасывание, отсечение ограничивается
отбором из имеющихся технологических данных — и только из
них, — но и создаваемый в результате новый, визуальный, эвока-
тивный пространственный образ есть в конечном счете не что
иное, как транспозиция первоначальной, дезантропоморфирую-
щим путем возникшей конструкции в сферу человечески-визуаль-
ного. Этот факт кажется до тривиальности очевидным: ведь ху-
дожественное преобразование превратилось бы в чистый обман,
если бы отказ от конструктивных моментов не эвоцировал их
зрительно переживаемой сущности, если бы его попытались вы-
дать за конструкцию другого типа. Однако эта констатация, ко-
торая в своей очевидности кажется тавтологической, со всей яс-
ностью демонстрирует двойной характер мимесиса в архитектуре.
Когда ранее [с. 83 и ел.] мы указывали на миметическое
начало в отдельных моментах строительства на стадии генезиса,,
мы в то же время подчеркивали, что это не имеет решающего
значения для сущности архитектуры. Как мы убедились, ее фун-
даментом является дезантропоморфирующее отображение общих
закономерных связей во взаимодействии отдельных сил природы,,
разумеется, применительно к каждому конкретному случаю, еди-
ничность которого обусловливается определенными человечески-
ми целеполаганиями. Но в любом случае здесь возникает систе-
ма дезантропоморфирующих отражений: фиксирование всеобщ-
ности природных законов одновременно с их приложением к каж-
дому единичному случаю. Последний, однако, представляет собой
нечто чисто единичное лишь в плане применения универсальных
природных законов к воплощению заключенных в них целепола-
ганий. С точки же зрения характера его собственного содержа-
ния в нем самом тоже имеет место процесс обобщения. Уже то,
что, как мы отмечали, подлинно значительные произведения ар-
хитектуры порождаются целевыми установками коллектива и для
коллективных целей, привносит тенденции к обобщению в те це-
леполагания, которые ранее расценивались как единичное. От-
сюда следует, что задача, поставленная перед архитектурой об-
щественным коллективом, содержит активное обобщение опре-
деляющих социальных потребностей. Последние же существуют
93
непосредственно в виде спонтанных желаний, пристрастий, анти-
патий и т. п. отдельного человека; разумеется, они всегда явля-
ются— с объективной точки зрения — необходимыми следствия-
ми соответствующего общественного бытия, социального положе-
ния человека, национальных традиций и т. д. Постановка архи-
тектурной задачи ведет к их объективирующему — прежде всего
дезантропоморфирующему— синтезу, объективный характер ко-
торого отнюдь не отрицается, но лишь конкретизируется опреде-
ляющей его классовой установкой (внушающий почтение и даже
трепет вид крепости, замка и т. п.). Взаимосвязь обеих
этих обобщенных — дезантропоморфированных — систем в рам-
ках социально обусловленной задачи с ее научно-техническим
решением порождает описанную выше общую, конечно, еще не
художественную форму сооружений.
В результате же упомянутого акта отсечения, отбора, новой
«систематизации в духе Брунеллески общая система преобразует-
ся в некое особенное, соотнесенное с чувственно-визуальными,
жизненно важными духовными потребностями людей. Что же
представляет собой по содержанию это изменение, столь суще-
ственное для людей? Ведь для того, чтобы неизбежное преобра-
зование абстрактных конструкций в конкретно-визуальное —
г тем самым и в чувственно-эвокативное — могло функциониро-
вать в качестве основы своеобразного эстетического отражения
действительности, в качестве основы некоего особого искусства,
оно должно проявить себя как духовно-умственное содержание,
•общественно необходимое для жизни, становления и развития
человечества. Именно для того, чтобы дать ответ на этот вопрос,
мы при описании генезиса архитектуры придавали столь боль-
шое значение эмоциям, которые пробуждало зодчество, те или
иные сооружения еще на доэстетической стадии (уверенность в
безопасности, гордость и т. п.). Поскольку на протяжении дли-
тельного времени строения, рассчитанные на чисто практические
(а также магически-практические) цели, вызывали подобные
эмоции, у людей развилась сигнальная система Г; на ее основе
условные рефлексы на высоту, внушительность и прочие качества
сооруженного ограждения ассоциируются с чувством надежно-
сти, а пространственно-организующие формы строений и возни-
кающие благодаря им внешнее пространство и интерьеры приоб-
ретают эвокативный характер уже непосредственно как про-
странственные формы. И как это обычно бывает при таких
трансформациях просто нужного в эстетическое, постепенно про-
исходит дифференцирование, совершенствование, расширение,
углубление и т. п. пробужденных таким образом эмоций.
Если на этот комплекс эмоций, проистекающий, правда, из
крайне разнообразных источников и поэтому охватывающий по-
началу различные, даже чужеродные друг другу чувства, взгля-
нуть теперь как на общественно-исторически сложившееся един-
ство, то его содержанием, его единой основой выступит очелове-
94
ченное пространство, то есть пространство, освоенное человеком.
В иной связи мы приводили [см. т. 2, с. 322] высказывание
Маркса о времени как пространстве человеческого развития^
и указывали на то, что при этом имеется в виду нечто значитель-
но большее, чем просто метафора. Не пытаясь механически при-
менить слова Маркса к рассматриваемой нами проблеме, но сле-
дуя ходу его мысли, можно сказать, что и здесь речь идет о рас-
ширении переживания пространства (а тем самым опосредован-
но— и его антропоморфирующего понимания). Уже говорилось-
о том, что в повседневной жизни спонтанно происходит антропо-
морфизация пространства. Однако оно еще не приобретает тем
самым свойств, которые могли бы превратить его в такого рода
собственное пространство людей. Напротив, в условиях повсе-
дневности в центре чувственной жизни часто в силу необходимо-
сти находится именно его независимый от человеческого созна-
ния, чуждый человеку, даже — в плане непосредственной антро-
поморфизации — враждебный ему характер. Только когда чело-
век подчиняет природу своим целевым установкам, у него может
по отношению к некоторым частям пространства возникнуть
ощущение, будто бы они принадлежат к окружающему его миру
как элементы его расширенной индивидуальности. Именно здесь-
архитектура обретает черты подлинного искусства. Конечно, не
случайно, что она становится им только там, где сознательное
создание такого пространства совершается на коллективной ос-
нове, где его характер определяют нужды и требования не от-
дельного человека, а какого-то сообщества. (Единоличный вла-
ститель древних восточных обществ выступает естественным
представителем такого сообщества.) Для каждого такого кон-
кретного коллектива возникают первые архитектурные произве-
дения. Их формальный язык — хотя бы он и был еще столь упро-
щенным, как у создателей пирамид, — существует в данном слу-
чае для того, чтобы синтезировать подобные комплексы эмоций
отдельных людей во всеобщие системы, охватывающие данное
объединение людей в целом; вместе с тем под его эвокативным
воздействием различные чувственные потоки, на протяжении
длительных периодов направлявшиеся пространственными кон-
фигурациями и развивавшиеся раздельно, объединяются в этих
комплексах в единый общий поток. Поскольку такое простран-
ство становится теперь необходимой и адекватной ареной важ-
нейших коллективных действий человека, оно выступает как соб-
ственное пространство человека, единственно соразмерная ему
среда, единственно адекватное окружение для наиболее важно-
го содержания его жизни. Этот коллективный базис проявляет
себя и там, где строительство служит частным целям. Прежде
всего нельзя забывать, что связь индивидуальной жизни с ее со-
циальной основой в докапиталистических обществах была значи-
тельно теснее и непосредственнее, чем при капитализме. Част-
ное лицо, поручавшее строить для своих собственных целей, де-
95
лало это в качестве члена какого-то сословия и т. д., и строение
всегда значительно сильнее выражало собственное пространство
соответствующего социального слоя, чем частные свойства его
обладателя. К итальянскому палаццо времен Возрождения это
относится в той же мере, как и к античной вилле или к дому
средневекового горожанина.
Категориальный процесс эстетического полагания в архитек-
туре мы описывали [с. 93 и ел.] как превращение посредством
нового мимесиса всеобщего в особенное, то есть как преобразо-
вание системы освоенных мышлением природных законов, систе-
мы подчиненных им столкновений природных сил, с одной сто-
роны, и обобщенной общественной потребности ставшего всеоб-
щим социального задания, с другой стороны, в конкретное, ви-
зуально-эвокативное пространство. Категориальное превращение
здесь следует понимать буквально: то содержание, которое рож-
дается из научно-технического решения социального задания,
превращается в переживаемое единство; поэтому структурные
моменты зодчества в их визуально-эвокативной переработке —
и вследствие этой переработки — выражают самую сущность со-
циального задания и его технологического решения, концентри-
руясь на эстетическом, и в результате этого синтезируют чувства
и мысли человека, ранее рассеянные и обособленные, в единое
переживание его собственного пространства. Однако удовлетво-
рительное осуществление этого превращения должно достигаться
архитектурным решением пространства как такового. Мы пока-
зали [с. 75 и ел.], что инстинктивно верная попытка Гегеля
понять архитектуру как искусство должна была потерпеть неуда-
чу, поскольку он способен был трактовать это осуществление
только как изображение богов (олицетворение человека). Мы не
можем здесь подробнее остановиться на крайне сложной пробле-
матике, вырастающей из постоянно предпринимаемых попыток
органического объединения архитектуры и скульптуры, на стрем-
лениях привести присущие им диаметрально противоположные
тенденции формирования пространства к взаимному усилению.
Достаточно, констатировать тот факт, что архитектура перестала
бы существовать как самостоятельное искусство, что она оста-
лась бы на уровне просто полезного, если бы ее задача ограни-
чивалась созданием среды, обрамления для самоизображения
человека в форме скульптурных божниц. Разумеется, потреб-
ность, истолкованная Гегелем как единственная цель архитекту-
ры, существовала как часть социального задания религиозной
архитектуры. Но помимо того, что существовала — и по мере
развития общества во все возрастающей степени — также архи-
тектура светская, речь идет при этом о задаче, поставленной
в общей форме и исполнимой именно потому, что это общее пре-
образуется в архитектурное особенное, в органическую часть
воспринимаемого как единое пространства.
Специфика архитектурного пространства заключается в его
96
реальности. В живописи, а также в скульптуре создается про-
странство, эстетическая сущность которого проявляется чисто
миметически; оно возникает благодаря тому, что в качестве по-
добного пространства миметически отображенные фигуры обра-
зуют свой собственный, соразмерный им визуальный окружаю-
щий мир. (То, что живопись и скульптура и в этом отношении
качественно отличаются друг от друга и обе подверглись боль-
шим историческим изменениям, здесь можно не обсуждать.) Ар-
хитектурное пространство, напротив, есть нечто реальное: оно
окружает целостного человека повседневности и его превраще-
ние в направляющую эвокацию гомогенную посредующую систе-
му архитектуры преобразует этого человека в цельного человека
этого искусства. Только так, только в качестве реального про-
странства оно может стать собственным пространством человека
в самом непосредственном смысле. Ибо адекватность простран-
ства заполняющим его и окружаемым им человеческим объектам
(людям и вещам, тесно связанным с их существованием, опосре-
дующим их отношения с ближними, с природой) всегда является
для рассматривающего живопись и скульптуру переживанием на
уровне созерцания объектов, находящихся вне его «Я» и могу-
щих возвыситься до его собственного мира только посредством
tua causa agitur; они образуют некий ему противостоящий «мир»,
к которому он причастен через рецептивное переживание. В ар-
хитектуре же он со всем своим телесно-духовным бытием непо-
средственно окружен художественно преобразованным простран-
ством; последнее представляет собой некий «мир», в своей реаль-
ности непосредственно соотнесенный с реальным человеком; че-
ловек живет в этом пространстве в буквальном смысле.
Этот реальный характер архитектурного пространства дает
ключ к пониманию специфического свойства мимесиса в данном
искусстве. При любом другом эстетическом претворении реаль-
ность проявляется как чисто миметическая, как положенная.
Если эстетическое полагание снимается, любое произведение
искусства теряет свою реальность, упраздняются и обусловлен-
ные им формы предметности; картина в таком случае есть про-
сто кусок холста с цветовыми пятнами и т. п. Архитектурное же
пространство — независимо от всякого эстетического полага-
ния — остается точно и конкретно организованным реальным
пространством; то, что в нем эстетически положено, есть специ-
фическое качество его реальности, и реальность как таковая
остается неизменной также и после снятия эстетического пола-
гания, просто субъект, существующий в этом пространстве, ее не
замечает; вспомним наш пример с куполом Брунеллески во Фло-
ренции, где все эстетические изменения в зримых конструкциях
(«отбрасывание») точно так же материально-реальны, как и те,
что ими закрыты. Если теперь рассмотреть этот феномен в пд^не
миметическом, то и здесь, как ранее в музыке, обнаружится
двойной мимесис. Изначальная, первая форма отражения, ото-
7-805
97
бражающая такие природные закономерные явления, как тя-:
жесть и жесткость в их статическом равновесии, по своей сути
относится к тому же дезантропоморфно-научному типу, что к
вторая, понятийно обобщающая социальное задание, вызреваю-
щее в отдельных людях. Эта двойная система дезантропоморфи-
рующих отражений действительности становится затем объек-
том некоего второго мимесиса, антропоморфно-эстетического,
который, однако, не снимает уже объективно наличествующую
или спроецированную на основе первого мимесиса реальность
пространства, а «просто» качественно преобразует его конкрет-
ную сформированность в соответствии с принципами эстетиче-
ского.
Итак, в основе архитектуры, как и музыки, лежит двойной
мимесис. В рамках этого последнего, как мы видели [с. 39
и ел.], посредством второго мимесиса, осуществляемого гомоген-
ной посредующей системой, происходит превращение уже самих
по себе миметических эмоций в чисто аудитивные (то есть в му-
зыку), и как следствие этого рождается предельно возможная,
чистейшая форма внутреннего мира, какая только доступна че-
ловеку, происходит полное раскрытие эмоций в соответствии с их
собственной динамикой и логикой, независимо от тех стимулов
или препон для их возникновения, развития, углубления и т. п.,
которые создают жизненные причинные связи. Двойной мимесис
в архитектуре носит качественно иной характер, в силу чего и все
в свое время признанные параллели между обоими искусствами
вынужденно предстают как необоснованные аналогии. Во-пер-
вых, первичные формы отражения в архитектуре носят дезантро-
поморфический характер, причем ориентированный не просто
теоретически, но технологически, так что они приводят к возник-
новению замысла реального, практически используемого соору-
жения. Во-вторых, синтезируя обе практически конвергирующие
всеобщности в единое особенное, эстетический мимесис этого от-
ражения не просто дает какой-то аспект, отображение этой пер-
вичной действительности, но также перестраивает ее саму в
практически-реальном смысле, делает из реального пространства,
служащего практическим человеческим целям, такое, которое
идет навстречу тем же самым целям также и в качестве направ-
ляющей гомогенной системы опосредования, пробуждающей глу-
бокие переживания. Это значит, что и человек, ставший эстети-
чески восприимчивым, больше уже не противостоит просто со-
зерцательно какому-то уже сформированному пространству,
а свободно пребывает в предназначенном для него, соразмерном
с его умственной и чувственной жизнью пространстве.
Это пребывание как таковое (и здесь ясно проявляется спе-
цифика данного пространства) отнюдь не обязано иметь эстети-
ческий характер. Если живописное пространство предполагает
в качестве предпосылки строгую эстетическую компоновку всех
имеющих в нем место миметически охваченных движений, то ар-
98
хитектурным пространством человек овладевает — причем имен-
но в эстетическом смысле — как раз с помощью своих спонтан-
ных, не регулируемых эстетически, реальных движений. Опреде-
ленный тип движений воспринимающего субъекта имеет место
и при рассмотрении живописи и особенно скульптуры, например
если такое произведение созерцается последовательно со всех
сторон. Однако в этом случае просто меняются — по отношению
к произведению — точки, с которых оно воспринимается, и даже
их синтетическое объединение никак не сказывается на чистой
созерцательности их характера. Напротив, в архитектурном про-
странстве движения человека обусловлены либо чисто спонтан-
но, либо все же какой-то не эстетической целью (магические или
религиозные церемонии в храмах, общественное представитель-
ство во дворцах и пр.). Эстетический характер архитектурного
пространства в этих случаях проявляется в том, что гомогенная
посредующая система его сформированного бытия обладает эво-
кативным воздействием, в результате которого эмоциональный
характер таких акций намного превосходит то, что в них как
таковых обусловлено целью. Следовательно, эстетическое отно-
шение к архитектурному пространству, его освоение человеком
неразрывно связаны с возможностью — изначально не эстетиче-
ской— жить в этом пространстве. Только благодаря тому, что
человек живет таким образом в подобных пространствах, каждое
из них становится собственным пространством человека, про-
странством, в котором его связи с внешней (необходимо про-
странственной) действительностью, углубленные до максимума
их интенсивных возможностей, могут быть выражены во всей
чистоте их внутренних определений. И даже если при этом не
происходит обязательное отделение эстетического от магической
или иной целесообразности, а, наоборот, оба эмоциональных
комплекса объединяются субъективно неразрывно, тем не менее
возможность того, что переживания, аналогичные содержащимся
в других эстетических формах, могут быть вызваны даже после
полного общественно-исторического отмирания первоначально
эвоцирующих их мотивов, и здесь свидетельствует о реальном
отделении эстетического от изначально неразрывно с ним свя-
занных целеполаганий.
Подлинное своеобразие двойного мимесиса архитектуры мо-
жет быть понято только на основе особой реальности ее творе-
ний. Примечательно, что Кант в духе своей идеалистической
эстетики иллюстрирует свое утверждение, что для правильной
эстетической позиции «нельзя ни в малейшей степени быть заин-
тересованным в существовании вещи», ссылкой на архитектуру58.
Его предыдущие замечания, из которых самое интересное — упо-
минание о ненависти Руссо к расточительству великих мира се-
го, ни о чем не говорят. Ибо подобного рода политическую или
религиозную страстность можно обратить и в разрушительные
' акции, но наша проблема при этом не будет затронута даже от-
7*
99
даленно. Скажем, штурм Бастилии «отрицает» здание, вплоть до
того, что оно сравнивается с землей, но то же самое происходило
в иконоборчестве с картинами и статуями, при сожжениях книг —
с литературными произведениями и т. д. Во всех этих явлени-
ях—равно как и в других, значительно менее ярких, но анало-
гично интенционированных повседневных аффектах — речь идет
о художественных произведениях, выполняющих определенные
социальные, религиозные, политические и прочие функции в об-
ществе и потому могущих стать объектами общественных проти-
воречий, классовой борьбы. В этом отношении никакого значи-
тельного различия между архитектурой и другими искусствами
не существует.
Отличие, которое имеем в виду мы, возникает, скорее, в эс-
тетической сфере. Как мы видели, оно заключается в следую-
щем: в других искусствах действительность, соразмерная чело»-
веку, создается тем, что специфическая гомогенная посредую-
щая система реализует адекватное ей изображение в
художественном произведении. В архитектуре же происходит
соответствующее преобразование, трансформация созданного,
по-прежнему остающегося реальностью. Отсюда возникают не-
которые важные модификации в категориальной структуре ху-
дожественного произведения. В предыдущей главе мы подробно
анализировали, как из бытия-для-нас эстетического отражения,,
из его фиксирования в художественном произведении возника-
ет своеобразное бытие-для-себя. Такая структура, основопола-
гающая для эстетики, должна, разумеется, существовать и в
архитектуре. Но она претерпевает здесь достаточно существен-
ную модификацию вследствие того, что изначальное проявле-
ние архитектуры, которое, как мы знаем, базируется на двой-
ном дезантропоморфирующем отражении объективной действи-
тельности, как таковое должно быть для-себя-сущим. Второй,,
собственно эстетический мимесис не может снять и не снимает
это для-себя-бытие (в то время как любое другое эстетическое
полагание снимает для-себя-бытие его непосредственных объек-
тов, его, так сказать, «моделей» и переводит их в новое, чисто
эстетическое для-себя-бытие) ; преобразование происходит
«лишь» в том отношении, что в этой для-себя-сущей действи-
тельности выделяются особенности, способные действовать как
эстетическое бытие-для-нас в переживании пространства, а те,
которые этому не способствуют или даже могут препятствовать,
исчезают (маскируются и т. д.). Но поскольку при этом пере-
моделировании изначальная действительность как таковая ос-
тается неизменной, то и это новое бытие-для-нас может прев-
ратиться в эстетическое для-себя-бытие, сохраняя при этом в сня-
том виде свое изначальное для-себя-бытие в гегелевском понима-
нии этого тройственного акта. Здесь перед нами
действительность — единственная во всей жизненной сфере че-
ловека, — конкретный способ проявления которой сознательно
100
рассчитан на регулирование эвокативных переживаний. Таким
образом, имеется реальное пространство, весь способ проявле-
ния которого как в его взаимосвязях, так и в его деталях воз-
ник с целью направления эвокаций. Это есть реальное прост-
ранство, во всех отношениях рассчитанное на удовлетворение
потребностей человека, на его внутренние запросы в области
переживаний. Поэтому мы могли назвать его собственным про-
странством человека; это пространство как таковое обладает
эстетическим для-себя-бытием.
Если детально исследовать двойной мимесис в архитектуре,
то есть отмеченное выше превращение двух всеобщностей в не-
кое единое особенное, с точки зрения сказанного, то мы столк-
немся со специфическим своеобразием архитектуры, о котором
в иной связи говорили и раньше. Речь идет о ее неспособности
художественно выразить нечто негативное. Бесконечная шкала
эмоций и мировоззренческих установок, простирающаяся от
трагедии до комедии, сатиры, карикатуры, самим существом
архитектурного миросозидания заведомо исключается из кос-
моса эвокаций, на которые способна архитектура. Но это огра-
ничение эвоцированного содержания не следует понимать в от-
рицательном, и тем более в уничижительном, смысле. Когда
какое-то искусство или художественный жанр не в состоянии
включить в свой «мир» те или иные феномены жизни, всегда
имеется в виду, что определенное отношение человека к дейст-
вительности, определенное направление развития его внутрен-
него мира, определенное отношение его индивидуальной лич-
ности к человечеству и развитию последнего — конкретно
опосредованные классовой, национальной принадлежностью и
пр. — могут проявить себя только через такой тематический
или структурный отказ. Человеческое — в его сложной и раз-
ветвленной опосредованное™ — не есть незыблемо установлен-
ная, замкнуто однородная, «вечная» идея в платоновском смыс-
ле, в которой «участвовали» бы, с тенденцией полностью рас-
твориться в ней, отдельные объективации или типы отношений.
Скорее уж это живой, постоянно развивающийся, обогащаю-
щийся и углубляющийся динамический синтез всех действий,
мыслей и чувств отдельных людей, классов, наций, составляю-
щих человечество в исторической действительности. Искусство
как самосознание подобного процесса развития может охватить
эту тональность в силу необходимости экстенсивно, но никог-
да — uno actu. Его разделение на отдельные, строго дифферен-
цированные искусства направлено как раз на такой охват от-
дельных существенных реальных моментов, при котором в их
интенсивной целостности важные моменты этого целого сохра-
нились бы как содержание самосознания. И именно поэтому
стремление отдельного человека к собственному всестороннему
раскрытию — высшая ступень его самовозвышения до общече-
ловеческого— тоже не является обретением некоего готового
101
бытия, в котором все возможные определения могли бы в эк-
стенсивной полноте развернуться одновременно. Есть и остает-
ся стремление, попытка приближения как к экстенсивной, так
и к интенсивной бесконечности, которая —сама по себе —со-
держится (точнее сказать: объективно развивается) в этих гра-
ницах всесторонности; и такое отношение стремления и задачи
с непреложной необходимостью утверждает как множествен-
ность путей, так и всегда лишь приблизительный характер воз-
можных реализаций.
Так что если это отсутствие, отрицание всякого отрицания,
любой борьбы между позитивным и негативным, относится
к существеннейшим чертам архитектуры, то тут же возникает
вопрос: в чем состоит человеческая ценность этого отрицания
в области искусства-^-исключительного, непосредственного
и абсолютного? Чтобы ответить на этот вопрос, следует исто-
рически исходить из того, что нами отмечалось в генезисе ар-
хитектуры: а именно из того, что как подлинное искусство она
могла возникнуть только в период формирования относитель-
но крупных государств, и прежде всего — крупных городов.
К тому же (здесь берет свое начало историческая причина пре-
вращения строительства в архитектуру) произойти это могло
только тогда, когда стало возможным и необходимым, чтобы
целевая установка, определяющая конструкцию и качествен-
ные особенности сооружения, обрела коллективный характер.
Разумеется, последний является лишь исходным пунктом спе-
цифической сущности архитектуры, так как и на значительно
более примитивных стадиях цель, непосредственно определяю-
щая художественную практику, была магической, а значит —
коллективной. Впрочем, эта коллективная определенность ху-
дожественной практики, еще не осознанной как таковая, всегда
ориентирована непосредственно на человека (танец, пение
и т. п.), так что даже в самый начальный период должно было
происходить опеределенное снятие чистой партикулярности че-
ловеческого в коллективе. Позднее, после распада первобытно-
коммунистического общества и с возникновением классовых
обществ, общественно всеобщее во всех этих искусствах могло
эстетически проявиться только тогда, когда объектами эстети-
ческого мимесиса стали — в соответствии с их значением —
конкретные противоречия между человеком и обществом
(в форме ли конфликта между отдельным человеком и классом
или нацией или в форме столкновения между классом и всем
обществом/ между отдельными классами и т. п.). Единствен-
ное исключение составляет, по-видимому, абстрактная орнамен-
тика. Но, как мы знаем, она, с одной стороны, является искус-
ством внемириым, а с другой стороны, именно поэтому ее рас-
цвет приходится на не полностью развитое состояние общества.
Теперь не слишком трудно пролить свет на рассматриваемое
нами особенное в архитектуре. Архитектура есть то миросози-
102
дающее искусство, которое, однако, не связано непосредствен-
но с человеком, и прежде всего с отдельным человеком, но соз-
дает для него — разумеется, лишь как члена какого-то обще-
ственного коллектива — соразмерную ему и эту соразмерность
визуально эвоцирующую реальную пространственную среду.
Однако в мире, созданном архитектурным произведением, нет
места самому человеку как объекту мимесиса. Именно соз-
дание одновременно соразмерного человеку и реально окру-
жающего его пространственного мира исключает подобное ху-
дожественное его воплощение: как реальный человек он принад-
лежит этому «миру», но не сфере его мимесиса; его реальное
существование в этом мире есть адекватное отношение к нему.
В этом выражаются прежде всего основополагающие опреде-
ления пространства в связи с такими неотделимыми от него
категориями, как время, движение и материя. Гегель правильно
говорит: «Мы не можем обнаружить никакого пространства,
которое было бы самостоятельным пространством; оно есть
всегда наполненное пространство, и нигде оно не отлично от
своего наполнения. Оно есть, следовательно, некая нечувствен-
ная чувственность и чувственная нечувственность»59. Здесь
четко обозначены философские основы двух ранее нами отме-
ченных констатации. Во-первых, подчеркнута роль претворен-
ного в практику двойного мимесиса, который таким образом
создает для-себя-сущее пространство. Модификации, совершае-
мые архитектурой в отношении гегелевского абстрактного все-
общего определения пространства, а именно — то, что ведущий
принцип в ней составляет не столько «наполненное», сколько
конкретно ограниченное пространство, не затрагивает решающе-
го в ней, тем более что наполнение пространства (особенно
внешнего), в сущности, вряд ли отделимо от его ограничения.
Таким образом, двойной мимесис в эстетическом полагании архи-
тектурного пространства есть — как в любом искусстве, хотя
здесь и совершенно специфическим способом, — полагание некое-
го для-себя-бытия, подтверждающее — именно потому, что в этом
мимесисе бытие-в-себе превращается в некое бытие-для-нас,—
свой эстетический характер, то есть господство особенного в ан-
тропоморфически претворенной действительности.
Во-вторых, именно при грубой материальности гомогенной
системы опосредования в архитектуре крайне важно, что Ге-
гель столь энергично подчеркивает диалектически-противоречи-
вое единство чувственного и нечувственного. Если бы архитек-
тура была исключительно реальным воплощением материи,
просто отражением ее внутренних закономерностей, то речь
могла бы идти только о дезантропоморфирующем отражении
и его практическом применении. Любое сооружение вело бы
к некоему «для-себя-сущему-бытию», к конкретно-материально-
му существованию, чья суть ограничивалась бы тем, что оно
фактически исключало бы другие пространства. Только благо-
103
даря тому, что эстетическое полагание в состоянии возвести
даже нечувственное начало пространства в новую, синтезиро-
ванную чувственность соответствующей гомогенной посредую-
щей системы, становится возможным это эстетическое для-себя-
бытие архитектурного пространства, далеко выходящее за пре-
делы просто наличного бытия. (Мы не имеем возможности
описать здесь, как аналогичное возвышение происходит, напри-
мер, в живописи или пластике. Достаточно отметить, что чисто
миметическое снятие должно быть качественно иным.) Архи-
тектурно полагаемое пространство перенимает все конструк-
тивные особенности «для-себя-сущего-бытия», в нем «всего
лишь» сознательно выделяется структура последнего как ви-
зуальная эвокация. Это означает, что материя как таковая —
со всеми ее закономерностями, возведенными теперь на уровень
зримости, — становится основополагающим фактором данного
пространства. Эта взаимосвязь ведет к проявлению всех
моментов той целостности, которая, как правильно показал
Гегель, состоит из пространства, времени, движения и материи.
Особенное в архитектурном пространстве заключается в том,
что оно само и материя становятся в нем решающими момен-
тами единства. «Материя, — говорит Гегель, — является отно-
шением между пространством и временем как их покоящимся
тождеством»60.
Тем самым из данного синтетического единства движение
исчезает. И действительно, как раз отмеченное здесь покоящее-
ся тождество относится к сущности архитектуры. Мы уже ука-
зывали на то, что в архитектурно претворенном столкновении
сил природы оно становится визуально переживаемым не в
своей изменчивой динамике, а как статика равновесия, ра-
зумеется, полная напряжения. На первой — дезантропоморфи-
рующей — стадии отражения это является технологической
необходимостью; на не полностью статической основе прак-
тическая надежность любого строения была бы невозможной.
Однако, поскольку искусство посредством повторного отраже-
ния конкретизирует это дезантропоморфированное всеобщее,
это отражение всеобщих природных законов как визуально-
эвокативное особенное, то в границах данной чистой матери-
альности и незыблемой статичности возникает сложная
взаимопереливающаяся подвижность, которая — если она насы-
щается существенным и реальным общественно-человеческим
содержанием — создает из такого визуального пространства
«мир», мир человека. Этот мир возникает уже в визуальной
конкретности преобразованного пространства. В иной связи,
когда речь шла об объективности времени [с. 27 и ел.], мы
ссылались также на высказывания Гегеля об особенном в ре-
альном существовании прошедшего и будущего; дополним их
его замечаниями о реальности этих временных измерений в при-
менении к пространству. Гегель говорит: «Но прошедшим и бу-
104
дущим временем как существующим в природе является прост-
ранство»61. Поэтому статика в преодолении законов природы
претворяется в визуальной эвокации какого-то подлинного ар-
хитектурного пространства, выступая в качестве носительницы
долговременности, даже вечности, когда безграничное прошед-
шее и столь же безграничное грядущее бытие спонтанно вклю-
чаются в переживание подобного пространства.
Это необходимое, эстетически-нормативное действие архи-
тектуры получает дальнейшее усиление в адекватном субъек-
тивном отношении к нему. Ранее [см. т. 2, с. 328 и хл.] мы уже
отмечали, что в противоположность живописи и пластике, где
квазивремя есть также и объективная эстетическая категория,
в архитектуре оно может быть только субъективным. Но к тому
же оно имеет здесь совершенно особую окраску. Движение че-
ловека в архитектурном интерьере, его движение относитель-
но внешнего пространства (приближение и т. д.) не только яв-
ляются необходимыми эстетическими предпосылками рецептив-
ного поведения (архитектурное произведение в своей
композиционной целостности принципиально не может воспри-
ниматься только с одной точки), но в неразрывной связи с этим
приобретают значение овладения человеком данным комплек-
сом действительности. Архитектурная композиция, вырастаю-
щая на основе многочисленных сложных объективных опреде-
лений, уже, как мы видели, объективно несущая в себе и гос-
подство человека над силами природы, получает свое реальное"
интенциональное осуществление именно в таком ее освоение
происходящем посредством движений человека в этом прост-
ранстве, по направлению к нему, вокруг него и т. д. Только
эти движения человека, соотнесенные с архитектурным прост-
ранством, и довершают целостный характер данного простран-
ства как для него самого, так — вследствие этого — и для чело-
века. О движении в упомянутом общем комплексе Гегель го-
ворит: «Движение является процессом, переходом времени в
пространство, и наоборот...»62 Благодаря тому что это движе-
ние выполняет целевые установки, объективно лежащие в ос-
нове всего зодчества и обусловливающие конкретно-неповтори-
мый, трансформированный в особенное характер статики
в столкновении природных сил, этот субъективный образ дей-
ствий обретает повышенный внутренний пафос: он может стать
соразмерным, даже расширяющим и углубляющим органом того
«мира», который претворяет в жизнь архитектурное простран-
ство в качестве рецептивного бытия-для-нас; Естественно, та-
кой субъективный образ действий обусловлен общественно-
исторически, то есть он пребывает в непосредственной неиз-
менности лишь до тех пор, пока живыми действующими силами
в совместной жизни людей являются доэстетические цели стро-
ительства. Но именно здесь, как и в других искусствах, про-
изведение обнаруживает свой — изначально часто неосознанно
105
складывающийся —эстетический характер. Отмирание тех ус-
тановок, которые первоначально породили зодчество и субъек-
тивное отношение к нему, не должно приводить к исчезновению
эстетического пространства и связанных с ним переживаний.
Безусловно, пространство как таковое выражает изначальную
эвокативную интенцию столь интенсивно, столь отчетливо, что
его в данном случае чисто эстетическое переживание может со-
хранять в себе важнейшее эмоциональное содержание, связан-
ное с возникновением этого пространства и его воздействием
на современников, разумеется с многообразными модификация-
ми. Так что отмирание или выживание такого содержания прин-
ципиально не отличается от аналогичных процессов в истори-
чески сложившихся функциях других искусств. И здесь вопрос
о его актуальности или обесцененности решается его включен-
ностью в развитие самосознания человеческого рода и каждый
раз ею обусловливаемым, живым и жизнеутверждающим чув-
ством сопричастности к нему — tua res agitur.
Таким образом, очевидно, что обрисованные здесь эвоциро-
ванные эмоции должны иметь коллективный характер, направ-
ленный непосредственно на всеобщее, но в качественно ином
плане, нежели в других искусствах. Не говоря об этом прямо,
мы во всех наших последних рассуждениях постоянно подра-
зумевали элиминацию из «мира» архитектуры отрицания, от-
крыто проявляющейся противоречивости. В силу общественной
сути человека субъектом покорения природы не может быть
единичный индивид. Даже технологически еще не специализи-
рованное, направленное на самые общие законы освоение при-
родных сил выражает могущество общества, а не отдельного
человека в овладении природой. Целевая же установка, лежа-
щая в основе зодчества, тем более является необходимо и не-
посредственно коллективной. Как мы видели [с. 96], это рас-
пространяется и на сооружения, служащие частным целям. Не
говоря уже о первичном, общем отражении, которое может
быть только коллективным, в эстетике частного дома классо-
вая определенность индивида превалирует над его чисто лич-
ностной партикулярностью. Разумеется, коллективность в дан-
ном ее историческом проявлении есть результат классовой борь-
бы; слова Маркса о том, что господствующие идеи эпохи суть
идеи господствующего класса, более чем справедливы и в от-
ношении архитектуры. Но если в других искусствах — в каж-
дом по-разному — отражения этой борьбы, ее внутреннего и
внешнего антагонизма, ее взлетов и падений, ее трагических и ко-
мических сторон проявляются собственно миметически, то ар-
хитектура— в несколько упрощенном выражении — представ-
ляет всегда лишь соответствующие ее результаты, а не
ее общественное развитие. Мы подчеркиваем нашу оговорку
относительно этой упрощенности, так как любой результат был
бы пустым, абстрактным, внемирным, если бы в нем непосред-
106
ственно не прослеживался его генезис. Однако при этом каче-
ственная противоположность другим искусствам не снимается
и даже не смягчается. Ибо архитектура, в отличие от них, вы-
ражает не борьбу в рамках данного общества, не единоборство
человека с природой, не процесс «обмена веществ» общества
с природой, но прежде всего — подчинение природы требова-
ниям конкретной человеческой группы, причем выражает дос-
тигнутый при этом уровень, равно как и цели человека, дейст-
вительно реализованные в этом процессе.
Это значит, что все негативное вдвойне полагается как не-
существующее, как полностью лежащее вне данной сферы. Во-
первых, визуально утверждаемая статика архитектурной, фор-
мирующей пространство конструкции выражает достигнутую
ступень в овладении силами природы с гордостью окончатель*
ной и увековеченной победы. Уже преодоленное исчезает бес-
следно, и ничто не указывает на дальнейшее продвижение.
Разумеется, в конкретности достигнутого уровня имплицитно
содержатся (но лишь объективно, лишь сами по себе) прошед-
шее и будущее; тем не менее формообразование как таковое
есть окончательное фиксирование того, что было достигнуто
к данному моменту. И если вспомнить, что каждое художест-
венное произведение именно в своем глубочайшем художест-
венном воздействии всегда увековечивает свое собственное мес-
то в процессе развития человечества, то станет понятно, что
архитектура просто прямее, непосредственнее, без преодолен-
ных диссонансов, а потому и без перспектив на будущее, соот-
несена с тем же самым конечным объектом, который в других
искусствах выражается сложнее, опосредованнее, противоречи-
вее. Поэтому видеть здесь какое-то отречение, скудость — зна-
чит искажать истинное положение дел. Напротив, это отрица-
ние всякой негативности обусловливает единственное в своем
роде своеобразие архитектуры, а именно то, что только она
одна в состоянии непосредственно выявить общественное бытие
какого-то периода во всей совокупности, сделать общественные
установки, претворяющиеся в жизнь через многообразные опос-
редования действий, мыслей и т. п. отдельного человека, эф-
фективными в качестве непосредственной, чувственно-очевидной
эвокации. Общественный пафос, хотя и весьма опосредованно,
но все же так или иначе присутствующий во всяком искусстве,
здесь выступает в наиболее чистой форме; отсутствие негатив-
ности вырастает в чистую и зрелую позитивность. Так же об-
стоит дело в архитектуре и с развитием внутренних противоре-
чий данного уровня общественного развития. И здесь резуль-
татом является не абстрактное неприятие его общественных
предпосылок, не просто освобождение от них. С одной стороны,
архитектурное решение включает в себя те всеобщие определе-
ния, которые превращают любое общество, при всех противо-
речиях и противоположностях его структуры и его бытия, в не-
107
кое реальное единство. С другой стороны, в способах того или
иного синтеза всегда, кроме того, каким-то образом отражается
лежащая в его основе общественная проблематика. Разумеется,
и она проявляется здесь всегда в некоей непосредственно ут-
вердительной форме. Однако не очень трудно, скажем, в пре-
увеличенно патетических формах барокко обнаружить кризис-
ные моменты классовой борьбы данной эпохи. То, что это
может произойти только косвенно, что проблематика, претворен-
ная архитектурными средствами, эстетически проявляется все
же как покоящееся, хотя и полное напряжения, равновесие,
ничего не меняет в таком положении дел.
Следовательно, эвокативное богатство архитектурных форм,
их миросозидающее начало основываются на подобном исклю-
чении всякой негативности, всякой борьбы, и такая позитив-
ность, выражающая себя путем отрицания, неразрывно связана
с тем, что в художественном формообразовании архитектуры
главным образом всеобщее перерастает в особенное, в то вре-
мя как единичное, а также негативное исключаются из его
сферы. Оба категориальных отношения взаимосвязаны. Ибо
в отсутствии всякой негативности, в том центральном положе-
нии, которое занимает результат общественных процессов, а не
сама борьба за него как таковая, уже кроется интенция к все-
общему, к отходу от единичного. Функция единичного, снятого
в эстетическом особенном, в других искусствах преимуществен-
но (но, разумеется, не исключительно) сводится к тому, чтобы
сделать подобную борьбу наглядной. Если теперь сопоставить
результаты наших рассуждений с ранее сказанным относитель-
но того, что эстетический мимесис в архитектуре непосредст-
венно не направлен на объективную действительность, а в пре-
образованном виде отражает два ее всеобщих, дезантропомор-
фированных отражения, то станет ясно, что категориальная
структура в архитектуре не может — как в других искусствах —
базироваться на напряжении между всеобщим и единичным,
на их противоречивом синтезе в особенное. Ее главная тенден-
ция противоположна: так выявить всеобщее могущество чело-
веческой жизни (господство общества над силами природы, его
коллективные действия в интересах коллективных целей), что-
бы двойной мимесис переместил отдельного человека в усло-
вия непосредственно переживаемой эвокативной связи с эсте-
тическим отображением этого могущества, которое проявляется
здесь как пространственная реальность.
Специфическая эстетическая категория особенного в этом
процессе выполняет функцию непосредственного соотнесения
всеобщего могущества с человеком, с каждым отдельным чело-
веком, причем так, чтобы в подобном соотношении благодаря
эвокации переживался именно всеобщий, коллективный его ха-
рактер. Поскольку в архитектурно-эстетическом содержании
этого всеобщего его напряженное отношение с единичным сни-
108
мается вплоть до исчезновения, то эстетический мимесис не
может отобразить единичное как эстетическую категорию.
В предыдущих рассуждениях мы обращали внимание на то, что
единичное не следует смешивать с частностями, с деталями
[см. т. 3, с. 235]. В любой архитектуре есть детали; однако
с точки зрения эстетики они существуют исключительно бла-
годаря их функции в общей композиции, в то время как в дру-
гих искусствах служат также выражению противоречия, худо-
жественно плодотворного напряжения, существующего между
единичным и всеобщим, снятию последних в особенном. Сле-
довательно, это категориальное различие между архитектурой
и другими искусствами не только определяет важнейшие ком-
позиционные принципы, но и распространяется на детали. Лишь
прочное содержательное единство, многоохватное богатство го-
могенной посредующей системы делают возможной миросози-
дающую композицию в подлинно эстетических сооружениях.
Лишь эта последняя вызывает специфически очищающие воз-
действия архитектурного пространства: внезапное, стремитель-
ное вознесение отдельного частного индивида в ту атмосферу,
на ту высоту, где могущество универсально-общественного, гос-
подствующее в социальной совместной жизни и деятельности
людей, переживается как потрясение. Но не как могущество,
враждебно или угрожающе противостоящее человеку, а скорее
как его собственная сила, которой он, разумеется, может об-
ладать не в своей чистой партикулярности, а просто благодаря
своей включенности в конкретно всеобщее единство конкретно-
го коллектива. Как бы ни отличались содержание и форма это-
го катарсиса от его проявления в других искусствах, но в по-
трясении и эстетическом разрешении последнего здесь действуют
одни и те же структурные категории.
Это исключительное своеобразие архитектурного простран-
ства становится особенно понятным при сопоставлении его
с другими типами создания эстетического пространства —
в пластике и в живописи. Подобное сопоставление поучительно
уже потому, что эти искусства действительно на протяжении
длительного времени находились в тесном взаимодействии с ар-
хитектурой (хотя и возникли независимо от нее), и потому их
конвергенция или дивергенция проясняют не только сущность
всех этих искусств, но и значительную часть их исторически
реальных взаимоотношений. Относительно прост данный вопрос
в пластике. Пространство каждого из ее произведений на са-
мом деле (Ригль ошибочно приписывает это определенным фа-
зам развития архитектуры) трехмерно. Это значит, что каж-
дое произведение — с точки зрения категорий—есть предмет
в пространстве, а не принцип для конституирования некоего
особого пространства. Но в той степени, в какой пластика все
же качественно определяет какое-то пространство, оно ограни-
чивается ее непосредственным окружением. Поэтому пластике
109
внутренне не свойственна тенденция вступать в соперничество
с воплощением пространства в архитектуре. По этой причине
архитектурно-пространственное формообразование принципи-
ально всегда в состоянии подчинять трехмерно-пластические
объекты созданной им пространственной целостности, включать,
их в нее в качестве органических составных частей. В самых
общих чертах речь всегда идет лишь о том, что посредством
соответствующей архитектурной композиции эти объекты пере-
носятся в относительно изолированную, предоставляющую им
самостоятельность обстановку, в которой их специфическая
предметность может полностью проявить себя, но в которой»
они могут составлять с архитектурно созданным окружением
лишь моменты общей архитектурно-пространственной компо-
зиции. В различных стилях зодчества координация и субор-
динация всех компонентов происходят качествейно по-разному.
Однако помещаются ли пластические произведения в нишах
или, как Ъ готике, сочетаются, скажем, с колоннадой, осново-
полагающий принцип остается одним и тем же. Даже такие
индивидуальные решения, как в капелле Медичи Микеландже-
ло, можно свести к тому же принципу: обеспечить каждому
трехмерно-пластическому образу специфическое пространство,
а затем превратить его просто в один из моментов композиции,,
ритмики общего пространства.
Намного сложнее соответствующие отношения между архи-
тектурой и живописью. Последняя создает в каждом отдельном:
произведении качественно неповторимое, миметическое прост-
ранство, которое затем неизбежно стремится к тому, чтобы под-
черкнуть свою собственную динамику в противовес динамике
реального архитектурного объема. Естественно, каждое произ-
ведение живописи есть весьма противоречивое органическое-
единство двух- и трехмерности [см. т. 2, с. 135]. Однако эсте-
тическая гармония живописи и архитектуры может возникнуть
только на базе двухмерности, так как лишь в этом случае кар-
тина заполняет и украшает стену, чья сущность определяется
исключительно ее функцией в общем архитектурном простран-
стве. Так что если в художественном отражении действитель-
ности сохраняется господство двухмерности, то рождаются та-
кие неподражаемые созвучия архитектурно-пространственного»
формообразования и живописной декоративности, как в визан-
тийских мозаиках Равенны. Когда же, начиная с Джотто, рас-
цветает живопись в подлинном смысле, пути обоих искусств;
с необходимостью вынуждены разойтись. Начатая Джотто ре-
волюция в живописи была столь эпохальным событием, что
большинство историков искусства подробно исследовали лишь
эту ее сторону, а на интересующей нас принципиальной проб-
лематике останавливались редко или только в попутных заме-
чаниях. При этом Джотто писал фрески, то есть объективно*
перед ним стояла задача, покрыв ими конкретную стену, укра-
110
си1ь ее и в то же время сохранить и даже усилить ее функцию
в архитектурном целом. Однако здесь у него обнаруживается
глубокое, неразрешимое противоречие. Ибо каждая картина
Джотто сама по себе воплощает художественными средствами
большую и неповторимую жизненную драму и в связи с этим
в каждом случае должна последовательно создавать соразмер-
ное ей, исключительное, несравнимое (миметическое) простран-
ство. Архитектурное единство стены разрушается, поскольку
каждой фреске соответствует свое — миметическое — простран-
ство. Стена становится лишь поводом к написанию фрески, ее
основой, экспозицией разносюжетных картин, и ее архитектур-
ная функция — до тех пор, пока зритель пребывает в плену жи-
вописи Джотто, — предается полному забвению. Она может
восприниматься только тогда, когда на фрески перестают обра-
щать внимание. Та же самая ситуация сохраняется и у его ве-
ликих преемников — Мазаччо, Мантеньи, Пьеро делла Фран-
ческа и др.
Разумеется, всегда можно найти примеры противополож-
ных тенденций. Скажем, во фресках Испанской капеллы церкви
Санта Мария Новелла во Флоренции, у Беноццо Гоццоли и т. д.
Однако что касается подлинных художественных ценностей,
к числу которых относится и архитектурное созидание, прост-
ранства как предпосылка человеческого формирования, то пос-
ледние стоят намного ниже Джотто и его последователей. Так
что здесь противоречие между живописным и архитектурным
пространствами очевидно. Но, конечно, было бы догматично
считать это противоречие абсолютно непреодолимым, поскольку
именно Высокое Возрождение дает примеры чрезвычайно зна-
чительных его решений. Вслед за немалочисленными предшест-
венниками по одному из таких путей пошел Рафаэль (прежде
всего в «Станцах»). Он отнюдь не отрекается от трехмерности
живописи, а вместе с ней — и от показа важнейших, трагичес-
ких, идиллических и прочих вершин всего земного. В связи
с этим его устремления были направлены на такую организа-
цию трехмерного миметического пространственного воплоще-
ния, на такое его упорядочение, чтобы оно не оказывало на
архитектуру никакого взрывного действия. Как у каждого вели-
кого художника, эта тенденция обоснована у него гуманисти-
ческим содержанием картин: Рафаэль стремится показать — на
высочайшем уровне — максимально мировоззренчески значимое.
Во взаимосвязях представленных им сил, действующих в чело-
веческой жизни, драматические конфликты никогда не исчеза-
ют полностью; но акцент в формообразовании ставится на их
конечном взаимодействии, на их гармонии, а не на резких кол-
лизиях противоречий и противоположностей. Соответственно
этому миметическое пространство является фундаментом и
осуществлением понятых таким образом человеческих отноше-
ний точно так же, как у его великих предшественников оно вы-
111
полняло эту функцию в целях драматизации зримо представ-
ленной жизни. Трехмерность сохраняется, но прежде всего
в качестве достойной сцены для демонстрации какого-то в ко-
нечном счете гармоничного жизненного содержания; то есть
так, что собственно миметическое расширение сформированного
пространства остается включенным в рамки декоративной двух-
мерное™. При всех качественных отличиях «Диспута», «Пар-
наса», «Освобождения апостола Петра из темницы» и т. д.
общность всеопределяющего композиционного своеобразия про-
низывает все эти фрески. Уже отказ от размещения всего цикла
на одной стене, точная подгонка к специфическим формам со-
ответствующей стены (окна в двух последних из названных
фресок) показывают, что речь здесь идет о последовательной,
сознательной попытке преодолеть противоречие с позиции де-
коративного монументализма.
Диаметрально противоположным путем идет Микеланджело
при росписи Сикстинской капеллы. Он исходит из своеобразного
миметического пространства живописи, служащего изобразитель-
ной основой каждой картины и неизбежно сталкивающегося с
противодействием реального визуального пространства архитек-
туры. Микеланджело доводит тенденцию, внутренне свойствен-
ную фреске, до полного раскрытия, но в том направлении, при
котором особые пространственные претворения отдельных фре-
сок синтезируются в динамическое единство некоего общего для
всех них миметического пространства. Таким образом, вся рос-
пись становится единой миметической пространственной компо-
зицией, полностью аннулирующей архитектурные функции
действительного свода и заставляющей реальное пространство
капеллы устремиться вверх, в миметически созданное простран-
ство фресок. При этом происходит совершенно уникальное раз-
решение этого векового конфликта между архитектурным и ми-
метически-художественным пространствами. Но по многим при-
чинам это решение все же исключительное и неповторимое, чисто
«микеланджеловское», хотя иногда такие выдающиеся мастера,,
как Корреджо, предпринимали нечто подобное. Его истоки кро-
ются прежде всего в глубоком мировоззрении Микеланджело..
Дело в том, что миметическая пространственность живописи сама
по себе отнюдь не требует той мирообъемлющей всеобщности, ко-
торой он наделяет свое подкупольное пространство; в соответст-
вии с сюжетом и выразительными средствами ее основы могут
глубоко затрагивать личное и преходящее, возвышая их до ху-
дожественного особенного. Но если созданное таким образом
пространство призвано не только существовать в себе и для се-
бя, но и вытеснять — принципиально всеобщее — архитектурное
пространство, то оно должно быть также способно соперничать
с этой всеобщностью за счет осуществляющей его тематики и ху-
дожественно обретенного ею пафоса. Когда в такой живописи
берет верх исполнительское мастерство, то даже при техничес-
112
ких достижениях и удачах возникает прежний диссонанс. У Ми-
келанджело этому препятствуют два особенно благоприятных
момента. Во-первых, скульптурные тенденции его живописи,,
сближающие его фигуры с трехмерностью пластики. Если фор-
мированию обычного миметически-живописного пространства они
скорее препятствуют, чем способствуют, то здесь они становятся
подлинными носителями его специфических миметических син-
тезов. Во-вторых, архитектурная простота, даже примитивность
Сикстинской капеллы, особенно ее свода, которая могла быть
легко устранена натиском микеланджеловского пафоса, в то вре-
мя как купола при подобных же попытках выступают как значи-
тельно более выразительное, заполненное подлинно собственной
жизнью и потому более способное к сопротивлению простран-
ство.
В наши намерения здесь не входило исчерпывающее изло-
жение данной проблемы. Анализ такого рода противоречий и их
разрешений призван был служить лишь тому, чтобы несколько-
подробнее, чем раньше, конкретизировать своеобразие, самостоя-
тельную эстетическую значимость архитектурно-реального про-
странства в его взаимоотношении с таковыми в других форми-
рующих пространство искусствах. Только таким образом мы мо-
жем отчетливо увидеть, в чем состоит эстетическое единство всех,
искусств и своеобразие архитектуры во всем богатстве ее опре-
делений. Это единство следует рассмотреть теперь под другим
углом зрения — в плане изначальной историчности любого искус-
ства, действительной и для архитектуры. Дело в том, что, когда
преобразование обеих рассмотренных всеобщностей [с. 93 и ел.]
в эстетическое особенное осуществляется архитектурными сред-
ствами, коллективность переживаемого таким образом простран-
ства отчетливо проявляется именно в его способности создавать
свой «мир». Однако это вместе с тем означает ту ярко выражен-
ную историчность архитектуры как искусства, которая неизбеж-
но утрачивается при трактовке архитектуры как начала разви-
тия искусств или как отражения просто природных отношений..
Эстетике Николая Гартмана принадлежит заслуга в том, что она
придает большое значение этой — можно было бы даже сказать
всепроникающей — исторической сущности зодчества. Даже если,
исторический характер последнего, по мнению Гартмана, дик-
туется самой его сущностью не в той степени, как это имеет мес-
то в действительности, то все же в общем и целом он прав, ут-
верждая, что зодчество связано с проявляющимся временем,,
а вместе с ним — и проявляющейся жизнью.
Он также усматривает в строении «что-то вроде одеяния»
«тесной коллективной жизни» людей, по которому можно судить
об «исторических народах и эпохах», причем «именно с их целя-
ми, желаниями и идеями»63. В общих чертах все это правильно.
Досадно лишь, что Гартман, будучи ближе, чем его современни-
ки, к объективному идеализму, все же, сам того не сознавая, под-
8-805
113.
дается общему заблуждению субъективного идеализму: теорети-
чески отделять собственные категориальные проблемы эстетики
ют исторической роли искусства. Поэтому в данном случае он не
.видит, что в архитектуре — как и в каждом искусстве — наибо-
лее серьезные и решающие проблемы формы, причем именно в
эстетическом отношении, как проблемы конкретного формиро-
вания пространства неразрывно связаны с их историческим ба-
зисом. И это с очевидностью явствует уже из конкретной обще-
ственной — еще доэстетическои — целевой установки, о которой
так много говорилось; собственно говоря, вообще трудно пред-
ставить себе, как нечто конкретно общественное могло бы не
иметь четко выраженного исторического характера.
Но сейчас это не главное; речь идет о том, что подобная об-
щественная сущность не только неразрывно связана с существо-
ванием архитектуры, но и корнями своими уходит в самые глу-
бинные ее эстетические пласты. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно вспомнить возникновение архитектуры барокко, о котором
много писалось. В монументальных проектах Высокого Возрож-
дения на первый план выдвигается центрическая купольная ар-
хитектура. Даже Микеланджело, глубоко ощутивший социаль-
ный и политический, религиозный и идеологический кризис эпохи
ii далеко ушедший от ренессансной гармонии, еще не порывал
с этой концепцией, более того, он считал, что при строительстве
собора св. Петра следовало вернуться к типично ренессансному
проекту Браманте64, хотя, конечно, его план, его понимание про-
странственной композиции были диаметрально противоположны
предложенному Браманте. Трагическое беспокойство, страстное
стремление к монументальности, в которой под прикрытием на-
сильственного в своей напряженности пафоса зрела глубокая
внутренняя тревога, впервые получили, вероятно, свое исчерпы-
вающее обобщение в интерьерах церкви Иль Джезу, созданных
Виньолой. Радикально новый синтез здесь горизонтально ори-
ентированной архитектурной композиции с купольной, предопре-
деляющей художественное воздействие, убедительно описывает
Дворжак. Он сравнивает эту церковь с внешне похожей ранне-
христианской базиликой. «Различие состоит в том, что боковые
нефы как таковые отмирают, превращаясь в ряды капелл, сое-
диненных между собой и отделенных от центрального нефа ар-
ками типа триумфальных. Таким образом, центральный неф
производил бы впечатление самостоятельного зала, если бы он
не сочетался с купольным объемом. Мощные двойные пилястры
несут тяжелый антаблемент, на котором покоится столь же тя-
желый цилиндрический свод с прорезанными окнами. Централь-
ный неф широкий и сравнительно короткий. Духовным и худо-
жественным средоточием церкви является купольное простран-
ство; оно не отделено от остальных частей постройки и оказывает
свое влияние на все ее внутреннее пространство. С момента
вступления в церковь посетитель с каждым шагом все сильнее
!14
поддается воздействию купола — и это доминирующее влияние:
оживляет роскошный зал и ограничивающие его массивные ар-
хитектурные формы. Кажется, будто все успехи искусства в-
овладении тектоническими массами, словно бы повинуясь некоей
сверхъестественной силе, способствуют здесь этому движению к
купольному пространству, туда, где сила тяжести лишается сво-
ей власти и где взор и дух возносятся в высшие сферы»65. Здесь
мы видим (и любое значительное архитектурное пространство
можно подобным же образом обосновать его социально-эмоцио-
нальным содержанием), что хотя научно-техническое овладение-
силами природы в своем зримо представленном мимесисе и ста-
новится общей основой переживания для архитектурно-простран-
ственного творчества, но тем не менее оно является лишь сред-
ством выполнить социальный заказ, также стимулирующий эво-
кацию. Таким образом, историчность архитектуры заложена,
именно в глубочайших и серьезнейших проблемах ее формы.
Всеобщность и сугубо утверждающий характер основополагаю-
щего отношения формы и содержания не препятствуют этой ис-
торичности, а наоборот, придают ей глубокое своеобразие. Имен-
но то общее, которое — хотя и противоречиво, даже антагони-
стично— социально связывает и объединяет людей, обретает
здесь в своем эстетическом особенном отчетливо выраженное-
йсторическое лицо.
Из всего этого проистекает чрезвычайная восприимчивость-
архитектуры как искусства к общественно-историческим пере-
менам. Следует подчеркнуть: речь идет об архитектуре как Ьб
искусстве, ибо — опять-таки в противоположность другим искус-
ствам— любое общество, будучи таковым, уже стоит на некоей:
определенной ступени развития в строительном деле. Можно*
представить себе общество без картин или трагедий, и такие*
общества действительно существовали; без строительства же
оно развиваться не может. Однако жесткая принудительность
общественной потребности отнюдь не упрочивает социальную^
обусловленность положительных и отрицательных черт архитек-
туры как искусства, а, напротив, в отличие от других искусств:
подрывает и ослабляет её действенность. Это тесно связано-
именно с безоговорочно утверждающим, непосредственно соци-
альным характером архитектуры. Ибо любое расшатывание от-
ношений между общественно обусловленным миром идей и эмо-
ций индивидов и формирующимся на их основе социальным за-
данием неизбежно вносит в последнее излишнюю лабильность,
делает его более абстрактным, менее обязательным, чем во всех
других видах искусства. И поскольку в других искусствах соци-
альный заказ направлен непосредственно на мимесис индивидов,,
их судеб и т. д.; поскольку они охватывают общество во всей
его целостности только опосредованно, то есть преобразованным
их гомогенной посредующей системой; поскольку решение проб-
лемы формы и содержания осуществляется в. них как непосред-
8*
115-
ственное персональное достижение той или иной творческой лич-
ности,— то в этих искусствах всегда находятся обходные пути,
^позволяющие достичь выполнения социального заказа на высо-
ком уровне даже в рамках столь всеобщей общественной проб-
лематики. Вспомним, например, о почти беспрепятственном пе-
реходе от господства фрески к господству станковой живописи,
за которым стоит процесс начинающегося обуржуазивания, при-
ватизации, или об ослаблении связей между сценой и драмой,
которое сопровождалось значительными потрясениями, затраги-
вало серьезные проблемы, но не помешало появлению в XIX и
XX веках ряда значительных драматургов и драм. Для архитек-
туры же подобный путь к индивидуальному ответу на злобод-
невные проблемы эпохи, способному лишь косвенно приблизить-
ся к их общезначимости, исключен. Характер воздействия на нее
социального заказа, равно как прямая связь м£жду ним и его
выполнением, создает эстетическую основу ее восприимчивости.
Речь здесь идет о фундаментальном вопросе структуры, и это
■обнаруживается уже в том, что в архитектуре даже внешне дей-
ствует значительно более прочная, более определенная связь
между заказом и выполнением, чем в любом другом искусстве.
Детальным изложением этого вопроса мы не можем здесь
заниматься хотя бы потому, что по сути своей он относится к ис-
торико-материалистической части эстетики. Даже общие прин-
ципы такой, большей или меньшей, чувствительности отдельных
искусств к переменам, происходящим в их общественном окру-
жении, подобающим образом могут рассматриваться только там.
И если мы здесь — пусть в общих чертах — все же касаемся
этой фундаментальной проблемы, то делаем это, исходя из того
уже неоднократно высказанного убеждения, что диалектико-
материалистические и историко-материалистические проблемы
эстетики хотя и требуют раздельных методологических подхо-
дов, но, в сущности, неразрывно связаны друг с другом. Это оз-
начает, с одной стороны, что диалектико-материалистическое
изучение искусства, и прежде всего отдельных его видов без
ссылки на специфическую историчность их формальной эстети-
ческой структуры, было бы неполным; с другой стороны, что
всякое историко-материалистическое исследование, которое, пре-
небрегая такими взаимосвязями, пытается осмыслить искусство
непосредственно, без такого анализа, как изолированное общест-
венное явление, не учитывая постоянно его специфически эсте-
тический характер, обречено на вульгарный социологизм. Имен-
но такая решающая проблема историко-материалистического
учения об искусстве, как его неравномерное развитие — причем
равным образом в генезисе и внутреннем раскрытии отдельных
•искусств и в их непосредственном и опосредованном обществен-
ном функционировании, — без этого тесного сотрудничества
диалектического и исторического материализма вынужденно вы-
родилась бы в абстрактную вульгаризацию. И напротив, подоб-
316
ное сотрудничество диалектического и исторического материа-
лизма может способствовать упразднению схематизирующих
аналогий. (Напомним вновь о сопоставлении музыки и архитек-
туры [с. 72]. Диалектический материализм показывает, что
двойной мимесис в музыке носит совершенно иной характер, не-
жели в архитектуре. А историко-материалистические исследова-
ния выявили бы, насколько противоположное воздействие ока-
зало на них одно и то же общественно-историческое развитие:
в последние столетия в музыке наступил новый расцвет, а в ар-
хитектуре возникли значительные трудности и наметился упа-
док.)
Насколько глубоко эта восприимчивость архитектурного/
творчества к общественно-историческим явлениям затрагивает
решающие проблемы формы, можно легко понять, если вспом-
нить о последнем приведенном нами примере — барочном воп-
лощении пространства. Мы говорили при этом о возникновении
специфического интерьера. Ригль характеризует происходящий
здесь процесс как «победу глубины над высотой и широтой».
Подобная кардинальная переакцентировка принципов интерьер-
ной композиции не может не отразиться и на внешнем простран-
стве. Об этом Ригль тоже дает очень точную информацию; вот
что он говорит о недавно упоминавшейся церкви Иль Джезу:
«...Внешнее совершенно не разработано по сравнению с внутрен-
ним, за единственным исключением — фасада и купола, кото-
рый, правда, для рассмотрения вблизи все равно потерян; но на
фасад устремлены все творческие силы художника»66. При этом,
однако, в стиль зодчества проникает совершенно новая и в то
же время крайне сложная категория, постоянно осложняющая
проблематику новой архитектуры: именно категория фасада.
Ригль ясно и убедительно описывает ее характер и роль в об-
щей архитектонике здания: «Фасад есть стена, которая сразу
же подсказывает нам, что за ней скрывается пространство, ухо-
дящее в глубину... Фасад напоминает о чем-то, что нельзя
тут же, одновременно увидеть и того меньше — ощутить
осязаемо. Фасад по природе своей есть «живописный» оптичес-
кий элемент»67. Здесь в первую очередь принципиально важ-
но, что возникновение фасада, взгляды, породившие его, разру-
шили органически единую связь интерьера и внешнего простран-
ства. Естественно, потребовался длительный процесс, чтобы
вызрели совокупные тенденции, разрушающие это архитектур-
ное единство и с самого начала внутренне свойственные новой
концепции. Фасад церкви Иль Джезу работы Джакомо делла
Порты по своему духу находится еще в полном согласии с ин-
терьером Виньолы. Но уже в эпоху барокко эта принципиальная
оторванность фасада от интерьера, то есть декорационность, не-
избежно утвердившаяся в результате такого разделения, обособ-
ление живописных тенденций от общего архитектурного замысла
начинают иногда пробивать себе дорогу, чтобы в XIX столетии
117
вырасти в радикально разрушающий принцип. Иными словами,,
становится возможным любой —сам по себе даже не архитек-
турно-художественный— интерьер снабдить любым фасадом..
Как, скажем, многоквартирные «коробки» современных крупных,
городов могли, в зависимости от моды, украшаться снаружи го-
тическим, ренессансным или барочным декором. В результате
деградация конкретно-единого социального задания, обществен-
но-исторически обусловленная развитым капитализмом, его раст-
ворение в абстрактности, голой субъективности и произволе мо-
ды завершились почти полным крахом архитектуры как искус-
ства. Ясно, что речь при этом идет о компромиссе, о стремлений
эклектически соединить несоединимые тенденции. Такой эклек-
тизм является необходимым этапом развития социального зака-
за в экономически зрелом капиталистическом обществе. Его ос-
новой служат качественные перемены, вызванные развитием:
производительных сил, о которых мы говорили ранее [см. т. 1,
с. 136 и ел.]. Тот факт, что орудия труда стремительно освобож-
даются от ограничений, налагаемых антропологическими данны-
ми работника, изготовляются на все более научной и дезантро-
поморфированной основе, направляясь исключительно на объек-
тивную задачу, и следовательно, то, что человек в своем
инструментарии больше не стремится к сбалансированности
между объективной целью и своими чрезвычайно возросшими
способностями, а должен подчиняться исключительно объектив-
ным условиям, которые ему предписывает машина, — все это
явилось неслыханным «прогрессом», произведшим подлинный
переворот в развитии человечества. Однако механизированный
труд в то же время разрывает органическую связь между чело-
веком, трудом и продуктом труда, господствовавшую в докапи-
талистических культурах. Одновременно с этим процессом в сфе-
ру взаимоотношений между индивидом и классом с объективной
общественно-исторической необходимостью включается фактор
случайности. Маркс настойчиво подчеркивает это отличие от
прежних времен: «В сословии (а еще больше в племени) это«
еще прикрыто: так, например, дворянин всегда остается дворя-
нином, разночинец [roturier] всегда разночинцем, вне зависи-
мости от прочих условий их жизни; это — не отделимое от их
индивидуальности качество. Отличие индивида как личности от
классового индивида, случайный характер, который имеют для
индивида его жизненные условия, появляется лишь вместе с по-
явлением того класса, который сам есть продукт буржуазии.
Только конкуренция и борьба индивидов друг с другом порож-
дает и развивает этот случайный характер как таковой. Поэто-
му при господстве буржуазии индивиды представляются более
свободными, чем они были прежде, ибо их жизненные условия
случайны для них; в действительности же они, конечно, менее
свободны, ибо более подчинены вещественной силе»68. Нам здесь
важно, что вследствие этого именно общий и одновременно кон-
118
кретно-особенный характер социального задания в архитектуре
и разрушается качественно сильнее, чем в других искусствах.
Упомянутое выше эклектическое компромиссное решение, гу-
бительные для архитектуры последствия которого сегодня уже
мало у кого вызывают сомнения, проистекает из того, что наря-
ду с ранее описанными тенденциями, порожденными непосред-
ственно экономическим развитием капитализма, в XIX веке воз-
никли специфические социально-политические условия для за-
хвата или сохранения власти буржуазией. В наши задачи здесь
не входит их подробная характеристика. Сошлемся лишь на по-
литические компромиссы буржуазии с правящими ранее клас-
сами, за счет чего она пыталась предотвратить радикальную
демократизацию общества, но прежде всего помешать формиро-
ванию пролетариата. Для того чтобы достичь этих целей, она
должна была частично воспринять идеологическое наследие
феодального абсолютизма и вместе с тем в своей собственной
идеологии развивать антиплебейскую «респектабельность», вы-
ступая тем самым защитницей общественной «безопасности».
С уничтожающей иронией Маркс описал эту тенденцию у Напо-
леона III; вероятно, будет достаточно указать здесь еще на ро-
мантически-патетическое переплетение экономического прогресса
капитализма с декоративными пережитками прежних обществ
во времена Фридриха Вильгельма IV и особенно Вильгельма II
в Германии. Но и более «благородные» формы эклектического
компромисса, подобные тем, какие мы видим в период Франца-
Иосифа в Австро-Венгрии и в викторианскую эпоху в Англии,
обнаруживают, в сущности, вполне родственные черты. Следо-
вательно, на данной социальной почве неизбежно проявляется
глубоко нехудожественный «историзм» этого этапа архитектуры.
Его эклектичная двойственность, его пустая абстрактность, ими-
тирующая конкретность, очень точно выражают тот чувственный
комплекс, с помощью которого господствующий класс этой эпохи
утверждает свое собственное бытие. И то, что этот тупиковый
для зодчества период породил в то же время в живописи рас-
цвет французского импрессионизма, в литературе — творчество
таких писателей, как Диккенс и Теккерей, Готфрид Келлер и
Генрик Ибсен, в музыке — Вагнера и Листа, Брамса и Верди,
ясно указывает на правильность нашего тезиса об особой чувст-
вительности архитектуры к характеру социальных условий.
Однако аналогичная картина получается, если взглянуть на
последующее весьма активное движение против эклектизма
в архитектуре с принципиальной точки зрения. Сколь бы спра-
ведливой ни была критика архитектуры примерно с середины
XIX века, она не могла выявить суть дела, то есть ущербность
социального задания, вызванную условиями человеческого су-
ществования при капитализме. Это было невозможно хотя бы
потому, что попытки отбросить историзирующий эклектизм пред-
принимались в значительной степени с позиций некоего «чистого»
119
капитализма, уже не нуждавшегося в идеологической поддерж-
ке докапиталистического прошлого. Решающую роль в отдель-
ных течениях новой архитектуры непосредственно играли, конеч-
но, различные мотивы. Однако определяющим остается то, что
в условиях ликвидации социального заказа главная задача —
создать пространство для человека посредством переведения кон-
структивных потенций строения в нечто зримое — должна была
в данном случае (правда, с другими мотивировками) отвергать-
ся или обходиться точно так же, как в презираемом коммерчес-
ки-кичливом академизме. Так что за радикальным разрывом са
всеми традициями, за призывом к «чистой» архитектуре скрыва-
ется все тот же дух «конформизма», что и во времена эклекти-
ки, только — в согласии с социальными переменами — с другим
содержанием и формами. Ничего иного и не могло быть, посколь-
ку утверждающий принцип, как мы показали, составляет сущ-
ность архитектуры. Из-за того что архитектура этого периода
была вынуждена утверждать антигуманный по своей сути капи-
тализм, антигуманный принцип должен был служить основой
ее концепции пространства, а точнее сказать — основой ее архи-
тектурного уничтожения эстетико-архитектурного пространства,,
заменой его чисто дезантропоморфированным пространством.
Общая тенденция этого периода — борьба против принципа
человечности в искусстве. Ортега-и-Гасет, одним из первых об-
общивший различные тенденции данного направления, говорит:.
«Мне представляется, что новое эмоциональное отношение к ми-
ру, получившее распространение в искусстве, находится во влас-
ти отвращения ко всему человеческому... Нового художника по-
беда над гуманистическим началом приобщает к радостям ис-
кусства. Поэтому необходимо сделать триумф осязаемым m
каждый раз выставлять напоказ задушенную жертву»69. По вы-
шеприведенным причинам в архитектуре подобная тенденция*
должна была проявиться ярче всего: ее внутренняя сущность
не допускает проблематических протестов, возможных в других
искусствах, несмотря на то, что ее непосредственная зависимость
от позднего капитализма тоже намного больше. Эта тенденция:
усиливается за счет дезантропоморфирующих основ мимесиса
в архитектуре. При обсуждении подобного способа познания,
действительности мы указывали на философски ложные попытки-
в данный период интерпретировать смысл и постоянное расши-
рение дезантропоморфизации в науках как нечто античеловечес-
кое [см. т. 1, с. 134 и ел.]. По сути дела, в архитектуре само-
собой напрашивается решение — как только гуманистический,,
человеческий принцип исчезает из социального заказа — оста-
навливаться на этом первом отражении и второй мимесис либо
отвергать, либо идентифицировать его с первым. Так на смену
эклектически бесформенной, преувеличенной, фальшивой роско-
ши ушедшего периода приходит сознательно дезантропоморфи-
рованная и (как искусство) антигуманистическая, нечеловечен
120
кая ««простота» и «научность» техницизма, объективирующая
безысходность и пустоту капиталистической жизни; то есть тот
образ мышления, который мог восторжествовать только на ос-
нове безмерно преувеличенной абстрактной количественности.
(Само собой разумеется, что новые научные достижения, новые
материалы и т. п., способствуя исчезновению визуально претво-
ренных структурных принципов, благоприятствовали этому про-
цессу; но это не является решающим стимулом данного раз-
вития.)
Из всего обилия факторов укажем лишь на один: геометризм.
Зедльмайр резонно обращает внимание на то, что уже во време-
на Французской революции была выдвинута доктрина, будто бы
архитектура должна омолодиться с помощью геометрии. Ее сто-
ронники проектируют шарообразные здания, в которых геомет-
рия полностью берет верх над художественным началом строи-
тельного искусства и его визуальным выражением. И Зедльмайр
проводит параллель с высказыванием Ле Корбюзье: «Человек,
наделенный свободной волей, тяготеет к чистой геометрии»70.
Естественно, аналогия симметрии, соответствия свойств отдель-
ных компонентов и т. д. напрашивается сама собой, хотя она
и кажется крайне поверхностной. Проводя параллели между
архитектурой и музыкой, к этой аналогии прибегает уже Шел-
линг (правда, комбинируя ее с противоречащей ей и тоже по-
верхностной аналогией с органическим)71, в то время как Шо-
пенгауэр, исходя из гораздо более правильного понимания сущ-
ности архитектуры, усматривает ее «тему» лишь в тяжести,
жесткости, сцеплении и т. п. и потому последовательно отвергает
всякий геометризм72. Современная строительная техника всемер-
но способствует господству чисто «геометрического», поскольку
новые строительные материалы, нашедшие в ней свое примене-
ние, допускают любые внешние формы, в результате чего пос-
ледние полностью предоставляются субъективному произволу
заказчика. Разумеется, субъективность при этом тоже общест-
венно обусловлена. Но это не мешает ей оказывать на социаль-
ное задание, адресованное архитектуре, разлагающее и абстра-
гирующее воздействие. Конкретная общественная полезность то-
го или иного сооружения лишает его осязаемого своеобразия,
то есть оно может быть — с точки зрения чистой полезности —
возведено со всем комфортом, совершенно не обязательно сооб-
разуясь с внешним и внутренним пространством, которые долж-
ны визуально представлять эту полезность. Поэтому, скажем,
какая-нибудь общественная баня может выглядеть как контора,
фабрика —как церковь, и наоборот, но с точки зрения геомет-
рии предложенное решение будет тем не менее безукоризненным.
(Это показывает, насколько серьезно здесь может стоять вопрос
о комплементарной форме эклектического характера зодчества
второй половины XIX века. Диаметральная противоположность
конструктивных принципов, эмоционального содержания види-
121
мых поверхностей и прочих архитектурных масс не исключает
их глубокого родства как проявлений вырождения конкретного
социального задания в абстракцию, безразличную к предметнос-
ти.) Разложение, или, точнее, полная абстрактность социаль-
ного задания, например требование возводить высотные здания
из-за повышения земельной ренты в городе, несет с собой «избав-
ление» от всех «устаревших» постулатов, от создания конкрет-
ного собственного пространства для человека. Так что коль ско-:
ро архитектурные формы не определяются полным произволом-
эксцентричности (что, разумеется, в исключительных случаях
имеет место), подобное господство геометрического начала впол-
не объяснимо73.
Естественно, фетишистские идеологии империалистического
периода поддерживают подобные тенденции, и ето ощущается
во всех идеологических проявлениях эпохи, а следовательно —
и во всех искусствах. Не имея здесь возможности подробнее ос-
танавливаться на данной проблеме, заметим лишь вкратце, что>
в других искусствах происходит постоянная борьба между под-
чинением человека этой эпохи фетишизированному положению
вещей, приспособлением к нему и примирением с ним, с одной
стороны, и более или менее осознанным сопротивлением ему,
с другой. Достаточно сослаться на такие имена, как Томас Манн
или Бела Барток, чтобы совершенно ясно увидеть этот антаго-
низм. То, что в изобразительных искусствах противодействие
выражено слабее, чем в литературе и музыке, объясняется сущ-
ностью этих искусств, объектом их специфического отражения,
соответствующим субъектно-объектным отношением; во избежа-
ние слишком большого отклонения в сторону мы не будем здесь
останавливаться на этом. Как мы в свое время показали, эсте-
тическая борьба против фетишизации может заключаться лишь
в том, чтобы в овеществленных, застывших в своей псевдообъ-
ектности образованиях вскрывать и художественно претворять
реально и объективно лежащие в их основе человеческие отно-
шения. Более непосредственный и ярче выраженный обществен-
ный характер архитектуры как искусства исключает внутреннюю
оппозицию такого рода. Ибо, например, поэтическими средства-
ми можно изобличать конкретный процесс разложения подобной
фетишизации, претворяя такое разоблачение в виде — безуслов-
но, общественно необходимой — обманчивой картины, фальсифи-
цированной иллюзии внешне социального облика, но совер-
шенно не обязательно при этом переводить критику фетишиза-
ции в форму дефетишизированного мира. Наоборот, разрыв
архитектуры с фетишизацией мог бы произойти только тогда,
когда на смену уничтоженного, принужденного к исчезновению*
собственного пространства человека утвердилось бы фактически
новое пространство подобного рода. Однако в современных об-
щественно-исторических условиях это невозможно. Таково необ-
ходимое следствие той ныне сложившейся ситуации, что ар-
122
хитектурное мышление ограничивается исключительно перг
вым — научным, дезантропоморфирующим — актом отражения
действительности и его технологически оптимальным применени-
ем и уничтожает визуальное формообразование пространства за
счет непосредственной идентификации с таким отражением и та-
ким его применением. Социальное целеполагание, которое от
имени общества (его господствующего класса) требовало бы
конкретного, визуально доступного для человека пространства,
соразмерного интенционированным на самосознание потребнос-
тям, невозможно в силу самой структуры и тенденций развития
империализма. Поэтому все устремления, тем или иным образом
направленные на художественные результаты, вынуждены до-
вольствоваться второстепенными вопросами (цвет зданий, смяг-
чение нечеловечности в разработке фасадов и пр.), ограничи-
ваться созданием чего-нибудь мало-мальски приятного. Новое,
социалистическое общество тоже было до сих пор не в состоянии
поставить перед архитектурой конкретную социальную задачу в
плане ее пространственных параметров и тем самым вывести ее
•из столетнего тупика. Как нам кажется, главная причина этого
заключается в молодости социалистического развития, которое
еще не могло обеспечить условия для зрелой конкретизации но-
вого социального задания. Естественно, нельзя умолчать и о том,
что немаловажную роль в этом играли идеологические искаже-
ния сталинского периода, реально еще не преодоленные.
3. ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Проведенный нами анализ архитектуры поднял ряд проблем,
которые могут послужить основой для правильного эстетиче-
ского рассмотрения особого комплекса, обычно называемого
■обобщенно прикладным искусством. Исходным пунктом для
•его понимания служит прежде всего различие между всеоб-
щим и частным как фундамент мировоззренческих и эмоцио-
нальных факторов, обусловливающих производство предметов
вышеупомянутого комплекса и в известной степени формирую-
щих социальную потребность в их создании, а потому приоб-
ретающих решающее значение для их функционирования, для
той роли, которую они играют в жизни людей. Таким образом,
главные эстетические проблемы кристаллизуются вокруг
центрального вопроса — могут ли (и в какой мере) подобные
тенденции получить характер всеобщего уже в сфере частной
жизни или они без сопротивления вынуждены отдать себя во
власть партикулярное™? Этот вопрос, в той степени, в какой
юн касается архитектуры как таковой, уже затрагивался при
•обсуждении частного домостроительства. При этом отчетливо
«обнаружилось, что на его решение воздействует общественно-
исторически определенное конкретное отношение между инди-
123
видом и классом (сословием и т. п.), к которому он принад-
лежит. Это означает, что, чем сильнее, чем глубже пронизывая
его жизненные проявления, отражаются эти отношения на су-
ществовании индивида, чем менее случайна связь последнего»
с его положением в обществе в том смысле, как это понимал
Маркс, тем однозначнее, менее противоречиво проявляются
всеобщие эстетические тенденции, тем меньше могут личностью-
частные пристрастия тормозить их развитие. Однако уже в
этом вопросе, а тем более во всех последующих, необходимо;
всегда иметь в виду конкретный характер связи индивида с
общественной группой (именно упомянутую случайность), ибо
даже тогда, когда эта случайность господствует, отнюдь нель-
зя расценивать частного индивида как социально обособленно-
го, на самого себя ориентированного. Напротив, именно в по-
добных ситуациях он, пожалуй, более настоятельно и безуслов-
но определяется общественными силами. Правда, при этом
между отдельным человеком и социальной тенденцией возни-
кает чисто абстрактное отношение, когда собственно индиви-
дуальное в человеке почти полиостью подавляется, хотя тем са-
мым его партикулярность не снимается во всецело общест-
венном, в социально-репрезентативном. Скорее здесь может
образоваться смешение абстрактной унифицированности с куль-
том предельно партикулярного; вспомним о всевластии моды
в сегодняшнем обществе, очень часто теснейшим образом свя-
занном с культивированием разного рода «хобби». С по-
мощью рыночной рекламы новых товаров и искусственно
создаваемого спроса на них высокоразвитый капитализм
порождает предельно интенсифицированную абстрактную пар-
тикулярность, которая — в -плане интересующей »нас здесь про-
блемы— качественно преобразует характер социального за-
проса.
Не стремясь принизить значение этого радикального пре-
образования, мы должны все же признать, что наличествующая
здесь более или менее латентно-диалектическая противоречи-
вость социально всеобщего и индивидуально частного при та-
ком изменении резко возрастает, вплоть до перехода в каче-
ственное инобытие. Вся история архитектуры показывает, что
требования, предъявляемые ей со стороны человеческой ж'изни,
черпают свою эстетическую плодотворность именно из ее
конкретной всеобщности. Запросы, произрастающие из чистой
партикулярное™ частной жизни, могут выражать с этой точки
зрения- вполне оправданные желания; их сближение с эстети-
ческими требованиями соразмерного человеку внешнего про-
странства или интерьера всегда будет иметь случайный харак-
тер. Ригль так говорит о частном домостроительстве средневе-
ковья: «Не то чтобы средневековым зодчим не хватало чутья
в отношении эстетической значимости основного архитектурного
закона симметрии: там, где симметрию можно было применить.
124
не ущемляя тем самым практической потребности, они ее тоже
применяли. Но там, где соображения практической целесооб-
разности опровергали симметрию, от -нее как менее важнога
без колебаний отказывались»74. Мы видели, сколь важную
роль играла симметрия при эвокации соразмерного человеку
освоенного им пространства; с какой спонтанной непрелож-
ностью она утверждалась в различных стилях; как ввиду осо-
бого значения визуально выражаемого ею порядка, выявляю-
щего господство человека (общества) над силами природы,
просто-таки отметались все определения, косвенно соотнесенные
с человеком как индивидом (достаточно вспомнить проблему
соотношения «правого» и «левого»). Задача истории искусства
проследить, какими путями этот принцип претворялся в жизнь,,
например в эпоху Ренессанса или барокко; однако ясно* что-
и в архитектонике романского или готического кафедральноп>
собора он играл заведомо иную роль, нежели в частном домо-
строительстве. Следовательно, здесь существуют две принци-
пиально различные возможности: социальный запрос может
быть ориентирован на создание пространства непосредственна
общественным образом или возможен обходный путь через:
индивидуальное сознание отдельного частного лица, когда
торжество эстетического постулата необходимо зависит от то-
го, насколько он уже социально детерминирован на уровне
непосредственности частного индивида. Этот момент случай-
ности, необходимо претворенной в партикулярное™, при капи-
тализме превращается в специфически социальное качество.
Ясно, что в формировании интерьера и его адаптации к
жизненным потребностям частного человека эти тенденции
должны оказывать еще более однозначное воздействие, чем в:
претворении внешнего пространства. Отчетливое понимание-
этого мы находим опять же у Ригля, следующим образом за-
вершающего приведенное нами высказывание: «И совершенно-
так же, как с фасадами, поступали тогда с оформлением:
интерьера этих средневековых домов. Большая кровать стави-
лась в самом удобном углу, печь — там, где она больше всего*
могла греть, гардероб — в том месте, где легче всего было до-
бираться до его содержимого. Каждый из этих предметов;
мебели представлял собою, так сказать, отдельную архитекто-
ническую единицу саму по себе; ни один из них не принимал:
в расчет соседствующего или своего «визави», целое не под-
чинялось никакому эстетическому закону»75. Независимо от
того, следует ли считать определение предметов мебели как
«отдельных архитектонических единиц» удачным или неудач-
ным, несомненно, что — в противоположность многим современ-
ным предрассудкам — требование пространственно единого,,
эвоцирующего пространство формирования интерьера в част-,
ном доме выступает значительно позднее, значительно более
затрудненно, чем в тех объемах, которые рассчитаны непосред-
125
•ственно и исключительно на -публичное, общественное пользо-
вание. Это различие объясняется типом потребностей, которые
лризваны удовлетворять соответствующие помещения (и пред-
меты, заполняющие, украшающие эти помещения), причем не-
отделимо от того, как их используют люди, создающие их для
самих себя. Цри обсуждении архитектурного интерьера мы
уже указывали на то, что использование зданий, воздвигаемых
с общественными целями, необходимо и органически связано
с жизнью в этом помещении, с тем впечатлением, которое оно
вызывает. Интерьер, который создается в интересах частного
лица, с целями, порождаемыми его образом жизни и потому
неизбежно индивидуальными, 'изначально имеет мало общего
с пространством, пробуждающим переживания. Как правильно
показал Ригль, такой интерьер может полностью выполнять
свои функции в жизни частного человека, совершенно не со-
образуясь с визуальной переживаемостью пространства в це-
.лом. Действующий в этом помещении человек, независимо от
того, работает ли он, cjtht, ест и т. -п., использует пространство
и заполняющие его предметы чисто практически, в плане по-
вседневной жизни, что, как мы видели, предопределяет непо-
средственную связь между целевой установкой и осуществляю-
щим ее средством.
Принципиально иным предстает это отношение в помеще-
ниях, предназначенных для официальных целей. Человек, вхо-
дящий в церковь, чтобы участвовать в богослужении, или вы-
полняющий соответственно предписанные функции в зале за-
седаний, в помещении суда и т. п., действует, разумеется, так
.же непосредственно в повседневном смысле, как и в только
что описанном частном случае. И вполне вероятно — как это
вытекает из охарактеризованной нами сущности архитектуры,
•созидающей некую действительность, — что такого рода дея-
тельность исчерпывается выполнением чисто практических тре-
бований. Однако она может и выйти за эти рамки, что тем не
менее не следует считать просто некоей эмоциональной «избы-
точностью», эмоциональным «привеском», якобы не имеющим
никакого отношения к практике. Например, в церкви Иль
„Джезу в Риме мы могли почувствовать, что содержание спе-
цифического переживания пространства сознательно направ-
лено на усиление тех эмоций, которые должно было вызвать
присутствие людей в помещении церкви, а также — независимо
от этого особого пространства — их участие в богослужении.
Примеров можно привести сколько угодно. Для нас здесь
важна лишь противоположность в использовании человеком
официального и частного помещений: в первом случае это
тесная связь общих всем эмоций с присутствием и деятель-
ностью человека именно в данном помещении; во втором —
сведение функций пространства к непосредственно-практиче-
ской полезности. (Естественно, речь при этом идет об абстракт-
ов
но-теоретическом понимании этих двух полюсов, так как, с од-
ной стороны, определенные эмоции могут быть вызваны офи-
циальной деятельностью самой по себе, в любом эстетически:
совершенно нейтральном пространстве — зале суда, собраний:
и т. п.; с другой стороны, и при практическом использовании
частного помещения могут возникать эстетические — или, как
мы увидим, псевдоэстетические — эмоции.) Принципиальна
важно здесь то, что в первом случае эмоции обнаруживают
эстетически необходимую связь с архитектурным воплощением
пространства, в то время как во втором эта зависимость вы-
нужденно остается случайной.
Разграничение обоих случаев зависит от принципа исполь-
зования пространства и заполняющих его предметов. В сфере
общественного применения сооружений эстетические замыслы
могут найти конкретное воплощение и стать, таким образом,,
связующим звеном между эвокативно-направляющим простран-
ством и субъективным восприятием его людьми. Способность,
таких строений, несмотря на то что изначальное значение их
исторически полностью — или по крайней мере для многих
людей--утрачено, неизменно э.воцировать подобного рода
визуальные переживания пространства, показывает, что здесь
общеэстетическое единство сохраняет действенность даже после
упразднения функций, порождающих первоначальные пережи-
вания, в принципе при любых радикально изменившихся обще-
ственно-исторических условиях. Использование помещений, со-
зданных и применяемых исключительно в частных целях,,
выступает именно как отрицание тех эстетических или псевдо-
эстетических моментов, наличие которых у самого помещения
и у заполняющих и даже украшающих его предметов может
быть констатировано на первый взгляд. Так, спальная комната-
этого помещения используется для сна, и при этом решающим
является чистый воздух, покой, удобство кровати, а не ее
конструктивно-зримые детали, декоративные украшения и т. д.,.
не ее пространственно-эвокативная функция. Точно так же
дело обстоит с открыванием шкафа, выдвиганием ящиков;
комода и т. д. Предельно отчетливо подтверждает нашу мысль
пример использования столовой посуды. История свидетель-
ствует, что при использовании сообразно их прямому назначе-
нию таких предметов, как, скажем, блюдо или тарелка, укра-
шенных художественно ценной росписью, допустим, при нали-
вании соуса, их эстетический характер в буквальном смысле-
уничтожается именно для тех, кто ими пользуется. Даже самые
красивые античные -сосуды не могли функционировать в каче-
стве предметов, пробуждающих эстетическую эвокацию и обла-
дающих художественной ценностью, когда, к примеру, раб нес
на голове кувшин, идя за водой. Следовательно, для того
чтобы возможные эстетические качества таких предметов могли
проявиться, эти последние должны быть изъяты из употребле-
127
иия и помещены в условия музейной обособленности. Здесь
не следует проводить формальных аналогий с картинами или
скульптурными изображениями, ибо таковые существуют в
эстетическом смысле исключительно как эвокативные центры
визуальных переживаний; их «использование» исчерпывается,
.в сущности, этой их функцией, и вне ее та же картина пред-
ставляет собой лишь кусок холста, негодный к употреблению
из-за того, что он «испачкан» красками. Кровать же или
шкаф, тарелка или ваза, как и само здание, всегда принадле-
жат действительности. И чтобы правильно понять основопо-
лагающие различия предметов архитектуры и декоративно-
прикладных искусств, следует прежде всего констатировать
этот их общий реальный характер. Однако общность не огра-
ничивается простой констатацией некоей абстрактно-всеобщей
реальности. При обсуждении архитектуры мы исходили из двух
различных, но тесно взаимосвязанных дезантропоморфирующих
форм отражения, антропоморфно-миметический характер кото-
рых только и может привести к эстетическому воплощению архи-
тектурного пространства. Оба типа отражения — как тот, кото-
рый допускает технологическую обработку соответствующих
предметов, так и тот, который ведет к социально обусловлен-
ному и конкретно детерминирующему первый комплекс целе-
полаганию, — мы обнаруживаем и в прикладном '.искусстве, но
с существенными модификациями. Анализ последних и будет
нашей очередной задачей.
Первое решающее отличие заключается в том, что речь
идет не о формировании пространства, а о производстве
отдельных предметов, которые, как правило, должны не запол-
нять какое-то именно для них предназначенное помещение,
.но располагаться в некоем пространстве, вмещающем их в
себя в известной степени чисто случайно. Таким образом, уни-
версальность социальной данности здесь значительно ослабле-
на, ее характер смещен в сторону партикулярности. (Этой про-
блемой, и прежде всего в плане заполнения пространства, мы
будем детально заниматься несколько позднее.) Но уже тот
факт, что речь идет об отдельных предметах повседневного
обихода, выявляет новые важные определения первого типа
действующего здесь дезантропоморфирующего отражения.
Прежде всего, исчезает необходимость его возведения до уров-
ня чисто научного отражения, который, как мы видели, в раз-
витии архитектуры играл решающую роль. Здесь вполне до-
статочно— в рамках общих контуров исторического роста —
тех обобщений, тех тенденций к дезантропоморфизации, кото-
рые обычно характеризуют кустарное производство. Можно
даже сказать, что именно здесь ремесло теснее всего соседство-
вало с искусством. Естественно, на новой стадии индустриали-
зации и здесь в широких масштабах вводится заводское про-
изводство, а вместе с ним — и растущее научное познание
Î28
действительности, необходимое для создания более совершен-
ной и рентабельной технологии. Не останавливаясь на обуслов-
ленных этим изменениях, заметим, что принципиальная проти-
воположность архитектуре при этом не ликвидируется. Научное
отражение действительности, которое лежит в основе архитек-
туры, касается, как мы показали, фундаментальной проблемы
связи человека с его естественным окружением: силы, подчи-
няющиеся человеческим целям благодаря пониманию его сущ-
ности и его действенности, являются решающими как сами по
себе в природе, так и для нас в человеческой жизни; с откры-
тием практической применимости их равновесия начинается
новый этап в человеческой истории. Поэтому визуально-эвока-
тивное художественно-миметическое отражение такого столк-
новения сил природы и их статически-фиксированного равно-
весия может стать основой высокого искусства. Поэтому и
технологическая целевая установка, конкретизирующая этот
первый комплекс и конкретно соотнесенная с человеческим
обществом, должна иметь коллективный, глубоко универсаль-
ный характер, так что эстетическому мимесису «всего-навсего»
остается преобразовать обе эти всеобщности посредством от-
ражающей деятельности в человеческое, антропоморфированное
особенное. В декоративно-прикладных искусствах этого торже-
ства всеобщего в обоих его видах уже нет. Разумеется,
и здесь — как в любом труде, выполняемом человеком, — речь
идет о познании особенностей тех объектов, материалов, инст-
рументов и т. п., с которыми он имеет дело в данном случае.
Однако именно потому для их познания, для их применения
в повседневной жизни вполне достаточно обычных сведений,
обыденного опыта. Поскольку предмету объективно не свой-
ственна пафосность, то и его отражение не может быть патети-
ческим.
Само собой разумеется, что и в данном случае речь идет
о победе над силами природы, одержанной человеческим мыш-
лением. Однако эта победа не является единственно решающей,
исключительной; она — лишь одна из многих, повседневно
одерживаемых человечеством в подобных поединках. Это от-
нюдь не исключает ее эмоциональной акцентированное™, кото-
рая лишь имеет качественно иной характер, нежели в архитек-
туре: радость, гордость и прочие эмоции по поводу таких
достижений не поднимаются до пафоса универсально об-
щественного, а остаются составной частью повседневной жизни.
Вследствие этого форма и содержание возникающих здесь
эмоций остаются закрепленными за сферой частного1 индивида,
который, правда, всегда является в то же время членом со-
словия, класса, народа и т. д. Это означает, что их всеобщий
характер выражает себя как внутреннее родство бесконечно
разнообразных партикулярностей, как общий принцип, прису-
щий каждому отдельному способу проявления и общественно-
9—805
129
исторически эти способы определяющий. Однако непосред-
ственно каждый такого рода предмет как на уровне практиче-
ски-технологическом, так и в сфере эмоциональной ориентирован,
на того частного индивида, в повседневной жизни которого он
таким двояким образом .непосредственно фигурирует.
В соответствии с этим единичное не снимается здесь, как
в архитектуре, во всеобщем, а, наоборот, оказывается в центре-
внимания в качестве категории, определяющей подлинную,,
конкретную предметность. Объективно и субъективно эта кате-
гориальная противоположность выступает в сравниваемых,
областях следующим образом. В архитектурной композиции
©сякое единичное необходимо отрицается вплоть до упраздне-
ния какой бы то ни было — даже самой относительной — соб-
ственной жизни, и субъект, противопоставленный таким произ-
ведениям, в первоначальном своем действии выступает — в пер-
вую очередь «и преимущественно — как член некоего сообщества,,
что, конечно, отнюдь не уничтожает индивидуальный характер-
его эвоцированных эмоций, а просто наделяет их — в рамках
субъективных возможностей данной личности — тенденцией:
двигаться в направлении от партикулярного к общественно-
всеобщему. (В чисто эстетическом переживании архитектурных
произведений эта тенденция тоже весьма заметна, хотя,
ив более утонченном и ослабленном виде.) Напротив, всеобщ-
ность, свойственная продуктам декоративно-прикладного искус-
ства, в отношении предметности отдельных объектов обладает
абстрактным характером; то есть независимо от того, имеют
ли для соответствующего всеобщего решающее значение тра-
диция, условность, мода и т. п., она должна явствовать просто-
из сравнения различных произведений, возникших при одина-
ковых общественных условиях76. Тот факт, что мало-мальски;
опытный наблюдатель в большинстве случаев с первого взгляда,
замечает такие общие черты, что очень часто и тоже с первого
взгляда он в состоянии даже определить, какой ранг имеет
данный экземпляр в пределах своей категории, ничего в этой
структуре не меняет. То, что всеобщее определяется только*
путем сопоставления отдельных экземпляров, то есть не соста-в-
ляет, как в архитектуре, безусловно и непосредственно воспри-
нимаемый момент конкретной предметности, порождает каче-
ственное структурное различие между обеими группами.
Таким образом, здесь отсутствует тот пафос всеобщего,,
который столь характерен для архитектуры, причем отсутствует
в двух отношениях: и как равновесие сил природы, значимо
участвующих в их столкновении, и как целевая установка,,
касающаяся того или иного общества в целом. Поэтому по-
знание объективной действительности и его технологическое-
использование могут здесь беспрепятственно оставаться на.
уровне обыденного мышления; переход к применению научных
методов в век техники существа дела не меняет. Поэтому и
130
цель, и конкретно организующий принцип такого продукта
всегда остаются в границах использования его отдельным че-
ловеком в сфере его партикулярности. Очевидно, что все эти
моменты в создании конкретного объекта неразрывно связаны
друг с другом; мы убедились в этом на примере противополож-
ного случая, архитектуры. Причем эта противоположность
двух видов искусства обнаруживается достаточно четко, если
учесть, что в принципах изготовления, допустим, мебели как
одного из основных предметов прикладного искусства главное
внимание обращается не на выявление структурного начала, но,
с одной стороны, на визуализацию ее практического (частного)
целевого назначения, а с другой стороны, на утверждение
зримой ценности ее материала, стройности пропорций или
изящества декоративных поверхностей. Так ворота или двери
в архитектурных сооружениях должны, безусловно, подчи-
няться структуре целого, в то время как, например, структура
какого-нибудь ларя или шкафа может быть полностью скрыта
дверцами, образующими видимую поверхность, что ни в ма-
лейшей степени не помешает его привлекательности. Общеиз-
вестно, что орнаментика имеет в архитектуре второстепенное
значение, и необходимо хотя бы минимальное проникновение
в существо проблемы, чтобы понять, что материальность
«сырья» и пропорциональность частей этой последней суще-
ствуют здесь только для выявления ранее упомянутых основных
природных взаимосвязей в их отношении к человеческому
обществу. В отличие от этого в декоративно-прикладных искус-
ствах вышеприведенные моменты выступают на передний план;
наряду с орнаментикой они являются существенными носителями
визуально вызванных эмоций, которые более или менее органи-
чески объединяются с носителями целесообразности, служащей
частным целям повседневной жизни. Однако все эти различия,
вырастающие до противоположностей, не должны заслонять
существенно общее, то есть то, что в обоих случаях речь идет
о принадлежащих действительности реально наличествующих
объектах, которые в состоянии выполнять роль, предписанную
им их целенаправленным созданием совершенно независимо от
их эстетических (или псевдоэстетических) функций. Какой-ни-
будь шкаф или стол могут по своей форме находиться вне
сферы эстетического удовольствия, однако это не помешает
использовать их как пгкаф или стол, точно так же как пригод-
ность для жилья какого-то здания или допустимость его ис-
пользования в качестве учреждения и т. д. не зависит от его
эстетически формирующих пространство возможностей.
Ясно, что здесь мы имеем дело со своеобразной сферой
предметов, пробуждающих эмоции, которая во многом сопри-
касается с эстетической, но все же отличается от нее именно
в силу отсутствия решающих для последней специфических
определений. Однако наше исследование сталкивается тем са-
9*
131
мым с принципиальным вопросом эстетики, настолько значи-
тельным, что мы считаем невозможным рассматривать его по
случаю пусть даже интересной, но частной проблемы. Мы имеем
в виду тот комплекс проблем, который классическая- эстетика
обычно изучала под рубрикой приятного в его отношении к
полезному, с одной стороны, и к «прекрасному» (мы предпочи-
таем термин «эстетическое»), с другой стороны. Ввиду :важ~
ности этой проблемы как для конкретного отграничения и
определения эстетического как такового, так и для выявление
его роли в совокупности человеческой жизни мы посвятим
этому комплексу вопросов последний раздел данной главы..
Подобное отдельное рассмотрение тем более обоснованно, что
хотя эти феномены и получают предельно точную объективацию
в декоративно-прикладном искусстве, но в совокупности этот
комплекс проблем намного универсальнее* и — разумеется,,
в различных искусствах по-разному — охватывает всю область
искусства. Забегая вперед и как бы резюмируя наши преды-
дущие рассуждения, заметим здесь, что критерием, определяю-
щим границы эстетического, служит столь часто нами упоми-
навшееся миросозидание. Конечно, в свое время мы могли, не-
смотря на внемирмость архаической орнаментики, признать
ее полноценным искусством 1[см. т. 1, с. 257 и ел.]. Но уже
тогда следовало указать, что подлинно эстетическое звучание
орнаментики — признак относительно менее продвинутой стадии
в развитии человечества, что в ходе истории орнаментика >не
только утратила ту центральную роль, которую она играла на
ранних стадиях развития, но и присущая ей эстетическая пло-
дотворность все время убывала. Чем более явно в художествен-
ных потребностях человека и в их эстетическом удовлетворении
в центре внимания оказывается созидание «мира», соразмер-
ного человеческому бытию человека, его собственного мира,
тем больше орнаментика вынуждена лишаться того эмоцио-
нального базиса, который изначально вызвал ее к жизни и
в пору ее расцвета обеспечивал ей, казалось, неисчерпаемое
богатство. Мы не хотим здесь повторять то, что было уже ска-
зано ранее. Достаточно отметить, что подоплека эстетически
плодотворной трансцендентности начального этапа развития
искусства столь основательно скрыта, что даже в те периоды,
когда делались попытки вновь укоренить искусство в некоей
трансцендентности и в соответствии с этим наблюдалось
стремление к аллегории, эта тенденция уже не способствовала
возрождению чистой орнаментики, а вела к аллегоризации
самих по себе миросозидающих художественных форм. Так
что мы ограничимся здесь признанием того, что миросозидание
следует считать внутренним определением эстетического прин-
ципа.
Но при этом может возникнуть вполне правомерный вопрос;
допустим, что отдельные объекты, создаваемые прикладным
132
искусством, могут быть сколь угодно далеки от миросозидания;
но разве их ансамбль не образует тем не менее некий «мир»,
причем как раз тот, в котором развертывается значительная и
отнюдь не маловажная часть человеческой жизни? В связи с
этим необходимо вкратце остановиться и на этом вопросе,
связанном с созданием архитектурного интерьера. При этом,
если речь идет о совместном участии различных предметов
мебели, обстановки в некоем едином действии, то оно по сути
своей может быть только архитектоническим. Общность и
внутреннее единство ряда таких предметов обихода могут быть
доказаны только тем, что >во взаимодействии друг с другом и
с помещением, ;в 'котором они находятся, они вызывают единое
и единственное в своем роде визуально-эвокативное впечатле-
ние пространства. Однако это неминуемо возвращает нас к
прежнему кругу проблем. Ибо архитектурное пространственное
единство, как мы видели, чрезвычайно строго, можно сказать
деспотически, не допускает в границах свойственной ему кон-
структивной целостности никаких относительно самостоятель-
ных единиц, и все, что обычно находится в архитектурном
пространстве, безусловно, подчинено его собственным принци-
пам. Связанную с этим проблематику применительно к скульп-
туре и живописи мы уже рассматривали [с. 109 и ел.]. Пред-
меты обстановки не составляют здесь исключения. Так что
только при соблюдении этого требования их совокупность мо-
жет действительно стать — в эстетическом смысле — неким
ансамблем. Подобное соподчинение, подобное единое формиро-
вание интерьеров могло развиваться лишь очень медленно.
В помещениях, предназначенных для официальных, обществен-
ных мероприятий, соответствующая им обстановка внедрялась
быстрее, чем в тех, которые были предназначены для личного
пользования. В связи с этим Ригль говорит, что последователь-
ное претворение в жизнь единой, унифицированной взаимоупо-
рядоченности было достигнуто только стилем ампир. Интересно
проследить, согласно каким принципам осуществлялось это
единство. Ригль подчеркивает прежде всего «строгую сим-
метрию». Ее воплощение предполагает активную роль стен, ко-
торые вместе с потолком архитектонически «создают, ограни-
чивают» пространство. Мы не можем здесь останавливаться
на интересных деталях рассуждений Ригля. Отметим лишь
одну из них: «Так, из стильных интерьеров ампирных дворцов
исчезли гигантские гардеробы эпохи Ренессанса и барокко»77.
Естественно, реальные потребности должны по-прежнему удов-
летворяться; однако платяной шкаф теперь помещается таким
образом, чтобы он не попадал в поле зрения входящего в ком-
нату. Так соотнесенность всей внутренней обстановки с прак-
тической полезностью визуально снимается, из повседневной
жизни своим непосредственным, намеренным эффектом выде-
ляется ансамбль. Если мы, не вдаваясь в подробности, обратим
133
особое внимание в описании Ригля на центральное значение
конструктивного решения стен, то мы убедимся, что репрезен-
тативный характер частного помещения сам собой вытекает
из предпосылок его архитектонически-эстетической интенцио-
нированности. Подлинная, непосредственная жизнь в таких
помещениях подчиняется отражениям некоего бытия для дру-
гих. (Хотя практические потребности жизни не могут исчез-
нуть, они по возможности скрываются, делаются неощути-
мыми.)
Что же означает этот принцип репрезентации? Несомненно,
нечто совершенно различное в разные периоды и для разных
классов. Однако во всех изменениях значения и стиля сохра-
няется общий момент: известное обобщение человека, создаю-
щего (или поручающего создать) пространство, в котором он
живет, как некую зримую реальность, как нечего ему принад-
лежащее, как выражение его характера. Независимо от того,
всегда ли эта тенденция до конца осознанна — а она часто
именно такова, — она возвышает человека, жизненное про-
странство которого становится репрезентативным в эстетиче-
ском отношении, до представителя его класса. Чем глубже
связь между партикулярностью индивида и этой репрезента-
цией, тем отчетливее будет выражен социальный запрос к
архитектуре, к формированию и упорядочению интерьера, тем
определеннее и однозначнее становится этот последний, тем
единообразнее и последовательнее будет его эстетическое
решение. Здесь необходимо проявляется та категория, которую
мы ранее определили как использование пространства: сфор-
мированное и организованное таким образом пространство
становится ареной репрезентативных действий, в которых
партикулярность обитателя снимается в некоем всеобщем.
Вспомним об утреннем приеме французских королей, превра-
щавшем их опочивальню в помещение для государственных
дел, или о приемных, залах заседаний, кабинетах, служивших
одновременно гостиными, и т. д. Конечно, и у Ригля подраз-
умевается, что соответствующий интерьер архитектонически
упорядочивался с учетом этих целей.
В эпоху развитого капитализма это уже исключительный
случай. Частные дома возводят в основном, руководствуясь
коммерческими и технологическими соображениями; размеры,
форма, планировка и прочие параметры интерьеров опреде-
ляются с позиций непосредственно-практической целесообраз-
ности, которая, разумеется, допускает значительные модифи-
кации в соответствии с социальным положением, требованиями
моды и т. д., но в любом случае мало 'Принимает во 'внимание
специфицированный визуально-пространственный характер от-
дельных интерьеров. Интерьеры, как правило, схематичны и
унифицированы; вспомним о типовых многоквартирных «короб-
ках». Абсолютно внеэстетические тенденции, издревле опреде-
134
ляющие частное домостроительство, отныне становятся господ-
ствующими повсеместно; их весьма значительные классовые
дифференциации мало что меняют в этой основной схеме.
Но тем самым разрушается конкретный организующий прин-
цип для интерьера и его обстановки. Последняя больше не
помогает подчеркивать а>рхитектонический характер какого-то
уже самого по себе эстетически определенного интерьера,
а в лучшем случае может более или менее удачно приспосаб-
ливаться к помещению, рассчитанному на эстетически-нейтраль-
ную, абстрактно-партикулярную полезность. Это не означает,
что обставленные таким образом интерьеры становятся совер-
шенно одинаковыми; конечно, растущее господство моды по-
рождает тенденцию к 'нивелированию; но изъятие из обращения
того, что более уже не модно, происходит здесь вынужденно
значительно медленнее, чем, скажем, в одежде. Так что при
всех упомянутых социально обусловленных тенденциях к уни-
фикации это отмирание эстетических принципов в оформлении
частных интерьеров все же вовсе не означает полного уравни-
вания; по-прежнему продолжают действовать все еще значи-
тельные стремления к дифференциации, просто по своему
основному характеру они становятся все менее эстетическими.
Несмотря на то что в данном — пусть даже беглом — рас-
смотрении этого вопроса мы предваряем те общие проблемы,
которые будут исследоваться в заключительном разделе главы,
на них все же следует кратко остановиться, чтобы придать
нашему обзору декоративно-прикладных искусств известную
цельность. Выбор предметов и их пространственное размещение
в таких интерьерах могут исходить только из частных точек
зрения: каждый хочет обставить свою индивидуальную, лич-
ную жизнь настолько практично, целесообразно, приятно,
удобно, насколько это для него доступно. Удается или нет
осуществление таких целевых установок, зависит в первую
очередь от чисто практических моментов; решение в таком
случае либо исключительно технологически-объективно, либо
чисто личностно-субъективно. Если человек чувствует себя в
каком-то окружении хорошо, то спорить с ним по этому поводу
невозможно — здесь его частно-субъективное ощущение, несо-
мненно, является последней инстанцией. Более того, повседнев-
ный опыт показывает, что подобная удача или неудача могут
получить такую чувственно-духовно воспринимаемую объекти-
вацию, когда и речи быть не может о прямом использовании
эстетических критериев; мы называем комнаты или квартиры
обжитыми, имеющими свое лицо, безличными, характерными
и т. д. Подобные суждения исходят из того факта, что после-
довательное использование жилого помещения и его обстанов-
ки, строго определяемое стилем жизни той или иной личности,
даже в самом крайнем своем проявлении выражает то жизне-
ощущение, которое лежит в его основе. Если такого фундамен-
135
та нет, то квартира предстает как музейная экспозиция хоро-
шего или дурного вкуса; в подобном случае предметы мебе-
ли— сами по себе, возможно, и замечательные — не согласуют-
ся друг с другом, с помещением в целом, с общим ансамблем.
Тем самым они обнаруживают антиномичность этой сферы:
либо для-себя-бытие, которое отрицает ее собственную цель,
то есть служение жизни человека, либо растворение в некоей
взаимозависимости, уничтожающее или умаляющее их ви-
зуальную ценность. В случае же возникновения живого един-
ства в вышеупомянутом смысле такие предметы полностью
или частично утрачивают свою эстетическую (или псевдоэсте-
тическую) ценность. Они становятся несамостоятельными час-
тями некоего целого, основу которого составляют необходимо
партикулярные жизненные условия и привычки определенной
личности.
Насколько мало общего последние имеют с эстетическими
требованиями, можно видеть на примере помещений, где зна-
чительную часть своей жизни вполне осознанно провел Гёте.
Он говорил Эккерману: «Моей природе такая жизнь противо-
показана. В роскошном доме, вроде того, что мне отвели в
Карлсбаде, я мигом становлюсь ленивым и бездеятельным.
И напротив, тесные комнатушки, как вот эта, в которой мы
сидим, упорядоченно-беспорядочные, немного богемистые, —
вот то, что мне нужно: они предоставляют полную свободу
действий моей внутренней природе, в них я работаю и творю,
как мне заблагорассудится». Или в иной связи: «...Мне все
виды комфорта не по нутру. В моей комнате нет даже дивана:
я всегда сижу на старом деревянном стуле и только месяца
два назад велел приделать к «ему что-то вроде прислона для
головы. Удобная, красивая мебель останавливает мою мысль
и погружает меня в пассивное благодушие. За исключением
тех, кто с юных лет привык к роскошным покоям и изыскан-
ной домашней утвари, все это годится лишь людям, кото-
рые не мыслят, да и не могут мыслить»78. Число подобных
примеров можно умножить. Однако нам сейчас важно просто
познакомиться с единственной в своем роде, связанной с опре-
деленным лицом партикулярностью подобного ансамбля.
Ибо как ни сильно жилища Гёте действуют на каждого, кто
его знает и любит, причем именно тем общим эмоциональным
содержанием, которое он сам столь четко характеризует, тем
не менее ясно, что здесь проявляются именно индивидуальные
черты его личности. То, что он охотнее всего жил и работал
в подобной обстановке, с точки зрения его поэтического твор-
чества, его всемирно-исторического значения одновременно и
необходимо, и случайно. Мы уже указывали на то, что во вся-
ком выдающемся художественном творчестве необходимый
фундамент составляет партикулярность человека, но, правда,
таким образом, что на пути к созданию произведения, в твор-
136
ческом процессе эти черты могут быть сохранены только в
снятом виде, только частично. То, как частное в живой про-
тиворечивости вовлекается во всеобщее (общественное, обще-
человеческое) и в этой диалектике возвышается до художе-
ственного особенного, зависит прежде всего от внутренней
структуры каждого из искусств, за исключением архитектуры,
В архитектуре, принципиально выражающей только утвержде-
ние, частное может исчезать, но снимается оно иным спосо-
бом. Естественно это относится и к обсуждаемому здесь
ансамблю. Поэтому появление такого ансамбля, в котором
отсутствует диалектика частного, неизбежно выражает именно
партикулярность того, кто вызвал к жизни этот ансамбль,
и ничего сверх того, что выходит за эти рамки. Так что выше-
упомянутый путь совершается в обратном направлении: от зна-
комства с особенностями творчества и поэтической личности
автора назад к его частной индивидуальности. У тех, кто
вообще не знает Гёте, здесь может возникнуть представление
о целесообразно .используемом помещении, где жил умный и
трудолюбивый человек; но для того, чтобы впечатление было
подлинным, посетитель должен заранее представлять себе
величие Гёте. Это отчетливо указывает на ту ситуацию, кото-
рую мы имеем в виду: возникающее здесь единство настроения,
раскрывающееся здесь эмоциональное содержание и пр. суть
излучение некоей личностной партикулярности, а не эстетиче-
ская объективация какого-то творческого процесса, известного
нам по созданию архитектурно-эстетического интерьера, где в
согласии с внутренними законами архитектурного мимесиса
выполнение социального задания поглощает, принуждает ис-
чезнуть все те моменты партикулярности, которые -способство-
вали его формированию, и тем самым создает условия для
проявления общественно-истор.ически общего в его чистой и
конкретной форме. Теоретический анализ подобного рода
фактов [с. 183 и ел.] ставит своей задачей показать, что речь
при этом идет о разграничении важных областей человеческой
жизни, а не об установлении ценностно-иерархических класси-
фикаций, как это обычно происходит в таких случаях в идеа-
листической эстетике.
4. САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО
Вторая группа важных эстетических (или псевдоэстетических)
феноменов, в которых выявляются сходные формы мимесиса,—
это сад. Его место в системе жизненных явлений, человеческой
деятельности и ее объективации на первый же взгляд выказы-
вает значительное сходство с архитектурой. Так, сад, как и лю-
бое строение, — это прежде всего действительность, существо-
вание которой (с теоретико-познавательной точки зрения) со-
137
вершенно не затрагивается степенью ее эстетичности. Сад, как
и архитектура, возник из чисто практических жизненных по-
требностей, и в ходе исторического развития подавляющее
большинство типов сада следует рассматривать в основном с
этой точки зрения (плодовые сады, огороды и т. п.). Разумеет-
ся, в генезисе сада в эстетическом смысле не последнюю роль
играют чувства радости и удовлетворения, вызываемые прак-
тикой производства и потребления продуктов садоводства,
победой в ходе трудовой деятельности :над природой и т. д.
Но и с учетом этого представляется несомненным то, что пер-
вые принципы организации природы, расположение растений
правильными рядами, геометрически обусловленная форма
каждой отдельной клумбы и т. п., а зачастую и всего сада
возникли на базе стремления к оптимальной полезности и лишь
весьма постепенно превратились в принципы построения эсте-
тического объекта. Следовательно, диалектика двойного миме-
сиса господствует и здесь: отражение объективных законов
роста и оптимального развития растений, дезантропоморфи-
рующее по своей сути, служит социально обусловленным це-
лям, а затем репродуцируется в эстетических категориях и
соответственно переоформляется. Вопрос, насколько это дезант-
ропоморфирующее отражение поднимается на уровень науки,
и поднимается ли вообще, или же остается в области повсе-
дневной ремесленнической практики, здесь играет еще менее
значительную роль, нежели в случае с архитектурой; мы не
рассматриваем сады, заложенные и культивируемые по чисто
научным соображениям.
Важен лишь тот факт, что эстетическая точка зрения, вооб-
ще говоря, применима только к относительно небольшой части
садов. Следовательно, и здесь все дело в том, чтобы показать,
как на основе общественных потребностей, вызвавших к жизни
утилитарное садоводство, возникают такие эмоции, которые
постепенно сгущаются до степени социальных требований к
саду в плане эстетическом. Чтобы правильно это понять, сле-
дует определить еще одно общее свойство садово-паркового
искусства и архитектуры: вследствие равно присущего обоим
реального характера и архитектура, и садоводство одинаково
неспособны выразить нечто негативное. Эмоции, пробуждаемые
садом, необходимо обладают позитивным, утверждающим со-
держанием. Применительно к действительности утрачивает зна-
чимость основополагающее для любого миметического искус-
ства утверждение Аристотеля о том, что в искусстве может
доставлять удовольствие то, что в жизни вызвало бы отвра-
щение. Утверждение или отрицание содержания вызываемых
эмоций прямо и безоговорочно тождественно утверждению или
отрицанию самого объекта рассматриваемой действительности
как таковой. Несмотря на это существенное сходство, характер
обоих видов действительности и тот факт, чтсг один из них
138
относится к органическому, а другой — к неорганическому ми-
ру, предполагает и существенные различия. Сколь бы ни было
решительным вторжение познания и целевых установок чело^-
века в мир органический — интродуцирование видов растений
в чужие им регионы, выведение совершенно новых видов,—
человеческое влияние на этот мир, как правило, представляет
собой скорее запланированное и разумное раскрытие его-
оптимальных жизненных возможностей, нежели радикальное4
и жесткое их перемоделирование. Естественные формы могут
сколь угодно облагораживаться, но отдельные растения остают-
ся живыми и .развивающимися по собственным законам орга-
ническими индивидами. Идеал Бэкона, согласно которому в
саду благодаря продуманной планировке и своевременным
переменам ассортимента растений сохраняется вечная весна,
пластически выражает эту возможность79. Напротив, решающее
для архитектуры господство человека над силами природы
овеществляется лишь при тех условиях, когда каждый данный
природой строительный элемент подвергается полностью пре-
образующей его обработке и приобретает форму, не имеющую
аналогий в природе. Ибо только таким образом сами по себе
незримые силы природы могут быть освобождены из сбалан-
сированной статики их столкновения и превращены в визуаль-
ный стимул эмоций. С этим, так сказать, материальным раз-
личием совпадает и то, что сад сам по себе никогда не содер-
жит того социально обобщаемого пафоса, который типичен-
для эстетического аспекта зодчества.
Это сохранение исходных природных форм в садово-парко-
вом искусстве ведет к фундаментальной антиномии его сущ-
ности, из чего — в противоположность архитектуре — возникают
два резко взаимопротиворечивых типа социальных заданий,
в силу которых в истории садоводства выявляются две столь
же противоречивые тенденции. Их подробное описание, вскры-
тие их конкретных общественно-исторических причин относится
к историко-материалистической части эстетики, тогда как и
здесь, и выше при рассмотрении ряда совершенно иных про-
блем мы констатируем (что исключительно важно в общетео-
ретическом отношении), что подобная историческая дифферен-
циация была бы невозможна, не коренись она в эстетических
основаниях садоводства, в его необходимом -и возможном влия-
нии на человека. Итак, в основе историко-материалистической
проблематики заложен фундаментальный факт эстетического
отражения действительности, проблема, которая может решать-
ся только с позиций диалектического материализма. В даль-
нейшем мы обратимся к этому аспекту упомянутой антиномии,
а исторической проблематики будем касаться лишь тогда и
настолько подробно, когда и насколько это представится
необходимым в интересах общетеоретического разъясне-
ния.
139
Сама эта антиномия показывает, насколько различны, не-
смотря на значительные совпадения, эстетические задачи садо-
во-паркового искусства и архитектуры. А именно: произведения
архитектуры всегда и без исключений выражают в своей ре-
шающей сущности производящее бытие человека, человеческой
руки. По меткому наблюдению Зиммеля, однажды построенное
начинает по виду приближаться к продукту природы только
тогда, когда рушится, только при потере своего несущего един-
ства80. Напротив, требуются в высшей степени сложные про-
цедуры, такие, как, например, во французском барочном садо-
водстве, чтобы лишить сад в целом, а в особенности его
растительный компонент, характера естественной поросли.
Но так как, несмотря на этот неуничтожимо естественный об-
лик, сад все же представляет собой результат, высокоразвитой
общественно-исторической деятельности человека, зерно иссле-
дуемой здесь антиномии заложено в эстетической сущности
самого садоводства независимо от того, выступает ли оно как
часть архитектуры, когда все его основные принципы служат
тому, чтобы создать для произведений архитектуры достойное,
подчеркивающее и развивающее ее сокровеннейшие принципы
окружение, или же превалирует момент естественности. В этом
случае первичным должен быть 'искусственно созданный ланд-
шафт, а здание включается в общий природный континуум.
Так, Вордсворт и Кольридж считают, что дом и его сад долж-
ны принадлежать ландшафту, а не ландшафт — служить дове-
ском к дому81.
Здесь неуместно углубляться в различные проблемы, выте-
кающие из этой антиномии. Укажем лишь, что место единич-
ного в рамках эстетически особенного в садово-парковом искус-
стве иное, нежели в архитектуре, и в этой связи, принимая во
внимание общую, исключающую всякое отрицание и чисто
утверждающую сущность того и другой, с особой остротой
встает проблема частного, партикулярного. Неорганическая
структура архитектуры облегчает осуществление безусловного
господства общего, так что всякое частное эстетически наличе-
ствует в ней лишь благодаря своей функции в общей взаимо-
связи и не может быть поднято на уровень специфического
существования в его противоречивой, снятой форме. Но коль
скоро речь заходит о предметах органической природы, чье ин-
дивидуальное бытие никогда нельзя игнорировать в столь
полной мере, как бытие артефактов, входящих в общую ком-
позицию, то в этом случае на первый план все настоятельнее
выдвигается возникающая таким путем антиномичность. В со-
ответствии с этим Амманати формулирует принцип садовой
архитектоники: «То, что строится, должно доминировать и пе-
ревешивать то, что сажается»82. А Вёльфлин рассматривает
возникающее согласно этим принципам положение растений
в барочных садах следующим образом: «Отдельное дерево
140
само по себе не »имеет никакого значения. Все индивидуальное
приобретает значение лишь благодаря столкновению с другими
индивидуумами. Появляются группы вечнозеленых могучих
дубов, существенно обусловливающие характер итальянской
виллы: дубы посажены тесно и окружены высоким стриженым
лавром»83. Но если обратиться к описаниям садов начиная с
XVIII века, то можно обнаружить, что восхищение вызывает
как раз обратное, то есть впечатление, что перед нами не про-
изведение человека, а проявление свободного саморазвития
дрироды как в общем, так и в частностях. Юлия у Руссо, до-
пуская в саду «самостоятельную деятельность» природы, счи-
тает необходимым при этом свой собственный надзор: в ее
саду нет ничего, что бы она не поправляла84. Не требует ком-
ментария то, что при намерении скрыть направляющее челове-
ческое участие в уже разбитом саду каждое растение призвано
утверждать ту свою самостоятельность, то самооправдание
своего бытия, которым оно обладает в самой природе. Мы еще
вернемся к проблеме возникающих таким образом компози-
ций и к вытекающей отсюда партикулярности.
Даже такой беглый очерк центральной антиномии садово-
оаркового искусства показывает, что в нем противоположные
тенденции должны сталкиваться в гораздо более резкой форме,
нежели в других видах искусства. Разумеется, и здесь наличе-
ствует развитие, исполненное переходов, которые по своей сути
представляют собой качественное восхождение по одной и той
же линии. Но если общественно-исторические изменения ведут
к полярной противоположности социальных требований, то
здесь возникают произведения, противостоящие друг другу с
неизмеримо большей степенью взаимоисключения, со значи-
тельно более радикальным взаимным отрицанием, чем в лю-
бой другой области искусства. При этом мы имеем в виду не
субъективную полемику, которая обычно сопровождает в искус-
стве изменение направления; страстное стремление провести в
жизнь требования настоящего дня по большей части связано
со столь же страстным отрицанием дня вчерашнего. Однако
в других видах искусства, как правило, при определенной вре-
менной дистанции эти противоречия предстают перед потомка-
ми в далеко не столь радикальном и отрицающем прошлое
виде, как это представляется современникам; даже и тогда,
когда за переворотом в искусстве стоит стремление к размеже-
ванию двух враждебных классов. Так, с XVII—XVIII веков
специфически буржуазное искусство резко отделяется от пред-
шествующих художественных направлений придворно-абсолю-
тистского толка. Голландские пейзажи, интерьеры и натюрмор-
ты в той же степени выступают как новый жанр, что и бур-
жуазный роман того времени. Однако так называемый
английский парк, который в плане его происхождения обязан
своим возникновением и расцветом тем же самым общественно-
141
историческим потребностям, отрицает предшествующее каче-
ственно по-иному. Здесь налицо действительно радикальный
разрыв, и даже в отдаленной исторической перспективе с уче-
том происшедших с тех пор перемен это давно разрешившееся,
столкновение предстает именно как разрыв. Следовательно^
здесь в исторической форме демонстрируется то, что мы теоре-
тически обозначили как антиномию сущности садово-паркового-
искусства.
Основные принципы обеих противостоящих концепций мы
уже обрисовали, но следует еще вкратце суммировать сущ-
ность этих полярных тенденций. Разумеется, о садовом искус-
стве давно прошедших времен мы располагаем лишь относи-
тельно немногими документами; но эти документы, как нам
представляется, указывают, что сады Египта и Передней Азии;
приближаются к тому типу, когда сад рассматривается как
часть архитектуры, как подчиненный ей момент. Так как эта
же склонность абсолютно однозначно выявляется в искусстве
Возрождения и прежде всего — барокко, мы можем ограни-
читься ссылкой на четкую и информативную характеристику
Вёльфлина, утверждавшего, что сад как единое целое подчи-
няется духу архитектоники, и подчеркивавшего, что еще садо-
вое искусство Высокого Возрождения стилизовало все мотивы
природы, неровности почвы, заросли деревьев, воду и обособ-
ляло разнородные части сада, тектонически воспринимая любой
отдельный объем. Прогресс, привнесенный эпохой барокко, со-
стоял прежде всего в том, что «единство композиции» проводи-
лось в качественно последовательном виде: «Барокко не под-
чиняется устройству поверхности, напротив — подчиняет ее
себе, пытаясь какою угодно ценою достигнуть единства плани-
ровки: всепроникающий основной мотив, господствующие над.
садом виды, подчинение частностей целому, принятие в расчет
впечатления, достигаемого целым. Ось господского жилого>
строения сохраняет свою силу и для сада; павильоны и казино-
не раскинуты случайно и не загнаны в угол. Они протягивают-
ся по средней линии или лежат по обе стороны от нее.
Во всем — симметрия»85. Очевидно, не случайно, что высшие
достижения этот стиль демонстрирует в растительном окруже-
нии вилл на холмах, так как здесь ставится задача привести
к визуально обозримому и в этой обозримости эвоцирующему
эмоции единству весь окружающий здание и замкнутый в себе
ландшафт. Образующая единство как внутри себя, так и в со-
четании со строением часть природы целиком подчиняется воле
человека: весь фрагмент природного пейзажа отныне представ-
лен как сознательно спланированное и выполненное произве-
дение человека; при этом не только террасы придают холму
новые, возникшие из человеческих потребностей формы и чле-
нения, не только наличествующий, но упорядоченный расти-
тельный мир полностью вводится в рамки, создаваемые архи-
142
тектурои, не только вода из природной силы превращается в
использованный человеком декоративный и даже игровой мо-
тив этого нового сооружения, но и органическая целостность
всех этих моментов представляет собой нечто новое, хотя и
состоящее из природных элементов, но качественно противо-
поставленное природе, нечто, чему столь же напрасно было
•бы искать аналогий в природе, сколь и в архитектуре.
Вёльфлин справедливо обращает внимание на то, что это
полное подчинение взятого из ландшафта фрагмента природу
законам человеческого общества, опосредуемое архитектурой,
с точки зрения ее экстремальных запросов не абсолютно, не
всеобъемлюще, так как целостность, образуемая в данном слу-
чае сочетанием виллы и сада и достигаемая путем обработки
их природной основы — естественного холма, — всегда лишь
интенсивная целостность внутри экстенсивной, представляемой
окружающей природой. С одной стороны, у самого сада всегда
наличествует окружение, и при этом безразлично, будет ли это
нерегулярный парк или сама по себе не упорядоченная челове-
ком природа. С другой стороны, вилла и сад заложены таким
образом, чтобы открывать максимально выгодные перспективы
на окружающий ландшафт. Из всего этого следует, что сад,
разбитый согласно чисто архитектоническому принципу, эвоци-
рует эмоции, выходящие за рамки его архитектурной сущности,
принадлежащие области живописи. По словам Вёльфлина,
«барокко стилизовал природу, чтобы придать ей больше устой-
чивости и строгого достоинства, как того требовала эпоха, но
парк не исчерпывается архитектоническими мотивами: в ком-
позицию вводится мотив бесконечного, и благодаря ему из
этого садового стиля развилась современная ландшафтная
живопись Пуссена и Дюге»86. Господство архитектонического
принципа этим никак не снимается, ибо даже в самих чисто
архитектурных сооружениях зачастую наблюдаются случаи
подобного выхода за пределы строительных объемов в узком
смысле; стоит лишь вспомнить об эффектах, производимых —
каждый в своем роде — куполами церкви Санта Мария дель
Фьоре во Флоренции и собора св. Петра в Риме благодаря их
«парению» над морем городских домов. Но такая констатация
ни в малейшей степени не колеблет основополагающую харак-
теристику этого типа сада; она лишь показывает, что подобный
тип сада полностью обусловлен специфическими особенностями
охарактеризованного нами социального задания, которые не
только преображают бытийные категории сада в эстетико-
миметические, а его общие и частные моменты — в эстетически
особенное, но одновременно и поднимают эвоцируемые им как
целым эмоции на такую высоту, что они обретают глубину и
масштабность «мира» человека, становятся его внутренним
достоянием.
Однако было бы теоретически ложным при всем признании
143
эстетической сущности, художественной гомогенности, целост-
ности и единства таких вершинных достижений садово-парко-
вого искусства оставить без внимания то, что его главная па-
радоксальность, лежащая в его основе антиномичность и здесь
не может исчезнуть окончательно. С одной стороны, она про-
является в том, что совершенная подчиненность растительного
мира ло отношению к постулатам архитектонического начала
зачастую выявляет и свои проблематические аспекты. Раз-
умеется, пространство для удовлетворительного решения здесь
больше, чем могла бы предположить экстремальная догматика.
Объединение антиномических принципов и их счастливое раз-
решение вполне возможно, в особенности в случае относитель-
но небольших внутренних садов, скажем украшенных расти-
тельностью дворов; возьмем как пример одиноко стоящее
старое дерево посредине крытой галереи монастырского двора,
которое может, не теряя своей органически-растительной сущ-
ности, выступать лишь как момент общей архитектоники; об-
разцом подобного решения является миртовый двор Альгамбры
(Гранада). С большим трудом разрешаются проблемы, возник-
шие при развитии барочного садоводства, прежде всего во
Франции. Мария Луиза Готхайн суммирует связанные с этим
воззрения теоретиков и практиков этого этапа садово-парково-
го искусства, противопоставляя «итальянскую архитектонику
строительства» «растительной архитектуре»87. С эстетических
позиций можно усмотреть в их различии два основных момен-
та. Во-первых, отвергается террасная композиция итальянских
барочных садов, ей предпочитается плоскость, в крайнем слу-
чае— с мягко очерченными возвышениями. Ясно, что тем самым
пропадает великолепный пафос подчинения природы потреб-
ностям человека. Во-вторых, уже в самой конструкции «расти-
тельной архитектуры» скрыта тенденция к мелкомасштабности
и «произвольности, так как преобладание растительного прин-
ципа хотя и гораздо более явно и откровенно, нежели его про-
стое проявление под эгидой «построенного», но именно поэтому
в нем отсутствует всякое напряжение, так много привнесшее
в монументальность итальянских барочных садов; именно
поэтому абсолютное господство этого принципа так легко, под-
час вовсе без перехода, оборачивается откровенной искусствен-
ностью, пустой игрой.
С другой стороны — ив этом проявляются глубоко зало-
женные особенности социального задания, — очевидно, что
даже в тех садах, которые подчиняются чисто архитектурному
принципу, основополагающая опора на социально единое и
всеобщее далеко не столь прочна и спонтанна и проявляется
не столь само собой разумеющимся образом, как в самой ар-
хитектуре. Тем самым конкретизируется наше утверждение
[с. 139] о том, что «сценическое пространство» социальна
обобщаемого пафоса в садово-парковом искусстве горазда
144
уже, нежели в архитектуре. Опасность соскользнуть в чистое
приватное, частное здесь гораздо актуальнее. В рамках этой>
работы, разумеется, невозможно детально охарактеризовать-
это различие. Удовлетворимся указанием на то, что содержа-
тельно рассматриваемая репрезентативность, способствующая>
возвышению над партикулярностью всякого не чисто официаль-
ного сооружения, всегда отличается лабильностью. Это значит,,
что она от подлинной репрезентации актуальной социальной;
общности (хотя с точки зрения потомства эта общность может
показаться сколь угодно условной, сословно ограниченной:
и т. д.) может внезапно опуститься до чисто приватного,.,
не имеющего значимости удовольствия. На таком уровне обоб-
щения эта констатация может в равной степени относиться-
и к архитектуре, и к садово-парковому искусству. Однако-
у этого последнего данная тенденция к чисто приватному^..
к только партикулярному гораздо легче выступает в виде опре-
деляющего формообразование социального задания, чем у пер-
вой. Обширная монография Марии Луизы Готхайн содержит^
множество примеров того, как эти моменты уже в Италии-
определяли некоторую часть садового строительства; так, мьр
узнаем о высоком крытом переходе в декоративном саду, за-
блудившиеся в котором внезапно бывали обливаемы сверху
водой; о лабиринтах, из которых нельзя было выбраться без-
посторонней помощи, и т. п.88 Эта тенденция усиливается во
французских садах, где дороги петляют между ровно подстри-
женными деревьями, а шпалерник часто создает впечатление^,
что здесь социальное задание меньше нацелено на архитектур-
но-эстетические моменты, нежели на создание удобных мест-
свидания для возможно большего количества влюбленных пар.
Подобные тенденции можно проследить повсеместно, как знаю
того, что представленная нами антиномия в садово-парковом;
искусстве действенна и относительно того его типа, который;
ориентирован преимущественно архитектонически.
Как и повсюду в сфере эстетического, здесь также выяв-
ляется примечательная, бросающаяся в глаза, но никоим обра-
зом не случайная конвергенция между возможностями, предо-
ставляемыми искусству материалом, и характером социального-
заказа. Последнему свойственна лабильность, сильная склон-
ность соскальзывать до чистой партикулярности, которой1
соответствует трудность в сфере материальных возможностей
вместить органическое бытие растительного мира как относи-
тельную целостность в рамки эстетической гомогенности. Оче-
видно, что при этом речь идет о полярно противоположных:
способах проявления единого феномена, о мимесисе «обмена,
веществ» между обществом и природой на той его ступени,,
где возможности привить возникающим таким путем миметиче-
ским произведениям принципы эстетически-эвокативного антро-
поморфирования оказываются проблематичными. Это эстети«-
10-805
145
чески неблагоприятное обстоятельство кроется как в возмож-
ностях обработки материала человеком, так и в самом обраба-
тываемом материале. Такая взаимосвязь становится особенно
понятной, если рассматривать «обмен веществ» между обще-
ством и природой как область взаимодействия этой субъек-
тивности и этого своеобразного мира объектов, внутреннее
взаимовлияние которых обосновывается уже на доэстетической
стадии.
Важнейшие принципы другого полюса нашей антиномии мы
уже называли [с. 139 и ел.], так что наше изложение требует
лишь более точного определения. Взятый в самом экстремаль-
ном выражении, этот момент заключает в себе требование
лолной элиминации человеческой активности — подчинения
природы человеческим потребностям во всем, что касается са-
дов, парков и т. д. Это, разумеется, изначально невозможно,
так как противоречит условиям существования сада, и именно
такая невозможность вкупе с вышеизложенным требованием
создает второй полюс нашей антиномии. В вышеупомянутых
случаях он возникает потому, что человеческие потребности,
объективированно соединяемые в понятии архитектуры, либо
чересчур широки, либо чересчур узки для подлежащего форми-
рованию природного материала растительного мира, то есть
в крайних случаях они могут овладеть им либо произвольными
насильственными средствами, либо вовсе не в состоянии сде-
лать этого. В искусстве садоводства речь идет о втором полюсе
потому, что новое, полностью противоречащее старому социаль-
ное задание не в состоянии развить своими внутренними сред-
ствами никаких однозначных или даже просто значимых кри-
териев формообразования.
Выше мы апеллировали к Руссо, героиня которого —
Юлия — в данном случае применяет двойной эстетический мас-
штаб: с одной стороны, сад должен представлять саморазви-
тие природы в чистом виде, с другой стороны (и одновремен-
но), все в нем упорядочивается и организуется ею. То, что ни
юдин из определяемых подобным образом критериев не под-
дается подлинной конкретизации, заложено в самой природе
вещей, но не в содержательной неопределенности аргументации
Руссо. Определение, которое приводит Хоум, крайне близко
упомянутому по своей структуре: «Так как садоводство — это
не изобретенное человеком искусство, а подражание природе,
или, скорее, сама природа, только приукрашенная, то отсюда
с необходимостью следует, что все неестественное должно быть
с презрением отброшено»89. К негативному моменту воззрений
Хоума мы еще вернемся, а сейчас для нас важно лишь конста-
тировать, что он не переводя дыхания сополагает в качестве
единой задачи подражание природе, саму природу и ее укра-
шение, и при этом даже не думает о возможной взаимопротиво-
речивости этих определений. Подобная теоретическая беззабот-
146
ность именно в этом, решающем для понятийного определения;
сущности сада моменте, который мог бы отделить эстетически,
верную форму сада от заблуждений вкуса, указывает на то,,
что при возникновении этого типа сада и его теоретическом
обосновании речь шла об участии преимущественно социальных
сил, и притом таким образом, что попросту отметалась любая!
апелляция к продуманности и ясности.
Мы уже встречались с таким перевертыванием ментальной
и эмоциональной сфер человека в случаях с музыкой и архи-
тектурой. Здесь же речь идет о том, чтобы выявить те черты,
которые особенно характерны для эстетической сущности этого
полюса садово-паркового ' искусства. Два решающих в этом
отношении мотива тесно взаимосвязаны в переходный период:
первый — это превалирующее патетическое значение природы,,
жизни, соразмерной природе, и страстное отвержение ее про-
тивоположности— искусственности в совокупном мировоззре-
нии нового класса, буржуазии; второй — столь же патетическое
утверждение собственных прав человека (независимо от его
принадлежности к определенному сословию), провозглашения,
самоценности личности, в том числе в ее естественной парти-
кулярное™, страстная борьба с любыми препятствиями для.
ее неограниченного развития. Мировоззренческое соединяющее,
звено обеих групп мотивов (хотя они на разных этапах, в рус-
ле разнообразных течений и т. д. могли быть очень различ-
ными, а зачастую даже и противоположно сформулированны-
ми)— это убеждение в том, что .простого устранения искус-
ственных институций, правил и т. д., регламентировавших
жизнь феодально-абсолютистского общества, достаточно для:
введения в свои права природы (а с ней и в ней — человека)
на всех уровнях бытия. Какими бы слабо связанными и даже
крайне противоречивыми ни выглядели эти тенденции в чисто-
мыслительном аспекте, но с точки зрения общественного бытия:
они предстают вполне последовательными, ибо за ними в ко-
нечном итоге стоит требование безграничного развития той:
производительной силы, которая высвобождается благодаря;
распространению и усилению капиталистических «анклавов»
в феодальном обществе. Необходимой предпосылкой к тому
служит удаление тех препятствий, которые воздвигают на этом
пути государственные и общественные отношения. Однако чем
яснее вырисовывается это соразмерное бытию единство, тем
очевиднее выступает неоднозначность, раздвоение мыслитель-
ных определений, призванных идеологически ввести это един-
ство. Самым явным образом это положение вырисовывается
при обращении к содержанию и объему понятия природы;
единый пафос его эмоциональной отнесенности прикрывает
крайнюю гетерогенность, даже противоречивость его мысли-
тельного содержания. Эта парадоксальная ситуация раскры-
вается уже в том, что ведь и «искусственный» мир феодального»
10*
14?
^абсолютизма разрабатывал свои требования к жизни в целом,
столь же мыслительно гетерогенные, но необходимо возникаю-
щие на почве классовых интересов, классовой борьбы. Следо-
вательно, идеологии зарождающегося класса было очень важ-
но сформулировать свою универсальную оппозиционность этой
юбщей -системе как противопоставление «естественного» и
«искусственного».
Теоретики садового дела, исходившие из нового мира
•чувств, в своих обобщениях, вполне понятно, не останавлива-
лись на технических аспектах. Вот что пишет Хоум о приме-
нении в саду искусственных руин: «Следует ли устраивать
руины по образцам готического или греческого строительного
.искусства? Я утверждаю, что по образцам готического, ибо
тогда виден триумф времени над силой: меланхолическая, но
те неприятная мысль. Греческие руины скорее*напоминают о
триумфе варварства над вкусом: мысль мрачная и влекущая
к упадку духа»90. Если воспринять этот ход мысли буквально,
то позиция Хоума как идеолога буржуазии понятна и одно-
значна. Но если мы, напротив, увидим здесь конкретное указа-
ние для практической эстетики садово-паркового искусства
■'{а высказывание Хоума на это претендует), то явственной
станет его неоднозначность, ибо при такой постановке вопроса
требуется и точное определение критериев, позволяющих су-
дить, какие произведения рук человеческих (руины, водяные
механизмы, пагода, обелиск и т. д.) органически вписываются
в облик сада, демонстрирующего верность природным образ-
цам, а где начинаются произвол и искусственность подвергше-
гося столь ожесточенной критике французского садового стиля
периода барокко и рококо. Хоум тщательно вникает в эту
^проблему, однако его выводы с абсолютной отчетливостью по-
казывают неспособность теоретически прояснить суть подлин-
ных критериев. Пока полемика сохраняет существенно социаль-
ный характер, будучи направленной против дворцовых садов,
«ненатуральность последних» выявляется со всей очевидностью.
Но коль скоро Хоум пытается решить, например, как следует
конструировать гидравлику, соответствующую стилю «есте-
ственного» сада, то из поля его зрения вовсе исчезает вполне
/правомерный вопрос, может ли нечто подобное вообще счи-
таться соответствующим «природе»; на первый план выдви-
гаются полностью субъективно-произвольные суждения вкуса
типа: лежащий в спокойной позе зверь, выплевывающий воду,
«еще приемлем, а изображенный в позе стремительного движе-
ния— уже нет и т. д. Это не случайно, так как лодобная
■внутренняя эстетическая непоследовательность явно или скры-
то выступает повсюду в теории и практике так называемого
-английского сада в целом. Она проистекает из того, что фун-
даментальное понятие природы здесь настолько общо и много-
значно, что позволяет вывести любые эстетические следствия
Я48
в рамках соответствующего классово-обусловленного философ-
ского пространства, в то время как второй полюс исследуемой
нами антиномии в садовой архитектонике в отдельных случаях
все же достигает эстетически однозначных критериев.
Все это теснейшим образом связано со вторым мотивом,
а именно с тем, что на первый план выступает партикулярность
человека, причем именно с ней, с ее специфическим конкретно-
данным бытием связан период открытия природы как силы,
способной противостоять любым искусственным условностям.
Мы не будем подробно разбирать здесь общественные и куль-
турные обоснования и проблематику этого комплекса идей и
эмоций. Для нас важно лишь (в связи с эстетической стороной
садоводства), что благодаря этому социальное задание, вы-
полнять которое призвано садово-парковое искусство, претер-
певает существенную модификацию в .направлении частных
потребностей. Парадоксальность, выявляющаяся и в современ-
ном состоянии этой области, выступает здесь в том, что эти
требования предъявляются к саду в своей самой чистой и ра-
финированной форме, но с другой стороны (и именно потому,
что сад как действительность может выражать только утверж-
дение), у пробуждаемых в этой сфере эмоций, так же как —
и в первую очередь — у формообразований, призванных эвоци-
ровать эти эмоции, должно отсутствовать то напряжение, то
поднимающееся до уровня сатиры или трагедии противоречие
с обществом, которое обычно столь часто возвышается до не-
бывалого величия тем искусством, которое зарождается на той
же почве и из той же проблематики. Достаточно вспомнить
о таких великих романах, как «Молль Флендерс» или «Вер-
тер», чтобы получить отчетливое представление о богатстве и
глубине этого круга тем, поставленных общественно-историче-
ским развитием. При этом, как было уже сказано в другой
связи, неизбежно отражение той путаной диалектики, которая
вызывает развитие партикулярное™ человека в обществе,
а также его борьбу со старыми и новыми нормами этики, мо-
рали, обычаями и т. д., выводит на повестку дня его внутрен-
нюю противоречивость в качестве одновременно и оправдан-
ного, и преодолеваемого аспекта человеческой жизни. Так как
сущность сада (точно так же как и сущность архитектуры)
исключает alimine развертывание подобной -проблематики,
партикулярность человека может найти здесь свое выражение
только как утверждаемое бытие, причем она проявляется
в своей чистейшей форме, а именно как утверждаемое соб-
ственное бытие нового класса. Поэтому вполне последователь-
но эта новая форма существования объективировалась именно
в английском саду, так сказать, в готовом виде, незамедли-
тельно создавая новый жанр, в то время как в некоторых
других видах искусства для этого потребовался тяжелый путь,
длительная, насыщенная проблематикой борьба, целью кото-
149
рой было придать адекватную и художественно значимую фор-
му новым эмоциям. Обращаясь к рассмотренным ранее послед-
ствиям этого развития в области архитектуры [с. 115 и сл.]г
мы при всем сходстве самых глубинных основ не можем не
заметить и решающего различия. Быстрота и прямолинейность,
с которыми здесь осуществлялась объективация самой непо-
средственной партикулярности, — это одновременно и глубочай-
шая основа неразрешимой проблематичности этого осуществ-
ления.
Во всяком случае, так обстоит дело с требованиями в об-
ласти архитектуры. Уже Бэкон говорил: «Дома строятся для
того, чтобы в них жить, а не смотреть на них»91. Однако эти
тенденции, как мы видели, развиваются в архитектуре лишь
постепенно, и их развитие носит в высшей стенени кризисный
характер. Сущность садового строительства обусловливает воз-
можность немедленной и полной победы принципа приватиза-
ции как социального задания, поэтому-то тотчас и вступают
в силу имманентные противоречия этой позиции. С одной сто-
роны, она с самого начала с полной ясностью выражает рево-
люционность борьбы буржуазии, с другой — делает это в такой
форме, которая обрубает у радикального преобразования са-
мое острие его радикальности. То, что Версаль капитулировал
перед новым направлением своим Малым Трианоном, то, что
парки мелких немецких княжеских дворов срочно «энглизиро-
вались», хотя и означает, .несомненно (в достаточно отдален-
ной исторической перспективе), вторжение буржуазного прин-
ципа и отчетливо сигнализирует о том, насколько глубоко этот
принцип еще до своей окончательной победы проник в лагерь
противника, но — и здесь проявляется тесная связь расплывча-
тости понятия природы с идеей партикулярности — это лишь
было выражением чисто приватного внутри феодально-абсо-
лютистской культуры, усилением произвольности, игрового мо-
мента и случайности в таком типе оформления сада. Вполне
понятно, что ироническое сопротивление этому со стороны
буржуазии возникло здесь относительно рано. Но и тут нашей
задачей не является его детальное рассмотрение. Достаточна
апеллировать к Гёте, который уже в «Триумфе чувствитель-
ности» высмеивал возникающий при этом садовый сентимента-
лизм, чтобы позднее в своих фрагментарных заметках о диле-
тантизме следующим образом подвести итог отрицательной
стороне этих тенденций: «Фантастическое и сентиментальное
ничтожество. Реальное подается как фантазия», —и проком-
ментировать сказанное: «Оно (увлечение садами. — Д. Л.)
уменьшает возвышенное в природе и возвышает его путем
подражания»92. (К положительным сторонам дилетантизма,,
впрочем в существе своем не эстетическим, но очень важным
для понимания общего смысла воззрений Гёте, мы еще обра-
тимся в последнем разделе этой главы.)
150
Если подобные подавляющие эстетическое начало силы от-
стаивания партикулярности человека были столь могучи, как
это следует >из вышесказанного, еще до Французской револю-
ции, когда они составляли только часть революционной про-
граммы класса буржуазии, то само собой разумеется, что пос-
ле победы буржуазных форм жизни над формам« жизни
феодального абсолютизма форморазрушающая сила партику-
лярное™ должна была действовать еще энергичнее. Достаточ-
но одного примера, чтобы прояснить для нас самую суть си-
туации. Общая для XIX века тенденция все более заменяет
господством настроения сентиментальное отношение к приро-
де, в котором явно ощущался революционный компонент.
То, что при этом социальные запросы к саду еще полнее раст-
ворялись в безграничной неопределенности, очевидно, не тре-
бует дальнейших обоснований, тем более если принять во вни-
мание, насколько действенна разрушительная для формы
функция настроения даже в тех случаях, когда налицо гораздо
более основательная форма. Работа о садах Гуго фон Гофман-
сталя рисует впечатляющую картину такого рода ситуации.
Важно, что у него уже с полной осознанностью исчезают все
объективные определения садового искусства, уступая место
чисто субъективному настроению. Поэтому он весьма последова-
тельно пишет: «Старый сад всегда одушевлен. Самому без-
душному саду нужно только одичать — и он одушевится»93.
Этот крайний случай, когда откровенный самоотказ от
эстетически организующих категорий превращается в фунда-
мент желанного настроения, — лишь одна из вершин общей
концепции Гофмансталя. В саде он видит »не действительность,
не деяние человека, в котором его субъективность обретает
общезначимую объективность, как считали еще теоретики и
архитекторы ландшафтных садов XVIII века, а чисто субъек-
тивный способ выражения частной индивидуальности, которая,
согласно его концепции, именно благодаря этому может вопло-
тить историческую ситуацию. Поэтому он говорит: «Тот, кто
теперь закладывает сад... должен выразить столь странное,
внутренне колеблющееся, таинственное время, равное которому
было лишь однажды, время, бесконечно насыщенное отноше-
ниями, отягощенное прошедшим и содрогающееся в предчув-
ствии будущего, поколение, чувствительность которого беско-
нечно велика и бесконечно неопределенна и вместе с тем несет
с собой безмерную боль и неизмеримое счастье. Он каким-то
образом, закладывая этот сад, пишет свою немую биографию,
так же как он пишет ее, расставляя мебель в своей комнате»94.
Очевидно, случайно, что в высказываниях Гофмансталя этот
комплекс проблем получил такое же освещение, что и вопросы
декоративно-прикладного искусства: то, что в этом упорядоче-
нии сделанных или выращенных объектов призвано эвоциро-
вать эстетические аналогии, не есть замкнутый в себе «мир»,
151
независимо противостоящий воспринимающему субъекту, как
в случае с произведением любого другого искусства, но есть
деятельность частного субъекта, активно проявляющаяся в
мире объектов, овеществленные следы которой могут быть
объективированы только как свидетельства этой его частности..
5. искусство кино
Своеобразный случай двойного отражения мы находим и в ки-
ноискусстве, что побуждает нас заняться в данном разделе
некоторыми его принципиальными вопросами. Однако абст-
рактная общность этого случая с уже обсуждавшимся ком-
плексом проблем не должна вводить нас в заблуждение, иба
тип отражения в кино отделяют от прочих форм проявления
двойного отражения не менее важные различия, даже проти-
воположности, которые нам предстоит здесь детально огово-
рить. В музыке двойной мимесис столь своеобразен, что а
какой-либо путанице или недоразумениях вряд ли может идти
речь. С конкретными предметными формами отражения в киш>
дело, естественно, обстоит так же, как и в архитектуре. Но по-
скольку обе эти области искусства зиждутся на дезантропо-
морфирующем отражении и его технологической реализации,
которые лишь за счет удвоения мимесиса транспонируются в
сферу эстетического, то для начала нам представляется необ-
ходимым хотя бы вкратце затронуть их внешнее сходство и
реальные различия. Прежде всего следует обратить внимание
на столь важную именно для кинематографа связь с техникой,
которая очень часто совершенно неверно истолковывается.
У Вальтера Беньямина, одним из первых поставившего этот
вопрос в своей работе «Художественное произведение в эпоху
его технической .репродуцируемости», мы находим целый ряд-
тонких наблюдений и серьезных соображений; но романтиче-
ски-антикапиталистическая отвлеченность его взглядов часто*
лишь затушевывает остроту интересующей нас проблемы.
В первую очередь примечательно представление Беньямина о
том, что вследствие технической репродуцируемости художе-
ственные произведения лишаются своей «ауры», своеобразия,
единственности95. Вполне резонно полемизируя с враждебными1'
искусству тенденциями капитализма, он тем не менее и сам
искажает проблему: скажем, ие видит, что гравюра на мед»
и литография суть не только средства репродуцирования, но »
основы самостоятельных видов художественного творчества;
гравюры Рембрандта и литографии Домье сохраняют свою1
«ауру», своеобразие независимо от того, в скольких экземпля-
рах они существуют. Здесь следует упомянуть об этом хотя бы
потому, что такие неверные установки приводят, как мы убе-
димся, и к неправильному пониманию сути киноискусства.
152
Вернемся к технической стороне двойного отражения в
архитектуре и в кино. В архитектуре речь идет о конструкции
реального сооружения, и реальность эта никоим образом не
зависит от того, происходит ли визуальное преобразование в
эстетическое или нет. Только при вторичном отражении мы
можем говорить о возникновении эстетического. Техника кино,
напротив, заведомо рассчитана на отражение данной действи-
тельности. Ее продукт — всегда отображение реальности, но
никогда — она сама. В итоге в архитектуре всегда сохраняется
удвоенность отражения, даже если в процессе визуально-про-
странственного созидания изначальная, чисто полезная реаль-
ность, по существу, снимается. В отличие от этого в кино в
результате двойного мимесиса возникает в конечном счете
простое и единое отражение действительности, в котором пол-
ностью стираются следы его генезиса. В соответствии с этим и
процесс преобразования в эстетическое носит существенно иной
характер. Сама по себе фотография как отправная точка дез-
антропоморфирована; только кинотехника, тоже будучи отра-
жением действительности, снимает эту дезантропоморфирован-
■ность и сближает отображенное с тем, что мы обычно видим
в нормальных условиях повседневности. Естественно, в этом
нет еще ничего эстетического, это просто передача непосред-
ственно данной реальности, в лучшем случае — информация о
ней. Даже когда объект носит эстетический характер, его вос-
произведение не обязательно основывается на самостоятель-
ном эстетическом принципе, как это было, скажем, при съем-
ках в раннем кинематографе какого-нибудь театрального спек-
такля. Техника кино позволяет даже возвратиться к дезантро-
поморфизации, например, при «замедленной» съемке.
В любом случае здесь, как и везде, прежде чем вообще
речь может зайти о преобразовании в эстетическое, должен
быть достигнут относительно высокий уровень >в технике.
Для кино характерно, что лежащая в его основе техника могла
возникнуть в принципе только на почве высокоразвитого капи-
тализма, почему и воздействие технического развития на худо-
жественное должно было проявляться резче, скачкообразнее,
кризиснее, чем ß любом другом искусстве. Достаточно напо-
мнить об изобретении звукового кино, появившемся как раз в
то время, когда немое кино приближалось к своим величайшим
художественным вершинам, и вызвавшем длительный и глубо-
кий эстетический кризис, серьезный спад мастерства в кино-
производстве. Разумеется, по прошествии многих лет в исто-
рической перспективе эта «неожиданность» кажется далеко не
столь внезапной, как для непосредственных ее очевидцев:
необходимость органически соединить аудитивные моменты со
специфически кинематографической визуальностью подразуме-
валась уже в немом кино; бесспорным доказательством служит
хотя бы то, что ни один немой фильм изначально не мыслился
153
вне музыкального сопровождения. О связанных с этим эстети-
ческих проблемах мы еще будем говорить. Однако такое рет-
роспективное объяснение не снимает ни кризис как таковой,,
ни подчиненность кинопродукции направляющему воздействию
технологических новшеств, которые сами по себе приходят ис-
ключительно извне. Вспомним о современном влиянии на кино
широкого распространения телевидения.
Уже в этом находит свое явное выражение специфически
капиталистический генезис кино. Архитектура тоже является
искусством отчетливо коллективного происхождения; правда,.
ее технологические, экономические и прочие определения могли.
выступать во взаимодействии с эстетическими тенденциями,,
естественно, только с возникновением капиталистического об-
щества, тогда как кино и духовно, и технически есть априори:
продукт капитализма. Отсюда в первую очереЬь следует, что
вся кинопродукция, безусловно, подчинена капиталистическим
интересам. В другой связи мы указывали на то, что расшире-
ние и распространение капиталистического производства оказа-
ло решающее влияние на условия существования всех искусств;,
но в киноискусстве эта связь, несомненно, наиболее действен-
на уже потому, что производство фильмов сопряжено с совер-
шенно иным« затратами, нежели те, которых требует творче-
ский процесс во всех прочих искусствах, за исключением архи-
тектуры; так что образование некапиталистических «островков»
в этой сфере намного проблематичнее, чем где-либо. Посколь-
ку эта проблематика относится к историко-материалистическо-
му аспекту данного вопроса, мы ограничимся простой ссылкой
на эту ситуацию, на значительно более заметное преобладание-
приятного (вплоть до откровенной безвкусицы, китча) по срав-
нению с эстетическим и даже по сравнению с эстетическими:
интенциями, на весьма ограниченное пространство для настоя-
щего искусства в отличие от любой другой области. Достаточно-
сложными взаимосвязям« этой ситуации с миметическими
определениями фильма, подлежащими диалектико-материа-
листическому рассмотрению, мы займемся позже [с. 165
и ел.].
Итак, в общих чертах сходство архитектуры и кино заклю-
чается в том, что и в одном и в другом случае экономическое
развитие создает определенные технологические возможности,,
отграничивающие для каждого из этих искусств то конкретное
место действия, *в рамках которого они будут располагать
условиями для осуществления своего социального предназна-
чения. Путаница, неясность по части эстетики проистекает в
обоих случаях из того, что выдвинутые капитализмом, его
наукой технологические требования и возможности многие спе-
циалисты-теоретики искусства, а тем более большинство прак-
тиков неправомерно идентифицируют с той художественной
техникой, которая формируется в процессе эстетического освое-
154
ния подобных условий, то есть в ходе перенесения результатов,
достигнутых путем дезантропоморфизации, в сферу специфиче-
ски эстетического мимесиса соответствующих искусств. Это
различение особенно важно в кино, поскольку здесь границы
между двумя типами техники представляются очень расплыв-
чатыми, они, словно бы минуя всякие промежуточные ступени,
непосредственно переходят друг в друга. В отличие от архитек-
туры, где все новые технологические законы и возможности
обретают визуальный характер лишь вторично, лишь в силу
того, что любая пространственная предметность должна здесь
восприниматься тоже визуально, и где только второй, эстетиче-
ский, мимесис делает эту визуальность основой архитектурной
композиции, — в кинематографе уже первичная, не эстетиче-
ская, а чисто технологическая форма фильма является не чем
иным, как визуальным отражением действительности; благода-
ря быстрому движению, континуально воспринимаемому чере-
дованию фотографических изображений оно превращается в
антропоморфирование и сближается с формами проявления
повседневной жизни. Удвоение мимесиса, его .перевод в эстети-
ческую плоскость происходит именно на этой основе; однако
оно не произрастает как нечто само собой разумеющееся из
технических возможностей, но должно сознательно создавать-
ся, следуя часто еще не находящим выражения социальным
запросам. Мы согласны с Белой Балажем в том, что зачина-
телем этого способа изображения был Дэвид Гриффит96.
В другой связи {см. т. 3, с. 109 и сл.]| мы подробно описывали,
насколько парадоксальное и потрясающее впечатление произ-
водила поначалу на зрителей возникшая таким образом новая
визуальность. Балаж при этом детально анализирует техниче-
ские средства, с помощью которых создается такой своеобраз-
ный новый мир видимого; помимо прочего, он отмечает такие
моменты, как постоянное изменение расстояния от зрителя до
изображения (в противоположность всегда неизменной дистан-
ции в театре), изменение перспективы и в целом, и в деталях,
монтаж и комбинированная съемка. Для нас здесь важен не
анализ отдельных технических вопросов, а тот факт, что таким
образом возникает своеобразный зримый, чувственный и на-
глядный мир sui generis, собственные эстетические закономер-
ности которого должны находить свое объяснение в отражении
действительности.
Вероятно, лучше всего качественное преобразование, проис-
ходящее во втором мимесисе, проиллюстрировать, обратившись
к анализу актерских достижений в театре и кино, который мы
находим в книге Беньямина; тем более что автор со всей опре-
деленностью выражает здесь свое отрицательное отношение к
технизации искусства, и именно благодаря этому отчетливо
проступают некоторые моменты нового. Беньямин исходит из
того, что в театре труд актера «представлен им самим, его
155
собственной личностью», в то время как аппаратура кинема-
тографа «не обязана» «признавать этот труд как целостность».
Здесь происходит отбор, следует ряд «оптических тестов», как
говорит Беньямин. Таким образом, личный контакт актера с
публикой во время исполнения исключается. Сопереживание у
публики появляется только благодаря тому, что «она воспри-
нимает аппаратуру»; снова происходит как бы тестирование97.
В данном случае необходимо подчеркнуть два момента. Во-
первых, не отбор, новое упорядочение и т. п. в актерском труде
просто «тестируются» с помощью аппаратуры, но аппаратура
используется — в подлинно художественных фильмах — режис-
сером, оператором и т. д. с точки зрения новой гомогенной по-
средующей системы в некоем конкретном эстетическом смысле.
Приведение актерского труда в соответствие с конкретной со-
вокупностью условий и обстоятельств, вообще говоря, не пред-
ставляет собой ничего качественно нового в истории драмати-
ческого искусства. Там, где должен возникнуть ансамбль —
а это, безусловно, является подлинно художественной формой
искусства театра, — там режиссер и сами актеры, осознающие
художественное своеобразие своей деятельности, заботятся
о том, чтобы эта взаимная согласованность, единая направлен-
ность на духовное, эмоциональное, колористическое и пр. со-
держание драмы пронизывали каждую реплику, каждый жест.
То, что Дидро, как мы видели, требует от отдельного актера
[см. т. 2, с. 78 и ел.], здесь предстает в качестве постулата для
игры в ансамбле. Такие выдающиеся театральные труппы, как
некогда, например, в Немецком теарте Отто Брама или в наше
время в «Берлинер ансамбль» Брехта, показали, что труд от-
дельного актера тем самым не принижается, а, напротив,
возвеличивается. Именно потому, что кино является .не простой
фотографической репродукцией драматического представления,
а своеобразным претворением действительности, происходящий
здесь двойной мимесис (отражение действительности, отражен-
ной актером) есть не оптическое тестирование, а новое миме-
тическое формирование и фиксирование тех моментов, которые
способны сделать конкретное содержание фильма оптимальна
воспринимаемым, наглядным. Результатом является не «опти-
ческий тест», а эстетическое формообразование, художествен-
ная форма некоего конкретного и определенного содержания.
Соответственно, как мы видим, происходит не превращение
каждого истинного актера и его труда в объект подобного про-
цесса преобразования, а заведомое нацеливание этого труда
на такую переработку; движение, жестикуляция, мимика и т. п.
должны обладать — в чисто актерском плане — качественно
иным характером, нежели в театре. Так как они не могут —
в том числе и в звуковом кинематографе — базироваться на
континуальности эстетически главенствующего диалога, то
здесь рождается ранее неведомая визуальная экспрессивность,,
156
сила воздействия которой с помощью съемочных планов, мон-
тажа, комбинированной съемки и прочих видов кинотехники;
может быть, правда, увеличена, но которая заранее рассчитана-
на стилизацию, осуществляемую «посредством аппаратуры».
Во-вторых, Беньямин, конечно, прав, констатируя отсутствие
личного контакта между актером и публикой, составляющего
существенный момент театрального воздействия; тем не менее
вопреки представлениям Беньямина происходящее здесь в дей-
ствительности отрицание не упраздняет атмосферу единствен-
ности, а порождает совершенно новые взаимоотношения с пуб-
ликой. Разумеется, в отличие от актера в театре, где между
реальными людьми, присутствующими в зрительном зале и:
действующими на сцене, возможны прямые человеческие кон-
такты, киноисполнитель представлен не непосредственно соб-
ственной персоной, а миметическим образом, художественным,
отражением производящего ряд определенных действий чело-
века. Но точно так же обстоит дело и в живописи, и в скульп-
туре; там, где речь идет о подлинном искусстве, отсутствие-
личного контакта вовсе не означает скудости эстетической
эвокации. Позднее мы увидим, что транспозиция из изобилую-
щей парадоксальностью, но все же миметической сферы театра
в сферу безусловно и однозначно двойного мимесиса кинемато-
графа не ослабляет возможности эстетического воздействия
актера, его эстетической значимости в рамках фильма как.
единого целого, а, напротив, усиливает их [с. 172 и ел.].
Итак, теперь мы обратимся к особенностям кинематографи-
ческого двойного отражения. Мы уже отмечали близкий к по-
вседневности, еще не эстетический характер простого отраже-
ния с помощью кинотехники. Теперь же на сугубую негатив-
ность этой констатации мы можем взглянуть и с позитивной"
стороны: подобно всякой фотографии, съемка, произведенная
с помощью киноаппаратуры, тоже обладает характерными:
свойствами полной аутентичности, неоспоримой подлинности.
Это значит, что независимо от какого бы то ни было эстети-
ческого характера, более того, несмотря на довольно странный
порой эффект, каждая фотография должна вызывать впечат-
ление, что в момент съемки отраженный объект действительно-
выглядит таким, каким он предстает на фотографии; объектив
бесстрастен и непогрешимо точен. (Мы не говорим о физионо-
мических искажениях, которые на фотографиях часто объяс-
няются чрезмерным экспонированием; конечно, отдельные-
кадры кинопленки представляют собой снимки отдельных мо-
ментов, и упомянутый источник неудач в верном воспроизве-
дении действительности при механическом фотокопировании
в расчет не принимается. Снимки отдельных моментов могуг
поразить, вызвать недоумение, но сомнение в их аутентичности'
исключается.) Так как демонстрация сближает фильм с ви-
зуальным восприятием повседневной жизни, то на первый;
157*
;план выступает как раз подобная достоверность. Ибо то, что
в повседневной жизни мы всегда воспринимаем как действи-
тельное, именно © своем непосредственном конкретно-данном
бытии как раз и есть подлинное, то есть нечто, по отношению
к чему мы можем занять — испытывая любые эмоции — пози-
тивную или негативную позицию, но что совершенно независи-
мо от наших мыслей, ощущений, устремлений и т. д. противо-
стоит нам как реальность. Естественно, фотография — это от-
ражение действительности, а не действительность так таковая;
но поскольку она отражает последнюю неким — изначально
дезантропоморфирующим — образом механически точно, то
зафиксированное ею должно сохранять эту аутентичность
действительности и в качестве мимесиса. Поскольку упорядо-
чивающие и организующие эстетические средства кинемато-
графа в своей совокупной действенности могут во многих от-
ношениях превосходить непосредственно-повседневное, но не
•снимают это фотографическое отображение действительности,
а просто перемещают его в плоскость совершенно нового типа
связей (скажем, за счет отбора отдельных моментов, соответ-
ствующего их соединения, темпа и ритма, типа сочетания
и т. п.), — то эта аутентичность должна сохраняться, должна
составлять существенный момент гомогенной посредующей
системы киноискусства. Однако источником такой аутентич-
ности является сама действительность: сфотографированное
может сделать наглядным только объективно наличествующее,
• специфическое зримо-реальное бытие своего объекта; фактиче-
ское же качество последнего определяется характером самого
предмета. Поэтому ясно, что, например, в мультипликационном
'фильме лишь факту рисования может быть сообщена подлин-
ность, но сами по себе рисуночные изображения никогда не
смогут предстать б качестве реальностей окружающего при-
ходного мира. Также и сфотографированная декорация не мо-
жет обладать большей аутентичностью реального бытия, чем
ее визуальное проявление в действительности. Под влиянием
экспрессионистской моды можно было переживать окружаю-
щую среду в фильме «Кабинет доктора Калигари» как злове-
щую «реальность»; если же взглянуть на это непредвзято, то
здесь следует говорить лишь о весьма хитроумно придуманных
декорациях, которые никоим образом не эвоцируют впечатление
действительности. Если фильм хочет сделать какое-то «чудо»
подлинно эффективным, то он должен так препарировать сфо-
тографированное событие, чтобы непосредственный способ его
^проявления имел реальный характер.
Здесь очевидна явная противоположность киноискусства
всем другим визуальным искусствам: в последних аутентичность
возникает только как конечный результат миметически-худо-
жественного преобразующего процесса в отображении действи-
тельности; если формообразование не удалось, то вообще не
1158
может идти речь ни о какой -подлинности; она должна быть
достигнута творческим путем на основе чисто эстетических
принципов, должна сама себя удостоверить в рамках имма-
нентной целостности художественного произведения, в то время,
как даже самой плохой фотографии неотъемлемо свойственна,
достоверность в вышеприведенном смысле. В этом четко про-
является глубокое и чреватое последствиями родство повседнев-
ности и киноискусства. С этой близостью к обыденной жизни
теснейшим образом связано — как причина и как результат —
то, что в отличие от всех других искусств в кино визуальный
мир не статичен, не бездействен, а постоянно подвижен.
(Мы говорим здесь только о чисто визуальных искусствах, так
как зримость есть лишь составной момент сценического искус-
ства, неотделимого от словесного искусства драмы.) В другой,
связи мы обсуждали проблему квазивремени в искусствах с
визуальной гомогенной системой опосредования независимо от
того, шла ли речь в каждом отдельном случае об объективном
или субъективном времени )[см. т. 2, с. 323 и ел.]. В киноискус-
стве же преобладает реальное время: кино есть единственное
искусство, в котором визуальность и реальный ход времени
категориально взаимосвязаны. (Не претворенные непосред-
ственно в зримых формах временные паузы между отдельными
сценами к данной проблеме не относятся.) Вероятно, и здесь
следует отдать предпочтение определению принципиального^
различия через отрицание: в кинофильме необходимо отсут-
ствует то, что в изобразительных искусствах Лессинг назвал
плодотворным моментом [см. т. 2, с. 326]. Так, если визуаль-
ное отражение действительности формируется — с точки зрения
непосредственности — статично-стабильным способом, то от-
дельно iH непосредственно изображаемый момент настоящего
должен быть таким, чтобы это последнее наглядно выявлялось
в нем как переживаемый переход от прошлого к будущему.
Эта необходимость вынуждает художников изображать настоя-
щее с такой интенсивной концентрированностью, с какой в по-
вседневной действительности оно никогда не выступает. В кино
же, напротив, момент настоящего, как и в границах любого-
фактического хода времени, есть реальный момент перехода от
прошлого к будущему; обычно мы переживаем прошедшие
моменты как настоящие, которые на наших глазах становятся
прошлым, и переживаемое каждый раз настоящее еще секунду
назад было грозным или заманчивым будущим. Так отдельные
моменты точно соответствуют повседневному жизненному опы-
ту; только их содержательная и соответственно формальная,
взаимосвязь может придать им значимость большую, нежели
в повседневности. Разумеется, эти отдельные моменты могут и.
даже должны намного превосходить по духовной интенсивности
обычный уровень повседневности. Однако в рассматриваемой:
здесь категориальной структуре это ничего не меняет.
159)
Но для категориальной структуры кино как искусства это
•имеет последствия. Мы указывали на то, что изобразительные
искусства способны с визуальной определенностью воплотить
лишь внешнюю сторону существования людей, вещей, челове-
ческих отношений, опосредованных этими вещами; внутреннее
~же в силу необходимости проявляется в форме неопределенной
предметности. Как визуальное искусство кино не в состоянии
уклониться от этой категориальной неизбежности. Близость к
.жизни, обусловленная фотографической аутентичностью его
.кадров-изображений, их реальным движением во времени,
интенционирует на минимизацию подобной неопределенности
и в тесной связи с этим требует в то же время формирования
разнородных типов визуального постижения и воспроизведения
действительности, способных сводить к минимуму эту неопре-
деленную предметность. С этой точки зрения ранее упомянутый
-кризис в развитии киноискусства, вызванный непосредственно
технологически, то есть вытеснением немого кино, предстает
.в новом свете. Дело в том, что ради осуществления этой необ-
ходимой минимизации и исчерпывающего разъяснения действи-
тельного смысла происходящего в фильме немое кино должно
-было, с одной стороны, прибегать к таким средствам информа-
ции, лежащим совершенно вне сферы искусства, как субтитры
рИ связующе-пояснительные тексты, с другой стороны, что мы
уже отмечали [с. 153 и ел.], использовать непрерывное музы-
кальное сопровождение, чтобы достаточно конкретизировать эмо-
циональное содержание сценического действия. (Ясно, что ни в
юдном визуальном искусстве мы не находим даже отдаленных
аналогий этому.)
Звуковое же кино попыталось изыскать средства, которые
были бы присущи ему как произведению искусства, с большей
эстетической имманентностью. Таким средством является
лрежде всего передача возникающих в ходе действия шумов.
А поскольку жизнь выступающего здесь предметного мира —
природы, города и т. д. — воспроизводится при этом не только
визуально, но и аудитивно, то близость к жизни, кинемато-
графическая достоверность отображенной действительности
может быть выражена значительно отчетливее и богаче, чем
^раньше. Оценка технического совершенства звукового репроду-
цирования выходит за рамки данного разбора; здесь речь идет
только о композиционном единстве деталей и последователь-
ности единого направления в целом как общем требовании
ставшей более многообразной гомогенной посредующей систе-
мы. (Конкретные возможности достижения подобного единства
композиции относятся к задачам кинодраматургии.) Однако
.следует сказать, что в принципе аудитивное начало в кино
.играет, по существу, лишь второстепенную роль в сравнении
гС визуальным. Эта констатация отнюдь не означает его ума-
мления, если сопровождение в строгом смысле слова понимать —
d60
mutatis mutandis — как, скажем, в музыке. В этом случае шу-
мам порой отводится решающая роль. В целом же эстетическая
организация действия и вызванных им настроений — это задача
главным образом визуальной композиции, причем нередко да-
же тогда, когда соответствующий момент сам по себе в первую
очередь аудитивен. Так, в «Гражданине Кейне» Орсона Уэллса
юмористически изображен музыкальный дилетантизм супруги
миллионера, считающей себя великой певицей. Однако комизм
ситуации передан здесь не путем прямого изображения беспо-
мощного и халтурного исполнения, но через показ отчаяния,
проявляющегося в жестах и мимике ее учителя пения во время
занятий, репетиций и выступления. В сравнении, например,
с чисто музыкальным комизмом Бекмессера в «Мейстерзинге-
рах» специфика кино выступает с полной очевидностью. Функ-
циями языка, который стал отныне формироваться технически-
ми средствами, мы займемся позднее [с. 180 и ел.]. Необходи-
мость постоянно привлекать музыку в качестве стимулятора
настроения показывает силу отмеченной выше тенденции к
минимизации неопределенной предметности.
Близость кино к жизни проявляется в тенденции к такой
ее передаче, при которой с ней можно максимально непосред-
ственно столкнуться, увидеть ее, разобраться, быстро составить
себе общее представление, сориентироваться в ней, иными
словами, руководствоваться требованием, которое всегда предъ-
является к человеку повседневности в его взаимоотношениях
с окружающим миром. Однако в то время как другие искус-
ства выполняют это требование с помощью второй непосред-
ственности, покоящейся на широких опосредованиях, идя по
пути более или менее решительного удаления от способов про-
явления обыденной жизни, кинематограф должен удовлетворять
его посредством миметического отображения близкой к повсе-
дневности (подлинно реальной) действительности; поэтому он
не может остановиться на подобного рода вершинных дости-
жениях неопределенной предметности, которой изобразительные
искусства и чистая музыка так или иначе обязаны своими
наиболее сильными эффектами. Эта близость к жизни обуслов-
ливает решающие стилевые вопросы кино. Здесь обнаружи-
вается столь большая гибкость гомогенной системы опосре-
дования, что это очень часто приводит к ее чрезвычайной не-
устойчивости именно потому, что вторая непосредственность
художественного воплощения должна быть существенно
приближена к непосредственности жизни. Субъективная сторо-
на такого положения дел точно соответствует его объективной
сущности: преобразование целостного человека повседневности
в цельного человека, ориентирующегося на своеобразный «мир»
гомогенной посредующей системы, здесь происходит намного
менее резко, намного менее скачкообразно, чем во всех других
искусствах. Разумеется, скачок все же имеет место, иначе
11—805
161
кино не могло бы стать подлинным искусством, и мы даже
приводили примеры [см. т. 3, с. 109] того, что кинематографи-
ческий «язык» точно так же должен изучаться, усваиваться,
как язык любого другого искусства. Однако практика в полном
согласии с теорией отражения показывает, что рецептивное
овладение этим «языком» предъявляет к способности восприя-
тия значительно менее постоянные, чем это обычно бывает в
других искусствах, с каждым художественным произведением
обновляемые требования, прежде всего с точки зрения чисто
человеческой.
Близость кинематографа к жизни, понятая в таком эстети-
ческом преломлении, имеет для его содержания и его формы
двойное значение. С одной стороны, предметом художествен-
ного мимесиса в кино становится безграничное многообразие
повседневной жизни. Весь окружающий человека мир — расти-
тельный и животный, мир природы, общественная среда, со-
зданная самим человеком, — предстает как некая замкнутая в
себя действительность, принципиально равнозначная и равно-
ценная действительности человека. Это неизбежно вытекает
из достоверности фотографически отображенного мира, в ко-
тором все воспроизведенное должно с необходимостью порож-
дать ту же самую степень реальности бытия. На первый взгляд
нечто подобное мы находим и в живописи с ее столь же ин-
тенсивной жизненностью изображенных предметов (пейзаж,
натюрморт, интерьер и т. п.). Однако при ближайшем рассмот-
рении обнаруживается, что все воплощаемое средствами живо-
писи в существе своей предметности уже соотнесено с челове-
ком, что каждый предмет обязан конкретной данностью своего
художественно переданного бытия в конечном счете именно
этой соотнесенности. Стремление живописи миметически уло-
вить объективность бытия-в-себе изображаемых предметов из-
начально обусловлено этой соотнесенностью, конкретно во всех
своих моментах проникнуто этой неизменной установкой. Еще
более очевиден подобный характер эстетического мимесиса в
системе изобразительных средств эпических жанров. То, что в
живописи не высказывается явно, здесь .проявляется открыто
и прямо: никакой предмет окружающего мира, будь то мир
природы или человеческое общество, не может стать эпически
жизненным и эвокативным, если он непосредственно не соот-
носится с практически действующими людьми, с их внешними
и внутренними проблемами и не приобретает таким путем спе-
цифических черт своего конкретно-данного бытия в плане как
содержательном, так и формальном; идиллические ландшафты
и интерьеры в «Вертере» и небо над полем битвы при Аустер-
лице у Толстого имеют, в сущности — в том, что касается этих
фундаментальных принципов воплощения, — один и тот же
характер. Разумеется, и в произведениях киноискусства суще-
ствует эта внутренняя связь между человеком и предметным
162
миром. Своеобразие их заключается, однако, в том, что — как
и в повседневной жизни — и человек и его мир должны обла-
дать в своих проявлениях полной ценностной равнозначностью
реальной действительности. Это отнюдь не снимает взаимосвя-
зи человека с окружающим его миром, общечеловеческого
смысла эстетического мимесиса, просто здесь они, в противо-
положность другим искусствам, проявляются в ;новом аспекте,
который опять-таки яснее всего может быть выражен опреде-
лением через отрицание: взаимоотношения человека с миром
формируются, не исходя из него как центра, а подобно тому,
как они обычно проявляются реально, как они воспринимаются
человеком повседневности, то есть как взаимоотношения многих
равно реальных факторов. (Само собой понятно, что эти раз-
личия касаются исключительно формы; с точки зрения содер-
жания внешний мир имеет в эпосе тот же реальный вес, что
и люди, формально вынужденно занимающие центральное по-
ложение.)
Это различие в формообразовании имеет далеко идущие
последствия в том, что касается выбора, группировки, способа
проявления и прочих особенностей содержания. Однако данная
нами его негативная характеристика в существе своем равно-
значна нашему вступительному определению безграничного
многообразия мира кино. Поскольку в рамках настоящего
труда невозможно рассмотреть упомянутые здесь проблемы во
всей полноте, приходится ограничиться для их пояснения не-
сколькими выразительными примерами. Обратимся, скажем,
к воплощению образа ребенка. В литературе он присутствует
по большей части просто как будущий человек; наиболее зна-
чительные и глубокие изображения мира детства — у Гёте, Кел-
лера, Толстого, Роже Мартена дю Тара и т. д. — по сути своего
художественного замысла отражают первые шаги ребенка на
пути его дальнейшего развития, предпосылки этого развития,
выступающие в начале жизненного пути силы и тенденции,
чтобы тем самым сделать генетически более понятным все по-
следующее; эта структура сохраняется в силе даже там, где
такое развитие прерывается ранней смертью, как у Ганно Буд-
денброка. Только кинематограф позволяет представить суще-
ствование ребенка, особенности детского бытия в чистом виде
как самоцель, как покоящееся-в-себе бытие. Достаточно вспо-
мнить о неслыханной популярности Джекки Кугана, чтобы по-
чувствовать, что здесь кроются совершенно новые возможности.
Разумеется, следует добавить, что кинематограф в состоянии
представить детство и как предысторию жизни человека; но
это отнюдь не исключает отмеченных нами уникальных его
возможностей. (О принципиальном различии кинематографи-
ческой и живописной визуальности мы уже говорили; детские
образы в живописи представляют качественно иной мир, не-
жели в кино.) Вероятно, еще отчетливее эта ситуация просмат-
11*
163
ривается при изображении животных. В произведениях, с вели-
чайшей любовью и проникновенностью воспевающих их
особенности — укажем хотя бы на «Хозяина и собаку» Томаса
Манна и «Ники» Тибора Дери, — человек остается все же цент-
ром художественного воплощения, в то время как в кинемато-
графе возможна равная самостоятельность при воссоздании
образов животного и человека. Вряд ли имеет смысл называть
многие фильмы, в которых звери были главными героями и
стали знаменитыми, прославленными любимцами публики.
Таким образом, как кажется, в кино возможен в творческом
отношении некий натурализм, который в других искусствах
обычно антихудожествен. Так, появление ребенка на театраль-
ной сцене — не говоря уже о животном — всегда производит
впечатление натуралистичности; поэтому упомянутые подтверж-
денные многолетней практикой эффекты и художественные
достижения такого рода в кинематографе, по видимости, со-
ставляют принципиальное исключение. Однако это только ви-
димость, порожденная аутентичностью изначально фотографи-
ческого мимесиса как основы кинотворчества. (То, что многие
кинофильмы действительно натуралистичны, в данной связи
может не приниматься во внимание.) Конечно, художественно-
философский смысл натурализма состоит в том, что переда-
ваемая суть дела затушевывается или даже полностью исче-
зает за внешними проявлениями, зафиксированными в своей
чистой непосредственности. Однако в мире человека отношение
внешнего проявления и сущности онтологически принципиаль-
но иное, нежели в первозданной природе: здесь сущность в
значительной степени совпадает с родовой принадлежностью
и потому может быть непосредственно и наглядно представлена
в жизненных проявлениях отдельных особей, выступающих в
качестве экземпляров своего вида. Только в общественном
бытии человека, то есть с постепенным возникновением и по-
стоянно ускоряющимся развитием индивидуальности, пробуж-
даются к жизни комплексные отношения, делающие необхо-
димым тот тип художественного формообразования различных
искусств, который приводит к совпадению сущности и внешнего
проявления. Отчетливо указывает на интересующую нас про-
блему Маркс, критикуя Фейербаха за то, что у того «челове-
ческая сущность может рассматриваться только как «род», как
внутренняя, немая всеобщность, связующая множество индиви-
дов только природными узами»98. Дело в том, что обществен-
ное развитие, отступление пределов, установленных природой,
как говорит Маркс, порождает сущность человека, уже не
являющуюся больше только в природном смысле родовой сущ-
ностью, но — сознательно, неосознанно или неверно осознан-
но— интенционированную на человечество и поэтому в своих
решающих содержаниях выходящую далеко за пределы при-
родно-родового. В социально определенном понятии человече-
164
ской сущности, в человеческом роде как общественно-историче-
ской категории доминирующим моментом является взаимодей-
ствие между конкретной индивидуальностью и данной социаль-
ной формацией.
Поэтому эстетическое отражение действительности основы-
вается именно на таком новом отношении, а не на чисто при-
родной родовой принадлежности. Поскольку в драматургии:
получает выражение почти исключительно мир человека в его
внутренней целостности и его собственном для-себя-бытии, то
и мимесис, присущий данному виду искусства, наиболее отчет-
ливым образом выражает эту новую онтологическую ситуацию.
Поэтому античная трагедия сознательно отделила действующих
в ней актеров — специфическими стилевыми приемами — от
чисто антропологически представляемого человека (маски,
котурны). Если новый театр обращается к непосредственному
проявлению человека в облике актера, то причина этого не в
возвращении к природному человеку, а скорее наоборот —
в большем акцентировании его социально сформированной
индивидуальности в ее диалектической взаимосвязи с обще-
ственно-человеческими проблемами. Поэтому ясно, что ребенок
(а также, конечно в меньшей мере, и домашнее животное) —
это уже не чистая природа, но переходное явление, в котором,
правда, более или менее преобладает природная сущность,
«немая всеобщность» рода в марксовом смысле. Воспитание
как раз и ставит своей задачей преодоление этого разрыва,
создание из ребенка человека, благодаря чему его отношение
к родовой принадлежности постепенно качественно изменяет-
ся. Но, бесспорно, особая поэзия детского бытия, своеобразие
детства состоит как раз в том, что эта укорененность в природ-
ном действует здесь как все еще живая сила. У домашних
животных — как результат их общения с человеком — возни-
кает более или менее сильная тенденция выйти за рамки аб-
солютной и тотальной связанности с чисто природным родовым
началом, хотя при этом сохраняются четко установленные гра-
ницы, наличие которых обусловливает незначительность про-
исходящих модификаций и неизбежность сохранения сложив-
шейся системы взаимосвязей в ее основах. Искусство же в
своих различных видах и жанрах стремится, исходя из свое-
образия мимесиса и гомогенных посредующих систем этих по-
следних, органически включить ребенка и домашнее животное
в свой «мир». Непреодолимое препятствие выдвигает лишь их
сценическое воплощение в драме, где, как мы подчеркивали,
качественно превалирующей доминантой выступает родовая
сущность в ее чисто общественно-историческом смысле.
В соответствии с изложенным более полно могут быть пред-
ставлены специфические возможности киноискусства. Аутентич-
ность сфотографированного бытия создает гомогенную систему
опосредования, которая приближает претворенный «мир» к
165
миру повседневности значительно сильнее, чем это возможно
и допустимо в других искусствах. Поэтому в кинематографе
могут соседствовать друг с другом и достигать в целом худо-
жественно убедительной действенности различные виды взаи-
мосвязей сущности и внешнего проявления: конечно, для по-
вседневной жизни совершенно естественно, что предметы с
различной структурой отношений явления и сущности присут-
ствуют в ней рядом друг с другом и взаимодействуют как рав-
ноправные реальности. Кинематограф переносит это своеобра-
зие видимой стороны повседневной жизни на гомогенную по-
средующую систему свойственного ему способа формообразо-
вания и оказывается в состоянии — коль скоро речь идет о
художественной транспозиции, — именно исходя из этих разли-
чий, достигать значительных эффектов. Так происходит, на-
пример, как мы отмечали, при воплощениях образов ребенка
и животного, причем чисто природный характер неодомашнен-
ных животных тоже может приводить здесь к весьма показа-
тельным контрастным результатам. Таким образом, искусство
и кино могут добиться универсальности воспроизводимых пред-
метов, не будучи вынужденными использовать гомогенизирую-
щие тенденции, возникающие в силу господства особых точек
зрения, как это мы наблюдаем обычно в сфере эпического
творчества. Художественной гомогенизации повседневности, ле-
жащей в его основе, оказывается совершенно достаточно для
его целей, и такой специфический тип отображения и связыва-
ния предметов не может быть поэтому назван натурализмом.
Однако не следует ограничиваться констатацией этого свое-
образия кинематографа, его приверженности факту как тако-
вому. Интересно здесь то, что из этой особенности вытекает —
опять-таки двояким образом — возможность для него быть на-
родным искусством. Чтобы правильно понять этот феномен,
нужно исходить из его двойственности. С социальной точки
зрения кинематограф предлагает максимально дешевую, до-
ступную широчайшим кругам продукцию; ни для кого не секрет,
что это тесно связано с его крупнокапиталистическим финансо-
вым базисом, с техническими возможностями тиражирования
фильмов, ролью рекламы и т. д. Также общеизвестно и то, что
вследствие этой зависимости от крупного капитала кинопроиз-
водство приспосабливается к самым заурядным, наиболее рас-
пространенным потребностям масс. Неустойчивость его гомо-
генной посредующей системы, относительно гладкий и не вы-
зывающий затруднений переход от целостного человека
повседневности к цельному человеку кинематографического
восприятия делают возможным такое отображение мира, кото-
рое в неисчерпаемом многообразии способов своего проявления
удовлетворяет самым частным потребностям, сокровенным
устремлениям средних (а порой низких) инстинктов, которое
предлагает попеременно то гротескно смешные, то волнующе
166
напряженные картины, которому равно свойствен как баналь-
нейший happy-end, так и кровожаднейший садизм. Так в огром-
ных количествах и множественных вариациях возникают на
первый взгляд «искусствоподобные», а по сути псевдохудоже-
ственные образования, которые по своему внутреннему содер-
жанию являются продолжениями, воплощениями, мнимыми
подкреплениями грез повседневной жизни. Однако гомогенная
посредующая система кинематографа не только неустойчива,,
она может быть и гибкой, а относительно беспрепятственный
переход от целостного человека к цельному человеку содержит
в себе все же некий скачок, подъем над простой, заурядной
повседневностью. Это означает, что киноискусство вместе с тем
располагает возможностью стать подлинным и значительным
народным искусством, стать выражением глубоких и всеобщих
чувств народа, увлекательным и понятным для широких масс.
Так, фильмы Эйзенштейна и Пудовкина возвысили великие
события революции русского народа до захватывающих симво-
лов основных национальных вопросов освободительной борьбы
против угнетения. А на другом полюсе — Чаплин, сумевший с
глубоким чувством юмора, всеохватно и весомо передать
ощущение растерянности простого человека перед молохом ма-
шинерии современного капитализма. Разумеется, это случаи
исключительные, повлекшие за собой лишь относительно не-
многочисленные подражания; однако даже при подавляющем
превосходстве первого из упомянутых полюсов такие произве-
дения дают ясное представление о высочайших возможностях
кино, которые — несмотря на скудость их реализаций — долж-
ны быть решающими для его эстетической оценки. Но одного
только противопоставления этих двух полюсов еще недостаточ-
но для того, чтобы можно было вынести окончательное и спра-
ведливое суждение. Ведь большинство хороших фильмов из-
бегает проторенных путей, привычных для подавляющей массы
кинопродукции среднего уровня. Как по содержанию, так и по
форме эти фильмы возвышаются над уровнем заурядной обы-
денности, нередко расплачиваясь за такое возвышение отдале-
нием от глубиннейших чувств широких масс или поверхност-
ным, как бы окольным их отражением. Мы лишены здесь воз-
можности подробно заниматься всем многообразием переходов
между полюсами.
Уже само по себе такое определение полюсов показывает,
что содержательный диапазон киноискусства охватывает все —
в количественном отношении — стороны жизни, причем стре-
мится к широчайшему воздействию, немедленной ясности и
понятности. На ранней стадии кинематографа, а часто также
и сегодня это содержание в конечном счете служит лишь пред-
логом для того, чтобы абсолютно не связанные друг с другом
или же сложнейшим образом переплетенные события предста-
вить в драматическом или комическом виде, чтобы раскрыть
167
визуально-аудитивные возможности кино, ориентированные на
удовлетворение потребности в разнообразии впечатлений и
страсти к острым ощущениям (преследования, убийства и т.д.).
Но и помимо указанных выше вершин, постоянно наблюдают-
ся попытки выявить через экстенсивное многообразие вырази-
тельных средств фильма более глубокое жизненное содержание,
открыть в этой чаще широчайших возможностей новое для
человека. Для такого поиска кино открывает универсальные и
неисчерпаемые в содержательном отношении перспективы.
Именно особый тип движущегося визуального кинематографи-
ческого изображения в состоянии вскрыть в простых, буднич-
ных жизненных событиях, на которых обычно не задерживает-
ся внимание, глубокую поэзию, подлинную человечность, бога-
тую шкалу эмоций — от гнетущей скорби др облегчающего
смеха («Похитители велосипедов» Витторио Де Сика). Гибкость
кинематографической системы опосредования позволяет, с од-
ной стороны, зримо представить поэтичность повседневности
так, чтобы обилие будничных деталей не привело при этом к
натурализму, а с другой стороны, выйти за рамки .непосред-
ственно данной обыденной действительности. Кино может сде-
лать наглядным не только объективно наличествующий внеш-
ний мир, но также и обусловленные им важные субъективные
моменты духовной жизни практически действующего индивида.
Укажу лишь на сон главного героя в советском фильме «Поли-
кушка», потерявшего доверенные ему деньги и в этот момент
видящего во сне, как он с триумфом возвращает их хозяйке
имения, пожелавшей подвергнуть его испытанию. Несколько
акцентируя симметричность движения персонажей, фильм под-
черкивает призрачный характер и одновременно внутреннюю
реальность этого сна. Равным образом кинематограф может —
именно в силу фотографической аутентичности — наделить са-
мую безудержную фантазию наглядностью реальности и ее
очевидностью. Так как кино может сделать правдоподобным
все, так как оно придает каждой вещи равно реальный харак-
тер, то изображение фантастического в нем тоже не имеет
четких границ; здесь также могут иметь место переходы к по-
вседневности и выходы за ее границы, здесь тоже эмоциональ-
ная шкала простирается от легкой шутливости до зловещего,
перехватывающего дыхание ужаса. Эти беспредельные возмож-
ности делают из кино популярнейшую форму мимесиса; они
открывают ему путь — разумеется, только как возможности,
которые редко осуществляются, — к настоящему ,и большому
народному искусству.
Однако именно эта безграничная многосторонность, эта близ-
кая к жизни чувственная наглядность, эта экстенсивная уни-
версальность кинематографа устанавливают в то же время и
границы его выразительных возможностей. Как искусство по-
движной визуальности, выступающей в единстве со столь же
168
динамичным комплексом аудитивного, кино не в состоянии вы-
разить высшие сферы духовной жизни человека, которые
литература может претворить непосредственно с помощью
поэтического, художественного слова, а .изобразительные искус-
ства и музыка — в каждом случае по-своему — косвенно,
в форме неопределенной предметности. У подвижной визуаль-
ное™ кинематографа вынужденно отсутствует то, что через
движение, мимику, жесты и т. п. отчетливо и наглядно пред-
ставлено с полной значения и загадочной, «невыразимой»
(в гётевском смысле) силой у Микеланджело и Рембрандта;
не говоря уже о том, что составляет (разумеется, лишь один
из многих, но тем не менее важный) аспект содержания поэзии.
Ясно, что решающую роль при этом играет специфическая
близость киноискусства к жизни; так как воплощение визуаль-
ной подвижности, достоверности предметного существования
всех объектов сводит к минимуму неопределенную предмет-
ность, столь отчетливо выступающую в изобразительных
искусствах, приходится отказываться и от тех — упомянутых
выше — вершин духовности, которые, разумеется, не только
отличают высочайшие достижения изобразительных искусств,
но и порождают ту тенденцию, что всегда потенциально
наличествует в их неопределенной предметности. Что же
касается литературно-поэтического творчества, то в свое время
мы подробно разъясняли, что преобразование языка из второй
сигнальной системы в нечто, подчиненное сигнальной систе-
ме Г, никогда не может .происходить в форме изолированного
акта [см. т. 3, с. 146 и сл.];. Другими словами, автономно вы-
сказанная мысль вынужденно остается обособленной мыслью
(дезантропоморфной по своему характеру), если вся языковая
атмосфера, окружающая ее, вся языковая среда, из которой
она проистекает и в которую она вливается, не будет изначаль-
но гомогенизирована с учетом требований литературно-художе-
ственной эвокации. В подобных случаях мысль утрачивает
способность характеризовать определенного человека в опре-
деленной ситуации; в плане эмоционально-эвокативном она
остается чисто абстрактным суждением (независимо от того,
насколько конкретно она может как мысль включаться в ка-
кую-то систему мышления), теряет свою основу в человеческой
душе, не может больше составлять элемент литературы, поэ-
зии. С другой стороны, мы знаем, что и идейная действенность
поэтически высказанной мысли зависит не столько от ее ин-
теллектуальной ценности самой по себе, сколько от ее поэти-
чески-человеческих предпосылок и последствий. Поэтическое
словоупотребление обеспечивает литературе возможность во-
площения духовного начала; заключительные слова Фоанта в
«Ифигении» Гёте, несмотря на то что смысл их почти до три-
виальности будничен, достигают неслыханных идейно-этических
высот подлинной духовности, в то время как в эмоционзльно-
169
выразительном языке Герхарта Гауптмана при всей психоло-
гически тонкой его нюансировке мысль как таковая бесследно
тонет или пребывает инородным телом. Этой атмосферы поэ-
тического словообразования вынужденно недостает визуально-
аудитивной динамике кинематографа. К роли слова в кино
мы еще вернемся в другой связи [с. 180 и ел.]; здесь за-
метим лишь, что в качестве аудитивного сопровождения ви-
зуальной динамики кинофильма слову вынужденно и постоянно
приходится играть лишь подчиненную, вспомогательную и до-
полняющую роль, а это препятствует возникновению той эмо-
ционально-духовной художественной атмосферы, которая со-
ставляет основу возвышающе человеческого претворения ду-
ховного в художественной литературе. Эта граница кинемато-
графического формообразования относится не только к духов-
ным высотам, где она, разумеется, наиболее ощутима, но охва-
тывает— хотя в большинстве случаев и не столь очевидно —
всю изобразительную систему. Если, например, литература
вводит в художественную композицию произведения некую че-
ловеческую группу (солдат, священников и т. д.), то для нее
совершенно естественно воплощать эту группу вместе с ее
социальным происхождением, ее социальной функцией в дан-
ное время, исторической перспективой и т. д. и тем самым
конкретизировать и постоянно разъяснять ее общественно-исто-
рическое существование. В рамках непосредственной изобрази-
тельности кино эти — внешне лишь комментирующие, а в дей-
ствительности служащие основой чувственных проявлений —
определения вынужденно исчезают. В самый момент воздей-
ствия это не ведет с необходимостью к его ослаблению, по-
скольку чувственное проявление может быть дополнено спон-
танными ассоциациями. Однако по прошествии некоторого
времени зритель оказывается просто перед голым фактом;
подлинная социальная связь остается для него в тени. Прони-
цательный критик Герберт Иеринг уже в начале двадцатых
годов заметил по поводу одной из экранизаций «Отелло», что
подлинно великая трагедия не могла бы произойти в обстоя-
тельствах, предложенных зрителю фильмом". С тех пор был
экранизирован целый ряд литературных шедевров; разумеется,
уровни их киноверсий весьма различны, но во всех случаях
именно эта духовная вершина остается вне пределов кинема-
тографического воплощения. В плохих фильмах это приводило
к эффекту своего рода компендиума; конечно, и это не исклю-
чает некоторого вклада таких фильмов в популяризацию ве-
ликой литературы, но даже самые удачные решения ничего
не могут изменить в принципиальном положении вещей, о ко-
тором мы говорили.
Данная проблема тесно связана с часто дискутируемым
вопросом о том, к какому литературному жанру отнести кино-
сценарий. Ссылка на непосредственные истоки кинематогра-
170
фа, то \есть на его родство с драмой, исполняемой в театре,
на сегодняшний день, пожалуй, уже окончательно устарела.
Всякий истинный анализ художественных основ драмы и кино
неизбежно^ приводит к вскрытию их эстетической противопо-
ложности: \ там — абсолютное господство диалога, здесь —
власть чувственно-непосредственных способов воплощения»
С точки зрения истории театра начатое Рейнгардом оттеснение
поэтического диалога декоративной режиссурой, равно как
иначе ориентированные, но тоже антидраматические режиссер-
ские эксперименты экспрессионизма, несомненно, поддержали
и популяризировали превратные представления о какой-то
близости к кинематографу драмы, исполняемой в театре. Столь
же мало общего с кинотекстами имеет подлинный эпос. Чисто
теоретически кажется совершенно очевидным — автор признает,
что и он порой отдает дань этому заблуждению, — будто бы
в противоположность драме отражение в эпосе и кино вопло-
щает прошлое. Представляется, что воспринимающий (чита-
тель или зритель) наблюдает не развертывание некоего теку-
щего события, как это происходит в театре, но вновь воспроиз-
веденные для него ранее происходившие события. В отноше-
нии эпоса это соответствует действительности в эстетическом
плане, для кино же соответствие возможно здесь только в
аспекте техническом, так как мы переживаем не события как
таковые, а всего лишь их готовое воспроизведение. Однако
вследствие двойного отражения миметическое киновоспроизве-
дение утрачивает характер прошлого, и его вторичная непосред-
ственность предстает как полностью актуальная. Заблуждению
способствует в данном случае именно тип отражения, когда то,
что мы назвали здесь достоверностью, аутентичностью, при всей
своей непосредственности все же составляет элемент опосредо-
вания и становится для нас сиюминутным за счет зафиксиро-
ванное™ на пленку и ее «прокручивания». Предметный мир,
играющий столь важную роль как в кинематографе, так и
в эпосе, может способствовать увлеченности, но равным обра-
зом и вводить в заблуждение. Ведь, с одной стороны, мы по-
казали, что формирование предметного окружения человека
покоится на диаметрально противоположных принципах; с дру^
гой стороны, высочайшая и наиболее точная форма синтеза,
которую осуществляет крупное эпическое произведение в этой
сфере предметности, то есть отображение объектов со всеми
их отношениями, взаимосвязями во всей их целостности, для
фильма исключена. Здесь выявляется практическое значение
теоретически очерченных нами границ «мира» кино: многооб-
разие объектов может обрести полную завершенность, целост-
ность только посредством актов духовного характера. Собствен-
но предметы в их непосредственно-реальном бытии предостав-
ляют лишь конкретную возможность некоей подлинной эпической
всеобъемлемости, целостности объектов, сама же она склады*
171
вается только вследствие осознанных отношений к этим объ-
ектам практически действующего человека, из идейной/позиции,
декларируемой эпическим произведением, при том; что эти
комплексы объектов в их отношении к человеку порождают
те типичные опосредования, из которых проистекают типичные
конфликты того или иного этапа в рамках определенной обще-
ственной формации. Поэтому (несмотря на то, что сопоставле-
ние диапазона кино с емкостью значительного эпоса порождает
известные трудности, здесь просматривается общая — обуслов-
ленная жанровой принадлежностью — граница кинематографи-
ческого формообразования. Ближайшее родство с литературой
кинематограф обнаруживает, несомненно, по отношению к но-
велле, рассказу. Новеллы, скажем, Мопассана или Чехова уже
дали жизнь удачным и адекватным кинотекстам. Здесь суще-
ствуют возможности, до сих пор еще не использованные в пол-
ной мере, но, впрочем, тоже всего лишь возможности, так как
было бы догматично требовать сведения содержательной сто-
роны кино исключительно к новелле. Есть целый ряд хороших
фильмов, текстовое содержание которых вовсе не приходится
соотносить ни с одной из литературных форм.
Эта существенная независимость текста фильма от литера-
турных жанров побудила Балажа расценивать сценарий как
особый литературный жанр100. Мы полагаем, что это неправо-
мерно. Сценарий всегда дает лишь стимул, предлог к его
визуально-аудитивному кинематографическому раскрытию, в ко-
тором заложено сообразное, исчерпывающее, в художественном
отношении единственно возможное осуществление. Аналогия с
соотношением текста драмы и ее инсценировки (или
стихотворения и песни) нам кажется ошибочной. Драма или
стихотворение обладают самостоятельным, законченным эстети-
ческим существованием независимо от сценической постановки
первой или переложенного на музыку исполнения второго.
Из того факта, что существуют весьма многообразные объеди-
нения разных искусств, не следует делать нивелирующие выво-
ды в отношении собственной эстетической жизни их отдельных
частей. Таковая должна здесь просто констатироваться безо
всякой оценки; при обсуждении музыки мы, например, отмечали
большие заслуги либретто Бойто к опере Верди «Отелло»
[с. 59 и ел.]. Однако ясно, что эти заслуги ограничиваются
тем, что либретто высвобождает широкие возможности для
развития драматической музыки Верди, в то время как шекспи-
ровская трагедия есть самостоятельный шедевр. Эстетические
свойства сценария должны рассматриваться с этой точки зре-
ния. Если драма есть автономное отражение действительности, то
сценарий — всего лишь трамплин для того двойного мимесиса,
на котором строится кино: автор сценария, артист, режиссер,
оператор и др. только во внутреннем взаимодействии совместно
осуществляют окончательное, эстетически значимое формопре-
172
творение фильма. Разумеется, это не означает, что духовные
и эстетические качества сценария безразличны для этого един-
ственно\достоверного воплощения; мы, напротив, знаем, сколь
часто прекрасный артистический труд терпит фиаско из-за того,
что сценарий тривиальный или халтурный; сколь часто хоро-
ший сценарий окрыляет всех участников. Все это, однако, де-
лает из сценария не больше чем одну из важных, безусловно
необходимые составных частей фильма, но отнюдь не особый
вид искусства. Ибо до тех пор, пока литературные качества
сценария не становятся импульсами и указаниями для соб-
ственно кинематографического воплощения, они — в их для-се-
бя-бытии — во внимание не принимаются. Сценарий может, на-
пример, включать в себя прекрасные картины природы, эвока-
тивные свойства которых исчезают при реальных съемках,
становятся — если эти кадры удаются — совершенно ненужными
и потому безразличными. Как прямое — с литературной точки
зрения — отражение действительности, сценарий может превра-
титься всего лишь в момент, полностью упраздняемый произве-
дением в целом.
Еще яснее все это становится, если вспомнить о роли актера
в драме и в кино. Драма обладает, как мы уже отмечали, соб-
ственной гомогенной посредующей системой, которая покоится
на ее диалогическом претворении. Благодаря тому что актер
выступает живым олицетворением этого мимесиса, возникает
двойной мимесис, но с отчетливо выраженной особенностью:
он есть интерпретация некоего уже самостоятельного, завер-
шенного в себе мимесиса. (Такова же и функция дирижеров,
различных инструменталистов и певцов в музыке.) Выдающие-
ся, сохранившие свою жизнеспособность в ходе истории типы
театра созданы драматургами и — в разные периоды по-разно-
му— олицетворялись актерами; бессмертие актера заключает-
ся в том, чтобы в цепи интерпретаций, скажем, образов Гам-
лета или Фальстафа его исполнение составляло важное звено.
(Совершенно так же обстоит дело и в музыке.)
Кинематограф предлагает здесь нечто радикально новое:
актерское достижение становится чем-то окончательным, уже
не интерпретацией некоего литературного типа, а в каждом
случае самостоятельным созданием типа, чувственно выявляе-
мого личностью актера. В этом с новой стороны сказывается
возможность для кинематографа стать массовым искусством,
так как ему гораздо ближе эта решающая для актера способ-
ность к непосредственной типизации.
Было бы, однако, в корне неверно проводить здесь механи-
ческие аналогии, скажем, с комедией дель арте: ведь в ней
уже заранее давались определенные типы, которые воплоща-
лись актерами, тогда как для кино характерно то, что типами
мирового масштаба становятся определенные актеры в их ин-
дивидуальности. Двойственность кино как массового искусства
173
и здесь проявляется весьма отчетливо. На самой нижнсй сту-
пени мы находим актеров и актрис, которые уже одним" своим
внешним обликом зримо воплощают широко распространенные
чаяния и идеалы. Такие типы дают чрезвычайно интересный
материал для социологии, но в эстетическом отношении до-
статочно простой регистрации их существования как такового.
Намного важнее, когда хорошие, порой даже выдающиеся ак-
теры способны возвысить определенный комплекс/ специфиче-
ских черт до подобной типичности, связанной с их актерской
индивидуальностью и социально значимой. Так находят свое
олицетворение созвучные вкусам широких масс идеалы красо-
ты в актерской индивидуальности Греты Гарбо, трагической
женской судьбы — в индивидуальности Асты Нильсен, смелости
и находчивости в Жераре Филипе, неподражаемого юмора —
в актерской индивидуальности Бастера Китона; соответствую-
щая роль есть всегда лишь повод, часто лишь предлог для
того, чтобы наглядно представить такие типические образы,
понятные всему народу. После всего сказанного покажется,
надо полагать, вполне очевидным, что кульминацию этой тен-
денции мы усматриваем в Чаплине. Безусловно, Чаплин — одна
из значительных актерских личностей всех времен. В противо-
положность большинству истинных светил сцены он, однако,
оказывал воздействие не через воплощение различных художе-
ственных типов, как Баумайстер, Миттервурцер или Бассерман,
а тем, что созданный им персонаж своим физическим обликом,
жестами и мимикой в неисчерпаемых вариациях символически
олицетворял типичное отношение «маленького человека», чело-
века толпы, к современному капитализму. Тем самым он под-
нимается в выражении общественно-исторический ситуации до
таких типических высот, каких в других искусствах достигали
лишь очень немногие актеры его времени. Не следует забывать,
насколько эмоциональная сфера воплощенных Чаплином об-
разов и их общественных прототипов близка миру Кафки. Од-
нако страх и беспомощность у Чаплина ощутимо представлены
не только изнутри, но и в неразрывном единстве внешнего и
внутреннего. Так рождается его знаменитый, всепобеждающий
юмор, глубина которого — объективированное углубление каф-
кианской проблематики — выражается как раз в том, что эзо-
теричность, обретая популярность, становится экзотерически;
действенной.
Если теперь вкратце резюмировать центральный движущий
принцип кинематографического воздействия, то им неизбежна
окажется единство настроения. В литературе, а также в изобра-
зительных искусствах настроение является одним из необходи-
мых следствий, которые проистекают из художественного пре-
творения различных, в конечном счете связанных с жизнью
человека ситуаций. Миметический характер кинематографиче-
ской действительности, ее аутентичность, о которой уже говори-
174
лось, приводят к тому, что каждая картина, каждая серия кар-
тин лиоЪ изначально подчинена определенному и устойчивому
единому настроению, либо вообще не существует как эстетиче-
ское явление. Отсюда становится понятной работа режиссера
и оператора с актерами в отношении отбора и общей компози-
ции игрового материала, того или иного комплекса отображаемых
объектов: вое дело заключается в аудитивно сопровождаемой,
но преимущественно визуальной эмоциональной значимости
изображений ц их последовательности. Поэтому в «Броненосце
„Потемкин"» на монументальной лестнице, ведущей к одесско-
му порту, мы видим только ноги, сапоги казаков, а не их са-
мих. Поэтому в \ фильме «Чапаев» прощание главного героя с
другом и соратником завершают кадры увозящего комиссара,
медленно удаляющегося, постепенно исчезающего из виду ав-
томобиля. Поэтому в фильме «Конец Санкт-Петербурга» мы
видим опустевший зал Зимнего дворца с огромной люстрой,
которая начинает медленно дрожать, качаться, чтобы в конце
концов с грохотом низвергнуться, и т. д. Все технические сред-
ства киносъемки (крупный план, затемнение и пр.) обретают
эстетический смысл только как средства выражения эмоцио-
нального единства, перехода от одного настроения к другому,
эмоционального контраста; точно так же и отбор кадров, их
монтаж, темп, ритм, и пр. — это не что иное, как только сред-
ство вести зрителя из одного настроения в другое в рамках в
конечном счете единой настроенности целого.
Таким образом, главным средством рецептивности кино-
искусства выступает настроение. Все те технические новшества,
в которых эмпирики и позитивисты хотят видеть эстетическое
новаторство и специфику кинематографа, суть лишь средства
для того, чтобы настроения, их взаимопереходы, их последова-
тельность, их контрастность синтезировать в интересах эстети-
ческой ориентации рецептивности. Возьмем для примера цвет
в кино; о технических достижениях или недостатках цветной
съемки мы не говорим; с точки зрения эстетики здесь, как и
везде, технически совершенное решение не более чем предпо-
сылка, в случае же неудачи можно считать вполне второстепен-
ным вопрос о том, было ли ее причиной отсутствие нужных
технических возможностей или нецелесообразное использова-
ние имеющихся. Эстетически основополагающий вопрос: выра-
жает ли соответствующее цветовое решение атмосферу данного
момента, ориентирует ли на последующее, передает ли эмо-
циональное единство фильма в целом, сливается ли в органи-
ческое единство с прочими визуальными, аудитивными, содер-
жательными моментами фильма, или нет? Так, фильм «Мулен-
Руж» эмоционально-визуальными средствами воссоздал атмо-
сферу жизни и творчества Тулуз-Лотрека, а Лоренсу Оливье
удалось в «Генрихе V» на протяжении всего фильма живопис-
ными средствами, созвучными колориту фламандской живопи-
175
си, передать атмосферу позднего средневековья. Приведенные
примеры могут служить только в качестве методологических
пояснений. Сказанное относится ко всем компонентам^фильма.
Дополним этот перечень негативным примером: сценическая
среда в «Гамлете» Оливье чрезмерно эмоционально акценти-
рует «древность» происходящего и тем самым по своей общей
настроенности противоречит ренессансному характеру дей-
ствия и произносимого текста. /
Возможности и границы киноискусства основываются здесь
в первую очередь на том особом эмоционально^ значении, ко-
торое может иметь аутентичность фотографического отобра-
жения для зрителя. Каждый кинокадр перевивается как ми-
месис некоей действительности, которая уже изначально благо-
даря самому факту своей «сфотографированности» удостове-
ряется как таковая: коль скоро она могла быть запечатлена,
значит она должна была — именно в этой форме — существовать
и реально. Мы видели, что у всех других искусств подобная
аутентичность необходимо отсутствует. Достаточно вспомнить,
например, о том, как новеллистам приходится изобретать и
облекать в ту или иную форму собственные повествовательные
средства, которые удостоверяли бы для читателя конкретно-
данное бытие содержания их произведений, его фактическую
достоверность. Гомогенная посредующая система изобразитель-
ных искусств тоже ничего общего не имеет с подобным непо-
средственным проявлением конкретного и реального природ-
ного прообраза. Там, где близость представляется наиболь-
шей, то есть в случае портретного сходства, углубленное рас-
смотрение проблемы обнаруживает как раз обратное: незави-
симо от своей художественной ценности портрет — как живопис-
ное или скульптурное изображение определенного человека —
всегда вызывает вопрос о его подлинной схожести с оригина-
лом, о том, что вообще следует понимать под сходством. Это
соотношение с действительностью определяет также характер
и специфические особенности господствующего в художествен-
ных произведениях (настроения. Все другие искусства едины в
том, что настроение для них есть, как правило, лишь момент
эвокативно вызванных эмоций, причем далеко не всегда момент
господствующий; в любом случае оно является результатом
метода воплощения, эстетически формирующего объекты, и их —
возникающих тоже в ходе художественного формообразова-
ния— отношений друг с другом. В кино же, наоборот, настрое-
ние излучает непосредственно, спонтанно само бытие объектов
(их отображений, необходимо переживаемых как аутентичные);
то, что эта спонтанность возникает как продукт сложного^
углубленного художественного взаимодействия многих факто-
ров, ничего не меняет в ее категориальном качестве, в характе-
ре ее подлинности. Здесь становится отчетливо видно, что
аутентичность обусловливает лишь возможность художествен-
176
но-кинематографического претворения и в случае ее реа-
лизации\ играет роль особого нюанса в общем настроении,
но никогда не выступает как уже само по себе эстетическое
преобразование увиденного. Таким образом, зритель пережи-
вает фильм\ как опосредование некоей реальности, воздействую-
щей на нега, как непосредственная реальность жизни. Тем са-
мым миметический характер киноискусства получает подкреп-
ление и одновременно низводится просто до какого-то момента
с тенденцией к исчезновению, так что каждая деталь, в своей
конкретности увиденная именно таковой, объективом кинока-
меры удостоверяется как реальная; однако здесь не существует
того, что в театре принято называть присутствием «живого»
актера, покоящимся -на его непосредственно воздействующей
физической реальности. Это было бы и несовместимо с -везде-
сущностью бытия, необходимо порождаемой кинематографом:
ведь в театре возникает двойная, иерархически расчлененная
действительность, так как актер воспринимается как реальность
качественно иная, нежели декорация, реквизит, даже костюм,
в то время как в кинематографе все воспроизведенное вынуж-
денно имеет полное сходство с реальностью, поскольку все это
равным образом является отображением технически точно за-
фиксированной действительности. Эта идентичность есть необ-
ходимое следствие двойного мимесиса в кинематографе, поэтому
она не может быть упразднена.
На этой основе настроение раскрывается как универсаль-
ная и господствующая категория воздействия кинофильма. Ее
универсальность проявляется в свою очередь в широте диапа-
зона: от -навязчивой пошлости китча до трагических высот по-
длинной, общественно обусловленной человечности, до вызы-
вающего горечь или достойного осмеяния положения человека
в сегодняшнем обществе. Эта высокая идеологическая дей-
ственность киноискусства не в последнюю очередь основана на
том, что формируемое им настроение пронизывает -все вопросы
мировоззрения, все установки относительно социальных явле-
ний, более того, только через настроение, при его посредстве
они находят путь к сердцу зрителя. Именно эта неотрывность
настроения от идеологического содержания в переживании
зрителя делает кино популярнейшим искусством нашего вре-
мени, действеннейшей формой выражения самых различных,,
самых противоположных тенденций. При этом — неоднократно
нами упоминавшаяся — аутентичность отражения идеологии,,
представленной фильмом, порождает особый нюанс: кажется,
что благодаря сгруппированным и «подогнанным» друг к другу
в соответствии с 'настроением фрагментам действительности
идеология вырастает из самого происходящего, из действитель-
ности как таковой, и тем самым обретает непосредственную,.
часто неосознанно, через чувства воздействующую силу. Поэто-
му то, что кинематограф не может воплотить наиболее высокую
12-805
177
$i богатую духовность, с этой точки зрения для него7 скорее
-благоприятное, нежели ослабляющее обстоятельство,/так как
в рамках эмоциональности, непосредственно-чувственного вос-
приятия каждая такая идеология или тенденция морут обрести
очень точно очерченное выражение. Таким образом; кинемато-
граф есть один из характернейших индикаторов то/о, что внут-
ренне движет в какой-то исторический момент Широкими на-
родными массами, того, какую позицию они занимают спонтан-
но по отношению к возникающим при этом общественным про-
блемам101. (Здесь мы опять вторгаемся в сферу исторического
материализма. Мы говорим об этом лишь затем, чтобы хотя
<бы просто указать на ее тесную связь с формальной структу-
рой кино.)
Фотографическая основа кинематографа, которую мы уже
рассмотрели в различных аспектах в связи с бытекающими из
нее художественными эффектами, несомненно, несет с собой
»опасность откровенного натурализма; ведь фильм по своей не-
посредственной сущности есть прежде всего визуально точное
сообщение о каком-то фрагменте действительности, соедине-
ние — монтаж — таких точно воспроизведенных фрагментов.
Для ясного представления об этой угрозе художественности
отображения следует в первую очередь указать на то, что во
всех натуралистических или близких к натурализму литератур-
ных направлениях эпохи после первой мировой войны важ-
ную— теоретически и практически — роль играл, а часто еще
и сегодня играет кинематограф, как их прообраз. Вероятно,
достаточно сослаться здесь на стилистические устремления
школы «новой вещественности», на включение кинокадров в
драматические представления, например, в театре Пискатора,
на склонность многих новеллистов подменять эпическую широ-
ту и взаимосвязанность неким чередованием коротких сцен по
«большей части натуралистического характера, на эстетически
-произвольное введение «реальных документов» в ткань литера-
турных произведений и т. д. Естественно, стирание границ
между художественным изображением и прямым «документи-
рованием» часто наблюдалось и прежде, например в школе
Золя или у Элтона Синклера. Но кинематограф дает таким
тенденциям новую базу, внешне убедительно утверждает их.
И действительно, газетная корреспонденция, документ, дидак-
тический материал, публицистика и т. п. могут так незаметно,
неощутимо получить здесь художественное оформление, что
■четкая граница между ними кажется вообще неустановимой.
Более того, сложнейшая переработка исходного реального
документа (мы видели это у такого серьезного специалиста,
как Беньямин [с. 152 и ел.]) часто воспринимается как наси-
лие техники над подлинным отображением. Вместе с тем толь-
ко такая переработка отдельных кадров и их последователь-
ности способна поднять кинематограф над уровнем реальных
378
восприятий повседневной жизни и возвысить его до художе-
ственных высот.
Мы питались описать этот уровень с помощью общей кате-
гории эмоциональной настроенности и одновременно указыва-
ли, насколько велик его диапазон и глубина, насколько об-
ширной многовариантностью он может обладать и в идейном;
отношении. В том, что касается художественного воплощения,,
эта широта и глубина очевидны. Однако отход от уровня по-
вседневности, возвышение над ним может, как это нередко И:
происходит, совершаться чисто формально, то есть в интересах,
большей эстетической продуктивности кинопроизводства, на-
пример монтаж не просто может использоваться как техниче-
ское средство выражения, но возводиться в эстетико-мировоз-
зренческом отношении в некий творчески организующий прин-
цип. В таких случаях появляются фильмы, которые максималь-
но соответствуют господствующим тенденциям современной?
буржуазной литературы и искусства и могут поэтому нахо-
диться с ними в отношениях взаимовлияния. Однако эстетиче-
ская переработка фотографических фрагментов и их соединение
друг с другом могут быть и фундаментальными, реалистичны-
ми, направленными на выявление сущности: истинно творче-
ским пониманием какого-то радикально нового аспекта дей-
ствительности, ее преобразованием в подлинно художествен-
ном смысле. При этом необходимо встают все проблемы эсте-
тического мимесиса, разумеется на специфической основе свое-
образной гомогенной системы опосредования, характерной для!
киноискусства. Конкретные проблемы, заслуживающие внима-
ния при этом, относятся, естественно, по преимуществу к кино-
драматургии; мы не можем здесь детально останавливаться на.
них, как и на аналогичных проблемах других видов искусства.
Автор лишь с удовлетворением констатирует, что такой авто-
ритетный специалист, как Гвидо Аристарко, при обсуждении:
фильма Феллини «Сладкая жиз-нь» счел необходимым прибег-
нуть к своему старому различению рассказа и описания, то^
есть внутреннего или внешнего понимания предметностей и их;
соединений102. Мы полагаем, что только использование всеоб-
щих эстетических категорий, соответствующее особенностями
кинематографа, может во всех деталях «вылепить» подлинно-
художественный, действительно реалистический характер кине-
матографа и тем самым избавить его теорию и практику or
техницистско-позитивистской метафизики монтажа.
Принципиально эстетические различения подобного рода
чрезвычайно важны для киноискусства уже потому, что иначе
невозможно было бы теоретически — а потому и практически —
осмыслить переходы его «языка» от обыденности, с одной сто-
роны, к искусству, а с другой стороны, к науке (публицистике,,
документу и т. д.). Если мы при этом выдвигаем проблему
«языка» — то есть стилистики — кинематографа, то делаем это-
12*
179*
«сознательно потому, что главенствующие здесь вопросы, при
всей специфике кинематографического выражения, весьма род-
ственны тем, которые поднимает использование языка^ (без ка-
вычек). Чисто научное применение не составляет никаких осо-
бых трудностей; здесь речь идет о том, чтобы сделать воспри-
нимаемыми предметы, которые обычно по субъективным или
объективным причинам или в силу особенностей человеческого
восприятия были недосягаемыми. То, что такие фильмы часто
прибегают и к художественным средствам выражения, ни о
чем не говорит; очень часто язык (без кавычек) научных про-
изведений оказывается «художественно» образным, вызываю-
щим наглядные представления, и даже эмоционально окрашен-
ным, что не упраздняет основного дезантропоморфирующего ха-
рактера изложения, даже не мешает ему. Что касается исполь-
зования кинематографа в публицистике, к которой, естественно,
относится и кинохроника, то из 'наших предыдущих рассужде-
ний со всей очевидностью вытекает, что аутентичность отснятого
материала существенно способствует усилению эффекта истин-
ности и достоверности. Очень легко возникает непосредственное
впечатление, что словесное сообщение может с легкостью об-
манывать, в то время как сфотографированному будто бы обя-
зательно должна соответствовать некая реальность. Подобные
предрассудки расширяют диапазон и интенсивность влияния
такого рода пропаганды. Однако не следует забывать, что те
.же самые технические средства, которые могут довести вполне
обыденное правдоподобие кинодокументалистики до высот по-
длинно эстетической эвокации, точно так же в состоянии пре-
вратить фотографически верную истину в прямую 1неистинность,
ложь. Балаж как-то заметил, что фильм «Броненосец „Потем-
кин1'» без всякой дополнительной съемки, только за счет пере-
группировки кадров, монтажа и т. д. может получить совершен-
но иной, противоположный смысл. События дня в информа-
ционных киновыпусках, естественно, «перемонтировать» еще
-легче, и при этом они вовсе не обязательно утратят свой эф-
фект непосредственности, аутентичности. Таким образом, «язык»
кинематографа, при всех своих специфических особенностях,
выдвигает ту же самую проблематику правды и лжи, ко-
торая свойственна любому использованию языка в жизни чело-
века.
Повторяем — наш краткий обзор существеннейших мимети-
ческих аспектов киноискусства не дает возможности детально
остановиться на конкретных проблемах его драматургии. Но в
заключение следует затронуть один принципиальный вопрос:
роль и функцию языка в кино. Для правильного ответа *на этот
:вопрос необходимо вернуться к немому кино; с одной стороны,
■ оно не могло обойтись без слова, поскольку сопровождающие
пояснительные тексты (титры, субтитры) должны были держать
:зрителя в курсе дела относительно обстоятельств, »необходимых
180
для понимания действия; с другой стороны, мы знаем, что в
качестве аудитивно-эвокативного сопровождения событий, спо-
собствующего пониманию и эмоциональному пояснению на-
строения;, постоянно должна была привлекаться музыка. Оба —
прямое и косвенное — продолжения необходимостей воплоще-
ния, выдвинутых еще немым кинематографом, несут на себе
те же функции, которые язык призван осуществлять в звуко-
вом кино. Только как завершение обоих этих моментов на
первый план (Выдвигается третий — язык как монолог, диалог,
речь и т. д., то есть как элемент общей задачи кинофильма,
сообразно действию непосредственно оживляющей, одушевляю-
щей человеческие судьбы. Уже первый момент — сообщение
необходимых фактов, выдвигает, по сути, новые задачи. Если
в эпосе такое доведение до сведения составляет существенную
часть напряженности повествования самой по себе; если в дра-
ме, скажем, экспозиция образует органическое единство со
структурой диалогического раскрытия судьбы, то в кинемато-
графе для разрешения этого вопроса должны изыскиваться
новые пути в каждом фильме. Поскольку произносимое слово
не занимает здесь центрального положения в гомогенной посре-
дующей системе и соответственно может проявиться только как
дополнение визуально-аудитивно представленных событий, то
каждый раз встает особый вопрос, относящийся к драматурги-
ческой композиции, — как соединить необходимый максимум
•информации с минимальными помехами общей эмоциональной
настроенности со стороны текста. Во втором моменте эстетиче-
ский скачок между немым и звуковым кинематографом высту-
пает отчетливее всего: произнесенное слово становится здесь
частью тех шумов, которые составляют аудитивное сопровож-
дение и усиление визуально эвоцированных настроений. Здесь
тоже невозможно установить общие правила. Только конкрет-
ный анализ конкретных успехов и неудач может определить
обнаруживающиеся здесь возможности и границы. Из пред-
шествующего развития звукового кино недвусмысленно яв-
ствует, что реалистическое воспроизведение шумов — включая
человеческую речь — не в состоянии обеспечить непрерывное
и достаточное аудитивное сопровождение визуальной эмоцио-
нальной эвокации, что и звуковое кино всегда стремится вклю-
чить это звучание в форме музыки. Не имея здесь возможности
детально остановиться на этом вопросе, заметим, что эта необ-
ходимость тесно связана со своеобразием неопределенной пред-
метности в киноискусстве, с тенденцией к ее минимизации,
с его основным эмоциональным характером. Музыка как двой-
ной мимесис чувств, непосредственно эмоционально их выра-
жающий, особенно приспособлена к тому, чтобы свести до
минимума подобную неопределенную предметность, аутентично-
внешняя реальность которой требует соответствующего чув-
ствам эмоционального дополнения.
181
Наконец, в-третьих, звуковое кино знает произносимое/ слово
как драматический элемент действия; допустим, отношения
двух человек разворачиваются перед нами во всей сво^й слож-
ности, выливаясь в сцену резко обострившихся духовных конф-
ликтов; в таких случаях актеры должны в безупречно отточен^
ных выражениях обеспечить полное раскрытие таких отноше-
ний. Хотя здесь 'налицо известная близость к драматическому
началу, не следует все же забывать, что в драме подобные
разговоры вырастают из некоего диалогического континуума,,
тогда как в кинематографе они могут быть подготовлены чисто
визуально-аудитивно, эмоционально. Так что, с одной стороны,
они должны повлечь за собой спасительное прояснение пережи-
тых напряжений, с другой стороны, они все же не должны
выходить за рамки единой настроенности, установленной ви-
зуально-аудитивными средствами. Отсюда проистекает необхо-
димость очень тщательной эмоциональной подготовки подоб-
ных кризисных сцен, их относительной сконцентрированности
и краткости; при этом следует заметить, что данные установки
в соответствии с конкретными отношениями в каждом от-
дельном случае требуют особого подхода. Однако в любом
случае и в этом плане необходима органическая связь с ви-
зуально-аудитивной настроенностью. Вспомним о большой па-
цифистски-гуманистической речи, которую произносит Чаплин
в конце «Великого диктатора». Ее смысл, безусловно, можно
было бы изложить короче. Однако ее протяженность, тон и
прочее обусловлены основным настроением всего фильма: как
отклика человека на тот кошмар, который мы пережили во вре-
мена войны и гитлеризма; кроме того, в кинематографическое
воплощение эффектов этой речи снова последовательно вклю-
чается музыкальное сопровождение. Хотя Чаплин, очевидно,
задумал здесь и идейное обличение системы фашистской бес-
человечности, оно незаметно — и объективно, конечно, не слу-
чайно— превращается в чисто эмоциональное.
Все это позволяет сделать выводы, что решающим прин-
ципом кинокомпозиции выступает соблюдение эмоционального
единства. Естественно, эмоциональная настроенность должна
пониматься в том универсальном смысле, в каком она уже
была истолкована ранее, а кроме того, само собой разумеется,
что подобное единство совместимо с сильнейшими контрастами.
Правда, при всей противоречивости эти последние должны
образовывать устойчивое единство, иначе фильм легко распа-
дается на разнородные фрагменты, как, например, в «Чуде в
Милане» Витторио Де Сика, упустившего возможность (или
необходимость) придать поселению бедняков, живущих в мире
и согласии, атмосферу сказочной ирреальности, из-за чего дей-
ствительно происходящие позднее чудеса производят впечат-
ление какого-то обвала, неожиданного перехода в совершенна
иной мир. При этом кинематограф по самой своей сути —
182
вследствие неоднократно упоминавшейся нами аутентичности —
значительно менее чувствителен к неправдоподобности своих
исходных данных, чем литература (вспомним о прелестной
комедии у Де Сика со слоном, которого получает в подарок
бедный учитель); более того, кино предоставляет комическим
или чувствительно-трогательным эпизодам, обретшим само-
стоятельность, значительно большую свободу, значительно
меньше нуждается в их мотивировке, нежели прочие искусства
(достаточно сослаться хотя бы на эпизод в «Диктаторе», где
Чаплин под мелодию и ритм «Венгерского танца» Брамса
бреет какого-то человека), при условии, что единство настрое-
ния в конечном счете выдерживается. Такие замечания, вполне
понятно, относятся только к тем фильмам, которые могут быть
отнесены к числу художественных. Большое количество филь-
мов соблюдает такое единство лишь в отношении низменных
социальных потребностей, для удовлетворения которых они
возникли, и чаще всего публика реагирует исключительно на
их тематику или на моменты чисто внешнего напряжения.
В этом противоречии вследствие большой близости к способу
переживания повседневности снова проявляется уже отмеченное
нами соскальзывание гомогенной системы опосредования от не-
обходимой гибкости к полной неустойчивости. Причины того,
что из-за подобного соскальзывания хорошие фильмы практи-
чески встречаются редко, коренятся в условиях создания кино-
картины, в требованиях, выдвигаемых крупным капиталом пе-
ред их создателями, в социально обусловленной структуре по-
добной концентрированно-бюрократической организации, вла-
деющей капиталом. Таким образом, исследование того факта,
что вид искусства, более чем способный быть типично массо-
вым, подлинно народным искусством, почти не поднимается
выше уровня просто приятного, даже пошлого, относится к
проблемам исторического материализма. Для нас было важно
лишь вскрыть те внутренние факторы формы, те типы мимеси-
са, которые в силу специфической художественной сути кинема-
тографа поддаются именно таким общественным влияниям.
6. КРУГ ПРОБЛЕМ ПРИЯТНОГО
В наших предыдущих рассуждениях мы неоднократно исполь-
зовали выражение «псевдоэстетическое», причем в существенно
предварительном смысле. Мы обозначили им определенные
произведения и эмоциональные реакции, которые в своем не-
посредственном проявлении крайне близки к эстетическому,
хотя по существу не имеют ничего общего с решающими опре-
делениями искусства. Мы были вынуждены делать это предва-
рительное разграничение чисто отрицательным путем, дабы с
наибольшей ясностью показать, как определенные, вообще-то
183
тесно связанные со сферой искусства феномены не удерживают-
ся на уровне эстетического. Однако такое их бытие-в-себе-и-
для-себя практически ничего не раскрывает в их собственном
и подлинном существе. Ибо — об этом уже шла речь в той
или иной связи — очень многое из того, что, будучи взятым в
качестве произведения искусства, художественного свершения
и т. д., предстает в высшей степени проблематичным и даже
полностью негативным, в непосредственном жизненном отно-
шении получает часто совершенно другой оттенок; то, что с
эстетической точки зрения может не иметь вообще никакой
ценности, не теряет при этом своих, способствующих жизни
отдельного человека и даже целых групп людей качеств. И ес-
ли оно должно быть подвергнуто критике, а иногда и полностью
отброшено также и с общественной точки зрения, то этим ни в
коей мере не снимается его роль в повседневной жизни людей.
Поэтому мы возвращаемся к нашему исходному пункту, к рас-
смотрению повседневной жизни. Разумеется, на разных этапах
исследования мы познакомились с возникающими на ее основе
дифференцированными видами отражения объективной действи-
тельности, с дезантропоморфированным отражением науки и с
законченно и гомогенно антропоморфированным отражением
искусства, с их структурой, сущностью, функциями и т. д. По-
этому те разграничения, которые нам следует здесь провести,,
а также анализ самой обыденной жизни достигают при этом
гораздо более высокого уровня конкретности, чем это было
возможно вначале. Естественно, сейчас, как и тогда, мы вовсе
не стремимся дать всеохватывающую картину повседневной
жизни со всеми ее свойствами; настоящие размышления на-
правлены на возможно более точное определение эстетического;
мы полагаем, однако, что его сущность будет понята более
содержательно и контуры очерчены более четко при правиль-
ном описании его отношения к повседневному.
Неудовлетворительность, которой страдает в этом плане
литература по эстетике, носит двоякий характер. В рамках
идеалистических концепций прекрасное и искусство, мыслимое,
как его осуществление, обычно метафизически жестко — без.
всяких переходов — отрывается вообще от всякой жизни;
жизнь с этой точки зрения предстает как несовершенный, всег-
да нуждающийся в исправлениях материал (модель и т. д.)
художественной деятельности. На противоположном полюсе,
представляемом — разумеется, в самых различных вариантах —
механическим материализмом и позитивизмом, эстетическое
полностью растворяется в обыденной жизни, в повседневности..
Таким образом, то бесспорно истинное утверждение, что искус-
ство есть общественное явление, оказывается ложным в резуль-
тате признания его полностью и безоговорочно только таковым..
Ближайшее рассмотрение этого круга проблем, который по-
стоянно присутствовал уже во всех наших предыдущих рас-
184
суждениях, призвано способствовать правильному пониманию
действительных отношений искусства и повседневности в их
истинных пропорциях в противоположность указанному двой-
ному заблуждению. Конечно, обратившись для иллюстрации к
идеалистической иерархии, мы увидим, что «верхние» границы
эстетического проведены столь же нечетко, как и «нижние».
Непреодолимая расплывчатость и многозначность понятия пре-
красного, лежащего в основании исторически наиболее влия-
тельных эстетических учений, не позволяют удовлетворитель-
ным образом выявить и реальное отношение его к истинному
и благому. Эту проблему мы также неоднократно затрагивали;
вместе с тем мы указывали на то, что методологически ответ
на этот вопрос может быть получен лишь при конкретном ана-
лизе содержания и структуры произведения искусства (во вто-
рой части работы). Здесь мы отметим лишь то, что разложение
красоты на ее «моменты» (возвышенное, комическое) и их вто-
ричное, якобы конкретизирующее объединение не означает
сколько-нибудь существенного шага к прояснению вопроса.
Скорее мы полагаем, что совершенно прав был Чернышевский,
который, отклоняя эту теорию, подвергаемую им критике преж-
де всего на примере сочинений Фишера, говорил: «Сфера искус-
ства... обнимает собою все, что... интересует человека... просто
как человека; общеинтересное в жизни — вот содержание
искусства. Прекрасное, трагическое, комическое — только три
наиболее определенных элемента из тысячи элементов, от ко-
торых зависит интерес жизни и перечислить которые значило
бы перечислить все чувства, все стремления, волнующие сердце
человека»103. Не занимаясь сейчас общеэстетической концеп-
цией Чернышевского, которую мы будем подробно рассматри-
вать в следующей главе, при анализе проблемы природной
красоты, скажем лишь, что подобного определения человеческой
универсальности художественного содержания достаточно, что-
бы отважиться на попытку определения подлинной «нижней»
(в указанном смысле) границы эстетического.
Разграничения, которые необходимо теперь провести, суть
троякого рода. Во-первых, следует выявить те определения,
которые при видимости непосредственной принадлежности к
эстетическому в существе своем тем не менее расходятся с
ним, следует понять их в соответствии с их действительными
особенностями. Сделав это разграничение, мы должны будем,
во-вторых, признать их полную самооправданность в качестве
моментов жизни. И в-третьих, необходимо показать, каким
образом они при этой их направленной на самое себя и выра-
стающей из жизни ценности (воздействуя на другие жизненные
сферы и в свою очередь испытывая воздействие других жизнен-
ных сфер и перерабатывая его) связаны с эстетическим суще-
ствованием, с общественной действенностью искусства. Соот-
ветственно методологии эстетики само собой понятно, что эта
185
последняя концентрируется вокруг первого комплекса проблем,,
вокруг чистого разграничения. Однако идеалистическое пони-
мание этих вопросов неизбежно приводит к тому, что жизнен-
ная сторона того, что таким образом исключается — чисто ме-
тодологически вполне оправданно — из сферы эстетического,
не только не постигается в ее своеобразии, но подвергается в
результате идеалистически-иерархического упорядочения более
или менее, явно или скрыто презрительному осуждению. В наи-
более типичной форме это можно увидеть у Канта, в решающих
для всей его эстетической теории вводных главах, посвящен-
ных проблеме приятного и прекрасного104. В абстрактно-общем
плане его рассуждения малооригинальны, ибо уже средневеко-
вая эстетика стремилась к разграничению в этой сфере. Так,
Иоанн Скот Эриугена приводит в пример изящную, украшенную
драгоценными камнями золотую вазу, которую* рассматривают
мудрец и грешный человек. Если первый удовлетворяется созер-
цанием красоты, то второго охватывает страсть к обладанию.
Такого рода противопоставление дальше играет заметную роль
в средневековой эстетике. Уже у Фомы Аквинского оно полу-
чает следующую формулировку: эстетическое удовольствие
есть радость, доставляемая гармонией форм, независимо от
всякой биологической полезности; из этого делается, далее»
вывод, что простые восприятия вкуса или обоняния не приво-
дят к переживанию прекрасного. В целом же сущность эстети-
ческого определяется так: это есть представление чего бы то
ни было, что нравится нам само по себе, безотносительно ко
всем возбуждающим желания практическим потребностям105.
Оригинальность кантовской постановки вопроса состоит,
следовательно, исключительно в том, что он решительно делает
из эстетики некую промежуточную область, господствующая в
которой незаинтересованность отличает ее как от находящейся
«внизу» сферы приятного, так и от расположенной «вверху»
сферы этического, подчиненных власти интереса. Нет необхо-
димости подробно обсуждать эту проблему, чтобы убедиться,,
что полная незаинтересованность не может служить действи-
тельной характеристикой эстетического. Правда, мы уже неод-
нократно указывали на приостановку временных практических
интересов при эстетической (и научной) деятельности субъек-
та {см. т. 2, с. 272 и ел.]; однако вместе с тем мы подчерки-
вали, что эта приостановка является также неотъемлемой
частью обыденного мышления. От проверки инструмента перед
началом работы до анализа сложной ситуации в шахматах —
везде необходима временная приостановка непосредственной
заинтересованности, причем именно в интересах дела. При этом
важно, что речь идет только о приостановке, а вовсе не о
снятии интереса. Шахматист по-прежнему страстно стремится
к выигрышу, и тем не менее, или скорее именно потому, он
разбирает сложившуюся на шахматной доске позицию с такой
186
объективностью, как если бы она вовсе не представляла для
него интереса, ведь только так, выясняя собственные уязвимые
места и преимущества противника, он может найти верное
решение, гарантирующее ему победу, осуществление его инте-
ресов. И чем большую роль играет интерес и пробуждаемые
им аффекты на таких неизбежных этапах повседневной прак-
тики, тем менее вероятно, как правило, достижение цели.
В науке речь идет о гораздо более 'всеохватывающей, каче-
ственно иной приостановке, и все же именно о ней. Вряд ли
стоит особо упоминать здесь прикладные науки, столь очевид-
но в них наличие интереса, влияющего на весь ход исследова-
ния; несомненно, к примеру, что при медицинском диагностиро-
ваний имеет место приостановка чисто лечебных интересов,
однако и здесь это только приостановка, а не снятие их.
Но даже в том, что касается эстетического, кантовская
теория полной незаинтересованности не выдерживает сколько-
нибудь серьезной проверки. Понятно без дальнейших разъяс-
нений, что творчество есть непрерывный взаимопереход прак-
тической деятельности и такого рода приостановок; именно это
неразрывное единство целеполагания — которое было бы не-
возможно без наличия интереса — и «незаинтересованной» про-
верки творческого видения и его осуществления на различных
стадиях завершенности произведения и создает ту полную про-
тиворечий гармонию творческого процесса, которая ведет к
подлинному художественному формообразованию. (Также и
этот вопрос может быть подробно обсужден лишь во второй
части работы при анализе творчества. Теперь же отметим
лишь, что в высказываниях значительных художников всегда
подчеркивается, в зависимости от их личности, общей художе-
ственной ситуации и т. д., лишь один момент этого крайне
запутанного отношения, и задачей философской теории искус-
ства является истинная разработка действительных, решающих
категориальных определений этого общего процесса в их объ-
ективных пропорциях.)
На первый взгляд кажется, что непосредственность чисто
рецептивного переживания говорит в пользу Канта. Действи-
тельно, при непосредственном переживании подлинного произ-
ведения искусства умолкает, казалось бы, всякая заинтересо-
ванность в обыденной жизни. Эвокативная сила гомогенной
посредующей системы произведения, врывающаяся в душевную
жизнь целостного человека, превращает его в отдающегося вос-
приятию цельного человека, направленного на этот, единствен-
ный, особенный «мир» произведения; она не оставляет, по ви-
димости, в области душевных переживаний человека места
для каких бы то ни было повседневных целеполагаыий. И на
самом деле, эта видимость есть нечто большее, чем простая
иллюзия, поскольку подобная установка восприятия является
необходимой предпосылкой для достижения человеком дей-
187
ствительной связи с искусством. Тем не менее при вниматель-
ном рассмотрении это тоже оказывается не снятием, а лишь
преходящей приостановкой интереса. Причем не только потому,
что дело доходит лишь до временного исчезновения интереса
из жизни данного, сделавшегося субъектом восприятия цело-
стного человека, но прежде всего потому, что отношение чело-
века к искусству ни в коем случае не может быть ограничено
этим актом, сколь бы он ни был сам по себе необходим. Ранее
[см. т. 2, с. 417 и ел.] мы подробно говорили о преддействии
и последействии эстетического переживания в самом строгом,
собственном и прямом смысле слова. Если мы здесь, обобщая
полученные тогда результаты, применим их в нашей теперешней
проблематике, то следует, с одной стороны, подчеркнуть, что
катарсически-преображающее воздействие произведения, кото-
рое лишь путем совершенно неприемлемого — причем именно
с эстетической точки зрения — упрощения и вульгаризации мо-
жет быть отделено от эстетической сущности самого произве-
дения, соотносится в конечном счете с целостным человеком,
со всеми его желаниями, устремлениями, целями, интересами
и т. д. Всякое великое произведение искусства провозглашает
в конечном счете memento vivere, подобно Зале Прошедшего в
гётевском «Вильгельме Мейстере». Катарсическое воздействие
великих «произведений ни в коем случае не направлено на унич-
тожение этих жизненных тенденций, наоборот, то очищение
страстей, которое и служит здесь целью, проявляется как изме-
нение их содержания, направленности, объектов, а вовсе не
как их изгнание из жизни человека, оно, это очищение, может
их даже — экстенсивно или .интенсивно — усиливать, ведь то
выражение, которое дает им художественно-сформированный
мир, подтверждает и утверждает их. Уже здесь видно, что и
непосредственное эстетическое переживание при самой полной
отдаче воздействию произведения вызывает лишь приостанов-
ку, а не снятие интереса.
Из всего этого, с другой стороны, следует, что преддействие
и последействие эстетического переживания надлежит рассмат-
ривать как его органические, тесно связанные с самим его су-
ществом составные части, а вовсе не просто как жизненные
факты, которые лишь психологическая континуальность, свой-
ственная внутренней жизни человека, объединяет с эстетиче-
ским переживанием, что, впрочем, было уже показано нами
ранее. Преддействие и последействие являются, таким образом,
как определенными стадиями в жизненном потоке каждого
данного человека, так и одновременно теми этапами в отно-
шении этого человека к искусству, на которых он обращается
к нему и обогащенный им возвращается в обыденную жизнь.
Ясно, что на стадии последействия может как результат катар-
сиса произойти изменение интересов, хотя, разумеется, только
может, а вовсе не обязательно должно. Причем это изменение
188
отнюдь не является показателем силы произведения и даже
глубины катарсиса. Ибо, как было только что указано, очище-
ние может быть и подтверждением уже ранее действенных,
устремлений и страстей. Специфика катарсического влияния1
состоит именно в том, что оно направлено на целостную лич-
ность человека и, как правило, — путем воздействия на эту по-
следнюю— может вызывать модификацию отдельных интере-
сов. Как бы то ни было, существует органическая связь между
приостановкой интересов в непосредственном эстетическом пе-
реживании и их восстановлением на этапе последействия.
Кажется, что доказать наличие подобной связи также и
в применении к преддеиствию труднее; и в самом деле, во многих;
случаях речь здесь идет, без сомнения, лишь о том, что сопри-
косновение с произведением, превращение целостного человека
в цельного человека как раз и осуществляет приостановку
интереса. Но не следует забывать, что столь же часто люди —
более или менее сознательно — ищут вполне определенного*
катарсического воздействия искусства, склонны к определен-
ным типам этого воздействия .и т. д. Подобные влечения и от-
талкивания, играющие на стадии эстетического преддеиствия
отнюдь не малую роль, хотя и могут соотноситься с определен-
ными моментами общего художественного воздействия, с темой,
стилем и т. д., вместе с тем, однако, могут и образовывать
более или менее замкнутую в себе целостность. Во всяком;
случае, они коренятся в некоторых, очень часто фундаменталь-
ных, жизненных интересах данной личности. Естественно, дей-
ствительное эстетическое переживание вовсе не является про-
стым, прямолинейным осуществлением возникающих в пред-
действии влечений; неожиданности, разочарования, решитель-
ное превышение ожиданий и т. д. не являются здесь чем-то
исключительным. Одно лишь, во всяком случае, ясно: прибли-
жение человека к искусству не носит характера незаинтересо-
ванности. Таким образом, вся область эстетического восприя-
тия тесно переплетена с человеческими интересами; не следует
только понимать эти последние в том упрощающем смысле,,
как это происходит <в идеалистической эстетике со времен.
Эриугены и еще у Канта.
Столь же непрочен и второй критерий, используемый Кан-
том для отграничения приятного от эстетического, — именно^
связь с действительностью в первом и отвлечение от нее во
втором случае. Мы видели на примере столь подлинного искус-
ства, как архитектура, что действительность в качестве катего-
рии ее сформированного бытия принципиально не может быть
оторвана от ее эстетической предметности и от ее воздействия
в качестве искусства. С другой же стороны, невозможно отри-
цать, что существуют такие переживания приятного, которые
не направлены ни на какие объекты или комплексы объектов,
а остаются осознанно и чисто субъективными. Достаточно-
189
указать на переживание приятного в воспоминании, снах наяву,
фантазиях — во всех этих случаях недействительность объекта
совершенно безразлична для переживания и даже является
иногда его психологической предпосылкой. Таким образом, дей-
ствительность объектов приятного и отвлечение от действи-
тельности в эстетических объектах столь же мало могут слу-
жить критерием для разграничения этих сфер, как и интерес
или его отсутствие. Разумеется, оба этих ложных критерия, как
показало наше исследование, тесно связаны между собой. Ведь
идеалистическое огрубление понятия интереса — которое, впро-
чем находит у Канта свою, необходимо дополняющую его про-
тивоположность в столь же идеалистическом сублимировании
этического интереса — проистекает из спиритуалистического
презрения ко всем феноменам, принадлежащим лишь сфере
жизни, никак не выходящим за ее пределы и по большей
части даже не указывающим на них. Искусство, радикально
отвергаемое последовательным спиритуализмом Платона как
нечто, чрезмерно связанное с действительной жизнью, как
подражание подражанию (земные, реальные вещи понимаются
как подражание миру идей), получает у Канта по крайней
мере положительный акцент некоей промежуточной области,
резко и без переходов отделяемой от эмпирической реальности,
хотя она и не способна достичь чистой духовности, связи с
трансцендентным, ноуменальным в противоположность харак-
теру простого явления, свойственному всему земному.
Подобное спиритуалистическое презрение к тварной жизни
выступает в идеалистической эстетике основанием для пости-
жения отношений между приятным и прекрасным. Аристотель,
который, разумеется, не является по существу чистым идеали-
стом, объективный идеализм которого скорее весьма сильно
тяготеет к материализму, оказывается исключением также и
здесь, поскольку приятное превращается у него иной раз даже
в отличительную черту прекрасного106. Обычно же идеалисти-
ческий спиритуализм порождает догматически строгое отделе-
ние прекрасного от земной жизни. Конечно, Плотин и Шеллинг
пытались, в рамках самого учения об идеях, снять с искусства
смертный приговор Платона. Причем подобное спасение искус-
ства возможно лишь в том случае, если оно понимается как
непосредственное отображение мира идей; тем самым, однако,
его противопоставленность повседневной земной жизни скорее
усиливается, чем смягчается по сравнению с Платоном. Эта
идеалистически-спиритуалистическая философская установка
находит свое экстремальное выражение у Зольгера, для кото-
рого соприкосновение красоты с земной жизнью становится
основанием некоей трансцендентно-метафизической трагедии
самой эстетической идеи. Он говорит о прекрасном: «Суще-
ствуя в многоликом потоке бесконечно разнообразных явлений
других предметов, оно возносится над ним, так как свойствен-
но
ное ему великолепие божественной сущности никогда его не
покидает; в то же время оно ни на мгновение не может осво-
бодиться от этих земных уз и перед лицом творца погружается
в ничто наряду со всеми прочими явлениями. Это резкое про-
тиворечие заставляет каждого, пусть даже бессознательно, ис-
пытывать чувство не только внутренней боли, но и всеобъем-
лющей скорби, в которой не могут утешить никакие иные
блага и которая остается вечной и непреодолимой. Скорбь эту
возбуждает в нас не исчезновение каждого отдельного предмета-
и даже не сознание того, что все вообще преходяще, а мысль
о ничтожности самой идеи, которая, однажды воплотившись,
должна разделить судьбу всего смертного на земле и с гибелью»
которой каждый раз погибает целый мир, одушевленный духом:
творца. Такова действительная судьба прекрасного на земле!»107
Эстетическое здесь столь решительно поднимается в заоблач-
ные выси мира идей и тут же столь резко падает в этом своем-
икаровом полете, что в свете подобного трагического диссонан-
са все земное неизбежно оказывается столь же ничтожным.
Земное прекрасное отличается от прочих жизненных явлений1
лишь этой трагической судьбой.
Но также и Гегель, критиковавший эту экстремальность
зольгеровской эстетики, разработавший концепцию идеи, кото-
рая стремится, насколько это вообще возможно в рам-
ках идеализма, отойти от Платона, видит иногда в сближении
искусства с приятным начало его эстетической деградации..
Так, при рассмотрении идеала в классическом искусстве он
говорит о подобном падении в силу того, что искусство прини-
мает «все более и более человеческий характер» в том, что
касается замысла и выполнения. «Вследствие этого классиче-
ское искусство переходит в конце концов по своему содержанию
к изолированию случайной индивидуализации, а по своей фор-
ме— к приятному, прелестному». Как почти всегда у Гегеля,
здесь одновременно отмечаются также существенные и верные
моменты действительного положения дел. Как мы увидим —
и могли уже видеть на примере отдельных проблем, обсуждав-
шихся в этой главе, — действительное отделение эстетического
от просто приятного основывается на том, удается ли искус-
ству подняться над непосредственно-данной партикулярностью^
или же его творения и воздействие этих последних погрязают
в партикулярном. Поэтому Гегель вполне правильно описывает
это соотношение, указывая на то, что развитие, которое он
имеет в виду, «не потрясает человека и не поднимает его выше-
частного бытия, но позволяет спокойно оставаться в этом по-
следнем, притязая лишь на то, чтобы нам понравиться». Остат-
ки же спиритуалистически-потусторонних представлений про-
являются у него в том, что эта противоположность здесь
и в других местах взрывает изнутри ту имманентность земного,,
чьим мыслительным выражением и является диалектика как
191
метод, а выход за пределы партикулярного приравнивается к
трансцендированию и часто даже — вполне определенным об-
разом— к религии. Искусство как таковое становится тем са-
мым стихией, притягивающей дух книзу. Даже «фантазия, овла-
девая религиозными представлениями и свободно формируя
их с целью обрести красоту, устраняет серьезность благогове-
ния и в этом отношении портит религию как религию...»108.
Тем самым, однако, все это вовсе не отграничивает приятное
•от эстетического и не разрабатывает диалектику партикуляр-
ного в совокупности жизненных явлений, но мыслительно обос-
новывает идеалистически-спиритуалистические иерархические
отношения внутри гегелевской системы — в противоположность
его же диалектическому методу — как необходимость перехода
духа от стадии искусства к стадии религии.
Если мы рассмотрим теперь весь этот круг» проблем с точки
зрения нашего понимания эстетического, то — хотя мы прекрас-
но сознаем, что статический образ бессилен здесь охватить
действительное положение дел, — целостность жизненных явле-
ний предстанет перед нами как холмистая местность, в которой
произведения искусства выделяются подобно горным вершинам
или цепям. И то, что между холмом и горой возможны бес-
численные переходы, ничего не меняет в существе той каче-
ственной разницы, которая при всех промежуточных звеньях
отделяет их друг от друга. Искусство, таким образом, во всех
своих творениях — и с наибольшей отчетливостью в созданиях
значительнейших — есть явление жизни, общественно-историче-
ского развития человечества; его истинное существо, его по-
длинное величие будет искажено, если, как это постоянно де-
лает философский идеализм, пытаться представить его некоей
противоположностью жизни, исключающей из себя эту послед-
нюю. Разумеется, как уже говорилось, подобный статический
образ в высшей степени несовершенно выражает реально нали-
чествующие, в существе своем динамические отношения и даже
искажает их. Когда мы ранее :[см. т. 2, с. 417 и ел.] анализи-
ровали преддействие и последействие собственно эстетического
отношения к искусству, уже тогда перед нами было не какое-
то покоящееся состояние, а непрерывный поток, устремляющий-
ся от жизни к эстетическому переживанию и от него обратно
в жизнь. Здесь мы абстрагирующе вырываем человеческое от-
ношение к произведению искусства из динамической целостно-
сти жизни — и это полностью оправданно с точки зрения мето-
дологии эстетики. Но то, что речь идет о разумной и потому
плодотворной абстракции, не снимает ее абстрактности, по-
скольку ясно, что жизнь выступает в подобной динамически-
интенсивной целостности лишь как пограничная область,
из которой выделяется и в которой в конце концов снова раст-
воряется эстетическое отношение. Именно поэтому наши раз-
мышления не должны останавливаться на этой эстетической
192
динамике. Ее самое — при одновременном сохранении ее само-
стоятельности — следует ввести в более широкую и всеохваты-
вающую динамику жизни, а именно в систему тех потоков
жизни, о которых мы уже неоднократно говорили ранее в дру-
гой связи, — потоков, один из которых, выделяясь внутри самой
жизни из ее общего течения и питаясь им, способствует разви-
тию потребностей, концентрирующихся, с конечным прицелом
на выполнение социальных заданий, вокруг различных
искусств, другой же, опосредованный художественным после-
действием, вновь вливается в общее течение жизни, обогащая,
углубляя, совершенствуя и т. д. ее содержание и формы.
И очень важно установить, что речь идет не об отдельных ак-
тах и тенденциях, но и о непрерывном движении: слияние и
выделение происходит, если взглянуть на дело с точки зрения
общества, безостановочно, хотя оба они и образуют в индиви-
дуальном сознании отделенные друг от друга акты. Из этого
также следует, что описываемое движение носит широчайший
характер, сколь бы ни была важна для его конкретных осо-
бенностей динамика в более узком смысле слова, возникающая
при восприятии произведений искусства.
Естественно, однако, что и это силовое поле жизни состав-
ляет лишь один из ее моментов. Сама жизнь, повседневная
жизнь людей есть нечто несравненно более широкое, чем только
что намеченная область. Таким образом, философски исчерпы-
вающая картина получилась бы лишь в том случае, если бы
исследование решительно сосредоточилось на этом общем ком-
плексе жизни, повседневности в ее бытии-в-себе и столь же
решительно постигало бы все более высокие формы объектива-
ции (искусство, науку, но также и мораль, право и т. д.)
исключительно с точки зрения их функций на службе у жизни.
При этом оба описанных нами полюса, с одной стороны, с точ-
ки зрения искусства, с другой, —с точки зрения жизни, в их
единстве и различии, играли бы, разумеется, весьма значитель-
ную роль. И намеченная нами структура, то есть внедрение
опыта, потребностей, запросов, проблем я т. д. обыденной
жизни в сферы более высоких объективации и одновременное
растворение их результатов снова -в обыденной жизни, сдела-
лась бы основанием исследования, конечно с учетом всех весь-
ма сложных взаимодействий, характеризующих эти тенденции
в их .взаимовлиянии. Само собой понятно, что такой способ
исследования взорвал бы рамки этой работы. И хотя мы, есте-
ственно,— сейчас, как и прежде, — стремимся постоянно учи-
тывать воздействие, которому подвергается искусство со сторо-
ны других жизненных областей (науки, религии, этики и т. д.),
хотя мы вынуждены постоянно рассматривать их сходства и
отличия от искусства, хотя мы, наконец, пусть лишь вскользь,
пытаемся очертить весь круг повседневной жизни, — тем не
менее наши рассуждения по-прежнему направлены в первую
13-805
193
очередь на отношение повседневности к искусству. Нас инте-
ресует, как эстетическое в качестве вершины — в качестве
единственно адекватной объективации возникающих в самой
жизни и выделяющихся из нее антропоморфических потреб-
ностей и устремлений —вырастает, разумеется скачкообразно,
из обобщающего эти потребности и устремления социального
задания. Если мы при этом — там, где это необходимо, — при-
влекаем и более отдаленные явления, то делается это всегда
с оглядкой на нашу основную цель.
Таким образом, естественное, в-себе-сущее окружение пред-
мета нашего исследования гораздо шире, чем он сам. Также и то,
что называют -приятным, образует, без сомнения, лишь часть,
лишь момент этого общего процесса. Уже сейчас можно ска-
зать, что человек в повседневной жизни с витальной принуди-
тельностью соотносит все, что он делает, все, что с ним слу-
чается, с чем он сталкивается и т. д., также и%с самим собой,
и в подавляющем большинстве случаев это соотнесение не
ограничивается простой констатацией полученных результатов,
успеха или неудачи, выработкой новых задач и т. д., но сопро-
вождается эмоциями, которые вызывают в человеке сами собы-
тия, их следствия, оправданные или не оправданные ими благо-
приятные или, неблагоприятные ожидания и т. д. Поскольку
эти.эмоции носят положительный характер, точнее, поскольку
человек в этом соотнесении объектов или групп объектов со
своей собственной личностью способен — прямо или косвен-
но— утвердить самого себя, свое данное состояние, постольку
мы говорим о чувстве приятного. Уже при таком весьма аб-
страктном описании видна тесная связь приятного с полезным,
а также, разумеется, и те важнейшие определения, которые
отличают их друг от друга. И это различие часто понималось
с метафизической жесткостью, однако, даже когда мы стремим-
ся к разработке диалектических переходов и превращении,
остается в качестве относительно оправданного основания этого
различия тот факт, что полезное есть существенно объективная,
приятное же — субъективная категория.
Это противопоставление углубляется еще и тем, что объ-
ективность полезного должна носить преимущественно дезан-
тропом'орфированный характер. Полезно что-либо или вредно,
этот вопрос решается лишь на путях чисто объективного отра-
жения обстоятельств человеческой деятельности, причем сами
осуществляющие эту деятельность люди должны рассматри-
ваться столь же объективно, как и подлежащие анализу внеш-
ние ситуации, объекты или инструменты. Приятное, напротив,
есть субъективный рефлекс какого-либо момента внешнего ми-
ра в сознании определенного и партикулярного человека.
И если, таким образом, вопрос о том, является ли что-либо
(определенный тип поведения при определенных обстоятель-
ствах) полезным или не является, всегда может стать предме-
194
том плодотворной дискуссии, и если при этом вполне возмож-
но переубеждение (поднимающееся при случае до уровня науч-
ного анализа) одной из сторон, то переживание приятного в
своей несомненной субъективности, в своей непреодолимой
связанности с hic et nunc, с сиюминутностью данных и непо-
вторимых обстоятельств, в которых оказывается данная от-
дельная личность, наоборот, есть нечто — как раз в своей един-
ственной и неповторимой партикулярности — последнее и окон-
чательное, по отношению к чему дискуссии и переубеждение
невозможны. Разумеется, всегда существуют коллизии между
полезным и приятным, но именно они с наибольшей вырази-
тельностью показывают эту их противоположность. Ведь даже
в тех случаях, когда то, что порождает приятные переживания,
оказывается вредным — возьмем наиболее тривиальный при-
мер: неумеренная еда и питье, — даже тогда убеждение может
быть направлено лишь на воздержание в будущем; и того, что
еда пришлась по вкусу, что алкоголь вызвал освобождение от
внутренней скованности, короче, что все это было приятно,—
этого размышления задним числом уже не могут изменить. Бо-
лее того, характерно, что воспоминания о приятных пережива-
ниях в прошлом, даже если данный человек осуждает свое тог-
дашнее поведение и теперь поступает совсем иначе, часто
остаются столь" же приятными, как и сами эти переживания.
Однако подобное точное, в известном смысле гносеологиче-
ское различение между приятным и полезным не снимает их
реальных взаимосвязей. Последние при этом отнюдь не
необратимы. Как правило, от приятного к полезному не суще-
ствует прямого перехода; напротив, в повседневности человек
лишь тогда способен реализовать полезное, когда он заранее,
уже при подготовке к его осуществлению, исключает из своих
планов все субъективные мотивы и возможности и направляет
внимание целиком на объективные обстоятельства, средства
и т. д.; стрехмление же сочетать приятное с полезным легко
приводит к неудаче. Тем более важны и плодотворны те взаи-
мосвязи, которые исходят из полезного и порождают пережи-
вания приятного. Так происходит при подавляющем большин-
стве— удавшихся — действий в обыденной жизни. Типическим
является случай, когда действия, по существу своему направ-
ленные на полезное, сопровождаются чувством приятного или
по завершении практических поступков переходят в подобные
переживания. Шкала таких эмоций исключительно широка.
Она простирается от непосредственной радости, даруемой тру-
дом, от тесно с ней связанной привязанности к инструментам,
к помощникам в работе (таково, например, отношение охот-
ника или пастуха к своей собаке) вплоть до приятного чувства
вообще, вызываемого сознанием собственной — и часто вполне
рутинной — умелости при решении повседневных задач. Содер-
жание и формы этих явлений крайне разнообразны. Они спо-
13*
195
собны привести к определенным, иногда очень ценным объек-
тивациям, как это было некогда в случае декорирования
орудий труда, но могут в качестве переживаний, сопровож-
дающих практическую деятельность или вызванных ее осуще-
ствлением, оставаться целиком и полностью личным делом
субъекта. Всем этим, разумеется, отнюдь не исчерпывается
возникающее здесь многообразие. Обратимся хотя бы к воз-
можным направлениям дальнейшего развития. В случае таких
тенденций, как декорирование орудий труда, или иных связан-
ных с ним, возникает вполне отчетливое стремление к воздей-
ствию на само искусство или по крайней мере на то социаль-
ное задание, которым определяется его возникновение и много-
образие форм; достаточно вспомнить наше изложение генезиса
архитектуры. При высоком уровне развития производительных
сил и соответственно в высоко социально-экономически органи-
зованных обществах эти тенденции действуют по большей части
в противоположном направлении: они исходят из данного на-
учно-технического оптимума, и формы аппаратов определяются
в таких случаях анонимно проявляющимися социальными си-
лами, такими, как, например, мода. ,
Уже эти немногие разъяснения говорят о том, что хотя
сама по себе эмоциональная сфера приятного определяется
внутренними общественно-историческими силами данной сту-
пени развития (пусть в силу этого в переживании приятного
как такового не содержится никаких указаний на эстетическое),
тем не менее возникающие здесь тенденции оказывают очень
большое — благоприятное или неблагоприятное — воздействие
на генезис и дальнейшее развитие различных искусств. Осве-
щение этих связей, их общественно-исторических конвергенции,
их — носящих классовый характер — различий и т. д. является
опять-таки задачей историко-материалистической части эсте-
тики. И все-таки, как это уже и раньше случалось в ходе на-
ших размышлений, необходимо несколько подробнее рассмот-
реть взаимосвязи, которые объединяют и разделяют приятное
и эстетическое вообще, в их качестве продуктов отражения
действительности, форм реакции на нее. Если мы говорим здесь
об объединении, то, понятно, вовсе не имеем в виду пережива-
ние приятного и его объекты в качестве предметов искусства;
в этом отношении приятное стоит в одном ряду со всеми дру-
гими феноменами жизни, которые — в зависимости от различ-
ных возможностей различных искусств — могут стать предме-
тами художественного изображения. Те точки соприкосновения
между обеими эмоциональными сферами, которые нас инте-
ресуют, создаются прежде всего и непосредственно их общим
антропоцентрическим характером: обе они суть комплексы
эмоций, возникающие благодаря тому, что объекты, события
жизни, их комбинации или последовательность спонтанно со-
относятся переживающим их человеком с самим собой. Это
196
значит, что решающим фактором являются не их в-себе-сущие
свойства, хотя они не могут быть полностью исключены из со-
держания и форм переживания и даже в экстремальных слу-
чаях выступают как повод к переживанию, но то, что возни-
кает в самом субъекте как его — поднятая до уровня специфи-
ческого объекта — реакция на данный момент внешнего мира«.
Лишь столь широкий, часто глубоко проникающий внутрь
субъективности фонд переживания делает возможным тот
факт, что, с одной стороны, приятное — воздействуя на эстети-
ческое преддеиствие — изначально и постоянно^ оказывает
влияние на генезис и развитие искусства и что, с другой сторо-
ны, в обыденной жизни приятное, как с содержательной, так
и с формальной точки зрения, пронизано излучениями, исходя-
щими от художественной рецептивности: последействие эстети-
ческого восприятия—по большей части бессознательно, но не-
редко и с той или иной степенью осознанности — играет значи-
тельную роль в решении вопроса о том, что люди восприни-
мают как приятное и как они это делают.
Итак, граница между приятным и эстетическим кажется
совершенно расплывчатой. С точки зрения самой жизни это-то
и необходимо. Если бы произведения искусства не были спо-
собны стать желанными объектами повседневной жизни, уко-
рененными в ней самой, если бы их действие не было для вос-
принимающего непосредственной радостью, не было для него
поводом к спонтанно-эмоциональному утверждению своего
субъективного бытия, то искусство никогда не получило бы
того общественного значения, никогда не стало бы той силой
внутреннего развития человечества, какой оно действительно
сформировалось в ходе истории. Однако подобная истина, вы-
сказанная прямо и безоговорочно, немедленно превращается в
свою противоположность. Субъективно столь частое, и нередко
неизбежное, размывание границ между приятным и эстетиче-
ским в себе самом заключает свою оборотную сторону, свой
противоположный полюс. И лишь знание того, что есть прият-
ное в его чистой форме, в его изначальном в-себе-бытии, может
указать на 'путь, ведущий к отчетливому, не насилующему
диалектические промежуточные определения, не превращающе-
му приятное в нечто, заслуживающее трансцендентно-аскетиче-
ского презрения, и вместе с тем однозначному определению
границ между ним и эстетическим.
Чтобы понять эту имманентную определенность приятного,
следует, полагаем мы, исходить из двух его существенных осо-
бенностей. С одной стороны, приятное имеет универсальный
характер, кажущийся почти безграничным; число внешних и
внутренних возбудителей, способных вызвать переживание
приятного, невероятно велико, причем, хотя можно и выделить
здесь некоторые типичные субъектно-объектные взаимосвязи,
они тем не менее не являются для индивида принудительными;
197
с некоторым преувеличением можно утверждать: все, что угод-
но, может быть приятным, однако то, что приятно для одного
человека, для другого может оказаться неприятным и даже
отвратительным. Выражение «о вкусах не спорят» не поддает-
ся здесь никаким ограничениям. И потому ни в какой другой
юбласти человеческой жизни »не господствует до такой степени
случай. Однако и это утверждение необходимо во избежание
механистического преувеличения и, следовательно, неистин-
ности несколько конкретизировать. Подобная случайность, как
и всякая другая, не избавлена от причинной обусловленности.
Наоборот, как раз здесь физиологическая предрасположен-
ность каждого отдельного человека проявляется гораздо силь-
нее и непосредственней, чем где бы то ни было; достаточно
вспомнить о той пользе, которую во многих случаях может
принести лишь преодоление подобных задатков и приспособ-
ление к объективным условиям практической жизни. Точно так
же присутствуют здесь бесчисленные и чрезвычайно действен-
ные социальные причинные связи; вспомним хотя бы моду.
И все-таки, даже если мы учтем все это, преобладание случай-
ного остается в силе. Ведь соотнесение какого-либо жизнен-
ного обстоятельства с каким-либо конкретно-определенным
человеком в какой-либо конкретно-определенной ситуации всег-
да должно заключать в себе с точки зрения объективных фак-
тических связей весьма сильный момент случайности, тем более
что как раз здесь контакт между субъектом и объектом в
высшей степени зависим от особенностей субъекта в данный
момент времени. Естественно, то, что каждый отдельный чело-
век воспринимает как приятное, чрезвычайно характерно для
этого человека, и все же именно здесь жизнь, как внутренняя,
так и внешняя, менее всего принуждает его к последователь-
ности, и он волен, не впадая в конфликт с самим собой, отвер-
гать сегодня то, что вчера воспринимал как нечто весьма прият-
ное. Не нуждается он в этом отношении и ни в каких дискус-
сиях с самим собою по поводу своего вкуса.
Подобная широта сферы приятного позволяет выделить
другие его отличительные черты. Мы уже указывали на то,
что всякое переживание приятного носит окончательный харак-
тер [с. 195]. Именно зависимость от данного мгновения, отсут-
ствие какого-либо лежащего в самой природе вещей требова-
ния последовательности делает всякое переживание приятного
неснимаемым в его сиюминутности. И тот факт, что типы ду-
шевных реакций, с помощью которых человек добывает себе
приятные переживания из объективного мира, могут — в форме
привычек, зависимости от традиций, обычаев или моды —
свестись к некоторому единообразию, не противоречит этой
структуре. Ибо также и здесь непосредственнейшие проявления,
hic et nunc каждого человека остаются последней и для данно-
го момента окончательной инстанцией в вопросе о том, будет
198
ли что-либо воспринято как приятное. И тот факт, что человек
подвергается влиянию социальных сил, в данном случае ничего
не меняет в тех непосредственных реакциях, которые делают
приятное приятным. Весьма часто, разумеется, происходит и
так, что мода или условность принуждают человека к реше-
ниям, противным его собственной склонности, однако при этом
человек просто подчиняется моде, и тогда, скажем, одежда,
интерьер и т. д., которыми он обзавелся, не будут ему приятны.
Лишь когда требования моды согласуются с его непосред-
ственными реакциями, ее предписания будут приятными чело-
веку; однако подобный акт ничем существенно не отличается —
с точки зрения предметности приятного — от того, в котором
эта непосредственность кажется определяемой «чисто» изнутри.
Запутанный вопрос о том, до какой степени переживания по-
следнего типа обусловлены более или менее опосредованными:
общественными связями, относится по своему конкретному со-
держанию не к настоящим нашим рассуждениям, а —поскольку
конкретные формы проявления этих связей подвержены в об-,
щественно-историческом аспекте непрерывным изменениям —•
к историко-материалистической части рассмотрения этих во-
просов; для нас же теперь вполне достаточно уже достигнутого*
понимания намеченной нами общей структуры общественной
детерминированности приятного.
Однако подобные непосредственные или опосредованные
общественные возбудители чувства приятного дополняют его-
характеристику новыми существенными чертами. До сих пор
мы делали основной акцент на его субъективной имманент-
ности, на его окончательности в рамках последней. Хотя мы и:
не стремимся выйти за пределы этой структуры приятного,,
следует, однако, обратить внимание и на тот факт, что каж-
дый человек также и в субъективной непосредственности свое-
го чисто партикулярного бытия всегда является представите-
лем определенного класса, определенной нации на определен-
ной конкретной ступени развития, и потому даже его наиболее
спонтанные жизненные проявления — то есть в первую очередь
что именно действует на него как приятное — носят конкретный
общественно-исторический характер. Таким образом, те осо-
бенности приятного, которые можно наблюдать на примере
отдельно взятого индивида, ни в коем случае не снимаются тем
фактом, что одновременно они во многих случаях оказываются
массовым явлением. Более того, именно здесь с наибольшей
пластичностью проявляется изначально и элементарно обще-
ственная природа человека и становится ясно видно, сколь
глубоко наиболее спонтанные, наименее контролируемые и
упорядоченные феномены в повседневной жизни частных лиц
определяются общественно-исторически, как с содержательной»
так и с формальной стороны. И если то, что мы раньше рас-
сматривали преимущественно «изнутри», теперь рассматри-
199
вается почти исключительно «извне», то как раз внутреннее
единство обеих этих но видимости противоположных точек
зрения впервые позволяет нам правильно понять существенные
черты приятного.
Можно, полагаем мы, дать следующее предварительно обоб-
щающее определение: для культуры данного периода, класса,
нации и т. д. в высшей степени показательно, что именно пере-
живается в ней как приятное. Именно здесь чрезвычайно важ-
но тщательно отделять приятное от эстетического, поскольку
лодлинно историческую картину мы получим лишь в том случае,
если сможем охватить сразу, в одном пространственно-времен-
ном пункте как связь, так и противоположность между создан-
ными данной культурой значительными произведениями искус-
ства, с одной стороны, и наиболее распространенными и типи-
ческими переживаниями приятного, с друЬэй. Разумеется,
с точки зрения общей культуры это также является частным
аспектом, который может подняться до целокупности, лишь
если дополнить его сходными диалектическими синтезами, на-
пример синтезом значимых этических норм и укорененного в их
сфере приятного и т. д. Любой социальный компонент в его
изолированности может привести к односторонней недооцен-
ке или переоценке данной конкретной культурной ситуации.
Как уже указывалось, разбор всего этого комплекса вопро-
сов является в соответствии с его внутренней сущностью зада-
чей исторического материализма. Лишь исходя из данного уров-
ня развития производительных сил, из порождаемых ими про-
изводственных отнощений, классовых структур и т. д., можно
свести те обстоятельства, которые отчетливо выступают при
точном описании — каковых сделано пока что крайне мало,—
к их действительным общественно-историческим причинам, толь-
ко так можно ясно показать их взаимосвязи и противоречия.
С общетеоретической точки зрения, то есть с точки зрения
диалектического материализма, мы видим лишь общую струк-
туру, которая уже ранее возникала в наших рассуждениях;
теперь же в центр наших интересов становится именно тот
факт, что субъектом, в чьем переживании приятное высту-
пает частью повседневной жизни, необходимым образом яв-
ляется конкретный человек в его партикулярное™ и что обще-
ственно-историческая детерминированность не снимает этого
партикулярного характера его личности, даже ни в чем суще-
ственном не модифицирует его, а разве что показывает в не-
сколько ином свете. Напротив, существенной чертой всех тех
сфер, которые мы обозначили как высшие объективации, яв-
ляется, с той же самой точки зрения, то, что они вынуждают
выйти за пределы его врожденной и приобретенной затем в
процессе жизни партикулярности. В различных областях со-
держание, форма, направление этого выхода качественно раз-
личны; укажем лишь на уже неоднократно разбиравшуюся про-
200
тивоположность между научным дезантропоморфированием и
эстетическим антропоморфированием. До сих пор мы рассмат-
ривали все это как простой факт и просто анализировали его —
в первую очередь эстетические — следствия. Теперь же диалек-
тико-материалистическая проблема, встающая перед нами при
попытке постичь приятное, заключается в том, чтобы понять
общую суть отношений партикулярного в человеке и — челове-
ческого по своему характеру — выхода за пределы этого уровня
его существования в качестве человека.
Связь и противоположность между партикулярностью чело-
века и его неизбежным выходом за рамки последней есть эле-
ментарный факт жизни, без учета которого невозможно какое
бы то ни было решение возникающих здесь проблем. В рамках
этого комплекса проблем тут же встает .вопрос, следует ли по-
нимать под партикулярностью врожденную сущность каждого
человека, те психофизиологические свойства, которые даны ему
от рождения, или же необходимо учитывать также и те моди-
фикации, которые производит в нем сначала воспитание, а за-
тем всевозможные жизненные коллизии. Исходить следует, без
сомнения, из первого момента, поскольку врожденные задатки
каждого человека образуют качественно-определенное основа-
ние всех его позднейших отношений к окружающему миру,
к другим людям, к себе самому, и существенные элементы этих
отношений остаются неизменными в течение всей его жизни.
Гёте в своем чрезвычайно глубоком стихотворном цикле, по-
священном внутренней структуре человеческой жизни («Перво-
глаголы. Учение орфиков»), обозначает это изначальное каче-
ство человеческой индивидуальности словом «демон»: «Демон
означает здесь необходимую, непосредственно при рождении
выраженную, ограниченную индивидуальность лица, то харак-
терное, чем единичный отличается от всякого другого, как бы
велико ни было их сходство... Отсюда же якобы зачиналась и
будущая судьба человека; и исходя из таких предпосылок, уже,
естественно, хочется признать, что прирожденные силы и
свойства более всего остального определяют человеческую
судьбу»109. С этим связана у Гёте весьма сложная диалектика,
выявляющая, как внешние обстоятельства и события жизни,
«случайное», пробуждающиеся страсти (эрос) порождают те
динамически-диалектические сложности и сплетения, которые
и формируют окончательно характер и судьбу человека. И са-
мое универсальное развитие всех этих жизненных сил, с поэти-
ческой всеобщностью показанное Гёте, лишь подтверждает,
с его точки зрения, неколебимую данность изначально-врож-
денного как основы человеческой личности.
Всему наперекор вовек сохранен
Живой чекан, природой отчеканен.
(Перев. С. Аверинцева)
201
В данном случае Гёте исходит из широкой перспективы на-
турфилософского, можно сказать, видения человеческой лич-
ности и судьбы. Там же, где он исследует эти феномены вбли-
зи, то есть учитывая и общественный момент, отношение людей
друг к другу в социальной жизни, его отношение к рассматри-
ваемой проблеме проявляется еще конкретнее. В «Наставле-
нии» Вильгельму Мейстеру говорится: «Только вся совокуп-
ность людей составляет человечество, только все силы, взятые
вместе, составляют мир. Между собой они часто приходят в
столкновение и стремятся уничтожить друг друга, но природа
связует их и воссоздает снова». При этом для общей концепции
Гёте в высшей степени характерно, что при достижении вос-
питательной цели иерархический порядок определяется как раз
сознательным содействием утверждаемому здесь соответствию
человека человечеству в целом. Не только внешний успех в
жизни, овладение своим ремеслом — будь то в случае купца
Вернера или актера Зерло — занимают низшую ступень срав-
нительно с духовным богатством Лотарио, Наталии или абба-
та, но также и имманентное совершенство чисто внутренней
жизни, достигаемое в романе Гёте «прекрасной душой», не го-
воря уже о таких персонажах, как Миньона и арфист, у кото-
рых замкнутость на чисто-личностной партикулярности перехо-
дит в патологию. Все это уже несколько яснее определяет нашу
проблему. Решение вопроса о месте того или иного человека
в этой иерархии — цель «воспитания» состоит здесь именно в
том, чтобы он поднимался каждый раз на более высокую сту-
пень,— зависит от того, ограничивается ли человек простым
развитием своих врожденных задатков в направлении их мак-
симальной полезности, после чего, удовлетворенный результа-
тами проделанной работы, наслаждается самим собою, или же
оказывается в состоянии сознательно участвовать в общечело-
веческой жизни. В последнем случае, естественно, многие
«врожденные» ложные тенденции должны быть отброшены,
должны уступить место тому, что человек сам сформировал в
себе. Отношение Лотарио к мирной ликвидации остатков фео-
дализма ясно показывает, сколь многое должно сойтись и со-
впасть, чтобы человек сумел до конца пройти свой, действитель-
но собственный путь с диалектической последовательностью,
чтобы он сумел реализовать свою личность не только на уров-
не чистой партикулярности. Заключающие роман слова о Сау-
ле, искавшем ослицу отца своего и нашедшем царство, с не-
обыкновенной ясностью иллюстрируют эту концепцию Гёте.
При этом он, разумеется, склойен рассматривать правильное
развитие человека как развитие, исходящее из чисто внутрен-
них человеческих сил; даже там, где в дело вступают внешние
влияния, они играют лишь роль простого повода, освобождаю-
щего внутренние, уже латентно наличествующие силы. И по-
длинным воспитателем является тот, кто способен осуществить
202
это сознательно. Гёте оригинально развивает здесь уже изве-
стное нам учение Спинозы о том, что человеческий аффект
может быть преодолен или изменен лишь другим, более силь-
ным аффектом; в «Наставлении» сказано: «Одна сила господ-
ствует над другой, но ни одна из -них не может создать другую;
в каждом задатке заложена только своя сила совершенствова-
ния...» Если при этом проявляется порою также и склонность
Гёте излишне сближать такие диалектические отношения с от-
ношениями в органическом мире, то это -не »вносит существен-
ных изменений в его основополагающую тенденцию — выводить
партикулярную личность человека из материальных условий
его бытия, а выход за пределы этой партикулярности — из чи-
сто человеческих сил в самом человеке.
Гёте дает здесь мыслительное и поэтическое выражение
фундаментальному соотношению всей человеческой жизни,
а именно тому обстоятельству, что, с одной стороны, человек
в силу природных и общественных условий своего существова-
ния является партикулярной личностью, каковою и должен
оставаться, с другой же, его общественная жизнь непрерывно-
побуждает его к выходу за пределы партикулярности. Наибо-
лее элементарные факты общественной жизни свидетельствуют
о полном противоречий единстве этих в равной степени необ-
ходимых для человеческой жизни определений. Также и здесь
нам крайне важно с должной конкретностью понять конкрет-
ное диалектическое единство партикулярности и ее преодоле-
ния: соответствующим образом осветить все имеющие здесь
место различия, переходы и скачки и вместе с тем не допустить
метафизического окостенения противоречий, то есть фетишизи-
рующего расщепления индивидуальности как органически-ди-
намического единства на два самостоятельных, противостоя-
щих друг другу — временами даже враждебно — субъекта (до-
статочно вспомнить хотя бы кантовскую противоположность
между «homo phaenomenon» и «homo noumenon»). Разумеет-
ся, действительные переходы бывают подчас крайне резкими,,
как в случае, например, моральных решений или эстетического»
катарсиса; они способны даже поставить всю жизнь данного
человека на качественно иную основу; но и в этих случаях
также вовсе не снимается своеобразно противоречивая взаимо-
связь между партикулярностью и ее преодолением. Слож-
ности, с которыми мы сталкиваемся при попытке понять
подлинные особенности этой взаимосвязи, лежат прежде всего
в наших мыслительных привычках, которые, как в этике, так
ив психологии, постоянно отвлекаются от рассмотрения крнтит
нуальности душевной жизни, целостности жизненного процес-
са. В нашем случае, однако, речь идет как раз о подобной
проблеме непрерывности в границах целостности. При ее об^
суждении сравнительна легко отбросить идеалистические и тео-
логические категории, в духе вышеуказанной позиции Канта!
Ш
Но следует отдавать себе отчет также и в том, что ни психоло-
гическое разделение на сознательное и бессознательное, ни эти-
ческий анализ принимаемых человеком решений не в состоянии
действительно приблизить нас к пониманию самого феномена.
Гегель, наметивший абстрактным образом реальные границы
возникающих здесь движений, не дошел, однако, до подлинной
динамики индивидуальности, да и не стремился к этому. Одна
лишь греческая этика сосредоточила свои интересы на целост-
ности жизненного пути человека, на той роли, которую играют
в последнем этические категории. Аристотель, поставив в средо-
точие своей этики основную нравственную установку человека,
показал путь, следуя которому можно приблизиться к понима-
нию интересующего нас феномена.
Само собой разумеется, что в нашу задачу не входит здесь
даже самое беглое обсуждение его этического учения; речь
может идти лишь об использовании исходящих от его метода
импульсов в применении к нашему вопросу. А именно: основ-
ная установка каждого человека выражает ту динамику про-
порций, в которой раскрывается характер и степень его выхода
за пределы собственной партикулярное™, непрерывное чере-
дование восходящих и нисходящих тенденций и общая направ-
ленность этого чередования. С этой точки зрения самые ради-
кальные кризисы и коллизии человеческой жизни, решения и
повороты, определяющие всю его судьбу, выступают как про-
стые моменты этого подвижного целого, как внешние и внутрен-
ние силы, укрепляющие, колеблющие или, наконец, уничтожаю-
щие эту основную установку, эту линию жизненного пути че-
ловека. Таким образом, общий процесс, формируемый этой
основной установкой человека, должен исходить из партику-
лярное™ как из своего постоянного и неснимаемого в его
целостности базиса и вместе с тем вынужден не только в слу-
чаях конкретных конфликтов стремиться к выходу за ее пре-
делы, но также — причем до некоторой степени и в рамках
повседневной жизни — быть постоянно готовым к этому выходу
и в тех случаях, когда сам выход не актуализирован, а лишь
подготавливается. При этом следует в качестве определения
через отрицание подчеркнуть, что эта готовность не имеет ни-
чего общего с обсуждавшимися в другой связи преобразова-
ниями сознательной установки субъекта в четко фиксирован-
ные условные рефлексы. Хотя в аскетической практике (йога,
духовные упражнения иезуитов и т. д.) возникает множество
сходных феноменов, при этом, однако, вырабатывается строго
специфицированный тип реакций субъекта, фиксирующий его
внутреннее состояние в возможно большей независимости от
происходящих во внешнем мире перемен; в нашем же случае
речь идет о чем-то прямо противоположном: о способности це-
лостного субъекта — по возможности во всей его глубине и
широте — реагировать на взывающую к нему целокупность
204
объективной Действительности, то есть о взаимодействии меж-
ду целостностью партикулярной личности человека и целост-
ностью ее в высшей степени многообразных и разносторонних
внутренних тенденций к преодолению последней. Понятно
само собой, что Ари этом результаты подобных устремлений
могут вновь переходить в партикулярные свойства личности,
однако возможно и обратное: потенции партикулярное™ могут
оказаться на службе у ее самопреодоления. Тем существенным,
что сохраняется неизменным во всем этом беспрерывном коле-
бании внутренних превращений, является упомянутое нами
живое взаимодействие между партикулярностью и ее преодоле-
нием в границах личности целостного человека, тот комплекс
внутренних движений, в котором оба компонента постоянно
снимаются и постоянно сохраняются в неприкосновенности.
Подробное рассмотрение этой проблемы относится к области
этики. Здесь мы могли лишь вкратце наметить наиболее общие
принципы, стремясь избежать в нашем последующем анализе
повседневной жизни — который тоже, разумеется, не претен-
дует на исчерпывающую -полноту, а призван лишь пролить свет
на проблему приятного — каких бы то ни было фетишистских
недоразумений. Для начала будем исходить из наиболее фун-
даментальных обстоятельств повседневности. Обратимся хотя
бы к проблемам труда и языка. Любая работа, даже самая
примитивная, заключает в себе целый ряд обобщений, выводя-
щих человека за пределы его партикулярное™, причем тем ре-
шительнее, чем более развитым является сам труд. Эта мысль
фактически присутствует уже в классической английской поли-
тической экономии; молодой Гегель дает ей ясную философ-
скую формулировку, говоря, к примеру, о роли орудий труда в
человеческой жизни, об их преобразующей сам субъект труда
функции: «В то же время его труд перестает быть чем-то еди-
ничным; субъективность труда возвышается в орудии до все-
общего; каждый может делать его подобие и также трудиться;
в этом отношении оно является неизменной принадлежностью
труда»110. Это определение, из которого Гегель выведет в даль-
нейшем многообразнейшие следствия, впервые займет свое
истинное место в системе человеческой деятельности лишь у
Маркса и Энгельса. Для нас здесь существенно то, что такая
элементарная, принадлежащая к самому существу человека
активность, как труд, в силу имманентной диалектики, уста-
навливаемой ею между субъектом и объектом, вынуждает
человека к выходу в определенных направлениях из его врож-
денной партикулярное™ и приводит его — поначалу, конечно,
бессознательно, но и впоследствии по большей части лишь
с совершенно ложным осознанием этого процесса-—к само-
обобщению, то есть к активному участию в тех видах челове-
ческой деятельности, в которых объективно и практически кон-
ституируются общества, нации,. человечество в целом, причем
205
конституируются независимо от сознания людей /й тем не ме-
нее— по крайней мере принципиально — в качестве подлежа-
щих переживанию и познаваемых этими же людьми.
Труд, таким образом, с самого начала ^ажется двуликим
Янусом: он выступает само собой разумеющейся составной
частью человеческой жизни и сопровождается разнообразней-
шими элементарными эмоциями, вызываемыми как им самим,
так и его следствиями; и он же оказывается чем-то неправдо-
подобным, «чудом», врывающимся в привычную жизнь откуда-
то «извне» и преображающим ее самым решительным и самым
невероятным образом. Первый полюс этого напряженного про-
тиворечия засвидетельствован миллионами примеров из повсе-
дневной жизни; другой не только образует одно из существен-
нейших оснований магической картины мира, не только ожи-
вает в легендах о Прометее, о демиурге и бесчисленных других
мифах, но всплывает также —разумеется, в радикально изме-
ненной форме — из недр самой современной цивилизации. На-
чиная с «разрушителей машин» и вплоть до некоторых «фило-
софов» новейшего времени, усматривающих в развитии науки
и техники бунт против культуры и гуманности, — во всем этом
живет старое мифологизирование отношений человека к его
собственному труду. (Обсуждение действительных причин всего
этого, которые в ходе истории претерпевали многочисленные
модификации и которые в конечном счете могут быть сведены
к противоречию между производительными силами и производ-
ственными отношениями, не входит в нашу задачу; достаточна
простого указания на это противоречие.)
Если мы обратимся к другому, столь же элементарному
явлению обыденной жизни — к языку, картина будет сходной.
Язык также выступает необходимой, спонтанно действенной
составной частью человеческой жизни, неотъемлемым момен-
том человеческого бытия и точно так же предстает в неразрыв-
ной связи с этой своей функцией, потусторонней, трансцендент-
ной человеку силой. Здесь также первый момент этой противо-
речивой формы, в которой язык дан человеку, не нуждается в
доказательствах. Что касается второго, то он проявляется с
полнейшей отчетливостью уже в магический период истории
как вера в волшебное действие называния и т. д.; отзвуки его»
различимы, однако, и на гораздо более поздних ступенях раз-
вития. Еще в XVIII столетии большинство мыслителей придер-
живалось того мнения, что своим происхождением язык обязан
божественному откровению. То обстоятельство, что с развитием
цивилизации эти мыслительные тенденции все более и более
тускнеют, сохраняясь по большей части лишь в виде массовых
предрассудков, и даже эти пережитки не принимают столь
выраженных форм, какие мы видели на примере труда, осно-
вывается на том, что изменения в сфере языка не врываются
с такой силой и не проникают столь глубоко в области экзи-
206
стенциальных\вопросов повседневной жизни, как это происхо-
дит в случае соответствующих изменений в сфере труда. Одна-
ко ослабление подобного всеохватывающего воздействия ни в
коем случае не означает здесь полного исчезновения самого
этого полюса. Неожиданное освещение какого-либо феномена
верно выбранным словом, удачной формулировкой может еще
и сегодня произвести* близкое к шоку впечатление; язык же
поэзии мы намеренно оставили вне рассмотрения.
Мы, разумеется, не Сможем проследить здесь эту диалекти-
ческую противоречивость повседневной жизни на примере наи-
более важных областей человеческой -практики. Укажем лишь
на определенные особенности приятного, в которых хорошо
видна эта структура. На первый взгляд кажется, будто прият-
ное и то, что ему противоположно, резко отделены друг от
друга. Каждый человек, если взглянуть на дело с субъективно-
психологической стороны, с неограниченной суверенностью ре-
шает, признать ли ему что-либо приятным или же, наоборот,
изгнать из своей жизни в качестве неприятного. (Мы уже ви-
дели: это субъективное отношение сохраняется в неприкосно-
венности даже в тех случаях, когда объективно легко доказать,
что такой «суверенный» акт детерминирован социально.)
При ближайшем рассмотрении, однако, это оказывается лишь
обманчивой видимостью. Повседневная жизнь человека никог-
да не обходится без таких явлений, которые невозможно на-
звать иначе, как негативными, сомнительными, противоречи-
выми, более того, трагическими, и которые не только объек-
тивно неотделимы от развития данного человека, но также и
для него самого образуют такие составные части его существо-
вания, которые он ни в коем случае не захотел бы, будь это
даже возможным, вычеркнуть из своей жизни. Без дальнейших
разъяснений понятно, что субъект способен, смотря по обстоя-
тельствам, разрешить, преодолеть, а часто даже просто вытер-
петь возникающие таким образом коллизии, кризисы и т. д.,
лишь поднявшись над своей непосредственной, узкой партику-
лярностью. При этом, с нашей точки зрения, совершенно без-
различно, лежала ли в основе включения в развитие индиви-
дуальности негативных жизненных явлений, причем в качестве
позитивных моментов, сознательная этическая позиция или же
просто спонтанная реакция на происходящее. Они становятся
собственностью партикулярной личности, и их дальнейшая
жизнь в ее рамках часто не выходит за пределы простого чув-
ства приятного. Анализ этих в высшей степени разветвленных
и сложных феноменов сейчас к делу не относится. Мы потому
лишь привлекли их к рассмотрению, что здесь также прояв-
ляется диалектика партикулярного и человечески-субъективного
выхода за ее пределы в качестве некоего основного феномена
обыденной жизни. Все это призвано показать, что поляр-
ность партикулярного и возвышающегося над ним есть элемен-
207
тарный, легко доказуемый факт повседневной ^кизни. Более
чем понятно, что на начальных стадиях развитии человечества
все то, что казалось возвышающимся над непосредственной
партикулярностью, тут же включалось в «систему» магических
связей. Переход же от магии к религии /вовсе не ослабил,
а, наоборот, экстенсивно и интенсивно укрепил и усилил ссылку
на трансцендентное при объяснении всех ^феноменов, не задер-
живающихся в пределах партикулярного. Исчезновение маги:
ческого нивелирования и гомогенизирования всех феноменов,
их разделение на посюсторонние, тваррые, с одной, и потусто-
ронние, с другой стороны, включает /противоречие обыденной
жизни — противоречие между партикулярностью и тенденцией
к соотносимым с человеческим родом обобщениям — в опреде-
ленную теологическую систему. Партикулярность оказывается
здесь принципом чисто земного, тварного, выход же за ее пре-
делы подводится под понятие религиозно-трансцендентного,
интерпретируется и оценивается как связь с божеством данной
религии, то есть в зависимости от того, поддается ли этот вы-
ход включению в данную систему или нет, он делается выраже-
нием доброго или злого начала (блистательные пороки языч-
ников у Августина). Конкретные проблемы, которые возникают
в этой связи применительно к эстетическому, будут подробно
обсуждаться в последней главе; теперь же достаточно простого
утверждения, что чистое явление партикулярного в повседнев-
ной жизни необходимо должно рассматриваться в противопо-
ложность единственно истинной божественной сущности в каче-
стве чего-то тварного. Это не обязательно приводит к отожде-
ствлению партикулярности и зла, хотя история религии знает
немало случаев, когда последовательная аскеза, рассматри-
ваемая как единственный путь к богу, приводит к такого рода
воззрениям. Во всяком случае, из истории религии видно, что
учения, приписывающие собственным силам человека позитив-
ную, самостоятельную роль в достижении спасения, опровер-
гаются как еретические (пелагианство). Но даже тогда, когда
вся эта сфера рассматривается с точки зрения спасения и веч-
ного блаженства как безразличная, нейтральная, как своего
рода неразличенность, — даже тогда неизбежно определенное.-
дифференцирование. И те формы, которые принимает самовоз-
вышение человека над партикулярностью (наука, искусство,,
мораль), могут быть признаны лишь в качестве путей к богу.
В противном случае они должны быть или отброшены как
гордыня твари, или же объединены со всем тем, что мы назы-
ваем обыденным, партикулярным, и отнесены к области чисто
тварного, воспринимаясь в лучшем случае с благожелательным
безразличием. Таким образом, в результате и в противополож-
ность соотнесенной с богом трансцендентности возникает цар-
ство тварного бытия, в котором занимающие нас проблемы,
оказываются по существу своему неважными, вторичными.
208
Если человек\ сотворен богом, если его высшие способности?
существуют лишь для того, чтобы проложить ему путь к богу,,
то физически-антаопологически-социальное бытие человека не
является больше хреальным основанием его высочайших свер-
шений; оно становится в крайнем случае полем битвы транс-
цендентных сил добЬ* и зла, а часто даже просто воплощением
последнего. \
Для всякого, кто не стоит на почве той или иной позитив-
ной религии, все то, о чем мы только что говорили, является,
лишь интерпретацией, а вовсе не самим феноменом, нуждаю-
щимся в исследовании. Интерпретация эта, впрочем, обладала,
и обладает столь широким и всеохватывающим историческим.
воздействием, что легко может затемнить суть самого феноме-
на. Обратимся, например, к различным формам регулирования
человеческой активности. Само собой разумеется, что в маги-
ческий период всякое повеление или запрет получили свое-
обоснование и санкцию из этой сферы, (табу). И когда с рас-
падом первобытного коммунизма появились такие формы регу-
лирования, как государство и право, как мораль и этика, то>
поначалу казалось чем-то само собой разумеющимся, что все-
эти формы могли возникнуть лишь в качестве составных частей
религиозно упорядоченной жизни и ее теологического система-
тизирования. То, что это «поначалу» длилось столетиями, ча-
сто даже тысячелетиями, не меняет существа того принци-
пиального обстоятельства, что системы и нормы регулирования,
человеческой деятельности должны были все более и более
секуляризироваться, что их теоретические и практические обос-
нования все решительнее искали и находили в человеке как в;
общественном существе. Эта тенденция начинает формировать-
ся уже в античной Греции; сколь различные формы ни пред-
писывало бы отдельным мыслителям и школам общественно-
историческое развитие, тем не менее от досократиков через
софистов и Сократа к Аристотелю проходит в этом смысле-
единая восходящая линия. В своей этической теории «середи-
ны», правильной пропорции аффектов как основания этики
Аристотель философски удовлетворяет требованию Протагора,,
утверждавшего, что человек должен быть мерой всех вещей
(всякой человеческой деятельности). В нашу задачу здесь,,
естественно, не входит даже самая общая характеристика это-
го развития — превращение этики в земную, посюстороннюю-
и чисто человеческую; мы вынуждены оставить без внимания,
достигнутое в этом плане Эпикуром и Спинозой, французскими
материалистами и Гёте (не говоря уже о Марксе, Энгельсе и.
Ленине).
Мы рассматриваем их духовные позиции исключительно с
точки зрения нашей проблемы, диалектики партикулярности ш
возвышения над нею в жизни человека. Диалектика эта при-
нимает у различных мыслителей подобных направлений крайне
14—805
20»
^различные формы. Повсеместно, однако, сказывается фунда-
ментальное для всякой морали и этики обстоятельство, а имен-
но тот факт, что подлинная этическая позищиг означает реши-
тельное возвышение над непосредственной/партикулярностью
обыденного человека. Принимает ли это наполовину мифологи-
ческие формы, как в случае сократовско/о «демона» (пред-
ставляющего собой переходное явление ^ежду обоими основ-
ным« направлениями этики); является/ ли в чисто человече-
ском, однако возвышающемся над спонтанностью повседнев-
ности образе (идеал мудреца у Эпикура); оказывается ли ре-
зультатом воспитательного процесса, как в «Годах учения Виль-
гельма Мейстера»,— во всех случаях в этой диалектике отра-
жается то фундаментальное противоречие обыденной жизни,
которое как раз и стоит сейчас в центре наших интересов. Тем
■ самым, однако, возникает непримиримое противоречие между
подобными концепциями жизни и душевными реакциями на
•нее, с одной стороны, и религиозным способом постижения
якобы господствующего в жизни непреодолимого дуализма,
-с другой. Это противоречие, естественно, не сводимо к простому
противоречию между философским и религиозным пониманием
этики. Трансцендентная структура постижения мира и челове-
ка пронизывает большую часть идеалистической этики; можно
«сказать, что в противоположность только что намеченной ли-
нии идеалистическая этика от Платона до Канта стоит в этом
отношении на почве религии. Это утверждение, естественно,
не следует понимать буквально: Кант стремится обосновать
этику в качестве совершенно автономной дисциплины; религия
:В форме «постулата практического разума» лишь открывает
у него последнюю перспективу реального осуществления.
Не входя сейчас в рассмотрение крайне запутанных методоло-
гических вопросов, которые к тому же в каждой системе фор-
мулируются по-разному, можно сказать, что Кант, резко про-
тивопоставляя субъект этики, «homo noumenon», «субъекту
обыденной жизни», «homo phaenomenon», априори исключая
.любые переходы и опосредования между ними, точно так же,
хотя и в другой форме, переводит религиозно-потустороннее на
;язык философии, как и Платон в учении о мире идей и об
эросе. Вновь и вновь возникающий в истории спор по поводу
того, может ли безбожник достичь человечески-этического со-
вершенства, может ли быть нравственным общество, состоящее
;из атеистов, — спор, принимающий со времен процесса об
оскорблении божества в Афинах и вплоть до наших дней все
новые формы, — сводится с философской точки зрения к вопро-
су о том, может ли человек во всех случаях подняться над соб-
ственной партикулярностью лишь своими собственными, им-
манентными, человеческими силами или же для этого требует-
оя по крайней мере помощь «свыше», трансцендентная человеку
.предрасположенность в нем самом и т. д.
:210
То, что этЬх противоречие обыденной жизни оказывает влия-
ние также и нах дезантропоморфирующее отношение к действи-
тельности, на Tj\ линию развития, которая ведет от труда
к науке, ясно самЪ собой, как и тот факт, что принимаемые им:
здесь формы качественно отличаются от разбиравшихся выше.
Мы, однако, не нуждаемся в более пристальном рассмотрении,
этих форм, поскольку из предыдущего анализа уже стало со-
вершенно ясным, что выявленное нами противоречие обыденной
жизни между партикулярностью человека и его возвышением!
над нею принимает в различных высших объективациях, по-
рождаемых общественным развитием, крайне различные — как:
объективно, так и субъективно — формы. Исследование научного*
отражения действительности не даст здесь ничего по-настоя-
щему нового, сколь бы интересны ни были сами по себе от-
дельные, порождаемые его особенностями нюансы. Объективно*
религия (не говоря уже о магии) отличается от всех других
объективации тем, что она всегда разрешает это противоречие-
путем привлечения некоей трансцендентной силы. Даже в тех:
случаях, когда к ее формам примешиваются имманентно-зем-
ные элементы, решающим в конечном счете остается трансцен-
дентное; достаточно вспомнить о пуританской «мирской аске-
зе», на которую так энергично указывал Макс Вебер и которая;
без совершенно потусторонней веры в крайне трансцендентную-
предопределенность была бы, причем именно с религиозной
точки зрения, просто бессмысленной. В этике и науке дела
обстоят совершенно иначе. Их внутренняя, содержательная и
структурная связь и согласованность носит — объективно в,
этом не может быть сомнений — имманентно-земной характер.
Однако в процессе общественно-исторического развития в них —
субъективно, хотя всегда как следствие актуальной социальной
необходимости, — вносятся трансцендентные мотивы, их — сами:
по себе объективные — имманентно-земные основоположения
интерпретируются в направлении трансцендентного. Возникаю-
щая таким образом борьба, искажение их органических осо-
бенностей и т. п. не могут, естественно, быть проанализированы
здесь даже вкратце.
Все наши предыдущие рассуждения ясно показывают, что>
искусство относится к этой группе явлений. Не раз указывали
мы и на то, что всегда существовали субъективные тенденции,,
стремившиеся придать его диалектике трансцендентный отте-
нок; принципиальная сторона этого вопроса будет подробно-
рассмотрена в последней главе. Теперь же достаточно вкратце
напомнить уже изложенное, взглянув на него с точки зрения
нашей нынешней проблемы. Усмотрев сущность искусства в том,,
что оно, эвоцируя переживания, противопоставляет человеку
некий «мир», мы показали, как в том или ином случае решает-
ся противоречие между партикулярностью и возвышением над:
нею, причем имелись в виду как раз исключительно такие
14*
211
-случаи и такие решения, в которых это последнее осуществ-
ляется имманентными силами самого содержачрельно-формаль-
ного комплекса, в которых не может и не должно быть речи
■ш о какой внешней (а тем более трансцендентной) силе, под
угрозой разрушения как раз того типа 1юлагания, который
только и делает возможным подобные произведения. Из этой
строжайшей имманентности вытекает «естественный», так ска-
зать, характер всякого подлинного произведения искусства:
оно предстает перед нами как таковое и его существование,
его конкретно-данное бытие доказывает себя самое, непосред-
ственно не свидетельствуя ни о каком генезисе. Однако подлин-
ное произведение в своем качестве эвоцирующего переживания
.включает в себя и рассматриваемое нами противоречие: ведь
как раз такая «естественность», такое «природное» бытие
имеет — причем в неразрывной связи с этой %«природностью»
;И «естественностью» — привкус чего-то неправдоподобного и
чудесного. Оно есть — одновременно и неразрывно — плоть от
от плоти обыденной жизни и вместе с тем нечто, отделенное от
этой последней непреодолимой пропастью. Замечание Ленина
о бетховенской «Аппассионате», о людях, «которые, живя в
грязном аду, могут создавать такую красоту»111, охватывает
оба полюса этой шкалы.
Однако чтобы понять действительное своеобразие в снятии
такого противоречия, не следует останавливаться на этом наи-
более общем моменте подлинного произведения искусства; бли-
жайший анализ категорий отражения неизбежно к нему вер-
нется. Достаточно, пожалуй, напомнить о типическом, о том,
что во всяком действительно типическом образе это противоре-
чие оживает, более того, без него невозможно было бы прийти
даже к конкретному представлению о типическом, не говоря
уже о его воплощении. Ибо все типическое, не укорененное
б партикулярном, не поднимающее определенные, существен-
ные его моменты до своего уровня, остается всего лишь аб-
стракцией человеческого, безостановочно раскачивающейся
между мыслью и переживанием, — слишком смутной для пер-
вой, слишком неопределенной для второго. В то же время то,
что задержка на уровне партикулярного, даже при величай-
дпем артистически-техническом совершенстве, ведет к голому
натурализму и не позволяет подняться до подлинного искус-
ства,— слишком известно ив разъяснениях не нуждается. Как
раз особенное — эта центральня категория эстетического,
определеннее всего выражающаяся именно в типическом,—
указывает с чисто позиционной точки зрения на описанное
лам« объединение противоположностей. Однако характер про-
исходящего в типическом синтеза, безостановочное воздействие
радикально противоположных потенций возвращает нас к на-
шему исходному пункту: единичное, эстетически снимаемое в
особенном, в случае типического оказывается как раз партику-
212
лярным, и его снятие порождает такое единство с общечелове-
ческим (также принимающим здесь форму особенного), в ко-
тором партикулярность неразрывно связана с этим последним,
а напряжение их взаимной поляризации становится животворя-
щим принципом типического.
Это лишь популярная иллюстрация фундаментальной струк-
туры эстетического. Именно центральная организующая роль,
которую играет в своей области особенное, приводит к тому,
что любое обобщение, в других случаях сводящееся к простому
снятию партикулярности, становится вышеуказанным образом
обобщением жизненно-напряженным, и вместе с тем к тому, что
изображение единичного не ограничивается чистой партикуляр-
ностью, простым отображением последней. Эта функция осо-
бенно проявляется в урегулировании исходных посылок в соот-
ветствии с интенсивной целостностью основополагающих для
данного жанра и произведения определений. Поскольку послед-
ние никогда не задаются согласно мыслительным принципам
некоей универсальной тотальности, но всегда — в неповторимо-
конкретной форме и в соответствии с жанром, с самим произ-
ведением (при сохранении их адекватности в качестве обоб-
щающих определений), постольку от их существа неотделим
некий «остаток» снятой и в снятии сохраненной партикуляр-
ности. Однако этот «остаток» вовсе не «тянет книзу», что на-
блюдается в любой платонизирующей концепции искусства,
а как раз наоборот, служит той плодотворной почвой, которая
одна только и делает жизненными все самые общие, самые
духовные моменты произведения. Эта внутренняя двойствен-
ность особенного — двойственность, в которой исследуемое
нами противоречие является решающей движущей силой,—
характеризует, естественно, все формы, в которых проявляются
основополагающие для данного произведения определения.
Уже тот факт, что и целое, и все его части, как не раз гово:
рилось, должны быть представлены чувственно-наглядным
образом, указывает на проблему снятой партикулярности: не-
возможна никакая чувственно-данная предметность, которая
не вырастала бы на почве партикулярности, и эта последняя
должна быть — каждый раз по-разному — до определенной
■степени сохранена в качестве наглядного образа в любом чув-
ственном обобщении; в противном случае будет разрушена
(именно в эстетическом смысле) чувственная непосредствен-
ность целого и его частей. Но даже если мы будем исходить
при рассмотрении произведений искусства из более высоких
обобщений, например из того факта, что каждое подлинное
произведение органически включает в замкнутую систему свое-
го воздействия исторический момент своего возникновения,—
даже тогда мы увидим, что переформированное в искусстве
общественно-историческое hic et nunc —сколь бы далеко ни
ааходил процесс этого переформирования — немыслимо без
213
определенного, разумеется снятого, участия партикулярности»
Более чем понятно, что эта структура оказывает решающее
влияние также и на возникновение и последующее воздействие
произведения искусства, причем взятого в его объективности.
Мы знаем, что миросозидающий характер произведения искус-
ства, с одной стороны, сообщает определенному отражению
действительности своеобразие некоего сущего, с другой же,
бытие полученного таким образом мимесиса никогда не может
быть простым бытием-в-себе, которое можно рассматривать
под любым субъективным углом зрения; скорее специфическое
бытие произведения уже содержит в себе самом тот угол зре-
ния, под которым оно может быть воспринято и пережито,
и имеющиеся в нем предметы, взаимосвязи и т. д. уже упоря-
дочены, организованы и сформированы под этим углом зрения.
Эта особенность эстетического мимесиса нам у&е хорошо из-
вестна. Теперь же следует понять, что описанное нами снятие
партикулярного в родовом присутствует как в той точке зре-
ния, которая лежит в основе объективной структуры произве-
дения, так и в той, исходя из которой творческий процесс ак-
тивно, включая в себя и восприятие, приходит к произведению.
Мы описывали и эти процессы. Именно упорядочивающий угол
зрения, заложенный в произведении, с наибольшей отчетли-
востью показывает путь, ведущий от партикулярного к индиви-
дуализированному и конкретизированному родовому. Ведь ис-
ходный пункт при достижении подобной точки зрения необхо-
димо должен носить определенный личностно-партикулярный
характер и почти всегда вызывается к жизни тем или »иным
индивидуальным переживанием; и наоборот, эстетическое фор-
мирование -и фиксация этой точки зрения всегда представляют
собой процесс очищения от тех элементов, которые целиком
укоренены в подобной партикулярности. Тем не менее — в чем
как раз и состоит отличие эстетического отражения от науч-
ного— это ни в коем случае не происходит в направлении
простого обобщения, которое уничтожило бы -возможность эво-
цирования переживаний; скорее здесь возникает стремление
к такой наглядной абстракции, которая бы растворила в себе
или по крайней мере полностью преобразила чисто партику-
лярное с целью прийти к конкретному образу, где родовое
предстанет в виде непосредственно человеческого бытия. Во вто-
рой части данной работы должно быть показано, что этот про-
цесс очищения творческой субъективности — вместе с ним бла-
годаря ему процесс очищения самого произведения — является
решающим моментом всего творческого процесса. Возникаю-
щее при этом и претворяющее эти устремления в образы про-
изведение способно поэтому оказывать — также уже описанное
нами — катарсическое воздействие, в ходе которого партикуляр-
ное, ставшее центром эвокативных импульсов произведения к
снятое в родовом, вызывает у воспринимающего шоковое, по-
214
трясающее переживание, ощущение того, какой новой, неожи-
данной и разнообразной — одновременно более индивидуали-
зированной и более всеобщей, миросозидающей — может стать
действительность под углом зрения данного произведения как
ее организующей доминанты, выступая —тем не менее и именно
потому — единственно соразмерной человеку действительностью.
Мы видим, таким образом, сколь тесно и неразрывно соеди-
нена сущность подлинного произведения искусства как некоего
«мира» со снятием партикулярности и, следовательно, с воз-
вышением над повседневной жизнью. Однако признание этого
момента, то есть снятия обыденности и присущей ей партику-
лярности, единственной характеристикой подлинного произведе-
ния искусства было бы односторонним и сделало бы неадекват-
ным описание завершенности (миросозидающего характера)
произведения и его воздействия. Поначалу, дабы представить
рассматриваемую проблему возможно более ясно, мы вынуж-
дены были энергично подчеркивать этот момент и настаивать
на его значении; напомним, однако, что уже тогда мы говорили
о двойственности произведения, о том, что оно кажется одно-
временно чем-то само собой понятным и чем-то неправдоподоб-
но чудесным. Теперь следует — ради уяснения действительного
единства во всей полноте его моментов — осветить также и зна-
чение других компонентов. Это тем более важно, что таким
образом полностью восстанавливается в своих правах антропо-
морфно-земной, нацеленный на имманентность человеческой
среды характер эстетического отражения. Именно в эстетиче-
ском смысле общечеловеческое, родовое ни в коем случае не
должно пониматься как нечто противоречащее, противополож-
ное отдельному партикулярному человеку. Общечеловеческое
вырастает из рассредоточенной, лишь частично унифицирован-
ной деятельности отдельных людей; оно является равнодей-
ствующей этой многообразной деятельности, каждый раз моди-
фицируемой новыми формами человеческой активности, а от-
нюдь не какой-то раз и навсегда установленной субстанцией
или фиксированным уровнем, обладающим неким обособленным
существованием в полной метафизической независимости от са-
мих людей. Тот факт, что далеко не всякая партикулярность
может стать существенной составной частью этого общечело-
веческого и, более того, отдельный человек в границах самой
обыденной жизни вынужден, побуждаемый к тому жизненной
■необходимостью, постоянно выходить за пределы собственной
партикулярности, лишь таким путем — разумеется, вовсе нена-
меренно— обретая способность обогатить и дополнить новыми
чертами образ всего человечества, — этот факт не может слу-
жить опровержением нашего тезиса, но, напротив, подтверж-
дает его и лишний раз свидетельствует об отмеченных нами
отношениях между родовым и частным, между общечеловече-
ским и партикулярным. Миросозидающий характер подлинных
215
произведений искусства проявляется как раз в том, что они —
по-разному, в зависимости от рода и жанра, — отражают этот
процесс и его результаты.
Если мы сопоставим теперь только что изложенное с нашим
предыдущим утверждением, гласящим, что субъективно в пере-
живании приятного получает мгновенное удовлетворение врож-
денная витальность каждого отдельного человека, — то мы по-
лучим возможность зафиксировать в понятиях отношение
приятного к эстетическому. Очевидно, что миросозидающий
характер подлинных произведений искусства — чьим субъек-
тивным коррелятом является возвышение творческой и рецеп-
тивной деятельности человека над его же партикулярностью —
дает единственный критерий, позволяющий точно определить
границы между эстетическим и приятным. Эти ^границы с аб-
страктной точки зрения одновременно столь же отчетливы
и столь же расплывчаты, как и в случае возвышения над пар-
тикулярностью в рамках самой жизни, поскольку тождество*
человека с самим собою сохраняется и при самоопределении
его партикулярное™. Однако качественное различие сфер
искусства и жизни заключается в том, что в произведении это-
снятие преобразуется в эстетическое формообразование, в со-
зидание «мира» данного произведения, в котором то, что воз-
никает при этом возвышении над партикулярностью, система-
тизируется и увековечивается чувственно-наглядным образом.
В плане субъективного отношения к произведению это точно*
так же порождает явления, отличающиеся от жизненных,,
а именно то самое превращение целостного человека в цельного
человека, которое мы уже разбирали и раньше, но которое
подробно и систематически мы сможем проанализировать лишь
во второй части работы. Таким образом, эстетическое как.
определенная форма снятия приятного качественно отличается
от последнего; основополагающие категории приятного на нега
нераспростраиимы. И тем не менее это противоречие, это рез-
кое разграничение не разрывает связующих их нитей: прият-
ное— само по себе охватывающее гораздо более широкую
область, чем эстетическое, — является одним из жизненных
оснований последнего. Не будет преувеличением утверждать^
что если бы люди не были созданы таким образом, что прият-
ное является важной, более того, неотъемлемой витальной и
социальной составной частью их жизни, то никогда бы не
возникло, пожалуй, никакого искусства. Привычка к позитив-
ной или негативной реакции в рамках приятного на определен-
ные жизненные феномены является решающим моментом гене-
зиса всякого искусства, причем не только в смысле его само-
выделения из неупорядоченного хаоса обыденных переживаний,,
но также и в аспекте возникновения того или иного социаль-
ного задания, оказывающего — доброе или дурное —влияние
на дальнейшее развитие данного искусства. И тем не менее это
216
утверждение было бы лишь наполовину истинным, то есть в
конечном счете ложным, без дополняющих разъяснений: если
бы внутренняя жизнь людей, их реакция на окружающий мир,
на отношения с другими людьми и т. д. были бы таковы, что
вся эта масса переживаний объективно просто раскачивалась
бы между полюсами приятного и неприятного (а субъективно
весьма многие полагают, что так оно и есть), то опять же ни-
когда не возникло бы никакого искусства.
Таким образом, размывание границ между .приятным и
эстетическим укоренено в самой сути дела — в самой жизни.
Тем не менее границы эти существуют, причем с несомненной
очевидностью, как в самом произведении искусства, так
и в адекватной реакции на него. Но постигаются они, разумеет-
ся, только в том случае, если, как мы здесь и поступаем, ре-
шающий критерий подлинно эстетического ищут и находят в
его миросозидании. Мы подробно разбирали эту особенность
эстетического, эту структуру произведения искусства с самых
различных точек зрения при обсуждении своеобразия эстети-
ческого мимесиса. Теперь же нужно, используя результаты
предыдущих исследований в качестве твердых оснований для
дальнейшего, показать, что именно здесь мы находим един-
ственно возможный критерий для понятийно-точного отделения
приятного от эстетического. Ни форма, ни содержание — взятые
сами по себе — не дают и не могут дать никаких указаний для
проведения этого различения. Что касается содержания, то
нам достаточно сослаться на уже цитировавшееся нами место
из гегелевской эстетики [с. 191], где он сожалеет о том, что
самое возвышенное содержание может стать объектом пере-
живания приятного. Оставляя в стороне идеалистическую, даже
спиритуалистическую направленность этого утверждения, мож-
но сказать, что Гегель был бы совершенно прав, если бы сумел
различить в этом универсальный характер приятного, взятого
с точки зрения содержания. Этот универсальный характер
действительно является фактом самой жизни, как и ее эстети-
ческого (и псевдоэстетического) отражения. Что касается са-
мой жизни, то для доказательства этого тезиса достаточно
сослаться на такие явления, как сражения гладиаторов, кор-
риды и т. п. В области же отражения детективные романы
и фильмы, комиксы и т. д. ясно показывают, что для того, что
определенные слои общества в определенные периоды истории
воспринимают в качестве приятного, не существует никаких
содержательных границ. Невозможно определить эти границы
и с точки зрения формы. Нет даже необходимости напоминать
о неопозитивистском изолировании и некритической переоценке
технических моментов. На примере такой новой области искус-
ства, как кино, легче всего убедиться, что весьма часто не
имеющие никакой художественной ценности поделки техниче-
ски стоят на более высоком уровне, чем произведения действи-
217
тельно художественные. Но также и в сфере традиционных
искусств мы нередко видим, что более или менее халтурные»
ремесленнические романы, драмы, картины и т. д. «технически»
превосходят подлинные и глубокие творения. Разумеется, делая
эти последние замечания, мы все еще стоим на почве неопози-
тивистских предрассудков. Но даже если мы покинем этот
эстетически недопустимый уровень рассмотрения >и обратимся
к действительной проблеме формы, то увидим, что даже самые
корректные или столь же смелые и оригинальные формальные
решения еще не доказывают, что мы и вправду имеем дело с
подлинными произведениями искусства. Здесь следует, есте-
ственно, оговорить обе крайности, хотя сегодня многие при-
знают эти утверждения верными в отношении Гейбеля или
Хейзе, но решительно отрицают возможность их распростране-
ния на Беккета или Ионеско. Это нетрудно понять, ведь любая
эпоха, любые художественные течения смешивают партикуляр-
ность, кажущуюся в данный момент актуальной, с истинно
родовым, и лишь определенная временная дистанция позво-
ляет отделить их друг от друга, а тем самым и формальные
эксперименты — от подлинных произведений искусства. Нет
необходимости снова возвращаться к упомянутым выше авто-
рам, достаточно вспомнить, что подобная дистанция потребо-
валась очень многим, чтобы выделить Герхарта Гауптмана из
толпы «последовательных натуралистов».
Все это, однако, означает расширение и углубление нашей
проблемы. В другой связи мы уже затрагивали тему литера-
туры и беллетристики [см. т. 2, с. 436 и ел.], а при анализе
музыки указывали на то, что возникает все больше и больше
такой продукции, которая вообще уже не имеет ничего общего
с музыкой как искусством [с. 69 и ел.], а просто удовлетво-
ряет потребности в приятных переживаниях с помощью музы-
кальной техники, иногда с помощью умело сгруппированных
формальных элементов, даже не соприкасаясь со сферой му-
зыки. В этом сказывается непоколебимое господство приятного
в обыденной жизни людей. До сих пор мы наблюдали его
воздействие на лежащие вне искусства области; теперь же мы
видим, что из этого возникают внешне сходные с искусством
объективации, которые не только проникают в область искус-
ства, но, если взглянуть на дело с чисто количественной сто-
роны, во многом превосходят действительно художественную
продукцию. Поэтому, чтобы дать верную оценку возникающих
здесь феноменов, следует дополнить уже достигнутое нами
общее понимание приятного, рассмотрев его не только в его
банальных, конвенциональных формах, но и в его исключи-
тельных, эзотерических, авангардистских проявлениях. Хотя
непосредственно оба эти момента кажутся противостоящими
друг другу, внутренне они тесно связаны между собой как два
полюса одной и той же группы феноменов, и объяснение того,
218
почему в данный период, в данных слоях общества и т. д. гос-
подствует та или иная из них, является опять-таки задачей
исторического материализма. Для нашей проблематики эта
поляризация сферы партикулярного интересна постольку, по-
скольку при перерождении художественных выразительных
средств, деградирующих до уровня беллетристики, баналь-
ности, чистой развлекательности и т. д., речь идет о конверген-
ции с естественно заданной партикулярностью, в то время как
на другом полюсе все это выглядит как ее социально обуслов-
ленное искажение. В основе этого последнего процесса во мно-
гих случаях лежит ненависть и презрение к нормальной пар-
тикулярное™, стремление очернить ее. Поскольку же объек-
тивно содержащиеся здесь — часто остающиеся неосознанными
и даже стремящиеся остаться таковыми — отражение обще-
ственных отношений и их критика не в состоянии подняться
над вкусами того или иного класса, национальной обусловлен-
ностью и т. д. к конкретной всеобщности родового или по
крайней мере сделать такое возвышение своей задачей, то
партикулярность при этом не снимается, хотя -и получает,
разумеется, искажающий ее отпечаток абстрактности. Абстракт-
ность эта в конечном счете возникает, разумеется, не из чисто
субъективных устремлений продуцирующего субъекта, в ее
основе лежит общественная структура как искажение челове-
ческого бытия, почему она и оказывается в рамках подобной
«художественной воли» тенденцией к «замене конкретно-типи-
ческого абстрактно-партикулярным»112.
Если мы теперь, исходя из полученных результатов, попы-
таемся внутри самого «мира» того или иного произведения
отделить эстетическое от приятного в широком смысле, то есть
от весьма важной разновидности псевдоэстетического, то нам
следует с самого начала уразуметь, что плоскость, на которой
должно проводиться подобное разграничение, гораздо шире
анализируемого здесь комплекса проблем. Противопоставление
художественной удачи и неудачи (или удачи сомнительной)
несводимо, особенно в последнем случае, к отграничению сфе-
ры эстетического от псевдоэстетических тенденций или произве-
дений, оно должно быть проанализировано в рамках самого
эстетического, и анализ этот, проведенный правильно и после-
довательно, способен углубить понимание наиболее принци-
пиальных и существенных вопросов эстетики. Наоборот, подле-
жащий сейчас обсуждению контраст требует разграничения в
строгом смысле слова. Это относится также к той категории
произведений, которые мы назвали беллетристикой, и даже
именно к ним, поскольку здесь с чисто внешней точки зрения
присутствуют в качестве формирующих сил все категории
эстетики, хотя по существу эти произведения отклоняются от
того великого пути, по которому пошло искусство со времени
своего возникновения. Таким образом, существует весьма зна-
219
чительная — и не совсем обманчивая — близость между искус-
ством и беллетристикой, и тем не менее именно потому реши-
тельное расхождение в том, что касается основополагающих
вопросов эстетики. Практически же кажется, что здесь вообще
нет никакой однозначно определимой границы, ведь существует
весьма значительное число авторов, у которых одни произ-
ведения относятся к самой подлинной литературе, другие же
остаются на уровне беллетристики. Обсуждая ранее [см. т. 2>
с. 437] этот вопрос, мы уже указывали на таких писателей,,
как Теодор Фонтане, Джозеф Конрад, Синклер Льюис. Если
мы рассмотрим теперь их произведения с точки зрения на-
шей нынешней проблемы, то сразу станет ясно, что ни бо-
гатство содержания, ни возбуждаемый им интерес, ни мас-
терство письма не дают критериев, по которым, например,.
«Лорд Джим» или «Эффи Брист» относятся к высокому искус-
ству, тогда как другие произведения тех же авторов при-
знаются простой беллетристикой. Всегда существует нечто в
самом действии, в характерах, что в одном случае делает воз-
можным, в другом же — невозможным возвышение к настоя-
щему искусству113. Точно так же невозможно выделить эти
критерии формалистически. Речь идет, к примеру, вовсе не о
каких-то «ошибках» в характеристике персонажей, поскольку
беллетристические произведения этих авторов часто полны
интересных и привлекательных образов, свидетельствуют о зна-
чительной психологической тонкости и проникновении, а также
и не о недостатках в построении фабулы: последняя нередко*
построена весьма искусно и захватывающе, с использованием
всех возможностей и т. д. Лишь внутренняя значительность,,
лишь превращение частного, увиденного с жизненной правди-
востью, в конкретный образ родового в людях и их судьбах
отличает действительно большую литературу от беллетристики.
И точно так же обстоит дело в других искусствах.
Не следует думать, будто мы пришли к возрождению эсте-
тичееки-агностицистского «je ne sais quoi». Действительный
формальный анализ подобных произведений, который, разумеет-
ся, должен рассматривать их форму как форму для выраже-
ния данного определенного содержания, способен в каждом
отдельном случае совершенно точно установить, относится ли
данное конкретное произведение к высокой поэзии или всего
лишь к высокоразвитой беллетристике. Однако именно поэтому
подобный анализ — неважно, осознано это или нет, — ни в коем
случае не может обойтись без решающего в данном случае
критерия, без различения в эстетическом смысле между пол-
ным снятием партикулярное™ в родовом и ее консервацией в
качестве таковой, ее включением в непереработанном виде в
систему связей, препятствующую подобному снятию. Если эта
форма снятия партикулярности не найдена, то подлинно эсте-
тическое обобщение образов, ситуаций, судеб и т. д. делается
220
невозможным, и все, что остается с эстетической точки зре-
ния,— это либо так и не ставшие необходимыми детали, либа
абстракции, которые, хотя и отражают сами по себе определен-
ные частичные истины жизни, не способны, однако, возвысить
отображаемые объекты до подлинно эстетической предметности.
Достойно при этом внимания и очень характерно для разби-
раемых здесь случаев, что произведение может быть лишено
всего этого, не утрачивая тем не менее «жизненной правди-
вости» героев и их судеб, интереса, который вызывает описы-
ваемая среда, напряженности фабулы и т. д. Как раз наоборот..
Все это может содержаться в подобном произведении точно-
так же, как и в произведении подлинно художественном; раз-
личие состоит «лишь» в том, что необходимое и соответствую-
щее произведению воздействие разворачивается на другом-
уровне— на уровне приятного, партикулярного.
Пропасть между приятным и эстетическим непреодолима,,
но столь же неразрывна и связь между ними. Подобно тому как
при своем возникновении искусство заимствует содержание №
выразительные средства у самой жизни, у человеческой повсе-
дневности, точно так же, конституируя себя, возвращается оно
к своей основе. А то, что происходит это именно в указанной
двойной форме, и является движущим противоречием его обще-
ственного существования и действенности. Мечта о существова-
нии только подлинных, только великих произведений искус-
ства— всего лишь эмоциональная утопия обособившихся от
всего на свете художников. Как раз в применении к творче-
ству величайших художников подобное требование совершенно^
утопично. Их путь к совершенству также необходимым обра-
зом включает в себя сомнительное, фрагментарное, провалы
и неудачи. И если искусство (а не просто отдельные, хотя бы
и великие художники) должно быть живым фактором в раз-
витии человеческого общества, оно должно возникать из его
непосредственных потребностей; и если искусство — только
здесь впервые становясь самим собой — лишь в сравнительно
немногих произведениях поднимает это общество на почти не-
правдоподобную высоту общечеловеческого, то это вовсе не
значит, будто подобные единственно аутентичные воплощения
эстетического могут возникать впрямую, без реальных олосре-
дований, будто возможно такое общественно-историческое со-
стояние человечества, в котором эти глубочайшие родовые его-
потребности получали бы исключительно такое полное и дей-
ствительное удовлетворение. Делая эти замечания, мы оставили
без внимания подлинных, однако именно >в эстетическом смысле
сомнительных художников, а также их произведения и лишь
вкратце затронули роль проблематического в творениях худож-
ников, в общем и целом несомненных. Ведь с этой точки зрения
нам виден лишь один аспект ограниченности даже самых силь-
ных и многосторонних дарований. Действительные же корни
221
содержащегося здесь противоречия уходят еще глубже в почву
человеческой жизни, чем это можно наблюдать на примере
-значительнейших, однако изолированно рассматриваемых лич-
ностей. Мы полагаем даже, что правильнее было бы сказать
так: возникающие здесь коллизии образуют лишь один из мо-
ментов того всеохватывающего комплекса противоречий, кото-
рый в целом можно было бы обозначить словами «человек и
род». «Только вся совокупность людей составляет человече-
ство», — гласит, как мы помним, «Наставление» Вильгельма Мей-
стера. Это значит, что нет и не может быть никаких поступков,
решений, переживаний и мыслей отдельных людей, которые
не воздействовали бы тем или иным образом на родовое, рас-
ширяя его или сужая, обогащая или профанируя.
Мы с самого начала отвергли понимание рода как некоей
раз и навсегда данной субстанции и все вр'емя стремились
рассматривать его как равнодействующую человеческих стрем-
лений и потребностей в их целостности. И потому это обобще-
ние стремлений и потребностей в жизни рода носит точно так
же характер некоей двойственности: само по себе любое душев-
ное движение, любой поступок отдельного человека принадле-
жит как ему самому, так и роду; однако — и именно потому —
жизнь рода, его дальнейшее развитие и прогресс не могут
быть простой суммой отдельных актов. Поскольку род со своей
стороны в качестве в-себе-сущей реальности непрерывно —
хотя, разумеется, путем многообразных опосредовании — воз-
действует на жизнь каждого отдельного человека, постольку
на место простого механического суммирования должен быть
поставлен спонтанный выбор, господство определенных тенден-
ций, их усиление или отмирание. Выбор этот производится
самим общественно-историческим развитием объективно спон-
танно, хотя, разумеется, при непрерывном воздействии различ-
ных форм человеческой активности. Также и здесь получает
полнейшее подтверждение учение Гегеля и Маркса, гласящее,
что люди сами творят свою собственную историю, разумеется
в условиях, которых сами они не выбирали, и с результатами,
решительно отклоняющимися от первоначальных замыслов.
Для нашей проблематики это означает прежде всего конкрети-
зацию объективности как в самом .произведении, так и в реак-
ции на него. Совершенно очевидно, что для научного отраже-
ния действительности критерием объективности является воз-
можно более точная приближенность отображенных явлений и
их законов к существующему независимо от сознания миру.
Столь же ясно, что без этого критерия нельзя обойтись и в слу-
чае эстетического отражения, здесь он, однако, ни при каких
обстоятельствах не является единственным и не им определяет-
ся окончательное решение. Оно определяется скорее тем, что
эстетическое обобщение, возвышение изначально данного
veAHHMHoro и партикулярного до уровня особенного может
222
быть осуществлено лишь при объективной направленности на<
родовое. Вышеуказанная борьба отдельных художников с изве-
стной проблематичностью их собственных концепций сводится*
как раз к этой живой и действенной противоречивости: суть
эстетического обобщения заключается именно в таком пости-
жении индивидуальности конкретно-данного бытия эстетически.
формируемых явлений, чтобы эти последние — при сохранении,,
даже усилении их индивидуальных форм, — были поставлены
в непосредственную и эвокативную связь с теми моментами
родового, которые определены данной ступенью общественно-
исторического развития и тенденциями к дальнейшему движе-
нию в будущее в качестве моментов пребывающих. Сколь бы
необходимой ни была подобная интенционированность самого*
субъекта творчества, стремящегося подняться над дилетантиз-
мом и ремесленничеством, столь же ясно, что не существует
никаких априорных данных, никаких безусловно соприродных.
индивиду содержаний (и никаких соответствующих им форм),
которые гарантировали бы удачу в достижении этой цели или,,
наоборот, вели бы к заведомому провалу. Хотя любое подлин-
ное произведение искусства и предполагает глубокое знание-
отображаемой им действительности, в этом отношении, однако,,
всякий творческий процесс включает в себя элемент риска,,
прыжка в неизвестность à corps perdu.
Поскольку же потребность той или иной эпохи познать себя
самое, свое настоящее, свой путь из прошлого в будущее и все
это с величайшей наглядностью представить себе, очень глубо-
ка, а круг задач крайне широк, то ясно само собой, что попыт-
ки эстетического отражения производятся самыми различными-
общественными группами и индивидами, самыми разными
способами, с использованием разнообразнейших средств, на са-
мых разных уровнях и т. д. В Новом завете сказано: «Много
званых, да мало избранных»; если добавить к этому, что еще-
больше вообще незваных, то получится примерная картина
этой общественной ситуации. Следует также заметить, что*
если, с одной стороны, эстетика должна с величайшей тщатель-
ностью разграничивать незваных, званых и избранных, то,,
с другой, нельзя обойтись и без признания — причем также и
с эстетической точки зрения — необходимости и оправданности
подобного широкого движения, которое лишь в исключитель-
нейших случаях действительно достигает эстетического.
Выше, опираясь на весьма существенные высказывания
Гёте, мы постарались раскрыть связь эстетического формаль-
ного совершенства с глубиной и однозначностью социального'
задания. И эта внутренняя сила последнего сказывается преж-
де всего в глубине и широте страстного стремления к выполне-
нию этого задания. Таким образом, далеко не случайно, что-
в истории искусств величайшие творения оказываются верши-
ной, венчающей огромную гору массовой продукции, вызванной
223
ж жизни подобным социальным заданием. Возьмем Шекспира
и драму елизаветинцев вообще: единый путь ведет от баналь-
ных, совершенно нехудожественных фарсов и историй с приви-
дениями, через умело сработанные, вызывающие приятные
эмоции (в широком смысле слова) пьесы, через пьесы, нако-
нец, более значительные, ставящие уже более серьезные про-
блемы, к этим одиноким в своем совершенстве творениям.
И культ гениев, признание только непреодолимой пропасти
между тем и другим, отрицание глубочайшей, порождаемой
общим социальным запросом связи между ними совершенно
искажает действительное положение вещей. Внимательный и
глубокий знаток данного исторического периода может разли-
чить то же самое, что побуждало Шекспира к его величайшим
созданиям, что породило «Гамлета» и «Лира», «Макбета» и
«Отелло», во всех вышеуказанных явлениях. »История литера-
туры искажает действительные связи и отношения, стремясь
обнаружить «влияния», доказать или опровергнуть их наличие
там, где на самом деле и объективно существуют всеми испы-
тываемые потребности эпохи, качественно различно выражаю-
щиеся на качественно различных уровнях мироощущения.
Индивидуальные импульсы, социальные побуждения и тре-
бования задают, таким образом, каждый раз новое направле-
ние в движении к родовому, из чьего содержания самим ходом
истории отбираются те содержательные моменты, которым уда-
лось найти для себя всеохватывающее и новое, исчерпывающее
и наглядное выражение. Здесь мы рассматриваем этот процесс,
включающий в себя все эстетические и псевдоэстетические тен-
денции данной эпохи, исключительно с точки зрения отношения
приятного к подлинно художественному. Уже анализ беллетри-
стики [с. 217] показал, что изобразительность, задержавшаяся
на уровне приятного, способна не только пустить в ход с из-
вестным успехом все формальные категории эстетического,
но также — и именно потому — поднять свой материал на срав-
нительно высокую ступень обобщения и тем самым сообщить
»ему действенность, превышающую партикулярно-личиостное.
(Это качественно отличает ее от дилетантизма и ремесленниче-
ства, не способных подняться к эвокативно-действенным обоб-
щениям.) Если, таким образом, в повседневной жизни пережи-
вание приятного остается целиком и полностью на уровне не-
посредственно-личной партикулярное™, то эвоцирование подоб-
ных переживаний формальными средствами искусства требует
известного обобщающего возвышения над этим уровнем. Объ-
ективные основания подобных обобщений лежат в самой обы-
денной действительности и, следовательно, в способах ее отра-
жения. Ибо, как мы видели [с. 199 и ел.], субъективная пар-
тикулярность включает в себя — с объективной точки зрения —
весьма значительные моменты социальной обусловленности,
разумеется не теряя при этом своей непосредственной связи
224
с субъективностью партикулярного индивида. Здесь, по види-
мости, заключено противоречие, размывающее границы между
эстетическим и приятным. Эта видимость, однако, основана
лишь на том, что вследствие особенностей только что описан-
ной структуры обыденной партикулярности сообщение приятных
переживаний также нуждается в средствах объективации, кото-
рые, хотя и используя подобные обобщения, на самом деле
снова приводят к партикулярности и вся задача которых за-
ключается лишь в том, чтобы сделать эту последнюю поддаю-
щейся сообщению и передаче. Также и в этом вопросе концепция
Канта сужает всю проблему, поскольку приятное предстает
у него ограниченным рамками индивидуальной субъектив-
ности114.
Все это тем не менее лишь одна сторона дела, момент чи-
стой непосредственности как таковой. Объективно же, как мы
видели [с. 199], любой субъект подобных переживаний являет-
ся одновременно членом личных общностей (семья и т. п.),
членом определенной общественной прослойки, класса, нации
и т. д., и его внутренняя жизнь, которая чисто непосредственно
кажется основанной и замкнутой на себе самой, необходимо
входит составной частью в жизнь подобных комплексов связей
и отношений, что, однако, вовсе не обязательно и уж тем более
не безусловно лишает ее непосредственной партикулярности.
Самые различные слои человеческого сообщества способны та-
ким образом партикуляризировать самих себя, способны даже
выдвинуть эти социально-всеобщие формы партикулярности на
передний план, не теряя, однако, изначальной непосредствен-
ности, способны, наконец, пройдя через обобщения, снова
и в самых различных формах восстановить эту непосредствен-
ность. Именно здесь начинается использование эстетических
форм с целью сделать приятное доступным переживанию; здесь
оно подходит, по видимости, ближе всего к художественному
формообразованию, и здесь же, по сути, оно дальше всего от
последнего. Уже на чисто дилетантском уровне возможно, про-
буждая общие воспоминания определенного круга, намекая на
общие переживания и т. д., сделать приятное эмоционально-
доступным для определенного узкого круга людей. Начинаю-
щийся здесь процесс идет все дальше, пока на уровне беллет-
ристики не создаются творения, производящие обманчивую
видимость искусства. Расхождение основывается на том, что
подлинное искусство также не способно изобразить общечело-
веческое, не делая наглядно-эвокативными те формы опосредо-
вания и объективные связи, которые объединяют отдельную
личность, проживающую свою обыденную общественную жизнь,
с самой этой жизнью. Оно отличается от беллетристики «толь-
ко» тем, что, сохраняя и даже усиливая конкретно-данное бы-
тие этих связей и опосредовании, оно вскрывает в них такие
конкретные моменты, в которых значимо проявляется сопря-
15-805
225
женность человека с родовым, тогда как беллетристика оста-
навливается на классовых, национальных и т. д. признаках,
и виртуозное подчас владение формой служит здесь лишь для
того, чтобы сделать абстрактно-обобщающую партикулярность
соответствующим образом действенной. Возьмем, к примеру,
возникновение мещанской драмы. Ее первые попытки не под-
нимаются над социологической партикулярностью, и лишь
«Эмилия Галотти», «Коварство и любовь», «Женитьба Фигаро»
превращают классовую борьбу поднимающейся буржуазии в
общечеловеческое дело, в то время как XIX столетие, за ред-
кими исключениями, вроде Геббеля и Островского, снова ис-
пользует социально обобщенную партикулярность буржуазных
характеров и судеб лишь для того, чтобы вызвать у театраль-
ной публики чувство приятного. Также и в этом случае адеква-
тен лишь вышеуказанный критерий разграничейия; с точки зре-
ния формального драматического совершенства здесь гораздо
больше вполне безупречных созданий.
Эти в высшей степени многообразные и запутанные связи
между приятным и эстетическим подтверждают, следователь-
но, на примере весьма важного конкретного случая наше об-
щее утверждение о роли эстетического, искусства в обществен-
ной жизни людей, гласившее, как мы помним, что искусство,
с одной стороны, вырастает из потребностей и устремлений
обыденной жизни, поднимаясь над ними, с другой же, снова
оказывает влияние на эти последние, модифицируя их и обога-
щая. Приятное есть та чрезвычайно важная плоскость, на ко-
торой разыгрывается этот многосторонний и в высшей степени
плодотворный процесс. Чтобы правильно понять возникающие
здесь многообразные феномены, следует непременно и посто-
янно учитывать два основополагающих фактора. Во-первых,
качественный скачок, отделяющий эстетическое от приятного.
Совершенно несомненно и эмпирически доказано, что, хотя
произведения псевдоэстетические подчас и проникают в люд-
скую повседневность гораздо стремительнее, с гораздо большей
экстенсивной силой, чем даже самые значительные произведе-
ния искусства, их воздействие остается, однако, — в истори-
ческой перспективе — совершенно эфемерным, и лишь подлин-
ные, великие творения искусства способны оказать длительное
формирующее влияние на сознание человеческого рода. Во-
вторых же, следует учитывать и тот факт, что само приятное
отнюдь не столь просто и однозначно, как часто полагают,
основываясь на его непосредственных проявлениях. Именно
в своей непосредственности оно кажется совпадающим с опре-
деленным требованием жизни. И в очень многих случаях эта
видимость вполне соответствует объективному положению дел:
наряду с полезным приятное является, без сомнения, той фор-
мой связи человека с внешним миром, которая в наибольшей
степени способствует пробуждению и формированию его ви-
226
тальных способностей и задатков, присущих ему тенденций к
самосохранению и самореализации. По существу, однако, при-
ятное является субъективным и партикулярным отражением
внешнего мира и соответствующей реакцией на него, и пото-
му его объективные следствия могут быть как благоприятны-
ми, так и неблагоприятными для подобных устремлений. Уже
греческая моральная философия ясно указывала на господст-
вующую здесь диалектику. Диалектика эта пронизывает всю
повседневную жизнь в целом: начиная с какого-нибудь ку-
шанья, которое пришлось кому-нибудь по вкусу и относится
тем самым к числу приятного, но оказывается вредным для
здоровья, которое само по себе тоже ведь и приятно, и полез-
но, и вплоть до разнообразнейших воздействий и импульсов,
исходящих из самой общественной жизни, в которой достаточ-
но часто обнаруживается сходная диалектика непосредственно-
приятного и в итоге оказывающегося вредным. В данном слу-
чае безразлично, каким образом благодаря привычке, нравам,
условностям, праву, морали и этике разрешаются эти проти-
воречия в самой жизни; мы потому еще легко можем обой-
тись без всякого разбора этих проблем, что как раз в грече-
ской этике они проанализированы с величайшей подробностью
и глубоким проникновением в суть дела. Сошлемся лишь в за-
ключение на наше сделанное выше утверждение, что вся эта
диалектика вообще не может быть понята, если не принять во
внимание при рассмотрении возникновения и воздействия при-
ятного социальные компоненты утверждающей себя здесь пар-
тикулярное™.
Если мы рассмотрим теперь эти диалектические движения
с точки зрения возвышения к эстетическому и его вторичного
растворения в повседневной жизни, то сразу станет ясно, что
здесь встают преимущественно историко-материалистические
проблемы. Очевидно и не требует разъяснений, что данная
структура общества, данное направление его развития опреде-
ляют собою данное содержание, интенсивность и т. д. прият-
ного, а также его активную и пассивную взаимосвязь с эсте-
тическим. При этом существуют, конечно, также и типические
различия, носящие принципиальный характер. Есть качествен-
ная разница между такой общественно-исторической ситуаци-
ей, когда жизнь в больших количествах порождает продукты
с отчетливой тенденцией к искусству, как в случае старых ре-
месел и тому подобных явлений отживших формаций, и та-
кой, когда организуется централизованная индустрия приятно-
го, использующая псевдоэстетические моменты и мотивы
в своей более или менее сознательной конкуренции с подлин-
ным искусством, влияющая на это последнее в абстрагирую-
ще-партикуляризирующем направлении, примером чему может
служить большая часть того, что пресса, кино, радио и т. д.
предлагают сегодня публике. И в том, и в другом случае воз-
15*
227
никает взаимосвязь и взаимодействие между искусством и по-
добной продукцией, причем в обоих вышеуказанных направле-
ниях. Однако тип взаимодействия качественно различен, осо-
бенно в том, что касается развития самого искусства. «Инду-
стрия» приятного, сделавшаяся по существу самостоятельной,
разработка ею собственных технических средств и форм рас-
пространения — все это оказывает на искусство влияние двоя-
кого рода: с одной стороны, поднимающая голову, ставшая
автономной беллетристика "(разумеется, во всех искусствах,
не только в литературе) стремится, к решительному уничтоже-
нию границ, отделяющих ее от эстетического, стремится за-
темнить подлинное существо последнего; с другой же, попыт-
ки искусства защитить себя от подобных тенденций приводят
к художественно нездоровой эзотеричности, к свободной и
вынужденной одновременно самоизоляции от вояких контактов
с жизнью.
Действительно адекватный анализ возникающих здесь от-
ношений может быть проведен лишь в историко-материали-
стической части эстетики; тем не менее их правильное общест-
венно-историческое понимание предполагает полную ясность
в том, что касается фактически-всеобщих связей между эстети-
ческим и приятным. Особое место в этом комплексе вопросов
занимает крайне сложная и разветвленная проблема дилетан-
тизма. В этом случае также невозможно, разумеется, рассмот-
реть все это явление целиком и тем более его историю. С точки
зрения эстетики интересно то, что здесь мы имеем дело с та-
кой деятельностью человека в самой повседневной жизни, ко-
торая способна привести к усилению, интенсификации эстети-
ческой восприимчивости. Лучше всего это видно на примере
музыкального дилетантизма: музыкальные упражнения диле-
тантов обыкновенно не претендуют ни на какое сходство с на-
стоящим искусством, однако сама игра на том или ином инст-
рументе, сколь бы ни была она с эстетической точки зрения
неудовлетворительной, вырабатывает такое чувство и понима-
ние музыки, такую восприимчивость к ней, каких вряд ли
можно достигнуть прямым восприятием, просто слушая музы-
ку. Это, разумеется, наиболее характерная форма такого ди-
летантизма, который приводит к углублению и интенсифика-
ции понимания и восприятия. Дилетантизм в других областях
искусства гораздо реже ведет к этой цели; такая ситуация,
когда дилетантское писательство пробуждает или способствует
пониманию литературы, остается исключением. В области ри-
сунка или живописи такое случается чаще, хотя все-таки го-
раздо реже, чем в музыке. Все это, разумеется, составляет
лишь один, хотя и весьма важный момент в единой области
явлений, называемых дилетантизмом. Даже в музыке значи-
тельная часть дилетантских упражнений остается на уровне
приятного, и если кто-либо, к примеру, фиксирует в рисунках
228
воспоминания о своих путешествиях, странствиях и т. д., то
этой деятельности вовсе не обязательно присуща внутренняя
направленность, ведущая к усилению художественной воспри-
имчивости. Все это, однако, отнюдь не исчерпывает позитивной,
стороны дилетантизма. Гёте совершенно прав, утверждая
в своих, сделанных совместно с Шиллером заметках по этому
вопросу: «Поскольку дилетант дает занятие продуктивным
силам, постольку он культивирует нечто важное для челове-
ка»115. Как и всякая человеческая активность, связанная с от-
ражением действительности и укорененная в приятном, эти
силы охватывают гораздо более широкую область, чем стрем-
ление к искусству и его проявления. Достаточно указать на
воспитательные элементы, содержащиеся в дилетантских за-
нятиях танцами и любительских спектаклях. Гёте подчеркива-
ет при этом: «Развитие тела. Сноровка, необходимая для вся-
кой телесной активности.. . Мера телесной подвижности...»116
И о дилетантизме в поэзии: «Воспитание чувств и совершенст-
вование их словесного выражения; культура воображения, осо-
бенно как составная часть воспитания ума. Развитие чувства
ритма. Идеализация представлений о предметах обычной жиз-
ни. Пробуждение творческого воображения и подготовка его
к высшим духовным функциям — также в науке и практиче-
ской жизни»117. Что эти тенденции легко оборачиваются пу-
стотой и ничтожеством, что они, если стремятся быть или ка-
заться искусством, лишь отдаляют своих носителей как от
искусства, так и от жизни, — все это Гёте видит не менее ясно
и подчеркивает не менее энергично. Нам нет нужды вдаваться
сейчас в подробности хотя бы потому, что здесь сказывается
лишь та противоречивость приятного, всеобщность которой мы
уже не раз отмечали. С какой бы стороны, таким образом, ни
подходить к проблеме взаимоотношений между эстетическим
и приятным, мы всегда наталкиваемся, с одной стороны, на
универсальность приятного в обыденной жизни людей, на край-
не частое размывание границ между ним и эстетическим,
с другой же, на радикальное различие в том, что касается от-
ношения партикулярной индивидуальности к человеческому ро-
ду. Последний вопрос выходит, разумеется, далеко за рамки
эстетики, хотя именно в нем, как мы уже видели и еще уви-
дим, следует искать фундаментальный критерий эстетического.
Весь жизненный путь человека зависит в конечном счете от
того, как решает этот человек, практически осуществляя свое
бытие, проблему отношения партикулярности к роду. Религия
и идеалистическая философия сознательно и односторонне
подчеркивают лишь момент различия между ними и приходят
в конце концов к радикальному изолированию друг от друга
обоих этих полюсов. Любая же по существу материалистиче-
ская этика, достигшая подлинно философского уровня — ука-
жем лишь на Эпикура или Спинозу, хотя и Аристотель стоит
229
IB этом отношении весьма в конечном счете близко к философ-
скому материализму, — стремится к понятийному постижению
объективно действенной здесь диалектики и к выведению из
нее принципов человеческой активности. При всех глубочайших
различиях, существующих между подобными направлениями
мысли, их — в противоположность религии и идеализму — объ-
единяет прежде всего то, что все они стремятся вывести родо-
вое в качестве путеводной нити этической практики из самой
природы обыденного человека, не разрывая целостности и че-
ловеческой имманентности этого последнего. Этим ни в ма-
лейшей мере не ослабляется реально существующее качествен-
ное различие между родовым и непосредственно-партикуляр-
ным— достаточно вспомнить об идеале мудреца у Эпикура
или об «amor dei intellectualis» у Спинозы, — однако этот ка-
чественный скачок принципиально рассматривается как проис-
ходящий без всякого вмешательства трансцендентного, а лишь
благодаря внутренним усилиям самого человека; спинозовское
учение об аффектах, неоднократно цитировавшееся нами в дру-
гой связи |[см. т. 1, с. 140 и ел.], представляет собой, пожалуй,
наиболее последовательную формулировку этой позиции. В том,
как постигаются здесь жизненные отношения, природа челове-
ка и жизненная установка, необходимо из всего этого выте-
кающая, содержится живое диалектическое единство — един-
ство противоречий — партикулярной личности и родового в че-
ловеке. Эпикуровское учение о мудреце качественно и с точ-
ки зрения самого уровня философствования столь же резко от-
личается от вульгарного гедонизма, как подлинное искусство
от простой беллетристики.
В основе эстетического отражения действительности, под-
линной художественной изобразительности лежит — независи-
мо от того, какую мыслительную форму придает художник
своему мировоззрению, — существенным образом сходное пред-
ставление о мире, человеке и человечестве. Выше, усмот-
рев в противоположности партикулярного и родового критерий,
позволяющий четко отделить эстетическое от приятного,
и указав одновременно на почти бесчисленное множество пе-
реходных явлений в искусстве и в жизни, мы просто сделали
в применении к нашей специальной области необходимые вы-
воды из вполне общего положения дел. Связь и расхождение
родового и партикулярного особенно заметны в (материали-
стической) этике и эстетике. Это тесное сродство не должно,
однако, вести к некритическому сближению, тем более к про-
стой идентификации. Тот факт, что предметом этики является
сама жизнь, человеческая практика, тогда как в искусстве про-
исходит отражение действительности, имеет как для субъекта,
так и для объекта обеих этих сфер далеко идущие следствия.
В этике одностороннее указание на сходства приводит подчас
к тому, что эстетические категории начинают недопустимым
230
образом применять к явлениям этического порядка. Искаже-
ния и ошибки, к которым это приводит, будут несколько под-
робнее разобраны в следующей главе. Теперь же укажем лишь
на тот факт, что тенденция решать этические проблемы в гра-
ницах чисто человеческого легко приводит к тому, что в них
начинают усматривать черты определенного сходства с эстети-
ческим, особенно в тех случаях, когда полемически подчерки-
вается отказ от постулатов и императивов абстрактно-транс-
цендентного характера; это происходит, например, в шиллеров-
ских письмах Гёте по поводу этических проблем в «Годах уче-
ния Вильгельма Мейстера»118.
Для нашей теперешней проблематики еще важнее, однако,
различие объектов обеих сфер. Поскольку субъект, ставший
субъектом этическим, поднимается на высоту родового и опре-
деляет, исходя из него, свое поведение и поступки, постольку
он, естественно, стремится соотнести себя с миром в его реаль-
ном бытии, а не только в его непосредственном явлении и про-
тивопоставить себя этому миру; в подобных случаях даже от-
каз от мира будет основываться на стремлении к правильному
пониманию и оценке его истинной сущности, его целостности
(Эпикур). Решающим для этики является, однако, то, что эти-
ческая установка и актуальная практика непосредственно не
совпадают между собой. С одной стороны, последняя вытека-
ет из первой, с другой же, каждый отдельный поступок дол-
жен давать непосредственный ответ на «требование дня»; эти-
ческая установка превращается, таким образом, в равнодейст-
вующую отдельных поступков, в критерий их оценки, оставаясь
тем не менее их субъективной и объективной предпосылкой.
Жизненная диалектика партикулярного и родового проявляет-
ся, следовательно, как в субъекте, так и в объекте этической
практики, и сам мир в его целостности оказывается тем самым
всеобщим горизонтом и перспективой, определяющей отдель-
ный этический акт. Эта структура с необходимостью следует
из практически реального характера всей этической сферы.
Существо же эстетического состоит в том, что оно является
не самой действительностью, а ее отражением. Поэтому в эсте-
тическом воспроизведении действительности мир получает дру-
гой и весьма своеобразный оттенок. В переживании приятного
любой, подпавший этому переживанию момент мира как цело-
го всегда и исключительно партикулярен. Точку зрения этики
мы только что проанализировали, научное же отражение нап-
равлено, как мы видели, на сущность мира, на его законосооб-
разность. Своеобразие и специфика эстетического полагания со-
стоит, следовательно, в том, что конкретный и реальный комп-
лекс объектов отражения получает значение некоего мира, что
он должен быть пережит не просто в качестве комплекса объ-
ектов, не просто в качестве актуального и существенного мо-
мента мировой тотальности, но в качестве самого мира. Реша-
231
ющие условия этого миросозидающего характера эстетического
отражения мы уже подробно разбирали выше, в другой связи.
Теперь же следует понять, с одной стороны, что эстетическое
возвышение партикулярного индивида к родовому может быть
•осуществлено лишь путем опосредующего переживания миросо-
зидающей объективности конкретного комплекса объектов,
с другой же, что миросозидание эстетического отражения на-
ходит критерий своей собственной объективности именно в этом
возвышении к родовому. «Мир» и род, следовательно, корре-
лируют; в них выражается одно и то же, только в одном слу-
чае с субъективной, в другом же — с объективной стороны. Мы
уже рассматривали оба этих аспекта. Что касается субъектив-
ной стороны, то напомним лишь, что как раз наиболее значи-
тельные художники постоянно напоминают о том, что (парти-
кулярная) субъективность не должна вмешиваться в творче-
ский процесс, поскольку это может нарушить самодержавную
независимость того «мира», который создается художественной
субъективностью. Противоречие между субъективностью как
необходимым основанием художественно сформированного «ми-
ра» и необходимостью предотвратить ее вмешательство
в строение, развертывание, конкретно-данное бытие и т. д. по-
следнего разрешается само собой, если в соответствии с преды-
дущими размышлениями принять во внимание противополож-
ность и тесную связь между партикулярным и родовым.
В изображении мира объектов проявляется весьма сходная
противоречивость; мы постоянно указывали на то, что эстети-
ческое отражение должно давать верный ^образ объективной
действительности; вместе с тем мы уже имели случай убедить-
ся, что простое совпадение объективной действительности и ху-
дожественного отражения не имеет с эстетической точки зре-
ния никакой ценности и нередко приводит даже к искажению,
а то и полному уничтожению эстетической правильности,
и что — в качестве дополняющей наше представление противо-
положности — нередко возникает такая ситуация, когда как
раз отказ от прямого совпадения становится основанием худо-
жественной истинности (фантастические «миры»). Здесь также
противоречие разрешается тем, что изображенные предметы,
их взаимосвязи и т. д. должны создавать такое «силовое поле»,
в котором могли бы развернуться и проявиться родовые и об-
щечеловеческие моменты данной общественно-исторической си-
туации. Именно здесь находим мы решающий критерий истин-
ности отображения объективной действительности. Его фило-
софским обоснованием является тот факт, что человек также
и в самой действительности достигает родового лишь в посто-
янном взаимодействии с объективной реальностью и что опре-
деленное состояние, определенные тенденции и перспективы
развития образуют необходимые предпосылки и условия для
подлинной реализации родового самосознания человечества,
232
а также создают само «пространство», в котором эта реализа-
ция происходит. Поскольку искусство — в каждом своем роде
с конкретно различным выбором компонентов этого взаимо-
действия — творит некий «мир», создающий возможность наи-
более напряженного и адекватного раскрытия решающих, как
позитивных, так и негативных, моментов этого взаимодейст-
вия, — постольку в нем складывается высочайшая объективи-
рованная форма самосознания человеческого рода.
Теперь, придя к этим выводам, мы видим, что формальные
принципы искусства в качестве форм его данного, неповторимо-
конкретного и определенного содержания лишь в этом контек-
сте дорастают до себя самих. Вне этого содержания они оста-
ются на уровне партикулярности, и сформированное ими целое
утрачивает свой миросозидающий характер: оно остается всего
лишь случайным комплексом явлений, стоящим в случайной
связи с определенными душевными состояниями людей. И все
категории, существующие в отрыве от подобного основополага-
ющего содержания, вместе взятые, включая причинную необхо-
димость, не способны снять эту случайность. Приятное — в са-
мом широком смысле слова — есть как раз остановка и фикси-
рование человеческого сознания на подобном уровне непреодо-
лимой случайности, хотя непосредственные формы, в которых
эта случайность проявляется, могут обладать самой строгой
физиологической, психологической или социальной принуди-
тельностью. Это коррелирование случайности и необходимости,
полностью внесубъективной объективности и чисто субъектив-
ных реакций на нее (в своем непосредственном явлении оба
этих полюса кажутся укорененными в чисто партикулярной ин-
дивидуальности, хотя на самом деле они детерминированы вы-
шеуказанным необходимо-случайным образом) является харак-
тернейшей чертой обыденной жизни в противоположность эсте-
тическому отражению. Парадоксальность разбиравшихся нами
псевдоэстетических формообразований, осуществленных на
уровне приятного, заключается в том, что они используют эсте-
тические средства отражения, эстетическую изобразительность,
достигают при благоприятных обстоятельствах известной сноров-
ки и умения в их использовании и при всем том удерживают
воспринимающий субъект в непосредственности повседневной
жизни. Мы уже знаем: подлинное искусство также передает не-
посредственность повседневности, однако лишь для того, чтобы
создать вторую непосредственность, непосредственность родово-
го самосознания, которое лишь здесь обретает соразмерную ему
объективацию. Где же, напротив, господствующим принципом
является эвоцирование приятного, там первая и вторая непо-
средственность совпадают, первая вбирает в себя вторую, то
есть формальные принципы художественной изобразительности
пускаются в ход лишь для того, чтобы зафиксировать повсе-
дневные реакции человека отчетливей и яснее, чем это возможно
233
в самой жизни. Это вовсе не обязательно означает чисто меха-
ническое, сходное с фотографией отображение. Напротив, пар-
тикулярная субъективность способна здесь вмешиваться в дело
не менее решительно, чем в случае подлинного искусства пар-
тикулярность родовая. Ложные устремления, несообразные пре-
тензии и желания, которые — справедливо — терпят крах, стал-
киваясь с необходимостью общественного развития, или осу-
ществляются лишь случайно, в порядке исключения; далее, близ-
кое к снам наяву «приукрашивание» повседневной жизни или,
наоборот, мистический ужас перед ее теневыми сторонами — все
это возникает здесь в качестве своего рода «корректуры» непо-
средственной предметности. Однако при всех этих модификаци-
ях получаемое отображение остается на уровне человеческой по-
вседневности, и именно это — а вовсе не изначальные формаль-
ные критерии — отделяет эстетическое от приятного с совер-
шеннейшей однозначностью. Причем, что весьма существенно
для всего нашего рассуждения, приятное вовсе не теряет тем
самым своего значения для повседневной жизни, значения, ко-
торое, как мы видели, может быть и позитивным и негативным,
вовсе не утрачивает той роли, которую оно играет в собствен-
но эстетическом преддействии и последействии.
Глава 15
ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ
Проблемы, обсуждаемые в этой главе, важны для нас не
столько вследствие их значения для существа эстетического
вообще, сколько вследствие их роли в истории эстетической
мысли, роли, которую они в известном отношении — в качестве
традиционных постановок вопросов — играют и по сию пору.
Уже само место, выбранное нами для обсуждения этого комп-
лекса проблем, показывает наше отрицательное отношение
к этому при всех расхождениях, при всей противоположности
исходных установок методологически единому целому. Эстети-
ка начинает обыкновенно с анализа единства и противополож-
ности между красотой в природе и красотой в искусстве; мы
уже разрабатывали основные ее проблемы совершенно иначе
и впервые затронули эту тему лишь при рассмотрении вопроса
об отношении приятного к эстетическому вообще. Результаты
нашего исследования предполагаются известными читателю —
я имею в виду прежде всего функцию приятного в качестве
стимулирующей жизнь силы, универсальность приятного, более
того, его безграничность в обыденной жизни, его непосредст-
венную субъективность, его нераздельную связанность с парти-
кулярной индивидуальностью целостного человека — также
и в тех случаях, когда своеобразие конкретного объекта и его
взаимосвязей требует частных модификаций определенных чув-
ственных реакций.
Мы видим из истории эстетики, что вся эта проблематика
концентрируется вокруг вопроса о том, существует ли красота
независимо от искусства и каково в таком случае взаимоотно-
шение двух этих видов прекрасного. Соответственно идея при-
родной красоты, как ее трактует большинство авторов, выходит
далеко за пределы природы в собственном смысле слова, рас-
пространяясь также и на человека, причем не только в качест-
ве природного существа (человеческое тело), но также и на
его внутреннюю жизнь, его общественные отношения, социаль-
ные институты, на происходящие в обществе события, на исто-
рию и т. д. Подобное растяжение понятия красоты предпола-
гает расплывчатость и неопределенность двух, конституирую-
щих это понятие границ; мы уже говорили об этом в другой
235
связи, сейчас речь может идти лишь о применении полученных
ранее результатов к обсуждаемому теперь вопросу. Мы повто-
ряем поэтому с возможной краткостью, что неопределенность
понятия прекрасного выражается, с одной стороны, в расплыв-
чатости его «верхней» границы, а именно в неопределенности
отношения эстетики к этике, теории познания, религии и т. д.,
с другой же стороны, в расплывчатости «нижней» границы,
о чем подробно шла речь при рассмотрении приятного [с. 186].
Расплывчатость основного понятия и безграничная всеобщ-
ность подразумеваемого при этом мира объектов оказываются
при таком способе рассмотрения тесно взаимосвязанными.
В действительности взаимопроникновение прекрасного и доб-
рого, с одной стороны, и понимание первичных общественных
явлений как природы, более того, как противоположности об-
щественному вообще, с другой, коренным образом отличаются
друг от друга и должны быть сведены к их реальным свойст-
вам, причем — в противоположность традиционным эстетиче-
ским теориям — кажущееся единство всего этого предметного
комплекса должно быть отвергнуто. Таким образом, то, что в
истории эстетической мысли трактовалось как единство, по-
требует от нас отдельного анализа каждой из его составляю-
щих, что должно еще раз показать качественно различный ха-
рактер философских проблем, лежащих в основе каждого из
этих двух комплексов. Поскольку проблемы «красоты» челове-
ка теснее связаны с расплывчатостью «верхней» границы поня-
тия красоты, а также поскольку освещение их сравнительно
проще, с них мы и начнем.
1. МЕЖДУ ЭТИКОЙ И ЭСТЕТИКОЙ
Проникновение эстетических принципов в сферу этического,
как и вообще эстетизация этики, началось давно. Оно может
удивить лишь тех, кто смешивает методологически необходи-
мое выделение отдельных жизненных сфер с действительностью
самой жизни, тех, кто не замечает, как много абстракции
в этих «чистых» формах и до какой степени жизнь выходит за
эти строго очерченные границы. Разумеется, абстракция ни
в коем случае не равнозначна здесь примитивному, чуждому
действительности обобщению, ни в коем случае не является
просто разделением, существующим лишь в нашей мысли,
в чем мы уже имели возможность убедиться при обсуждении
различия между прекрасным и приятным. Этическое и эстети-
ческое являются, при всей «чистоте» их понятий, разумными
абстракциями, понятийными обобщениями реальных жизнен-
ных сил и тенденций, различение которых, временами прини-
мающее характер насильственного противопоставления, может
оказаться требованием социальной жизни. Это ни в коем слу-
236
чае не исключает, как мы видели, взаимного пересечения, на-
кладывания друг на друга обеих сфер; все дело заключается
только в том, что же действительно происходит в данном конк-
ретном случае: вызванное жизнью, неизбежное колебание
и смещение границ, не снимающее наличия этих границ как та-
ковых, или же недопустимое использование расплывчатости
этих переходов с целью установить единство там, где в дейст-
вительности в конечном счете существуют лишь относительно
самостоятельные и многообразно друг другу диалектически
противостоящие явления и тенденции. В дальнейшем мы поста-
раемся показать, что же здесь происходит на самом деле.
Необходимо, однако, сразу же подчеркнуть следующее:
когда те или иные объективно-ложные воззрения оказываются
крайне живучими, упорно возникают вновь и вновь, изменяясь
и обновляясь, то их источником очень редко бывает простое
заблуждение какого-нибудь зафилософствовавшегося мыслите-
ля; такой философ, даже если ему удалось вызвать среди сов-
ременников легкую сенсацию, рано или поздно предается заб-
вению. Когда, следовательно, речь идет о том, чтобы опроверг-
нуть подобные снова и снова возникающие теории, тогда соб-
ственно критике как таковой должна предшествовать попытка
найти источники этих ложных ходов мысли в самой жизни, в той
сфере, откуда они исходят. (Это относится, разумеется, лишь
к более развитым ступеням человеческой мысли. Хотя иска-
женное отражение объективной действительности лежит,
к примеру, также и в основе тех форм, которые принимает так
называемое магическое «мировоззрение», было бы ошибкой пы-
таться применить к ним указанный здесь метод.) Каким же
образом проникают эстетические моменты, эстетические кате-
гории в системы мысли, носящие преимущественно этический
(метафизический или религиозный) характер, в особенности
же, что следует здесь отметить, у тех мыслителей, чьи исход-
ные точки зрения находятся по отношению к эстетическому
вообще, и прежде всего по отношению к его чистым формам,
скорее в позиции недоверия, нежели безоговорочного утверж-
дения и приятия? Мы полагаем, что основные, решающие мо-
менты этого процесса не слишком трудно понять, исходя из
наиболее общих структур этической жизни вообще. К сущно-
сти этики относится то, что в ней партикулярной личности,
живущей своей обыденной жизнью, противопоставляются оп-
ределенные моральные требования. Чем сильнее настаивает
мораль или этика на том — именно таким образом раскрывая
свой характер морали или этики в противоположность праву,
обычаям, условностям и т. д., — что индивид должен признать
ее требования своими собственными, идущими изнутри, чем-
то таким, что он сам вменяет себе в обязанность, тем отчетли-
вее проявляется в подобных моральных актах известный раз-
рыв и раздвоение личности: ставшее внутренним моральное
237
требование должно быть осуществлено собственным волевым
усилием данного человека, причем, осуществляясь, это требо-
вание должно одержать победу над сопротивлением аффектов,
предрассудков и т. д. того же самого человека. Подобная же
двойственность может, конечно, возникнуть и в отношении пра-
ва или обычаев, однако здесь противоречие существует преж-
де всего между поступками частного лица и определенной объ-
ективной системой предписаний. (Тот факт, что в основе обоих
этих явлений может лежать один и тот же социальный антаго-
низм, мы можем оставить здесь без внимания.) Возникающее
таким образом противоречие между раздвоенностью и един-
ством человеческой личности можно проследить в рамках лю-
бого аскетического мировоззрения; этика Канта блестящий то-
му пример.
Далее, не подлежит никакому сомнению, что тому классу,
чьи интересы — в самом широком смысле слова — выражает
та или иная мораль или этика, выгоднее всего, чтобы предпи-
сания этой морали вызывали у данного конкретного человека
как можно меньше напряжения, раздвоения, коллизий и т. д.,
чтобы совершение моральных актов в возможно большей сте-
пени превращалось в идущее изнутри органическое проявление
данной личности. С другой стороны, у множества частных лиц
возникает естественное стремление к подобному устроению их
нравственной жизни. Поскольку же каждый класс состоит из
частных лиц, то оба вышеуказанных момента являются лишь
двумя сторонами одного и того же общественного процесса;
и то обстоятельство, что в большинстве имеющихся в нашем
распоряжении свидетельств на первый план выдвигается как
раз вторая сторона этого процесса, ничего не меняет в харак-
тере их внутренней связи. Стремление человека к такому об-
разу жизни, при котором этическое требование служило бы
выражением самой личности и в качестве такового подчиняло
бы себе всю, состоящую из чувствований и аффектов, из же-
ланий и помыслов периферию этой личности, причем подчиня-
ло бы не дуалистически-тиранически, но органически, путем
все более полного раскрытия целостной личности, — такое
стремление вырастает, следовательно, из существа самой нрав-
ственности. Если это стремление пытается найти себе адекват-
ное понятийное выражение, особенно в те эпохи, когда этиче-
ские идеалы выглядят — уже или еще — проблематическими
с общественной точки зрения, оно очень легко, иногда почти
с неизбежностью, приходит к самовыражению в эстетических ка-
тегориях. Дело заключается в том, что эстетическое отражение
действительности всегда и во всех случаях конституирует чув-
ственно-наглядное единство внутреннего и внешнего, содержа-
ния и формы, характера и судьбы и т. д. Даже описанная на-
ми жизненная коллизия выглядит в таком отражении менее
дуалистически-напряженной, более центрированной на челове-
238
ке, чем это обычно бывает в самой жизни. И это происходит
отнюдь не в результате сглаживания жизненных конфликтов
в эстетическом отражении, а, наоборот, вследствие его миросо-
зидающего, жизненного характера, при котором основополага-
ющее единство человеческой личности проявляется с большей
отчетливостью даже и в острейших, неразрешимейших конф-
ликтах, чем это возможно в самой жизни. Эта существенная
особенность эстетического отражения, соотнесенная с вышеопи-
санной социальной потребностью, легко может оказаться про-
образом для самой жизни и способствовать тем самым проник-
новению эстетических категорий в сферу этики. «Может» не
означает здесь, разумеется, «должна».
Применительно к греческой этике, в которой впервые и с
многочисленными последствиями происходит это переплетение
этических и эстетических проблем, должны быть учтены, одна-
ко, еще и другие моменты. Во-первых, в античной культуре
весьма значительную роль играет относительно свободный —
не связанный теологией — и постоянно по-новому интерпрети-
руемый миф. В этом мифе присутствовали чрезвычайно силь-
ные и живые воспоминания о первобытном коммунизме (как
о «золотом веке»). Растворение жизни индивида в жизни общи-
ны имеет с точки зрения нашей проблемы то следствие, что в
период, когда вообще не существовало еще морали, права
и этики, человек считал подчинение его деятельности обычаям
и традициям само собой разумеющимся, и соответственно тот
конфликт, о котором мы только что говорили, для него вообще
еще не существовал. Вследствие этого люди «золотого века»,
известные нам по мифам и их переработкам в поэзии и изобра-
зительном искусстве, могли рассматриваться как воплощение
этого идеала органического единства человеческого существо-
вания и практики. Этот «эстетический идеал» практического
поведения усиливается и видоизменяется в идеологии калока-
гатии, распространенной в правящем слое города-государства.
Необходимость поддерживать и укреплять власть с помощью
войны и политики (то есть способности к риторике), досуг как
основание культуры при презрительном отношении к «черной»
работе, но при этом культ физических упражнений, — все это
закладывало фундамент для подобного этического идеала.
Здесь дело не в том, какие следствия эстетического характера
вытекали из такой формы существования, поскольку очевидно,
что она порождала вполне нормальный для развития искусст-
ва социальный заказ, который как эстетически, так и общест-
венно-исторически отличается от других лишь тем, что лежа-
щая в его основе установка на посюсторонность и телесно-ду-
ховную гармонию вызывала к жизни искусство, применение
к которому эстетической категории красоты не составляет осо-
бых затруднений. Что же касается самого этого жизненного
уклада, то многочисленные переливы нашего основного поня-
239
тия — понятие «красивый» нераздельно с понятиями «благород-
ный», «приличный» и т. д. — не имели никаких неблагоприят-
ных для этики последствий до тех пор, пока этот жизненный
уклад не оказался перед лицом собственных внутренних про-
тиворечий, выраставших на почве социального бытия вооб-
ще. Таким образом, интересующая нас проблематика выходит
на первый план лишь ко времени распада полисной демокра-
тии, ко времени Сократа и Платона.
Мы перечислили здесь некоторые феномены социальной
жизни, создающие реальные основания для генезиса нашей
проблематики. Нужно, однако, сразу же отметить, что самое
глубокое понимание исторической необходимости возникнове-
ния какого-либо феномена отнюдь не идентично с признанием
его фактически-философской обоснованности. Конвергенция
абстрактных понятий, обнаруживающаяся тогда, когда те или
иные проблемы рассматриваются с наибольшей всеобщностью,
исчезает, как только делается попытка их конкретизации. Возь-
мем хотя бы отношение сущности к явлению. Эстетически явле-
ние ценно тем, что оно адекватно, чувственно-эвокативно выра-
жает сущность в частном, поднятом до типического, случае на
уровне второй, эететически-созданной непосредственности.
В этической же сфере, как мы видели выше, хотя и может
возникнуть стремление к такому образу жизни, при котором в
поступках человека раскрывалась бы его подлинная, внутрен-
няя нравственность, однако даже при наибольшем сближении
нельзя оставить без внимания важнейшее различие, более то-
го, противоположность между этическим и эстетическим в этом
отношении. Это различие, эта противоположность проистекают
из того обстоятельства, что эстетическое есть определенный
способ отражения действительности, этическое же, наоборот,
выступает как сама действительность, как практическая реа-
лизация существа человека в его взаимоотношениях с други-
ми людьми. Поэтому адекватное проявление сущности имеет
в обоих случаях совершенно различное значение. Эстетически
речь идет в буквальном смысле о совпадении сущности и яв-
ления, поскольку оба они — причем именно с помощью непо-
средственной самостоятельности этого конкретно-данного бы-
тия — могут лечь в основание миросозидающего единства этой
отраженной реальности лишь в их собственном органическом,
нераздельном единстве. И хотя в этике точно так же каждое
отдельное воплощение морального предписания соотносится
с тотальностью того мира, в котором оно осуществляется, тем
не менее, поскольку здесь речь идет о социальной реальности,
а не о ее отображении, это соотнесение с целым может быть
лишь гипотетическим, лишь постулативным.
Отсюда следует, что адекватное соотношение сущности
и явления в этике есть, с одной стороны, внутренняя связь
между образом мыслей данного лица и его поступками, воз-
240
можно более соразмерное выражение образа мыслей в формах
поступка, с другой, стремление так организовать этическую
практику, чтобы в ее результатах были по возможности полна
реализованы тенденции, лежащие в основе каждого конкрет-
ного решения. Очевидно, что второй момент может носить лишь
приблизительный характер. Как бы ни отрицала диалектически
построенная этика самоограничения, сосредоточения этики на
чистом образе мыслей в духе Канта или экзистенциалистов,
она должна тем не менее отдавать себе отчет в том, что ее
суждение о последствиях того или иного поступка может быть
лишь постулативным и приблизительным. Это ни в коем случае
не исключает необходимого максимума ответственности и за-
боты, исключает лишь требование безусловного равновесия,
принудительной гармонии между замыслом и результатом. До-
пущение такой возможности противоречило бы элементарнейшим
закономерностям общественно-исторической действительности,
а именно тому факту, что отдельные поступки отдельных
лиц (а это ведь и есть предмет этики) обычно не совпадают
с их первоначальными субъективными намерениями. Однако,
даже если свести всю проблему к действиям субъекта, ясно,
что отношения сущности и явления в этической практике каче-
ственно отличаются от их отношений в эстетическом отраже-
нии. Соразмерность явления с сущностью отличается в этике от
собственно содержания явления и носит, кроме того, лишь
приблизительный характер; форма явления по необходимости
вторична, аксессуарна, в то время как с эстетической точки
зрения именно это совпадение должно быть полным, причем
эвокативная сила той формы, которую принимает явление, да-
ет непосредственный критерий для соразмерности явления
с сущностью. Разумеется, это противоречие не абсолютно, не
метафизично; с одной стороны, форма относится в эстетической
сфере всегда лишь к одному определенному содержанию,
с другой, этическая конвергенция явления и сущности имеет по
необходимости также и формальные последствия. При всем
том возможность «эстетического» воздействия формы остается
в сфере этического лишь побочным продуктом, и стремление
к нему неизбежно приводит к профанации содержания, кото-
рое в этой сфере решает все. Что касается первого момента,
отношения результатов поступка к миропорядку вообще, то
здесь разница еще очевиднее. Миросозидающий характер ис-
кусства означает включение сжатого, поднятого до типического
образа в интенсивную целостность художественной образности,
причем значение того или иного поступка для развития чело-
веческого рода доводится до самосознания рода в форме част-
ного случая, сделавшегося символическим. Поскольку любая
этическая практика образует лишь отдельный, данный момент
этого реального общего процесса, ясно, что в действительности
ни моральное решение, ни его реализация не могут иметь по-
16-805
241
добной непосредственно-символической значимости, в особен-
ности на уровне той их актуальности, которая именно для
зтики как таковой носит решающий характер, в лучшем слу-
чае — но и тогда только относительно, — когда оба они стали
уже звеньями протекшего исторического процесса. Подлинная
этическая ответственность стоит, однако, в значительно более
опосредованном отношении к последнему аспекту, как в том,
что касается решения, так и в том, что касается его последст-
вий; и этот аспект также далеко не идентичен здесь единству,
достигаемому в эстетическом отражении.
Все эти различия не отрицают, разумеется, тех сходств, ко-
торые, как мы пытались ранее показать на некоторых приме-
рах, вытекают из существа этической практики, из ее общест-
венных причин и следствий. Нельзя только ни в коем случае
оставлять без внимания то, что даже сильнейшее сходство не
снимает фундаментальных различий между данной реальной
практикой и ее отражением, определяемым совсем другими
принципами. Укажем хотя бы на проблему формирования при-
меров и образцов. Вследствие процесса типизации эстетическое
отображение превращает любое действие в более или менее
парадигматическое, причем не следует забывать, что эта кате-
гория охватывает также и все негативное, все, колеблющееся
между добром и злом, в то время как примеры, выдвигаемые
в этическом смысле, должны быть чем-то по существу позитив-
ным. Более того, в эстетическом отражении конституируется
замкнутое в своих мотивах и следствиях событие (также и в
тех случаях, когда оно, как в драме, осуществляется в формах
настоящего), в то время как этическое решение хотя и может
при определенных обстоятельствах стремиться к своего рода
образцовости, тем не менее достижение этого никогда не мо-
жет быть единственным содержанием морального акта, оно
должно оставаться лишь побочным мотивом, и слишком прямая
интенция не должна вторгаться в его существо. Подобные ре-
альные сходства при сильнейших различиях никогда не внес-
ли бы путаницы в отношения между этикой и эстетикой, если
бы философский идеализм уже не внес их в обе сферы. Чтобы
понять, как это происходит, достаточно вспомнить идеалистиче-
ское истолкование телеологии труда: того обстоятельства, что
цель труда идеально ставится его субъектом, оказалось доста-
точно, чтобы возникли целые мифы о боге-творце [см. т. 1,
с. 131 и ел.]. Однако телеология морального плана еще ближе
человеку, чем телеология труда, поскольку даже там и тогда,
когда очевидно, что идущие извне моральные требования со-
ставляют все содержание этического акта, они все равно долж-
ны стать внутренними душевными движениями субъекта, что-
бы сохранить свой подлинно этический характер. Здесь, таким
образом, идеализм встречает еще менее значительные препят-
ствия в своих попытках гипостазировать подлинную этическую
242
телеологию до представления о пронизанности всей действи-
тельности идеями или свести мировую историю к борьбе меж-
ду светом и тьмой, духом и материей, добром и злом.
Подобное гипостазирование этической телеологии приводит
к представлению о всесилии идеи; однако обобщения, исходя-
щие из подобных предпосылок, должны осуществляться в столь
универсальном масштабе, что специфические различия типов
человеческого поведения, отношений человека к действительно-
сти расплываются в них до неразличимости. Когда Гегель, ко-
торый более всех других объективных идеалистов был озабо-
чен методологическим и историческим дифференцированием,
определяет идею следующим образом: «Идея — это единство
понятия и реальности, это — понятие, поскольку оно само опре-
деляет и себя, и свою реальность; другими словами, это дейст-
вительность, которая такова, какой она должна быть, и кото-
рая сама содержит свое понятие»1, то уже здесь он лишает се-
бя возможности провести различение между сферами идей и
действительности, попытка какового предпринимается им
в следующих параграфах. И хотя он в состоянии — причем не-
редко правильно и глубоко — определить отдельные моменты
(как-то: непосредственное единство идеи и реальности в жизни,
освобождение от случайных ограничений бытия в сфере пре-
красного и т. д.), тем не менее признание безграничной значи-
мости единства идеи и реальности, полная пронизанность ре-
альности идеей как последний, решающий критерий приводят
у него к унификации даже самых гетерогенных явлений. Когда
же, исходя из таких методологических предпосылок, предпри-
нимается попытка определения отдельных явлений, то эти
слишком абстрактные общие определения выходят далеко за
пределы подлежащей рассмотрению области и в лучшем случае
затрагивают лишь наиболее общие черты того или иного типа
человеческих отношений к действительности. Возьмем, к при-
меру, понятие совершенства (выведенное опять же из выше-
указанного отношения идеи и действительности), понятие, ко-
торое в любой идеалистической этике или эстетике играет ре-
шающую роль. Чернышевский совершенно верно замечает по
поводу абстрактной универсальности этого понятия, употреб-
ляемого Гегелем и в особенности Фишером в качестве специ-
фического критерия в эстетике: «Но эта формальная красота,
или единство идеи и образа, содержания и формы, не специ-
альная особенность, которая отличала бы искусство от других
отраслей человеческой деятельности. Действование человека
всегда имеет цель, которая составляет сущность дела; по мере
соответствия нашего дела с целью, которую мы хотели осу-
ществить им, ценится достоинство самого дела; по мере совер-
шенства выполнения оценивается всякое человеческое произ-
ведение. Это общий закон и для ремесел, и для промышлен-
ности, и для научной деятельности и т. д.»2. Опасность заблуж-
16*
243
дения усиливается еще и потому, что любая идеалистическая
философия принуждена иерархически упорядочивать отношения
различных аспектов объективной действительности и связи че-
ловека с ним: потому, что приближение к идее, отдаление от
нее и т. д. необходимым образом становятся решающими кри-
териями для определения особенностей и ценности той или
иной рубрики в подобной классификации. Поскольку иерархи-
ческая градация всегда является потребностью того или иного
класса общества, то это размывание, иногда даже полное ис-
чезновение индивидуальных особенностей играет ему на руку.
Таким образом, облегчается не только гомогенизирование ге-
терогенного —■ методологическая предпосылка всякой иерар-
хии, — но также и возможность произвола в подразделении
«рангов» такой иерархической лестницы. Возникающая подоб-
ным образом стертость критериев делает, например, равновоз-
можными два иерархических членения: либо природа ставится
выше искусства (Платон, Кант, Вейсе), либо положение при-
знается прямо противоположным (Гегель, Фишер).
Дальнейшую интенсификацию этот метод претерпевает
в результате неизбежной для идеализма переоценки формы
в противоположность содержанию. Эта иерархия оценок на-
столько сильна, что весьма часто в философских построениях
возникает следующая поляризация: на вершине лестницы ока-
зывается чистая форма, которой не противостоит больше ни-
какое содержание, в ее низшей точке — своего рода хаос, во-
обще никак не оформленное содержание. Подобные концепции
проникают также в эстетику и в этику, особенно в тех случа-
ях, когда обе эти сферы недопустимым образом сближаются
или вообще совпадают. Так, Шефтсбери говорит: «Ведь ум один
только и создает формы. В чем нет ума, все, что поло и лише-
но ума, — ужасно, материя, лишенная формы, — это сама бес-
форменность, безобразие»3. Это положение, которое в различ-
ных вариациях можно встретить весьма часто, вообще не име-
ет смысла вне рамок какой-либо идеалистической метафизики,
поскольку любой мало-мальски разумной теории познания хо-
рошо известно, что форма и содержание являются коррелятив-
ными понятиями, что вообще не может быть содержания без
формы, и наоборот, и что, следовательно, утверждение: «То
мли это оформлено» —■ вообще ничего не говорит об объекте,
если предварительно не были точно определены содержатель-
ная сторона формы и основные принципы формообразования.
Отсюда следует — с точки зрения теории познания, — что от-
вратительное точно так же оформлено, как и прекрасное. Оба
они могут быть эстетически (или, говоря в духе Шефтсбери:
эстетически-этически) оценены и определены прежде всего в
плане их содержания, и только после этого можно приступать
к специальному исследованию их этических или эстетических
форм. При этом для эстетической формы характерно то, что
244
этически противоположные содержания, занимающие свои ме-
ста в данном эстетическом «мире» и получившие соответству-
ющую оценку с позиций как элементарного, так и высокосозна-
тельного эстетического формообразования, могут быть одина-
ково эстетически действенными; в этом отношении между Яго
и Имогеной, между мадонной Рафаэля и карикатурой Домье
нет никакой принципиальной разницы. Наоборот, этическая
форма выносит отношению форма — содержание в обыденной
жизни такой приговор, который взрывает структуру этого от-
ношения. (Разумеется, в сфере эстетического полагания также
происходит видоизменение отношения форма — содержание, од-
нако, поскольку здесь отображение контрастирует с отображе-
нием, там же действительность сталкивается с действитель-
ностью, тип происходящих изменений остается качественно раз-
личным.) Именно поэтому в этике речь может идти о совер-
шенном отвержении повседневности; подлинно этическое пове-
дение, по Канту, например, заключается в полном уничтоже-
нии отношения форма — содержание и в замене его отношени-
ем диаметрально противоположным. Поскольку формы обыден-
ной жизни рассматриваются при этом как вообще несущест-
вующие, в лучшем случае как досадные препятствия для един-
ственно правильного, то позиция Шефтсбери становится понят-
ной, хотя объективно также и в обыденной жизни речь всегда
идет о чем-то оформленном. Если же причиной этически-не-
приемлемого является некоторая неверная максима, то очевид-
но, что этическая система форма — содержание противостоит
некоторой другой, гетерогенной, враждебной, однако тоже си-
стеме форма — содержание. В основе расхождения и здесь ле-
жит содержание, которое создает себе свою собственную фор-
му. Принцип этого расхождения должен быть вследствие его
существенного и значительного характера проведен в жизнь,
хотя здесь возникает множество переходных явлений, которые
подчас отвлекают внимание от основного расхождения. Для
эстетической сферы достаточно будет указать на собственно
эстетическое преддействие и последействие. На обеих этих до-
полнительных стадиях эстетической рецептивности субъектом
является целостный человек, активно участвующий в жизни,
поэтому категории практики — и среди них этические, хотя,
разумеется, не только они, — получают перевес также и в сфе-
ре его мышления и эмоций. С другой стороны, было бы также
неверно отделять этическое решение от нормальной жизни це-
лостного человека, до какой бы степени акт этого решения ни
поднимался над обыденной жизнью. Если не сводить этику
к чистому образу мыслей, как это происходит у Канта и экзи-
стенциалистов, то ответственность за последствия поступка,
как и в других областях практики, требует приостановки дей-
ствия, во время которой могут быть взвешены самые различ-
ные мотивы за и против. Очевидно, что таким образом проис-
245
ходит непрерывный взаимопереход самых различных мотивов,
включая этические и эстетические. При этом, однако, не сни-
мается вышеуказанная фундаментальная разница между спе-
цификой этической практики и эстетического отражения. Об
этом свидетельствует уже неоднократно приводившееся нами
высказывание Аристотеля, а именно что то, что мы в дейст-
вительности отклоняем как недостойное, в искусстве может до-
ставить нам эстетическое наслаждение. В этом пункте опять-
таки часто возникает ложная идентификация этического и эсте-
тического на почве непонимания особенностей обеих этих сфер.
Дело в том, что удовольствие, которое доставляет нам худо-
жественно совершенное изображение злого, отвратительного,
вообще того, что в жизни отталкивает нас, должно быть опять
же выведено из миросозидающего характера подлинного ис-
кусства. И поскольку в соответствии с таковцм — в конечном
счете с точки зрения общечеловеческой — любое убеждение,
любое деяние занимает в системе его «мира» соответствующее
ему место, поскольку ценностное отношение к ним в процессе
их художественного претворения достаточно верно ориентиро-
вано, эстетическое переживание как момент социальной жизни
человека не находится в противоречии с его здоровым нравст-
венным чувством. Удивление, которое вызывают у нас умст-
венные способности какого-нибудь Ричарда III, ни в коем слу-
чае не заключает в себе оправдания моральных сторон его
характера. Только во времена общественных кризисов, естест-
венно прежде всего делающих проблематической нравствен-
ную жизнь человека, могут возникать такие извращения, кото-
рые, отвлекаясь от этической субстанции, изолированно, «эсте-
тически» рассматривают лишь формы ее проявления, такие,
как духовное превосходство или «искусство», взятое с точки
зрения средств исполнения. Все это заходит иногда настолько
далеко, что, с одной стороны, вообще отрицается всякая связь
эстетического формообразования с нравственным бытием че-
ловека, искусство «освобождается» от всех тех содержатель-
ных условий, которые в действительности определяют его фор-
мы, и эстетическое вообще истолковывается как вполне само-
стоятельный, ориентированный на себя самого принцип, с дру-
гой же стороны, размывание и разрушение этических ценностей
выражается в форме непосредственно «эстетических» устано-
вок по отношению к нравственным феноменам жизни.
Дидро с большой ясностью показал в своем диалоге «Пле-
мянник Рамо» подобное кризисное заострение «эстетизирую-
щих» тенденций в морали. Его собеседник, опустившийся гени-
альный музыкант, рассказывает с пониманием и восторженным
удивлением о тонкой интриге некоего еврейского вероотступ-
ника, который доводит до моральной и физической гибели од-
ного из своих бывших единоверцев. После его рассказа Дид-
ро — автор и одновременно герой диалога — замечает: «Не
246
знаю, чему больше ужасаться — гнусности вашего вероотступ-
ника или тону, которым вы о нем рассказываете». Его невы-
сказанные мысли еще отчетливей: «Мне становилось почти не-
выносимым присутствие человека, обсуждавшего чудовищный
поступок, мерзкое злодеяние так, как знаток в живописи или
в поэзии разбирает произведение изящного вкуса.. .»4 Здесь
хорошо видно, как за эстетическими парадоксами проступает
моральная перверсия.
Однако эта проблематика не обязательно выступает в подоб-
ной экстремальной форме, она может выглядеть и сравнительно
невинно, как обычное житейское дело. Де Куинси описывает,
как знаменитый поэт Кольридж отправился однажды смотреть
пожар, однако его «эстетическое» чувство осталось неудовлет-
воренным. Де Куинси защищает его от возможных упреков
этического характера. О нравственности здесь якобы вообще
не может быть и речи: ведь пожарная охрана уже позаботи-
лась о помощи. Кольридж не допил чай ради такого зрелища,
неужели ему ничего за это не полагается? В последующих
размышлениях Де Куинси распространяет эту проблему на
случаи, сходные с теми, какие рассматривал и Дидро. Суть его
мыслей сводится к тому, что, пока некоторое преступление еще
не совершилось, мы обязаны занять по отношению к нему мо-
рально-практическую позицию. Но если это преступление уже
превратилось в fait accompli, то, спрашивается, что теперь де-
лать здесь добродетели? «Грустная история, что и говорить,
очень грустная; но мы-то здесь уже ничем помочь не можем.
А потому обернем дурное себе на пользу и, раз уж из него ни-
чего нельзя извлечь в моральном отношении, будем рассматри-
вать его эстетически»5. Таковы вступительные замечания к эссе,
озаглавленному «Убийство как один из видов прекрасных ис-
кусств». Здесь мы видим, безусловно, шаг назад в сравнении
с Дидро. Дидро с его здоровым нравственным чувством совер-
шенно не волнует, относятся ли бесчестные поступки вероот-
ступника к настоящему или к прошлому. Он хорошо знает:
правильная этическая практика предполагает правильное эти-
ческое отношение ко всей жизни в целом. И определенное эти-
ческое отношение к поступкам других людей (как и к своим
собственным) не может, разумеется, перейти в свою противо-
положность только потому, что эти поступки уже отошли
в прошлое и изменениям не подлежат. Здесь, конечно, не место
для того, чтобы даже только наметить в высшей степени за-
путанную диалектику таких этических категорий, как раская-
ние, совесть, самокритика, ответственность и т. д. Но даже про-
стая необходимость их существования и функционирования яс-
но указывает на то, что этический характер того или иного
события, обязанность занять по отношению к нему этиче-
скую — позитивную или негативную — позицию ни в коем слу-
чае не снимаются тем обстоятельством, что это событие уже
247
в прошлом, практической невозможностью что-либо в нем из-
менить; в многочисленные модификации, которые здесь, без.
сомнения, возникают, мы также не можем сейчас углубляться.
Позиция Де Куинси, согласно которой прошлое просто-напро-
сто отходит в область эстетического, этическое же — практи-
цистски-прагматически — ограничивается настоящим, непо-
средственным действием в настоящем, выступает, таким обра-
зом, как уклонение от основных вопросов этики, недостойный
компромисс.
Этот вопрос важен для нас потому, что здесь намечается
проблема «природной красоты» в жизни человека, и прежде
всего в его общественной и исторической жизни, — проблема,
которая играет большую роль, к примеру в эстетике Фишера.
Однако также и самый значительный из его критиков, Черны-
шевский, который совершенно справедливо отвергает фише-
ровскую концепцию превосходства искусства над действитель-
ностью, принимает тем не менее, хотя и на совсем других осно-
ваниях, его отношение к «природной красоте» в человеческой
жизни. Основная противоположность между обоими мыслите-
лями заключается в том, что Фишер эстетизирует общество
и историю, в то время как Чернышевский, напротив, сохраняет
в неприкосновенности свой здоровый политико-социально-мо-
ральный образ мыслей и уже с ним согласовывает свое отно-
шение к искусству. В наши дни эта проблематика возникает
в несколько измененном, приближающемся к Канту, варианте
у Николая Гартмана. Его общей теорией природной красоты
мы займемся в следующем разделе [с. 274 и ел.]; здесь же
ограничимся лишь настоящей узкой проблематикой. Гартман не
избегает сомнений морального характера при общем эстетиче-
ском отношении к жизни. Он говорит о том, что это отношение
легко переходит в бессердечность, он рассматривает чисто ге-
донистическую установку эстета как безразличие и черствость,
он видит в этой позиции нечто нездоровое в нравственном от-
ношении. Его половинчатость, его компромисс состоят в том,
что эти верно подмеченные частности он считает лишь опас-
ными искажениями самого по себе возможного и оправданного
отношения к жизни. И та позиция, та установка, которых тре-
бует высочайшее по напряженности проявление этих тенден-
ций, именно эстетическое восприятие трагического в жизни
граничит, по мысли Гартмана, со сверхчеловеческим; человек
должен при этом «.. .и это антиномично — одновременно прини-
мать и не принимать участие, быть вовлеченным в ситуацию
и противостоять ей как созерцатель, оценивая морально и в то
же время эстетически»6. Подобно Канту, Гартман пытается,
как мы увидим это позже при обсуждении проблемы природ-
ной красоты, спасти по крайней мере одну, пусть не поддаю-
щуюся познанию возможность чистой объективности катего-
рий прекрасного. Новизна его метода по сравнению с Кантом
248
заключается в том, что он совершенно некритически идентифи-
цирует определенные типы отношения к человеческой действи-
тельности, такие, как отношения художника, историка, фило-
софа и т. д., имеющие смысл лишь как подступы к объективи-
рованному отражению действительности, с нормальным (прак-
тическим, этическим) отношением к действительности целост-
ного человека в обыденной жизни.
Как бы ни были — в силу их реальных результатов — важ-
ны для человеческой культуры только что указанные типы от-
ношения к действительности, их обобщающее распространение
на основные типы связи людей с общественно-исторической
действительностью представляет собой сужение всей этой про-
блематики и ведет, следовательно, к ее искажению. Существен-
но практическое отношение к реальному окружающему миру
есть витальная и социальная необходимость человеческого су-
ществования; исследование объективных особенностей этого
окружающего мира, его законосообразности и т. д. также яв-
ляется до некоторой степени витальной и социальной необхо-
димостью; однако это исследование столь же необходимым об-
разом находится на службе у той практики, к которой принуж-
дает каждого человека его место в обществе. В системе этой
деятельности этика занимает весьма существенное место; ее
роль гораздо важней, чем полагает вульгарный фатализм, хотя
и не является единственно решающей, какой она предстает
во многих идеалистических системах. Художник, ученый или
философ — если его труды имеют какую-либо ценность —
должен подняться над этой на своем месте необходимой обы-
денной точкой зрения. Однако такое удаление от этой точки
зрения предполагает изначальное ее приятие; и преодоление ее
только в том случае по-настоящему действенно, если отношение
данного человека к практическим проблемам его жизни — по
крайней мере, теоретически — изначально соответствовало ее
требованиям. Как бы высоко ни поднимались его творения над
обыденной жизнью, они безошибочно выдают все человеческие
слабости своего творца; так что, например, как раз противо-
положное отношение к этическим вопросам жизни, их спонтан-
ное эстетизирование, неизбежно скажется в творении как иска-
жение этих взаимоотношений. (Это ни в коем случае не озна-
чает, что художник-творец должен быть способен к практиче-
скому решению тех проблем, которые получают верное отра-
жение в его создании. Вполне возможно — и часто случает-
ся, — что по. отношению к практическим задачам жизни он
оказывается несостоятельным; речь идет лишь об этическом от-
ношении к жизненным проблемам как о человеческой основе
расширенного и обобщенного видения жизни, истории. Бесчис-
ленные противоречия, которые возникают при этом у отдель-
ных творческих личностей, не могут быть здесь даже отмече-
ны.) В заключение подчеркнем еще тот факт, что описанное
249
преодоление повседневной жизни ни в коем случае не может
быть лишь эстетическим. Наоборот, эстетическая связь от-
дельных явлений жизни с самосознанием человеческого рода
есть лишь частный случай, особенности которого подробно
рассмотрены выше. Столь же противоречивое отношение
к жизни, как и указанное Гартманом, возникает, к примеру,
также и у некоторых философов. Когда определенные мысли-
тели стремятся постичь людские страсти, не удивляясь им и не
высмеивая их, они тоже поднимаются над практикой обыден-
ной жизни, однако отходят при этом намного дальше от эсте-
тического, чем это было бы возможно в необходимо смешанных
формах повседневности; в искусстве же речь идет как раз
о том, чтобы найти для сожаления или насмешки личностно-
сверхличностное, чувственно-наглядное, эвокативное выраже-
ние. Точно так же тенденция рассматривать »любое возвыше-
ние над обыденной жизнью как нечто эстетическое, приравни-
вать его к творческому процессу в искусстве и отношению это-
го процесса к объекту отображения является предрассудком,
вырастающим на почве свойственного идеализму иерархическо-
го гомогенизирования.
Рассмотрим этот вопрос несколько подробнее, ибо с ним
связана вся теория человеческой «красоты», «красоты» в обще-
ственно-исторической жизни. Многозначность используемого
при этом понятия красоты открывалась временами уже грекам,
у которых оно вообще впервые начинает играть философски-
историческую роль. Платоновский Сократ в начале своей важ-
нейшей для всего учения об эросе речи — этические моменты
возникают лишь позднее, с вступлением в беседу Алкивиада,—
пересказывает свой разговор с мудрой Диотимой. Начальные
реплики этого диалога в диалоге в их намеренной спонтанно-
сти могут многое прояснить в нашей проблематике. Диотима
задает Сократу вопрос: «Что же приобретет тот, чьим уделом
станет прекрасное?» — Я сказал, что не могу ответить на та-
кой вопрос сразу. — Ну, а если заменить слово «прекрасное»
словом «благо» и спросить тебя: «Скажи, Сократ, чего хочет
тот, кто любит благо!» — Чтобы оно стало его уделом»7. Бес-
помощность Сократа, когда речь идет о прекрасном, и его не-
замедлительный правильный ответ на вопрос о благе, о добром
ясно показывают, что для греков синтез благого и прекрасного
был прежде всего этической проблемой; примат этического был
настолько значителен, что в его сфере эстетическому отводи-
лась лишь побочная вспомогательная роль, оно превращалось
почти в украшение, в метафору; все это станет еще очевидней,
как только мы перейдем к учению об эросе.
Серьезнее и подробнее эта проблематика разрабатывается
лишь в новое время. Хотя острая критика Дидро обращена не-
посредственно лишь на воззрения одного частного лица, она
имеет, однако, и более общее значение, если мы вспомним та-
250
кие типы человеческого поведения, какие представлены, к при-
меру, в «Опасных связях». Критические замечания Дидро в ад-
рес вероотступника вполне применимы к поступкам, мыслям
и убеждениям таких персонажей, как Вальмон или маркиза
де Мертей. Не надо, однако, смешивать весь этот авантюрный,
преступный мир, «эстетически» воспринимающий себя самого,
с общим эротическим развитием того времени. «Сознатель-
ность», «запланированность» любовных переживаний Казано-
вы, например, есть лишь наивно-рафинированная эротика, во-
все не стремящаяся выйти за пределы своей собственной сферы;
преодоление препятствий при покорении сердца какой-нибудь
дамы относится здесь к органическому комплексу самой эроти-
ки, и радость при этом, гордое самовосхваление не имеет ни-
чего общего с нигилистической, «эстетической» любовной стра-
тегией Вальмона или Мертей, взятой как тип человеческого
поведения. Скорее можно было бы сравнить с романом Лакло
роман Филдинга «Джонатан Уайльд», хотя материал, на кото-
ром он написан, и не носит эротического характера. Разуме-
ется, позиция Филдинга откровенно и решительно полемичней,
чем у Лакло, однако изображаемые типы человеческого пове-
дения—при том, что изображают их авторы различных убеж-
дений, различных направлений в искусстве, и при том, что свой
материал они находят в различных обществах при различных
обстоятельствах, — имеют тем не менее как явления жизни оп-
ределенное сродство. Рамки нашего исследования не позволяют
нам углубляться в сходства и различия общественных предпо-
сылок такого типа поведения. Заметим лишь вкратце, что, ког-
да уже после революции Бальзак или Стендаль показывают
стратегию такого рода — в связи с эротикой или без нее, —
она выступает у них уже свободной от всякой «эстетики», то
есть в дефетишизированной форме чисто общественных фено-
менов. Лишь в «Преступлении и наказании» вновь появляется
«эстетический» масштаб практического поведения, однако в со-
ответствии с изменившимися общественными условиями, в со-
вершенно других пропорциях, с решительно переместившимися
акцентами. Раскольников, который в определенном отношении
является мечтательным, самоуглубленным, сознающим себя са-
мого наследником Растиньяка, с яростью и негодованием от-
вергает в последних сценах романа всякий «эстетический» кри-
терий своего поступка. Он воспринимает уродство и ничтож-
ность своих действий как необходимое следствие своего об-
щественного положения и видит собственную слабость в том,
что у него вообще могли возникнуть какие-либо «эстетические»
мысли. «Боязнь эстетики есть первый признак бессилия», —
говорит он своей сестре. Нам здесь весьма важно это отрица-
ние эстетического в качестве нравственного масштаба человече-
ских действий; конкретная проблематика поступка Раскольни-
кова лежит вне рамок нашего исследования.
251
Идентификация этической и эстетической точек зрения при
оценке человеческого поведения приобретает особые нюансы
в период немецкой классики и романтизма. Ранее [с. 202 и ел.]
мы уже говорили об определенных существенных проблемах
той эпохи в связи с «Вильгельмом Мейстером». Мы отметили
там ту тонкую иронию, с которой Гёте критикует любую по-
пытку вывести из эстетических принципов максимы для обы-
денной жизни, особенно в образе и судьбе «прекрасной души».
Гегель усвоил это критическое направление в «Феноменологии
духа», где он, подобно Гёте, исследует тип «прекрасной души»
с точки зрения ее связи с действительностью. У Гёте поэтиче-
ски отображенная истина вырисовывается косвенным путем из
контраста характеров, жизненного пути и т. д. отдельных пер-
сонажей; Гегель формулирует этот вопрос в соответствии с ос-
новной линией своей философии как проблему отношения чело-
века к действительности, как проблему отчуждения. Он исхо-
дит из верной предпосылки, что подлинная нравственная
жизнь, жизнь, способная этически воплотить человеческую
личность, может осуществляться лишь в обществе, лишь в на-
пряженном взаимодействии с объективной действительностью,
с другими людьми. Поскольку «прекрасная душа» — как кари-
катурное повторение художественно-творческого процесса в
жизни — делает из своей собственной субъективности единст-
венно господствующую субстанцию, она предстает в качестве
«истлевающей внутри себя и исчезающей как аморфное испа-
рение, которое расплывается в воздухе». «Лишенная действи-
тельности прекрасная душа в противоречии между своей чи-
стой самостью и необходимостью для последней проявиться
во внешнем бытии и превратиться в действительность, [т. е.]
в непосредственности этой устойчивой противоположности...
следовательно, как сознание этого противоречия в его непри-
миренной непосредственности потрясена до безумия и тает в
истомляющей чахотке»8. Всякую личность, деятельность кото-
рой не направлена на объективную цель, чтобы в борьбе за
нее достигнуть самозавершенности, цельности, а, наоборот,
удовлетворяется «эстетическим» самоотражением, необходимо
ждет эта — у Гегеля точнее и жестче, чем у Гёте, определяе-
мая — участь. Дефетишизация иллюзий об «эстетизации» чело-
веческой жизни идет здесь — если принять во внимание разли-
чия общественного характера между Францией и Германией в
ту эпоху — в направлении, близком творчеству Бальзака
и Стендаля. Разумеется, у французских писателей эта критика
основывается на реальных изменениях, вызванных великой ре-
волюцией, в то время как в Германии делаются лишь идеоло-
гические выводы из этого всемирно-исторического события, ко-
торые могли привести только к весьма незначительным пере-
менам в реальном социальном бытии.
Этому соответствует то обстоятельство, что послереволю-
252
ционный кризис буржуазной идеологии получил свое первое
теоретически обоснованное выражение в немецком романтиз-
ме. При переходе от Гёте к романтикам сразу видно, что если
Гёте остановился на полпути, то здесь в эстетизации жизни
идут до конца. Новалис выразил это с предельной заострен-
ностью: «„Годы учения Вильгельма Мейстера" в известной сте-
пени весьма прозаичны и современны. Романтическое там
уничтожается, также и поэзия природы, чудесное. .. .Это пре-
творенная в поэзию мещанская и семейная повесть. Чудесное
трактуется в ней исключительно как поэзия и мечтательность.
Художнический атеизм является душой этой книги»9. «Маги-
ческий идеализм» Новалиса, противопоставивший миру Гёте
высшую реальность чудесного, стремился применить принципы
поэзии и искусства непосредственно к жизни, то есть пока-
зать, что суверенитет творческого субъекта по отношению к об-
рабатываемому им материалу распространяется также и на
отношение реального человека к тому реальному миру, в ко-
тором он живет. При этом такая романтическая теория упу-
скает из виду, что подобный суверенитет в высшей степени
относителен также и в процессе художественного творчества:
материал, тема, жанр и т. д. образуют сферу конкретных воз-
можностей, разрушение или отбрасывание которой неизбежно
приводит к уничтожению эстетического единства и ценности
создаваемого произведения. Однако в творческом процессе
художник противостоит лишь своим собственным отображе-
ниям действительности, хотя и имеющим собственные законы,
однако относящимся к формообразующей воле субъекта совер-
шенно иначе, чем сама действительность. Распространенное
на саму действительность, такое мировоззрение есть не что
иное, как иллюзия — иллюзия полного господства над действи-
тельностью в противовес гётевскому «компромиссу»; но ее
реальным содержанием является общественно обусловленное,
идеологически-замаскированное заблуждение: романтикам про-
сто не хватает мужества, энергии, способности к таким реше-
ниям жизненных проблем, как решения Лотарио или На-
талии.
Эта сторона романтизма хорошо видна уже из сочинений
самих романтиков, однако особенно характерное историческое
выражение получает она в эстетических произведениях Кьерке-
гора. Они непосредственно примыкают к романтизму, дополня-
ют и проясняют его, как первый день поста дополняет карна-
вал. То, что там было иллюзией, становится здесь отчаянием.
В противовес платоновскому «Пиру» Кьеркегор написал поэти-
чески-философский диалог «In vino Veritas»; в нем также уст-
раивается пир, участники которого, как и у Платона, славят
поэзию любви, любовь, которая возносит нас в единственно
подлинные жизненные сферы. Однако наиболее представитель-
ная фигура всего этого мира, Иоганнес-соблазнитель, показы-
253
вает нам под занавес это общество как хор отчаявшихся. Та
область, в которой должна царить возлюбленная «эстетика»,
весьма сузилась по сравнению с романтизмом: «поэтическая
любовь» — а это и есть основная задача — приравнивается те-
перь к господству эротики в жизни10. Кьеркегор был слишком
умен, чтобы не заметить, какие неразрешимые противоречия
таит в себе такая установка. И прежде всего он очень хорошо
видит пустоту и незначительность этого приравнивания эстети-
ческого к эротическому. Первый оратор на его пиру, юноша,
прозрачно намекает на то место у Платона, которое мы цити-
ровали выше [с. 250], место, где происходит перелом в раскры-
тии темы; юноша говорит: «Если сказать вместе с Платоном,
что мы любим благо, то это значит разом покинуть всю сферу
эротического целиком. Если сказать, что мы любим прекрас-
ное, то это значит вообще ничего не сказать ©б эротическом.
И не воображайте, что любовник, признаваясь в любви, может
говорить примерно так: я люблю прекрасные ландшафты,
я люблю Лалаж, я люблю прекрасную танцовщицу, я люблю
прекрасных лошадей, короче, я люблю все прекрасное. Пора-
довалась бы Лалаж такой похвале? Конечно, нет! Прекрасна
она сама по себе или нет, неважно, для любовника она будет
прекрасней всего, что он обычно считает прекрасным»11. Не слу-
чайно, что Кьеркегор внутренне так сильно сближает эстетиче-
ски-эротическую и религиозную стадии жизненного пути чело-
века; связующая их этика есть всего лишь пустая и неубеди-
тельная софистика по поводу брака, которая, с одной стороны,
должна быть преодолением эстетического, с другой же, одно-
временно эстетической апологией брака. Противоположные
полюса соединяются через отчаяние, через редукцию человека
к его существованию одиночки, к его неснимаемому инког-
нито. Таким путем категории, латентно присутствующие в эсте-
тическом, выступают на первый план, приобретая религиозный
характер; однако именно это — при всем намеренном заостре-
нии контраста — свидетельствует об их глубоком родстве, об
их тесной взаимосвязи. Поэтому Кьеркегор, с чисто внешней
точки зрения, оказывается проницательным критиком роман-
тической жизненной философии, в действительности же явля-
ется самым подлинным воплотителем ее чаяний. Поэтому же
мы находим у него сконцентрированными и развернутыми все
те мотивы, которые в позднейшем декадансе приведут к по-
верхностной эстетизации жизни, а иногда и просто к комеди-
анству и щегольству12.
Параллель между обоими диалогами об эросе Платона и
Кьеркегора — параллель, проводимая последним временами
всерьез и философски, временами пародийно, — показывает как
определенное сходство их изначальных мировоззренческих
установок, так и существенную, исторически обусловленную
противоположность. Мы уже наметили [см. т. 1, с. 129] общую
254
проблематику этого отождествления этического и эстетическо-
го, доброго и прекрасного у Платона и Плотина — отождеств-
ления, ничем не обоснованного, постоянно предполагаемого
как нечто само собой разумеющееся. У самого Платона оно
вызывает сравнительно меньшие трудности, поскольку основная
линия его философии, направленная в общем против искусства,
не оставляет никаких сомнений в том, что при малейшем рас-
хождении эстетическое приукрашивание этического должно
быть тут же отброшено. Однако также и там, где, как у Пло-
тина, искусство непременно должно быть сохранено, возникает
существенно та же ситуация. В другой связи мы уже цити-
ровали его рассуждения об «умопостигаемой красоте», в кото-
рых видны прежде всего весьма обильные заимствования форм
и категорий искусства, соединенные с мнимым доказательст-
вом того, что эти формы и категории там, где они реально на-
личествуют, раскрываются неподлинным, ненастоящим, вторич-
ным образом, в то время как их истинное бытие следует ис-
кать в чисто духовных, потусторонних сферах. Этот ход мысли
ясно показывает трансцендирование всей эстетики в сферу ре-
лигии; то, что действовало эстетически-эвокативно в чувствен-
но-наглядной форме, подлежит интенсификации, качественному
усилению с помощью своеобразного прыжка из всех чувствен-
ных ограничений в чисто умопостигаемую сферу. Эта религи-
озная концепция нечувственной и именно потому более глубо-
кой и длительной «чувственности» также возникает из гипоста-
зирования определенных эстетических принципов. Мы уже
говорили раньше об этом идеалистическом безграничном обоб-
щении эстетической телеологии. Поскольку здесь — как и в
процессе труда — поставленная цель существует в духе рань-
ше, чем оформленное произведение в чувственной действи-
тельности, идеализм делает из этого привычные для него вы-
воды. Во-первых, то обстоятельство, что в «видении» худож-
ника произведение полностью дано до всякой реализации в ма-
териальной действительности, представляется практически-пси-
хологическим доказательством существования «нечувственной
чувственности». Высказывания многих художников о том, что
воплощенное произведение не может сравниться с первона-
чальным «видением», ясно, как кажется, указывают на то, что
представляющиеся художнику, чисто субъективно им воспри-
нимаемые формы, тона, краски и т. д. несут в себе некоторую
чувственность, просветленную и углубленную чистым духом„
которая не может найти себе подлинной объективации в ре-
альном мире, погруженном в материальность и смешанном
с нею.
Здесь присутствует, однако, и еще одно гипостазирование,
свойственное философскому идеализму на переходе к религи-
озной мистике, а именно иерархическое воззрение, что творец
стоит безусловно выше, чем его творение [см. т. 1, с. 124]. Это
255
воззрение, подобно многим трансцендирующим в религию воз-
зрениям философского идеализма, некритически обобщает не-
посредственно телеологическое отношение человека к продук-
ту его труда, художника к его произведению. В самом деле,
непосредственно — но только непосредственно, только в пло-
скости обыденной жизни — все созданное человеком кажется
служащим ему, подчиненным его воле и целеполаганию. Одна-
ко действительное взаимоотношение здесь прямо противопо-
ложно этому непосредственному представлению. С помощью
орудий и продуктов своего труда, поднимающих этот труд на
более высокую ступень, с помощью досуга, который делает
возможным усовершенствование труда, человек сам впервые
поднимается на более высокий уровень развития своих способ-
ностей. Производимые им продукты оказываются тем средст-
вом, с помощью которого он творит сам себя, они выводят его
из животного состояния, способствуют постоянному расшире-
нию и углублению его культуры. Эта общая характеристика
телеологии труда в еще большей степени приложима к тем бо-
лее высоким ступеням объективации в общественном разделе-
нии труда, через которые осуществлялось и осуществляется
господство человека над окружающей действительностью и его
самореализация, — в первую очередь к науке и искусству.
Итак, коль скоро требуется устанавливать иерархические от-
ношения между творцом и творением в человеческой жизни,
то утверждение, что человек творит как бы сверх себя самого,
гораздо более соответствует реальному положению вещей, чем
идеалистическое представление о том, что творец должен сто-
ять безусловно выше творения.
Обе эти, возникшие путем гипостазирования, путем иска-
жающего обобщения, формы предметности, оба этих понятий-
ных комплекса — высшая умопостигаемая «чувственность» и
безусловное, иерархическое превосходство творца над творе-
нием —• являются имплицированными аксиомами того духовно-
го взлета, который провозглашает учение об эросе. Оба этих
искаженных заимствования у эстетического уничтожают, как
мы могли видеть, его сущность и существование, однако таким
образом, что его фантом не только возникает снова в умопо-
стигаемом мире идентичных между собой доброго и прекрас-
ного, но именно эти призрачные спиритуализированные формы
эстетического призваны гарантировать постепенный подъем
к лежащему по ту сторону всяких форм «Единому». Ясно, что
при этом из эстетического исчезает все действительно эстетиче-
ское, за вычетом некоторых абстракций. В этой земной жизни
оно становится простым украшением доброго, с тем чтобы по-
том оба они растворились в сиянии обретшего себя самого ду-
ха. Роль красоты сводится, таким образом, к тому, чтобы под-
готовить и как бы соблазнить к этому взлету прозябающего
в плену земной чувственности человека; если он действительно
256
постиг сущность своих действий, то красота должна делать-
ся для него все более неземной, нечувственной, чтобы под ко-
нец поблекнуть до простого подобия добра. Поэтому Плотин
так истолковывает платоновское учение об эросе: подобно то-
му как есть земная и небесная Афродита, так, в свите этих
Афродит, следуют и два соответствующих воплощения Эроса.
(В этом удвоении эроса уже у Платона намечается действи-
тельная проблема эстетики, а именно то отделение приятного
от эстетического, которым мы занимались в предыдущей гла-
ве.) Однако если между этими двумя воплощениями — между
отвергаемой чувственностью и чистой духовностью, которая од-
на лишь дает блаженство, — вырывается пропасть, то не толь-
ко исчезают неизбежные для человеческой жизни переходы и
посредующие моменты, но и само эстетическое растворяется в
тумане умопостигаемого. Очевидно, таким образом, что в уче-
нии об эросе речь идет вовсе не об — хотя бы и метафизиче-
ском — истолковании эстетического и даже не о его метафизи-
ческом «снятии». Хотя и кажется, что человеческая красота
выступает здесь как бы трамплином для прыжка в подлинное
бытие, однако, чтобы последовательно-философски оформить
этот прыжок, платоники вынуждены были подвергнуть сам
трамплин такой переработке, что от всего эстетического оста-
лось только лишенное всякого содержания слово «красота».
Разумеется, спиритуалистические тенденции платонизма вы-
ступают у Плотина гораздо отчетливей, чем у самого Платона.
Особенно в платоновском «Пире» так много истинной поэзии,
жизненных, образов и ситуаций, что читатель легко забывает
за всем этим блеском предельный спиритуализм, объединяю-
щий его философию с философией Плотина. Для нашей на-
стоящей проблематики эта первоначальная форма учения об
эросе важна именно потому, что здесь «природная красота»
человека выступает в непосредственной форме эротически-сек-
суальных отношений людей друг к другу, потому что именно
эти отношения оказываются той движущей силой, с помощью
которой совершается взлет к этическому. Вое это может не-
сколько прояснить обсуждаемую теперь проблему. Здесь возни-
кают два вопроса: во-первых, имеет ли что-либо общее с эсте-
тическим и до какой степени то, что кажется человеку «кра-
сивым» в другом человеке, если этот другой человек обладает
для него эротически-сексуальной привлекательностью; во-вто-
рых, является ли это и до какой степени отправным пунктом
для того, что платоновское учение об эросе рассматривает как
подъем к подлинной этике, более того, к «последним» и наибо-
лее истинным формам бытия. Для Платона вполне ясно, что
простое удовлетворение полового инстинкта не имеет с этой
проблематикой ничего общего. В соответствии с общественно-
историческими условиями его времени он ищет ту эротику,
о которой здесь идет речь, в любви к юношам. Для античности
17—805
257
любви между мужчиной и женщиной в современном смысле
еще не существует. История любовных отношений между пола-
ми, разумеется, не входит в нашу задачу; мы не можем здесь
останавливаться и на весьма немаловажных для античности
исключениях (еврипидовская Федра, вергилиевская Дидона
и т. д.). Позднейшее стремление выйти за пределы чистой сек-
суальности мы находим в греческой античности прежде всего
в любви к юношам. Типично для античного понимания сексу-
альных отношений между мужчиной и женщиной высказывание
ученика Сократа Аристиппа, приводимое Плутархом: «Я знаю,—
сказал Аристипп, — что вино и рыба меня не любят, и, однако,
я с удовольствием пользуюсь тем и другим»13. Этот тип сексу-
альных отношений относится, безусловно, к области жизненных
явлений, описанной в предыдущей главе как область приятно-
го; то особое место, которое они занимают б ней, не может
быть здесь предметом нашего рассмотрения. Заметим лишь
вкратце, что, хотя они выглядят как чисто физиологическое
(иногда психофизиологическое) влечение, этим отнюдь не сни-
мается их вполне определенный общественно-исторический ха-
рактер. В своей исторической повести «Шах фон Вутенов»
Фонтане рисует такую сексуально-эротическую связь, спонтан-
но возникшую между главным героем и Виктуар фон Карай-
он. При этом он, однако, весьма тонко дает понять, что сама
возможность такой связи возникла лишь оттого, что незадолго
до этого принц Луи Фердинанд, задававший в то время тон
в обществе, пространно рассуждал, причем намекая как раз
на Виктуар, о привлекательности beauté du diable. В повсе-
дневной жизни часто можно наблюдать эти, обычно неосозна-
ваемые, влияния, иногда очень отдаленные, иногда просто дик-
туемые модой, на то, что непосредственно переживается как
простое сексуальное влечение.
Во всяком случае, любая сексуальная связь — неважно, ко-
роткая или длительная и полная страсти, — есть связь между
двумя отдельными людьми, и именно в этой их отдельности;
здесь важны как раз частности (принадлежащие сфере парти-
кулярного): специфические внутренние и внешние свойства
обоих людей и т. д. — вплоть до мельчайших сиюминутных
подробностей их встречи. Утверждение, что это абсолютное
господство частного распространяется и на легендарные, став-
шие уже символическими истории любовных страстей, обла-
дает непосредственной очевидностью, однако и во всех других
случаях основой страсти является данный, конкретный, вот этот
человек со всеми его особенностями, начиная от телесных и
кончая духовными и моральными (включая также и все его
ошибки и слабости). Особенность и сила любви в том и состо-
ят, что для нее это конкретно-данное бытие, эта партикуляр-
ность любимого человека является чем-то окончательным, не-
изменным, субстанцией и судьбой в противоположность обыч-
258
ным формам социальных связей, в рамках которых часто воз-
никает стремление преобразить партнера — внутренне или
только внешне — в соответствии с поставленными целями. Хотя
обыденная жизнь, как мы уже видели, и есть собственно сфе-
ра частного, однако в ней заложено и стремление к его преодо-
лению. Но если человек, чьи действия направлены на более
высокие ступени объективации общественного человеческого су-
ществования, неизбежно вовлекается в процесс преодоления
своей партикулярности, то сущностью половой любви, как она
сформировалась в течение тысячелетий, является как раз безу-
словное утверждение этой человеческой партикулярности. Это
подтверждается тем, что здесь в еще большей степени, чем где-
бы то ни было, существует широчайшая шкала эмоциональ-
ных проявлений: от простого удовлетворения полового инстинк-
та и до самых высоких форм любви, когда подлинная страсть
со всей ее взрывчатой силой, во всей ее безусловности и исклю-
чительности находит свое, причем парадоксальное — с отвле-
ченной, но и только с отвлеченной точки зрения, — выражение
в абсолютизации партикулярности как объекта, так и субъекта
страсти, возвышающей ее в качестве своего единственного
предмета; и при всех различиях, при всех противоположностях
своих проявлений страсть всегда и всюду вызывает равно безу-
словное утверждение частного. Когда мысль пытается найти
объяснение этому феномену, понять его даже и вне системы
каких-либо трансцендентных взаимосвязей, то здесь возника-
ет — именно из-за его единичности, ни с чем иным в челове-
ческой жизни несравнимого своеобразия — множество фанта-
стически-мифологических толкований, которые, однако, если
выделить их рациональное зерно, всегда исходят из этого безу-
словного и все-таки совершенно непонятного утверждения част-
ного. Так, уже у Платона в «Пире» Аристофан объясняет не-
одолимое стремление одного отдельного человека к другому,
столь же отдельному, с помощью мифа, который гласит, что
боги разрезали пополам изначального -единого человека; и вот
каждый стремится теперь вновь соединиться с тем, с кем он
составлял когда-то нераздельное целое. Но даже Гёте не мог
объяснить себе свое отношение к Шарлотте фон Штейн иначе,
как с помощью идеи переселения душ (как, впрочем, и моло-
дой Шиллер свое влечение к Лауре) :
Что же нам судьба определила?
Чем, скажи, ты связана со мной?
Ах, когда-то — как давно то было! —
Ты сестрой была мне иль женой.
(Перев. В. Левина)
Сильно и ясно, причем без всяких мифологических приме-
сей, выражает это чувство Карл Маркс в одном из писем к
17*
259
Женни: «Моя любовь к тебе, стоит тебе оказаться вдали от
меня, предстает такой, какова она на самом деле — в виде ве-
ликана; в ней сосредоточиваются вся моя духовная энергия
и вся сила моих чувств. Я вновь ощущаю себя человеком
в полном смысле слова, ибо испытываю огромную страсть.
Ведь та разносторонность, которая навязывается нам современ-
ным образованием и воспитанием, и тот скептицизм, который
заставляет нас подвергать сомнению все субъективные и объ-
ективные впечатления, только и существуют для того, чтобы
сделать всех нас мелочными, слабыми, брюзжащими и нере-
шительными. Однако не любовь к фейербаховскому «человеку»,
к молешоттовскому «обмену веществ», к пролетариату, а лю-
бовь к любимой, именно к тебе, делает человека снова челове-
ком в полном смысле этого слова». Личность автора делает
это письмо особенно важным для нас документрм. Если имен-
но Маркс исключает из этих важнейших для него отношений
также и любовь к пролетариату — основу всего дела его жиз-
ни — и именно в них видит возможность собственного челове-
чески-личностного утверждения, то ясно, что здесь, в непосред-
ственно истинной реальности большой любви, речь идет не об
авторе «Капитала» и не о вожде мирового пролетариата, но
скорее об отдельных частных личностях двух людей: Карла
Маркса и Женни фон Вестфален. Но очевидно также и то, что
великий революционер, ученый эпохального значения вовсе не
собирается бросать при этом свое жизненное дело, а, напротив,
находит в самой жизни ту архимедову точку опоры, которая
позволит ему утвердить себя в мире как частную личность со
всеми своими особенностями. Для наших целей достаточно
простой констатации этого факта. Разумеется, из этого сосу-
ществования столь различных, дивергирующих тенденций в од-
ной личности возникает целый ряд проблем, прежде всего (но
не исключительно) морального, этического характера; любовь
также должна быть включена в границы целостности данной
партикулярной и вместе с тем общественно-деятельной лично-
сти, приведена в соответствие с другими формами ее активно-
сти. Всякому, впрочем, ясно, что этот круг проблем не может
быть здесь даже очерчен.
Нас же интересует один-единственный вопрос: имеет ли
весь этот жизненный комплекс в его непосредственном бытии
что-либо общее с эстетическим? Имеет ли слово «красота», без
конца мелькающее на устах любящих и любимых, какую-либо
действительную внутреннюю связь с красотой в эстетическом
смысле? Вспомним, что уже юноша в кьеркегоровском «Пире»
не без основания сомневался в этом. В только что процитиро-
ванном письме Маркса есть следующее чрезвычайно интересное
место; он пишет о портрете своей жены: «Как ни плох твой
портрет, он прекрасно служит мне, и теперь я понимаю, поче-
му даже «мрачные мадонны», самые уродливые изображения
260
богоматери, могли находить себе ревностных почитателей, и
даже более многочисленных почитателей, чем хорошие изобра-
жения»14. Для нас здесь важно признание того, сколь мала
значат художественные достоинства изображения любимой:
женщины, сколь мало значит даже фотографическое сходство..
Здесь речь идет просто об отправном пункте для фантазии,,
здесь требуется символ, и только. То, что важно для любя-
щего в предмете его страсти, противостоит, как нечто чуждое
и гетерогенное, всякой эстетической точке зрения.
С совсем другой стороны приблизился к этой проблеме Ана-
толь Франс и пришел в конечном счете к сходным результа-
там. В его романе «Красная лилия» героиня спрашивает свое-
го возлюбленного, скульптора, почему он не хочет сделать ее
портрет. Тот отвечает: «Почему? Потому что я посредственный
скульптор. ... Чтобы создать образ, в котором была бы жизнь,
надо относиться к натуре как к простому материалу, из кото-
рого добываешь красоту, который сжимаешь, который давишь,
чтобы извлечь его сущность. А в тебе — в твоих чертах, в тво-
ем теле, во всем твоем существе — нет ничего, что бы не было
для меня драгоценным. Если бы я стал лепить твой бюст, я
рабски старался бы передать мелочи, ведь они для меня все,
потому что они — частицы тебя. Я упорствовал бы с бессмыс-
ленным пристрастием, и мне не удалось бы создать целое».
В последней драме Ибсена «Когда мы, мертвые, пробужда-
емся» это внутреннее противоречие между отношением худож-
ника к модели и мужчины к любимой женщине становится
темой трагической коллизии. Острота этой коллизии есть,
безусловно, продукт времени; возможны бесчисленные случаи,
когда из этой гетерогенности точек зрения не возникает во-
обще никакого конфликта. Заслуга этих современных вариа-
ций на старую тему состоит в том, что они со всей остротой
показывают заложенное здесь объективное противоречие (не-
зависимо от того, ведет ли оно с неизбежностью к коллизии
или нет). Уже простой факт его наличия в достаточной степени
проясняет для нас то обстоятельство, что «красота» любимой
женщины не имеет ничего общего с эстетическими возможно-
стями, которые дает художнику красота женского тела, при-
чем опять же по той причине, что любовь укоренена в частном,
отдельном, и, чем она подлиннее, тем меньше у нее общего с
возвышением к эстетическому.
Этот факт, который мы до сих пор рассматривали с точки
зрения жизни, подтверждается также и практикой искусства.
Естественно, что любовь является одним из важнейших его
объектов, и поскольку эстетическое отражение стремится к
предельной верности действительности, то разумеется, что раз-
биравшееся нами господство партикулярного в личности и от-
ношениях любящих становится исходным пунктом их художе-
ственного отображения. Идет ли речь о Тристане и Изольде,
261
о Ромео и Джульетте, о любви Анны Карениной к Вронскому
или жены Потифара к Иосифу у Томаса Манна — во всех этих
случаях создание художественного образа отправляется от не-
зтодводимых ни под какие категории, частных особенностей лю-
бящих и их отношений. Однако искусство в своей тотальности
выходит за рамки этих особенностей, поскольку оно — при
воем сохранении специфически частного характера любовных
отношений — включает их в общую связь социальной жизни.
Это может быть, как, например, в «Ромео и Джульетте», раз-
ложение феодального общества, в котором простой факт по-
добной любви приводит в движение весь этот процесс распада
и выводит на поверхность имманентные ему коллизии. Поэтому
то, что было в жизни отдельным событием, становясь в эсте-
тическом отражении моментом жизненной целостности, утрачи-
вает характер чистой партикулярное™, сохраняю его, однако,
повторяем это, в своем в-себе-и-для-себя-бытии. При этом воз-
никают неограниченные возможности; все те проблемы, которые
мы отметили здесь как связанные с ролью любви в общей жиз-
ни человека (и которые мы не можем сейчас разрабатывать
подробней), образуют в своей совокупности ту действитель-
ность, отображение которой открывает для искусства возмож-
ность снять эту партикулярность любви, сохранив ее вместе
с тем в сфере эстетически-всеобщего, типически-особенного.
Без этого даже глубочайше прочувствованная и с величайшей
тщательностью отображенная художником любовная история
будет банальной, поскольку партикулярность ее предмета мо-
жет быть патетической и трогательной, глубокой и значитель-
ной лишь в самой жизни, а не в эстетическом ее отражении,
лишь для ее участников, а не для наблюдателя; простое, ме-
ханическое отображение этой истории делает ее в лучшем слу-
чае всего лишь незначительно интересной. С другой стороны,
конечно, слишком прямое снятие частного характера любви,
излишне непосредственное соотнесение ее истории и особенно-
стей с ее общественно-историческим значением делает само
изображение ее пустым и абстрактным. Это происходит уже
в «Коварстве и любви» в сравнении с «Ромео и Джульеттой»,
а в еще большей степени в драмах Геббеля, особенно в «Агне-
се Бернауэр».
Эстетическое отражение, создание художественного образа
исходит здесь, как и при любом изображении значительного
жизненного явления, из его специфических особенностей и от-
ходит от них лишь постольку, поскольку в тотальности жизнен-
ных связей — в их конечной соотнесенности с самосознанием
человеческого рода — эти особенности являются в новом свете.
Таким образом, эстетическое отражение любви, ее объекта и
субъекта, ее истории и судьбы ничем принципиально не отли-
чается от отображения других явлений; как раз сохранение ее
специфических особенностей и уравнивает ее с другими явле-
262
ниями, поскольку сохранение и выделение специфического яв-;
ляется существенной чертой эстетического отражения. Разуме-
ется, специфическое выглядит в новой непосредственности эсте-
тического формообразования — и именно в результате соотне-
сенности с самосознанием человеческого рода — иначе, конк-
ретней и одновременно обобщенней, чем в первоначальной не-
посредственности жизни. Точно так же происходит и с отобра-
жением эротического. Гейне прекрасно понял это в своем рас-
суждении о Ренессансе, который он рассматривает как бунт
против средневекового мировоззрения и сравнивает с реформа-
цией. Он пишет: «Итальянские художники полемизировали с
поповством, пожалуй, гораздо успешнее, чем саксонские тео-
логи. Цветущее тело на картинах Тициана — ведь это сплош-
ное протестантство. Бедра его Венеры — это тезисы, гораздо
более убедительные, чем те, которые были прибиты немецким
монахом на дверях виттенбергской церкви»15. Из этого следу-
ет, что картины Тициана поднимают индивидуально-частные
черты эротико-сексуальной привлекательности женского тела
на мировоззренческую высоту: изображение обнаженного те-
ла становится декларацией прав человека на отдельную, част-
ную жизнь в сфере эротического (и не только в ней), револю-
ционным разрывом со средневековым аскетизмом, утрачивая
тем самым свой частный характер, свою ограниченность рам-
ками конкретно-данного бытия определенного человека в его
отношениях к другому человеку.
С этой точки зрения становится понятной — относитель-
ная — оправданность учения об эросе: это есть попытка понять
место эротического в жизни, его отношение к высшим жизнен-
ным ценностям, так же как и теоретическую и практическую
устремленность любящих к раскрытию общечеловеческого со-
держания любви. Тот факт, что это учение в его платоновской
редакции проходит мимо реальных жизненных отношений, про-
истекает, вообще говоря, из того, что, во-первых, на основании
совершенно расплывчатого понятия о красоте размываются
и искажаются в результате их эстетизации также и жизнен-
ные явления, поскольку отбрасывается и эстетически стили-
зуется оправданная и единственно определяющая их особен-
ности партикулярность; во-вторых, реальное развитие жиз-
ни с его реальными моментами включается в процесс ложно
эстетизированного трансцендирования, вместо того чтобы ис-
кать и найти свое действительное место в земной жизни;
и в-третьих, происходит постоянное смешение действительно-
сти и образа. Подобная концепция могла возобладать именно
в платонизме, поскольку в нем подлинная действительность
приписывается чистой идее; и если сама действительность есть
лишь отображение идеи, то ничего удивительного, что между
ней и в свою очередь ее отображениями исчезает всякое каче-
ственное различие. Уже у самого Платона эти ложные тенден-
263
ции получают философское обоснование и усиление через идею
аскезы. Речь Алкивиада, в которой личностно-эротический эле-
мент обретает наиболее яркое выражение, заканчивается как
раз аскетическим отказом Сократа от физического удовлетво-
рения любовной страсти. Конечно, здесь перед нами опоэтизи-
рованная, полная иронии и самоиронии, так сказать, прелест-
ная аскеза, однако именно в ней сказывается парадоксаль-
ность позиции Платона: он хочет сохранить чувственно-эроти-
ческое влечение, но лишь как отправной пункт для аскетиче-
ской добродетели, которая еще очень далека от своих поздней-
ших христианских форм, — для добродетели гражданина по-
лиса, точнее, для его утопически идеализированного образа.
Действительная полисная любовь к юношам и не подозревала
о платоновской аскезе; ее связь с военной ловкостью и поли-
тически-гражданской добродетелью делала ее эротичней, то
есть дальше от простой сексуальности, чем античная любовь
к женщине. Именно поэтому проблема эроса могла найти
здесь столь полное выражение. Поскольку же диалог Платона
написан уже в эпоху заката полисной демократии, то и путь
к добродетели может быть лишь аскетическим, даже если при
этом уничтожается его собственная предпосылка — признание
возможности также и душевного характера эротики. Не только
поэтические достоинства формы сообщают этому диалогу его
притягательную силу, но также и столь важный для всего
дальнейшего развития комплекс проблем, который получает
здесь весьма глубокую диалектическую разработку. Именно по-
этому обсуждение «природной красоты» человека, диалектики
этического и эстетического должно было уделить ему столь
пристальное внимание, хотя в том, что касается самой нашей
проблемы, заблуждения и иллюзии достигают здесь, быть мо-
жет, своей вершины.
2. ПРИРОДНАЯ КРАСОТА КАК ЭЛЕМЕНТ ЖИЗНИ
Философски трезвое и непредвзятое обсуждение этой пробле-
мы крайне часто оказывается для эстетики невозможным в си-
лу иерархической постановки вопроса, а именно: что выше,
природная красота или красота в искусстве? И прежде всего
подобный подход догматически предопределяет решение вопро-
са —■ независимо от того, в чью пользу оно склоняется, — в том
смысле, что такое эстетически-иерархическое объединение кра-
соты в природе и в искусстве — какой бы характер оно само
по себе ни носило — превращает эти отдельные области в со-
ставные части единой эстетики. Таким образом, на вопрос о
том, действительно ли наши переживания природы (или некая
их часть) носят эстетический характер, заранее дается ут-
вердительный ответ, что препятствует его непредвзятому об-
264
суждению. Как мы видели, свою наиболее последовательную
форму это догматическое гомогенизирование получает в плато-
новском учении об идеях, учении, в котором уже сами явле-
ния объективной действительности рассматриваются как ото-
бражения, а эстетическое отражение деградирует до уровня
отображения отображений, что, естественно, означает априор-
ное решение иерархического вопроса в пользу первоначальных
отображений. Однако уже сама иерархическая постановка
вопроса, даже если отвлечься от только что описанной догма-
тики, искажает реальные отношения между различными комп-
лексами человеческой жизни. Эти последние образуют конк-
ретную целостность, в рамках которой неизбежно, в процессе
практической деятельности, возникают иерархические упоря-
дочения ad hoc. Однако эти иерархические элементы ни в ко-
ем случае не следует обобщать и отрывать от их действитель-
ного функционального значения в рамках данных обществен-
ных связей. Ведь даже простейшая практическая деятельность
в самой обыденной жизни свидетельствует в этом смысле
о крайне сложных диалектических отношениях. Возьмем,
к примеру, орудие труда (в широком смысле слова). По отно-
шению к тому или иному конкретному практическому заданию
оно является простым средством и поэтому занимает подчинен-
ное положение в сравнении с данными конкретными целями
и задачами, тогда как в рамках более широкого временного
и общественного контекста развитие орудий труда получает
известный приоритет относительно данной конкретной дея-
тельности. Само собой разумеется, что при все возрастающей
сложности отдельных комплексов явлений эта диалектика уси-
ливается, а с ней — и постоянное релятивирование иерархиче-
ского упорядочения отдельных элементов.
В позднейшей эстетике у Гегеля и особенно у Фишера воз-
никает новая и весьма своеобразная форма этого ложного
иерархизма. А именно, стремясь доказать превосходство искус-
ства над природой, они ставят знак равенства между отноше-
нием человека к природе и отношением художника к модели
и пытаются из того факта, что художник вовсе не должен
рабски следовать своей модели и заниматься фотокопировани-
ем, вывести эстетическое «несовершенство» природы16. Прежде
всего совершенно неправильно ограничивать отношением ху-
дожника к модели даже только то отношение человека к при-
роде, переживание которого получило в языке — а язык отража-
ет здесь всю ширь и глубь действительной жизни — название
восприятия прекрасного и которое в широком круге этих яв-
лений составляет лишь незначительный момент. Действитель-
ность превратилась бы в кошмар, в карикатуру на себя самое,
если бы люди, подобно келлеровскому Фигги Штертелеру,
слонялись по ней с записной книжкою в руках, ни на секунду
не выходя за пределы этого отношения художника к модели.
265
Однако сужение и упрощение проблемы заходит здесь еще
дальше, поскольку, с одной стороны, процесс художественного
творчества вовсе не ограничивается отношением к модели; дей-
ствительные жизненные переживания, не имеющие ничего об-
щего с подобным «сравнением» природы и создаваемого про-
изведения, часто играют в возникновении подлинных художест-
венных творений гораздо более значительную роль. Мало того,
мы нередко сталкиваемся еще и с тем, что как раз крупней-
шие художники отвергают наблюдение над природой ради ка-
ких бы то ни было творческих целей, полагая, что оно только
вредит подлинности и свежести произведения. Гёте, например,
говорил Эккерману: «Я никогда не наблюдал природу как
поэт... но ранние мои занятия пейзажной живописью и позд-
нейшие естественнонаучные исследования заставили меня по-
стоянно и зорко вглядываться в создания природы, так что
я мало-помалу изучил ее до мельчайших подробностей, и, ког-
да мне нужно что-то для моих поэтических занятий, все это в
моем распоряжении, и я почти не погрешаю против правды»17.
С другой же стороны, Фишер, утверждая, что сравнение при-
родного оригинала с замыслом и осуществлением художествен-
ной фантазии безусловно и всегда не в пользу первого, оказы-
вается под влиянием преходящих воззрений на искусство, сфор-
мулированных современным ему немецким идеализмом. Дейст-
вительный анализ творческого процесса относится, как уже не
раз говорилось, ко второй части работы. Здесь скажем лишь —
чисто предварительно, — что это отношение гораздо сложнее,
чем полагает Фишер. Разумеется, стремление путем соответст-
вующих изменений, перестановки акцентов, пропусков и т. д.
сделать те явления действительности, из которых художник
исходит в своем творчестве, которые побуждают его к нему,
которые, наконец, служат ему при случае моделью, в художест-
венном смысле более действенными, чем первоначальное впе-
чатление, произведенное на художника этими явлениями,—
стремление это играет здесь значительную роль. Однако, по
крайней мере столь же часто, происходит и так, что творческий
процесс превращается в серию бесконечных и нередко бесплод-
ных попыток хотя бы только приблизиться к внутренней пол-
ноте определений, присущей тем или иным явлениям при-
роды.
Чернышевский подверг эту концепцию существующего лишь
в воображении «совершенства», идеалистически завышенную
Фишером, верной и глубокой критике с точки зрения самой
жизни18. Однако его собственный анализ проблемы страдает
двумя недостатками: во-первых, он некритически перенимает —
хотя и поменяв местами плюсы и минусы — систематические
упорядочения Фишера; во-вторых, он во многих отношениях
стоит еще на почве старого материализма, и потому его сами
по себе верные рассуждения приводят его к неверным и одно-
266
сторонним выводам, как, например, в том случае, когда он
усматривает в воздействии произведения искусства простую
замену природных впечатлений, случайно в данное время недо-
ступных, или когда он утверждает, что искусство угождает ис-
порченному обществом вкусу, природа же на это не способна.
Нет нужды доказывать, что, скажем, последнее утверждение,
с одной стороны, недопустимым образом обобщает определен-
ные и в самом деле существующие ложные пути искусства,
с другой же, не замечает того, что испорченный обществом
вкус с таким же успехом опьяняется и возбуждается перед ли-
цом природы, как и перед лицом искусства. Если, таким обра-
зом, Фишер односторонне и сужая действительные отношения
человека с природой, подчеркивает лишь момент эстетического
превосходства искусства над природой, то Чернышевский столь
же односторонне ратует за противоположный принцип, а имен-
но что природа всегда стоит в эстетическом смысле выше, чем
искусство19. В своей полемике с Фишером он прав, утверждая,
что наука никогда не претендует на превосходство над дейст-
вительностью; так же следует поступать и искусству20. Это,
вообще говоря, верно, особенно утверждение, что в обоих слу-
чаях отражение действительности служит общечеловеческим
целям; Чернышевский, однако, обходит здесь основную пробле-
му. Сравнение это неправильно потому, что в науке вообще
никогда не встает проблема иерархии в том смысле, в каком
она встает в искусстве. Если речь идет о превосходстве нау-
ки, то всегда имеется в виду лишь превосходство научного
отражения над непосредственностью обыденной жизни. Лишь
в эстетике вопрос ставится так, как если бы в-себе-сущая при-
рода подлежала сравнению с отображенной в искусстве дейст-
вительностью. Если же механистически преувеличивается зна-
чение аналогии между наукой и искусством, то теряется как
специфика тех переживаний, которые мы привыкли обозначать
в высшей степени нечетким термином «природная красота», так
и специфика самого эстетического отражения.
Таким образом, кроме вышеуказанных точек зрения, пра-
вильному пониманию этих феноменов препятствует также и
предрассудок, будто бытие-в-себе природы является общим
объектом обеих групп отражения и вызываемых ими эмоций.
Такое понимание подходит очень близко к философскому идеа-
лизму, для которого все выводится из идеи, и речь идет лишь
о том, чтобы установить верные иерархические отношения меж-
ду красотой в природе и в искусстве, исходя из их сущности,
понимаемой как объективация, отображение и т. д. идеи. Од-
нако и старый механистический материализм склоняется по
большей части к тому воззрению, что сущая-в-себе природа
прямо порождает свою собственную красоту. Гердер, который,
делая в других областях многочисленные оговорки и многооб-
разнейшие заимствования из деистического круга идей, в этом
267
вопросе остается на позициях старого материализма; говорит
в «Каллигоне»: «Создано ли произведение усилием Свободной
воли или необходимостью, — это ничего не меняет в нем са-
мом; и кто сказал, что в основе созданий природы не лежит
разум, то есть, выражаясь языком духа, всеупорядочивающий
принцип? .. .Лишь собственная наша ограниченность приводит
к тому, что мы делаем различие между человеческим искусст-
вом и искусством природы: в самом деле, по сравнению с вели-
кой созидательницей, природой, мы всего лишь жалкие и бес-
сильные подражатели!»21 Истинный материалист Чернышев-
ский слишком, разумеется, критичен, чтобы допустить какие
бы то ни было намерения и цели у порождающей красоту при-
роды. Поскольку же он, однако, приравнивает эстетическое
к жизни, к ее полноте, постольку его выводы очень близки к
выводам старого материализма; он пишет: «...Понимая пре-
красное как полноту жизни, мы должны будем признать, что
стремление к жизни, проникающее органическую природу, есть
вместе и стремление к произведению прекрасного. Если мы
должны вообще видеть в природе не цели, а только результа-
ты и потому не можем назвать красоту целью природы, то не
можем не назвать ее существенным результатом, к произведе-
нию которого напряжены силы природы. Непреднамеренность,
бессознательность этого направления нисколько не мешает его
реальности.. ,»22 Подобные воззрения приводят к противоречи-
ям общефилософского характера, разрешение которых может
преодолеть некоторые препятствия на пути к пониманию дан-
ного комплекса проблем.
Если мы логически завершим эти воззрения, высказанные
в только что приведенных примерах, то нам придется сделать
вывод, что красота есть некая натурфилософская категория.
В таком случае не только каждый отдельный предмет в его
конкретно-данном бытии, но и каждое целое, состоящее часто
из совершенно гетерогенных частей, если только оно вызывает
переживание прекрасного, можно и должно было бы — причем
именно с точки зрения его красоты — рассматривать как про-
дукт в-себе-сущих природных сил. Таким образом, должно бы-
ло бы возникнуть такое отражение действительности, в кото-
ром определения, детерминирующие бытие подобного объекта
или комплекса объектов и на чьей сумме и взаимосвязи поко-
ится бытие-в-себе этих объектов и комплексов, выступали бы
для субъекта как независимая от сознания объективность, в
субъекте же становились бы адекватным бытием-для-нас, то
есть таким бытием-для-нас, к чьим объективным, сущим-в-себе
особенностям относится как раз тот внутренне необходимый
способ проявления, который мы называем обычно красотой в
природе. Из этого вытекает прежде всего следующая анти-
номия: либо все, что возникает в природе благодаря действию
ее законов, должно быть одновременно со всеми своими необ-
268
ходимыми прочими характеристиками еще и прекрасным, либо
же законы природы в своем объективном взаимодействии
должны порождать как прекрасные, так и непрекрасные пред-
меты и комплексы предметов; при этом, однако, правильное
понимание ^тих законов должно приводить и к пониманию тех
закономерностей, которые вызывают к жизни прекрасное и не-
прекрасиое. Одним словом, верное познание природы и ее за-
конов должно было бы вскрывать также и те связи, которые
приводят к возникновению природной красоты; а эта послед-
няя— также и в ее познании человеком — находилась бы на
той же методологической плоскости, что и все прочие восприя-
тия и понятия, в которых выражается предметность и законо-
сообразность природы.
С полной последовательностью эти воззрения выступают
лишь в той части астрономии Кеплера, в которой он устанав-
ливает в движении планет, в расстояниях между ними и т. д.
те же числовые соотношения, какие в музыке отображают
физико-математические основания акустических отношений
между звуками. Речь идет, как мы видим, об объективном
естественнонаучном утверждении, судить о котором может, ра-
зумеется, только специалист в данной области. Мы же, со сво-
ей, эстетической, точки зрения, можем поставить лишь следую-
щий вопрос: допустим, что все утверждения Кеплера верны,
доказывает ли это объективное существование в природе музы-
ки как некоей «природной красоты»?. Ведь Кеплер лишь пока-
зал, что в движении планет можно установить те же математи-
ческие пропорции, что и в акустических отношениях, лежащих
в основе музыки. Однако, с одной стороны, сам Кеплер гово-
рит, что на небе нет никаких звуков, а это значит, что, хотя
эти пропорции и совпадают с акустическими, по своему суще-
ству они ни в коем случае не являются простым математиче-
ским обобщением воспринимаемых на слух звуковых последо-
вательностей. С другой стороны, при рассмотрении музыки в
качестве эстетического явления мы уже видели, что хотя эти
пропорции — в качестве основания слухового восприятия музы-
ки человеком — являются основанием самой ее возможности,
тем не менее то, что, собственно, и делает музыку — в эстети-
ческом смысле — музыкой, должно, безусловно, выходить за
пределы подобных пропорциональностей и лишь использовать
их как свой материал. Таким образом, даже при величайшей
снисходительности, даже если признать, что и в самом деле
объективно существуют далеко идущие аналогии между опре-
деленными физическими основаниями музыки и совершенно
иными явлениями природы, — даже тогда нет никакой возмож-
ности доказать, что в природе, в мире за пределами человече-
ского действительно существует нечто, аналогичное настоящей
музыке. Эти наши замечания не имеют никакого отношения
к вопросу о том, насколько верны или неверны, плодотворны
269
или неплодотворны теории Кеплера. Они лишь показывают,
что подобная «гармония миров» также не может служить до-
казательством того, что природа — даже если эти теории вер-
ны — порождает что-либо эстетическое. /
Уже здесь хорошо видна существеннейшая трудность фило-
софского обоснования природной красоты: телеологический ха-
рактер любого явления, которое может быть названо эстети-
ческим. Причем не только телеологическая детерминирован-
ность отдельных предметов, но также и их взаимосвязей, их
взаимодействия. Если, скажем, красота какой-нибудь скалы по-
рождена как таковая самой природой, то и гораздо чаще встре-
чающаяся и более существенная красота целого, состоящего из
многих частей — к примеру, лань, стоящая в лучах заходящего
солнца на берегу ручья, — тоже должна иметь подобное объек-
тивно детерминированное происхождение. Если, таким обра-
зом, определять природную красоту как прямой продукт объ-
ективных законов природы, то следует доказать наличие
в самих этих законах, определяющих бытие и изменение пред-
метов, их движение и взаимосвязи, некоей направленной на
красоту телеологической тенденции. Для идеалистической фи-
лософии, в особенности для значительной части объективного
идеализма, это не представляет особенных трудностей: где
признается существование бога — творца вселенной, где его
творческая воля порождает явления, там не трудно без дол-
гих слов наделить эту волю еще и стремлением к красоте.
И даже после того как развитие естественных наук поставило
непреодолимые трудности на пути прямого телеологизирования
природы, даже после этого воскрешение старого и уже хорошо
нам знакомого идеалистического гипостазирования телеологии
труда, то есть учения о том, что творец стоит всегда выше со-
творенного им, может послужить основанием — пусть и не
слишком прочным — для дедукции природной красоты. Так,
это происходит в XIX столетии в эстетике Вейсе, который, ис-
ходя из этой предпосылки, ставит творческий гений выше са-
мого эстетического произведения, в природной же красоте, как
в объективной форме гения, усматривает высшую ступень эсте-
тического вообще23. Мы упоминаем здесь теорию Вейсе как яр-
кий пример тех в высшей степени искусственных построений,
с чьей помощью в новейшее время объективно сущая природ-
ная красота выводится в качестве его продукта из заложенно-
го и действующего в природе духа.
Однако и материалистическая философия старого стиля
подпадает под то фундаментальное противоречие, когда, с од-
ной стороны, под влиянием развития естественных наук из на-
шей картины мира изгоняется наивно допускавшееся ранее
представление о телеологическом характере всей природы в це-
лом, с другой же стороны, однако, признается некая природ-
ная красота как продукт действующих «вслепую» сил и зако-
270
нов. В этЪй философии очень часто присутствует эмоциональ-
ная потребность настоять, провозглашая совершенство приро-
ды, на приоритете бытия перед мышлением, природы перед
человеком и, следовательно, доказать объективное существова-
ние красоты^ порождаемой природой по ее собственным зако-
нам. Даже наиболее проницательные и критически настроен-
ные материалисты часто не замечают при этом, что они снова
оказываются во власти выше сформулированной антиномии
природной закономерности и телеологии. Когда Дидро в своем
«Опыте о живописи» исходит из предпосылки, что «в природе
нет ничего неправильного», то кажется, что он исходит просто
из полной согласованности в функционировании отдельных за-
конов природы, из согласованности всех каузальных цепей,
непосредственно определяющих отдельные явления. Между
тем, если продумать подобную предпосылку до конца, мы сно-
ва приходим к некоей harmonia praestabilita, к некоей разновид-
ности неизменно действенной мировой телеологии. И наше по-
дозрение, что материализм его рассуждений — стремящихся
как раз к обоснованию природной красоты — вполне непоследо-
вателен, только усиливается следующим его замечанием:
«.. .и все, что существует, именно таково, каким оно должно
быть». Уже сам по себе мотив долженствования привносит
в природу некий телеологизм, ведь если не принимать в каче-
стве цели становления существование какого-либо прообраза,
само понятие долженствования не будет иметь в применении
к становлению никакого смысла. Ибо в простом признании
того, что эти комбинации каузальных цепей порождают типи-
ческие процессы развития, типические формы бытия, нет и на-
мека на долженствование; без телеологии, без идеалистической
интерпретации развития вообще невозможно предъявить от-
дельному представителю рода такие требования, как если бы
он, к примеру, «должен» был с возможно большей чистотой
воплотить в себе типические черты рода.
Естествоиспытатель-диалектик и эстетик Гёте, далеко не
столь последовательный, как Дидро, в отношении материали-
стической теории познания, в этом вопросе гораздо трезвее по-
следнего. Утверждению Дидро, что в природе нет ничего «не-
правильного», он противопоставляет свое собственное, глася-
щее, что в природе нет ничего «непоследовательного» [см. т. 3,
с. 289 и ел.]. Противоположность очевидна. Определение Дид-
ро перенесено в природу из эстетики, причем из французской
эстетики, на вполне определенной фазе ее развития: в самом
деле, борьба за правильность художественных произведений со-
ставляет существенный момент эстетических дискуссий XVII—
XVIII веков. Поправка, вносимая Гёте, а именно что природа
никогда не производит ничего непоследовательного, свиде-
тельствует о куда большей осторожности; она исключает из
явлений природы все внесенные в них телеологически-эстети-
271
ческие элементы, и в соответствии с этой основополагающей
концепцией Гёте заменяет формулировку Дидро, гласящую,
что природные феномены таковы, какими они должны быть,
утверждением, что они всегда таковы, какими /Они могут
быть, то есть таковы, какими их с необходимостью формируют
бесчисленные и почти никогда заранее не предсказуемые взаи-
модействия, переплетения и т. д. природных сил; Гёте, впрочем,
указывает на такую необходимость, которая включает в себя
неснимаемые элементы случайности. Из всего этого вытекает,
далее, решительное отклонение той точки зрения, согласно ко-
торой реакция человека на необходимое конкретно-данное бы-
тие явлений природы носит, безусловно, эстетически-эмоцио-
нальный характер. Познание этих явлений и наслаждение ими
уживаются друг с другом, «не устраняя друг друга, но и не
имея особых связей меж собой». Как раз у Гёте это тщатель-
ное различение ни в коем случае не исключает эмоционально
наполненного отношения к природе, причем в неэстетическом
смысле. Мы уже упоминали в другой связи его восхищение
улитками и крабами, которых он видел в Венеции [см. т. 2,
с. 391]; восхищение это было по крайней мере столь же ин-
тенсивным, как и самое острое переживание природной красо-
ты; оно, однако, свободно от эстетических моментов: живое
является здесь соразмерным своему состоянию, захватывающе-
подлинным и подлинно сущим. Этот новый пафос познания
природы в ее подлинном бытии-в-себе, освобожденной и очи-
щенной от всех телеологических проекций предыдущих эпох,
направлен именно на научное постижение природных феноме-
нов и именно ради возможно более адекватного отражения
последних стремится критически устранить из картины при-
роды все понятия и предметные формы, возникшие вследствие
общественно-человеческих потребностей. В противоположность
Дидро, чья концепция природы с одинаковой легкостью и
почти без переходов перерастает как в научное познание, так
и в эстетическое переживание, критика Гёте не только, как
мы уже видели, с величайшей тщательностью отделяет как на-
учное отношение к природе от эстетического, так и объектив-
ную сущность самой природы — сколь бы сильным ни было ее
эмоциональное воздействие на человека — от эстетического от-
ражения действительности в произведениях искусства. Откло-
няя стремление Дидро полностью слить воедино природу
и искусство, он определяет их противоположность следующим
образом: «Природа создает живое безразличное существо. Ху-
дожник, напротив, — мертвое, но значимое. Природа творит
нечто действительное, а художник — мнимое. Тому, кто созер-
цает творения природы, необходимо самому заранее придавать
им значимость, чувство, мысль, выразительность, воздействие
на душу, а в художественном произведении он способен найти
и действительно находит все это уже наличным»24.
272
У КаУга, испытавшего решительное влияние Ньютона и сле-
дующих (за ним естествоиспытателей, уже, разумеется, не мо-
жет быть\и речи о прямом перенесении на природу телеологи-
ческих принципов. Поскольку, однако, его вдохновляют и со-
временные \ему идеи, особенно идеи Руссо, поскольку он как
моралист ставит переживания природы выше, чем пережива-
ния, вызванные искусством, постольку и он с необходимостью
должен прийти к некоей эстетической телеологии в познании
природной красоты. С систематико-методологической точки
зрения его позиция становится возможной, с одной стороны,
благодаря его гносеологической концепции непознаваемости
вещей в себе, концепции, которая рядом со строго детермини-
рованным, исключающим всякую телеологию представлением
о мире (или позади него) оставляет место еще и для — агно-
стицистски-метафизического — вкрапления телеологической точ-
ки зрения, которую критическая направленность его филосо-
фии сделала невозможной для феноменального мира. С другой
стороны, трансцендентно-ноуменальная концепция этики откры-
вает путь для включения понятых таким образом телеологиче-
ских связей в систему этики. Кант дает этой своей программе
следующую формулировку: «Самостоятельная красота природы
открывает нам технику природы, которая представляет ее как
систему, {подчиненную] законам, принципа которых мы не на-
ходим во всей нашей рассудочной способности, а именно зако-
на целесообразности в отношении применения способности суж-
дения к явлениям, так что о явлениях надо судить не только
как о принадлежащих к природе с ее лишенным цели меха-
низмом, но и как о подходящих для аналогии с искусством.
Следовательно, самостоятельная красота природы на самом де-
ле- расширяет хотя и не наше познание объектов природы, но
все же наше понятие о природе, а именно {о природе] просто
как механизме, [расширяет] до понятия о ней как об искусст-
ве, что побуждает нас к глубоким исследованиям о возможно-
сти такой формы»25. В соответствии с этими принципами он и
излагает то этическое содержание, которое вырастает из пере-
живания цветов и красок или пения птиц, и тут же добавляет:
«Так по крайней мере мы истолковываем природу, каковы бы
ни были ее собственные намерения». Этого достаточно, чтобы
успокоить критическую совесть гносеолога и превратить красо-
ту, постулируемую моральными интересами человека, в про-
дукт самой природы. Тем не менее очевидно, что, хотя эта
красота и излучается объективными свойствами природных
предметов, целью их свечения является все же моральная при-
рода человека. Природа, таким образом, порождает не просто
красоту, но такую красоту, которая обходным путем эстетиче-
ского удовольствия воздействует на человеческую нравствен-
ность. В формулировке Канта это звучит так: «Но так как ра-
зум заинтересован и в том, чтобы идеи... имели также и объ-
18—805
273
ективную реальность, т. е. чтобы природа указывала ^о край-
ней мере на признак или намекала на наличие в себе некото-
рого основания предполагать закономерное соответствие ее
продуктов с нашим независимым от всякого интересна удоволь-
ствием... то разум должен питать интерес ко вссму тому в
природе, в чем проявляется подобное этому соответствие; сле-
довательно, душа не может размышлять о красоте природы, не
находя в этом для себя и интереса. Но этот интерес находится
в родстве с моральным...» И далее он называет эстетическое
суждение «верной разгадкой того шифрованного письма», по-
средством которого «природа образно говорит с нами своими
прекрасными формами»26. При всех гносеологических пред-
осторожностях, при всех колебаниях мысли между критиче-
ским агностицизмом и рационалистически-моралистической ми-
стикой телеологический подход к природе переживает в этой
концепции ее красоты подлинный ренессанс.
В наши дни эту теорию возрождает Николай Гартман, по-
стоянно ссылаясь на Канта, который якобы правильно выделил
метафизический корень проблемы. В результате совершивше-
гося с тех пор развития естественных наук, а также вследст-
вие его собственной более ярко выраженной тенденции к объ-
ективному идеализму утверждение объективно существующей,
выводимой из взаимодействия сил природы природной красоты
сопряжено для него с большими трудностями, чем для Канта.
Ситуация осложняется еще и тем, что у Гартмана отсутству-
ет также и связь природной красоты с трансцендентно обос-
нованной, укорененной в бытии-в-себе всего сущего мораль-
ностью. И потому философское описание самого этого феноме-
на приводится им с гораздо большей осторожностью и
сдержанностью, чем Кантом. При этом Гартман решительно
отклоняет все ссылки на некое мистическое отношение к при-
роде в прошедшие эпохи, которое, утверждает он, не имеет
ничего общего с эстетическими переживаниями; само же чув-
ство природной красоты появляется в историческом отношении
исключительно поздно. Сюда же относится и то, что Гартман
называет «автаркией» природы, ее полное безразличие по от-
ношению к ее же собственному воздействию на субъект. Но
именно отсюда и проистекает, по мысли Гартмана, пережива-
ние природной красоты: «Нечто крайне субъективное и нечто
крайне объективное своеобразно перемешиваются в этом, не
мешая друг другу; чувство природы и чувствование самого се-
бя связываются здесь в единое целое, которое не ослабляет
противоположность, а сохраняет ее в виде существенного
предварительного условия»27. Из этого Гартман делает верный
вывод, что явления природы не могут обладать собственным
духовным содержанием, ничего подобного в них и через них
не выражается. Он, правда, тут же изменяет своим первона-
чальным утверждениям, говоря, что подобное содержание не
274
привносился в них извне; такая проекция является как раз
важнейшей частью верно выделяемой им самим субъективно-
сти28. В понимании этого напряжения между крайней объектив-
ностью и крайней субъективностью Гартман идет гораздо даль-
ше Канта, более того, он затрагивает здесь важную сторону.,
существенный момент самого феномена. В том же, что он не
способен довести свои отчасти верные и глубокие наблюде-
ния до действительного понимания проблемы, повинна его тра-
диционно традиционалистская установка, его постоянное про-
тивопоставление отдельной человеческой индивидуальности не-
посредственно в-себе-сущей природе. Из этого проистекают все
загадки, все метафизические проблемы, а с ними и неизбеж-
ность возврата к кантовской постановке вопроса, хотя его под-
час крайне наивные обоснования Гартман, как мы видим, оста-
вил далеко позади. «Ведь удивительным, — пишет он, —
является возникновение изображений, в которых для со-
зерцающего человека прозрачно выступает отношение явлений,
о чем совершенно не заботятся при создании этих изобра-
жений»29. Позиция Гартмана в этом вопросе критична по-
стольку, поскольку он ясно видит, что чувство ландшафта, ко-
торое его в основном и занимает, очень часто оказывается
простым витальным чувством; он возвращается, однако, к сво-
им метафизическим загадкам, признавая, что глубокие эмо-
ции, вызываемые природой, по существу своему идентичны с
теми, что эвоцируются произведениями искусства. Отсюда
и процитированная выше формулировка проблемы, в которой
обе догматические предпосылки всего этого комплекса вопро-
сов —■ непосредственная связь индивида с сущей-в-себе приро-
дой и чисто эстетический характер вызываемых ею пережива-
ний — выступают в виде предчувствия некоей метафизической
«загадки».
Если мы хотим разобраться в этих, вытекающих из непра-
вильной постановки вопроса и, по видимости, неразрешимых
антиномиях, нам следует прежде всего несколько пристальнее
рассмотреть догмат о непосредственной связи индивида с при-
родой; характер же собственно переживаний природы мы смо-
жем разумно определить, лишь разобравшись в этом их объек-
тивном основании. Мы видели, что уже Гартман отмечает
позднюю в историческом смысле актуализацию чувства приро-
ды. Однако на той методологической ступени понимания проб-
лемы, на которой мы все еще находимся, ни простое признание
этого факта, ни конкретное и детальное рассмотрение истории
возникающих здесь переживаний, их сущности, их предметов
и т. д. не продвинут нас в философском смысле ни на шаг.
Против такого исторического изложения можно с известным
правом возразить, что изучаемое при этом историческое раз-
витие является вовсе не историей самого предмета, а лишь
историей его постепенного превращения в некое бытие-для-
18*
275
нас, подобно тому как история физики или химии занимается
вовсе не историей развития предметов этих наук —ва этот с
космической точки зрения ничтожный период совершенно не
изменившихся, — а лишь историей нашего познания действи-
тельности, которая сама по себе остается неизменной. Оче-
видно, что и в эпоху всеобщего господства птолемеевой теории
Земля в противоположность тогдашним представлениям чело-
века точно так же вращалась вокруг Солнца, как и в наши
дни. Подобно этому можно сказать, что и природная красота
всегда существовала равным себе образом — по крайней мере
в тот геологический период, когда совершалось развитие чело-
веческого рода, — и лишь постепенно, шаг за шагом, осозна-
валась человеком. Речь идет, следовательно, о том, чтобы ясно
определить специфическую предметность соотнесений с чело-
вечеством природы, как в ее объективности, так и в ее субъек-
тивных рефлексах.
Этим специфическим элементом, который, несмотря на его
огромное значение, оставался до сих пор не замеченным, явля-
ется производство. Благодаря производству, благодаря труду,
всегда лежащему в его основе, человек — о чем уже не раз го-
ворилось на этих страницах — впервые становится человеком;
благодаря ему же, однако, возникает и решающее для нашей
проблемы одновременное разъединение и объединение человека
и природы. Животное во всех своих проявлениях остается
частью природы; также и человек никогда ее не покидает.
И тем не менее благодаря совершаемому им труду, результа-
там этого труда противостоит ей в качестве самостоятельной
силы, использует ее, причем способы этого использования, са-
ми по себе необходимые, уже не определяются законами при-
роды, хотя, разумеется, его отношения с природой могут быть
осуществлены лишь путем овладения, практического примене-
ния, познания и т. д. природных явлений и сил. Маркс потому
и говорит о труде как о «созидателе потребительных стоимо-
стей», полезных для человека вещей: он есть «не зависимое от
всяких общественных форм условие существования людей, веч-
ная естественная необходимость: без него не был бы возмо-
жен обмен веществ между человеком и природой, т. е. не была
бы возможна сама человеческая жизнь»30. Поскольку же труд
не только делает человека человеком, но также — uno actu —
создает человеческое общество, постольку описываемый Марк-
сом «обмен веществ» с природой всегда производится общест-
вом, причем любым обществом, независимо от особенностей его
специфической формации: и Робинзон на своем острове также
осуществляет этот обмен как член определенного конкретного
общества, как человек, стоящий на определенной ступени об-
щественного развития. Следствием этого обмена, образующего
основание любого отношения человека к природе — практиче-
ского, теоретического или эмоционального, — является некая
276
двойная объективность. Во-первых, сущая-в-себе объективность
природы остается непоколебленной. Более того, все обществен-
ное производство осуществляется на основе этой объективно-
сти. Идет л\|й речь об особенностях возделываемой почвы,
о свойствах домашних животных, о качестве сырья, инструмен-
тов и т. д., всегда исходят из объективного в-себе-бытия; так
же обстоит дело и в том случае, когда общество ставит себе
целью их изменение, более того, здесь это еще очевиднее, по-
скольку целенаправленное изменение предполагает возможно
более точное знание подлежащих изменению предметов, усло-
вий и т. д. Во-вторых же, и общественно-субъективная сторона
производства, экономические потребности и возможности, ус-
ловия, средства и т. д. его осуществления, определяющие поиск
и выбор предметов, способ их обработки, должны носить объ-
ективный характер.
По мере того как идущее своим ходом, укорененное в этом
«обмене веществ» между обществом и природой развитие про-
изводительных сил создает соразмерные себе производствен-
ные отношения и соответствующим образом регулирует и из-
меняет отношения между людьми, для каждого отдельного че-
ловека возникает из этой двойной объективности его окружаю-
щий мир, являющийся для него во всех вышеуказанных отно-
шениях неснимаемо-данной объективной действительностью.
И как бы он ни стремился жить своей собственной жизнью —
а это, заметим кстати, относительно позднее историческое яв-
ление, предполагающее уже весьма высокоразвитую культуру,
весьма сложные отношения людей друг с другом и с приро-
дой, — он может жить ею лишь внутри того реального «про-
странства», тех уже заданных форм, которые предлагаются
ему объективными особенностями данной общественной струк-
туры. Таким образом, действительность, с которой имеет дело
человек в своей повседневной жизни, представляет собой не-
снимаемое и объективное единство структуры общества и его
взаимообмен с природой. То, что наука изучает природу в ее
независимом от общества бытии-в-себе, вытекает как раз из
общественного разделения труда, из только что указанной по-
требности подвести под «обмен веществ» между обществом и
природой возможно более точное знание последней. Тот же
факт, что развитие культуры достигает в науке дезантропомор-
фирующего отражения действительности, еще раз свидетельст-
вует о том, что вышеуказанное единство образует непоколеби-
мое практически основание любого человеческого существова-
ния. Чтобы воплотить в жизнь подобную объективность позна-
ния, должен быть разработан такой мыслительный инструмен-
тарий, в котором отражение действительности освобождается
от этой, в остальных случаях практически неснимаемой связи.
В соответствующем месте мы подробно рассмотрели этот дол-
гий, трудный, полный провалов и падений процесс высвобожде-
277
ния дезантропоморфирующего отражения действительности;
мы указывали при этом, что постепенно добываемое/в процес-
се этого развития знание о совершенно независимом от чело-
века существовании природы не содержит в себе /йичего нече-
ловеческого, тем более противоположного человеку, скорее на-
оборот, оно является важнейшей движущей силой высшего
развития человека. Закон этот, однако, не может быть пере-
вернут. Объективным базисом всего того, что как-либо связано
с жизнью, с непосредственными жизненными проявлениями
человека, является — неснимаемым образом — вышеуказанное
единство природы и общества, природы и человека. (Познание
независимости природы от общественного бытия людей и вы-
зываемые им эмоции включаются при этом в качестве ее су-
щественного момента в подобную картину Mjipa.) К этому
комплексу, как мы увидим, относится и вся область эстетиче-
ского.
Мы очертили пока что лишь наиболее общие контуры об-
щественного бытия людей. И тем не менее уже здесь следует
понять: все определения людей, их взаимосвязей и отношений
друг с другом, их поступков, свойств и т. д. будут неизбежно
абстрактны и в этой абстрактности будут лишь уводить в сто-
рону от сути дела, если оторвать их от этой основы человече-
ского существования. Маркс совершенно прав, говоря: «Что та-
кое негр-раб? Человек черной расы. Одно объяснение стоит
другого. Негр есть негр. Только при определенных отношени-
ях он становится рабом». Далее он показывает бытийственные
основания того, почему конкретные высказывания о человеке,
человеческих отношениях и т. д. могут быть сделаны лишь ис-
ходя из этих реальных, фундаментальных отношений челове-
ческой жизни и при их постоянном учете. Нас интересует здесь
прежде всего то, что касается отношений «.человека и природы:
«В производстве люди вступают в отношение не только к при-
роде. Они не могут производить, не соединяясь известным об-
разом для совместной деятельности и для взаимного обмена
своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в
определенные связи и отношения, и только в рамках этих об-
щественных связей и отношений существует их отношение
К природе, имеет место производство»31. Все это означает вов-
се не безразличное сведение всех феноменов человеческой жиз-
ни к неким «социологическим» схемам, как полагают многие
буржуазные противники марксизма, а как раз наоборот, мето-
дологическое основание для более тонкого и тщательного диф-
ференцирования. Для нас здесь особенно важно то, что ут-
верждение: «Все связи человека с природой опосредованы об-
ществом», — не означает для Маркса уничтожения (даже
в чисто экономическом смысле) различий между обеими сфе-
рами. Привожу лишь одно его замечание, касающееся пробле-
мы стоимости: «Потребительная стоимость выражает природ-
278
ное отношение между вещами и людьми, фактически — бытие
вещей для человека. Меновая стоимость... есть общественное
бытие вещи»32. При рассмотрении всех возникающих таким
образом синтезов и дифференциаций речь идет о том, чтобы,
исходя из основополагающей деятельности человека — произ-
водства и воспроизводства им своей собственной действитель-
ной жизни, которое в процессе развития в зависимости от
уровня цивилизации включает в себя все более широкие опос-
редования, — понять основания и границы, побуждения и «про-
странство» всех жизненных проявлений человека. Впоследст-
вии, при более детальном рассмотрении, мы увидим, сколь
опосредованно и неравномерно проявляются эти определения
в конкретных случаях. Теперь же следует указать лишь на ту
основную тенденцию развития истории, согласно которой «каж-
дая ее ступень застает в наличии определенный материальный
результат, определенную сумму производительных сил, исто-
рически создавшееся отношение людей к природе и друг к дру-
гу, застает передаваемую каждому последующему поколению
предшествующим ему поколением массу производительных сил,
капиталов и обстоятельств, которые, хотя, с одной стороны,
и видоизменяются новым поколением, но, с другой стороны,
предписывают ему его собственные условия жизни и придают
ему определенное развитие, особый характер. Эта концепция
показывает, таким образом, что обстоятельства в такой же
мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства»33.
Это значит, что отношения человека к природе, в их качестве
практических, теоретических, эмоциональных выражений «обме-
на веществ» между нею и обществом, следует рассматривать
в этом общем историческом контексте, не прибегая к помощи
тех произвольных абстракций традиционной эстетики, которые,
с одной стороны, отвлекаются от реальных оснований отноше-
ния человека к жизни, с другой же, противопоставляют его
природе в себе, с которой он — помимо научного отражения
действительности — практически имеет дело лишь в крайних
и исключительных случаях.
С экономической точки зрения легко понять этот общест-
венно-исторический характер отношений человека к природе,
с которой он вступает в соприкосновение. Ясно, что требуется
определенное развитие производительных сил, общественное и
технологическое разделение труда и т. д., чтобы человек мог
вступить в контакт с теми или иными — всегда наличествую-
щими в себе — предметами и комплексами предметов природы.
В каменном веке, к примеру, для человека руды как таковой
еще не существовало. Но также и позднее экономическое раз-
витие определяло собой характер и способы открытия и ис-
пользования угля, нефти, электричества вплоть до энергии, вы-
свобожденной расщеплением атомного ядра. Таким образом,
сфера, в которой происходит соприкосновение человека с при-
279
родой, взаимообмен общества с нею, все более расширяется,,
а сам процесс соприкосновения становится все более диффе-
ренцированным в качественном отношении. Значение этого
процесса для образа жизни людей неизмеримо: оно непрерыв-
но преобразует сами основания их бытия. Это преобразование
может прямо вытекать из экономического развития данной об-
ласти земного шара, как это было при открытии и реализации
угля и железа в Англии, но может быть и привнесено извне
(разработка нефтяных месторождений в арабских странах);
преобразование происходит неизбежно, однако — как показы-
вает пример этих крайних случаев — его характер зависит не
от природных особенностей данных объектов, а от экономиче-
ского развития и структуры того общества, которое участвует
в этом расширении взаимообмена с природой. *
Говоря о сфере, в которой происходит взаимодействие
с природой, мы стремились заранее дать понять, что никакое
общество не находится в состоянии обмена с природой непо-
средственно как с экстенсивной и интенсивной целостностью.
Все то, что лежит за пределами этой сферы, может, разумеет-
ся, оказывать объективное влияние на жизнь данного общест-
ва, причем безразлично, осознается ли это людьми, или же не-
подвластная им природа воспринимается просто как некая
грозная и враждебная сила. Во всяком случае, в жизнеощуще-
нии людей всегда существует некая двойственность: с одной
стороны, природа, находящаяся с ними в отношениях урегули-
рованного взаимодействия, с другой, природа, живущая своей
жизнью вне этих границ. Развитие производительных сил и
идущее параллельно развитие самой цивилизации постоянно
расширяет эти границы, и тем не менее всегда существует не-
что, лежащее по ту сторону человеческого познания природы
и господства над нею, причем как в экстенсивном, так и в ин-
тенсивном смысле. Лишь современная наука дала этому факту
соответствующее понятийное выражение, до этого он оставал-
ся предметом надежды и страха, отображенным в магических
и религиозных представлениях, а также различного рода суе-
вериях. Отступление границ природы, как называл этот про-
цесс Маркс, означает не только количественное расширение
контролируемой обществом части природы, оно означает так-
же, что отношения человека к ней как к целому, включая,
следовательно, и те ее части, которые лежат все еще вне этой
сферы, становятся все более интенсивными и многообразными.
Отступление границ природы порождает, таким образом, одно-
временное расширение, углубление, усложнение и т. д. связей
человека с природой в применении ко всем его жизненным про-
явлениям. Такова по крайней мере тенденция развития. Ос-
нования этого процесса нетрудно понять. А именно: возросший
уровень производства означает не только возросший уровень
труда и его непосредственных результатов, но также, с одной
280
стороны, развертывание человеческих способностей и задатков,
с другой же, возникновение и, позднее, увеличение досуга, рас-
ширение гарантированной области человеческого существова-
ния. Высвобождающаяся при этом энергия, развивающиеся
способности, производимые наблюдения и делаемые из них
выводы, естественно, все менее ограничиваются производством,
даже в самом широком смысле слова. Все это неизбежно воз-
действует на всю жизнь человека, и в процессе этого развития
результаты его возросшего взаимообмена с природой обогаща-
ют мало-помалу также и все остальные типы его отношений
с нею, а не только непосредственно-практические. Развитие
это, разумеется, крайне неравномерно, причем не только в
том, что касается данного общества в целом, но и внутри
этого общества в том, что касается каждого отдельного чело-
века. Ведь классовые общества, возникающие с разложением
первобытного коммунизма, развивают те моменты прогресса,
о которых идет здесь речь, и прежде всего досуг, в высшей сте-
пени неравномерно. Следствием этого является тот факт, что
определенные, важные для нашей проблемы явления очень ча-
сто наблюдаются исключительно или почти исключительно у
господствующих классов, тогда как у классов эксплуатируемых
в течение столетий, а иногда и тысячелетий не происходит ни-
каких изменений -^ также и в том, что касается подобных от-
ношений к природе.
Мы должны были хотя бы в общих чертах указать на то,
что общественно-человеческие следствия развития производст-
ва, идущей с ним вместе интенсификации «обмена веществ»
с природой и отступления границ последней неизбежно выхо-
дят за рамки собственно производства. Теперь же следует
вновь обратиться к этому последнему, чтобы несколько под-
робнее рассмотреть ту специфическую предметность, которую
получает в-себе-сущая природа в своей объективной соотнесен-
ности с человеческим обществом. Маркс обсуждает этот вопрос
на примере отношения денег к благородным металлам, к золо-
ту и серебру. Общеизвестно, что потребовалось очень долгое
развитие, прежде чем в обществе установились эти отношения
между деньгами и золотом. Фактически в основе этих отноше-
ний лежит то обстоятельство, что природные свойства золота
лучше всех других природных явлений отвечают тем экономи-
ческим требованиям, которые обусловлены различными функ-
циями денег; к числу таких свойств относятся: постоянство
качества при любом количестве золота, возможность делить
его на части и вновь сплавлять их воедино, большой удельный
вес и потому сравнительно большая тяжесть при небольшом
объеме, а отсюда удобство при транспортировке и передаче,
и, наконец, редкость и мягкость золота, делающие его непри-
годным для использования в качестве материала для инстру-
ментов производства. Благодаря этим объективным независи-
281
мым ни от какого общества свойствам золото становится уже
заранее данным воплощением денег. «Природа, — говорит
Маркс, —■ не создает денег, так же как она не создает банки-
ров или вексельный курс... Золото и серебро по природе сво-
ей не деньги, но деньги по своей природе — золото и сереб-
ро»34. Здесь хорошо видна неразрывная связь природной и об-
щественной объективности в соотнесенной с человеком приро-
де. Поскольку производство может вступить во взаимодействие
лишь с реальными особенностями своих объектов — в противо-
положность идеологической активности, где огромную роль
могут играть общественно необходимые, фактически же совер-
шенно необоснованные и ложные представления, как, напри-
мер, в магической картине мира, — постольку для него важны
лишь объективные, существующие независимо» от него свойст-
ва объектов. С другой стороны, производство подходит к при-
роде с помощью различных, в зависимости от степени его раз-
вития, способов, однако, всегда побуждаемое к тому объектив-
ной общественной необходимостью, выбирает из ее по видимо-
сти безграничного, в действительности же конкретно ограни-
ченного комплекса объектов такие, которые на уровне данных
технических возможностей способны в наибольшей степени
удовлетворить данные общественные потребности.
Поскольку подобный объект всегда включен в процесс
«обмена веществ» с природой, постольку он не может быть
субъективирован, так как именно его объективные, в-себе-су-
щие свойства делают возможным такое включение. С другой
стороны, однако, объект и способ этого выбора — то есть кон-
ституирование того, что становится предметом взаимообмена,
следовательно природным окружением данного человека, и од-
новременно того, что считается непознанным, что образует
лишь данную угрожающе опасную природную границу, — зави-
сят от развития производительных сил, от структуры общества.
Поскольку эта вторая объективность не затрагивает первой, а
лишь выделяет из нее то, что в том или ином случае необхо-
димо для человеческого производства и воспроизводства, по-
стольку у обыденного человека возникает уже намеченная на-
ми в общих чертах картина природы с ее весьма своеобразной
структурой, а именно: объективно и научно верное познание —
познание совершенно независимого от всякого сознания и от
общественного поведения существования природы, которое
в свою очередь выражает объективную истину жизни, — вре-
менами полностью из нее выпадает; природа в этом случае
предстает в неснимаемой соотнесенности с взаимообменом меж-
ду обществом и ею, с этим базисом общественного существо-
вания человека. Выраженная в понятиях, эта сложная пред-
метность производит прежде всего весьма парадоксальное дей-
ствие. С одной стороны, этот тип общественной данности при-
роды вовсе, как мы видели, не препятствует познанию наукой,
282
а также повседневной практикой ее подлинного бытия-в-себе,
и прежде всего в процессе труда. С другой стороны, однако, это
общественно опосредованное существо природы, образующей
непосредственное окружение человека, точно так же объектив-
но истинно: как только природа низводится с уровня челове-
ческой жизни (науку мы сейчас оставляем в стороне), эта фун-
даментальная истина человеческой жизни искажается; так же
и истина дезантропоморфирующего отражения, если оно претен-
дует на отображение жизни в ее непосредственности, становит-
ся для переживающего субъекта неистинной; живущий своей
жизнью человек в его живой связи с природой может всту-
пать в контакт лишь с тем, что объективно соотнесено с ним
-самим. Объективно истинные особенности человеческой кожи,
видимые в микроскоп, не могут быть истинными для влюблен-
ного, коль скоро речь идет о его возлюбленной, даже если он
врач; для человека в повседневной жизни, даже если он по про-
фессии астроном, солнце каждый день восходит и заходит и т. д.
и т. п. Традиционная эстетика совершает насилие над этой
истиной жизни, стремясь вывести природную красоту из в са-
мой жизни совершенно недейственного, непосредственного от-
ношения живого человека к природе самой по себе. Подобная
эстетика забывает, что в соотнесенности природы с обществом
ее объективность также не уничтожается, а просто включается
в новый, социально и витально неизбежный для повседневного
человека контекст.
Истинность этого утверждения, которое в своем словесном
выражении — однако и только в нем — кажется парадоксальным,
станет еще более очевидной, если мы рассмотрим отношения
человека к природе не только в рамках производства, но и в
их воздействии на всю жизнь человека в целом. В этой послед-
ней постоянно возникает и с развитием цивилизации все бо-
лее усиливается методологическое разделение непосредственно
двойной объективности: научное познание природы становится
все более самостоятельным, создает свои собственные институ-
ты и разрабатывает собственный инструментарий, стремясь
осуществить объективно возможный оптимум в этом «обмене
веществ» с природой; и в то же время проживающий свою
жизнь человек остается в рамках общественно соотнесенной
с человеком природы. Элементы этого разделения содержат-
ся—по крайней мере в зародыше — уже в самом примитив-
ном производстве. Все это, однако, как мы уже указывали, от-
нюдь не исчерпывает общественно-человеческой действенности
взаимообмена с природой. Уже в связи с процессом труда воз-
никают разнообразные эмоции, которые мы подробно исследо-
вали при рассмотрении проблемы происхождения искусства. Но
и сверх того, развитие производительных сил непрерывно преоб-
разует отношения людей, их внешние и внутренние состоя-
ния и тем самым также и их отношение к природе. При этом,
283
разумеется, нельзя останавливаться исключительно на непо-
средственной связи с эстетическим. Отношение к природе
охотника будет совершенно иным, чем отношение земледельца
или пастуха, и к тому же речь вовсе не должна идти о
непосредственно эстетических интенциях. А тот факт, что по-
явление городов вызывает к жизни в корне иное отношение
к природе, слишком известен и потому нуждается разве что
лишь в простом упоминании. Парадоксальное раскачивание
этой предметности между объективностью и субъективностью
становится еще более понятным, если мы добавим: она в одно
и то же время окончательна и предварительна. Окончательна,
поскольку любое переживание реагирует на вполне определен-
ную, именно эту и именно такую действительность, которая —
для переживания — отныне уже не подлежит днятию; даже по-
следующее уяснение ложности этой действительности может
в лучшем случае открыть для будущих переживаний другую,
однако в своем роде столь же окончательную действитель-
ность. И одновременно она в высшей степени предварительна.
И не только потому, что человек в обыденной жизни нынужден
постоянно переходить от этого достигшего объективности бы-
тия-для-нас к бытию-в-себе природы (труд, техника, наука).
Но также и в рамках подобной действительности объективное
бытие, в ней неснимаемым образом содержащееся, может при-
вести к немедленной отмене «окончательности», с тем, разуме-
ется, чтобы тотчас же после этой перемены вновь сделаться
для субъекта неснимаемой. Эта смена фиксированности и ла-
бильности как форма переживания действительности в обыден-
ной жизни необходимым образом следует из отношения пере-
живаемой действительности к ее бытию-в-себе35.
Эти переживания различаются, конечно, также и индивиду-
ально, причем чем выше уровень развития общества, тем силь-
нее эти индивидуальные различия. Все они, однако, необходи-
мым образом объединяются в рамках того конкретного «прост-
ранства» возможностей, которое предоставляет человеку дан-
ный взаимообмен с природой; и тот факт, что это пространст-
во подвержено сильнейшим классовым различиям, лишь под-
черкивает общественную детерминированность вообще всех
связанных с природой переживаний. Мы уже рассматривали
в подробностях процесс постепенного, неравномерного, полного
противоречий возвышения подобных переживаний до уровня
эстетического; теперь нам остается лишь просто сослаться на
уже сказанное. Укажем только, что как раз в эстетических
(а также и псевдоэстетических, лишь стремящихся к эстетиче-
скому) переживаниях установленная нами двойная объектив-
ность предметов переживания никогда не теряет своего значе-
ния. Маркс в своих рассуждениях о деньгах и золоте затра-
гивает и эстетическую проблему: «С другой стороны, золото
и серебро не только в отрицательном смысле излишни, т. е.
284
суть предметы, без которых можно обойтись, но их эстетиче-
ские свойства делают их естественным материалом роскоши,
украшений, блеска, праздничного употребления, словом, поло-
жительной формой излишка и богатства. Они представляются
в известной степени самородным светом, добытым из подзем-
ного мира, причем серебро отражает все световые лучи в их
первоначальном смешении, а золото лишь цвет наивысшего
напряжения, красный. Чувство же цвета является популярней-
шей формой эстетического чувства вообще»36. Не подлежит
сомнению, что подобные аффекты вызываются непосредствен-
но объективными материальными свойствами золота и сереб-
ра. И тем не менее марксово перечисление этих эмоций совер-
шенно ясно указывает на их одновременное и неотделимое от
материальных особенностей социальное происхождение. Это
происхождение станет для нас, пожалуй, еще очевидней, если
мы сошлемся на одну из последних статей Ленина, где он вы-
сказывает мнение, что после победы коммунизма в мировом
масштабе из золота будут сделаны «отхожие места на улицах
нескольких самых больших городов мира»37, которые в соответ-
ствии с физическими свойствами золота будут обладать всеми
описанными красочными эффектами, однако их эмоциональное
воздействие, функция золота в качестве «природной красоты»,
будет точно так же определено соответствующим исторической
эпохе «обменом веществ» между обществом и природой, как и во
времена, когда золото как символ роскоши поднималось до
уровня «прекрасного».
В. наших дальнейших наблюдениях над особенностями по-
рождаемых этим взаимообменом аффектов и переживаний мы
постараемся показать их человечески-универсальный характер,
основанием и движущей силой которого является именно про-
ходящая сквозь все изменения, открытая Марксом двойная
объективность. Всякая концепция, сталкивающая в-себе-сущую
природу непосредственно и лицом к лицу с живым человеком,
вынуждена или, по образцу науки, полностью изгнать челове-
ческую субъективность из открытой таким образом «природ-
ной красоты», что и происходит в кеплеровском учении об аст-
рономической гармонии, или же без остановок, без твердых
критериев раскачиваться между крайней объективностью и про-
извольной субъективностью, как это имело место в большинст-
ве предшествующих эстетических учений. Даже Чернышевский,
чье отождествление природной красоты с жизнью, с жизненной
полнотой удачнейшим образом избегает типической ошибки
его предшественников, проецирования телеологических тенден-
ций на тотальность природы, — даже он впадает в вышеука-
занную теоретическую непоследовательность. Жизненная пол-
нота достигается природой в самом деле без всякой телеоло-
гии, спрашивается лишь, действительно ли при этом возника-
ет то, что Чернышевский понимает под природной красотой.
285
Ведь если бы он был последователен, ему пришлось бы при-
знать, что какой-нибудь рой саранчи, в котором тоже ведь про-
является полнота жизни sui generis, столь же «прекрасен», как
и колышимая ветром нива, что разрастание раковых клеток
в человеческом теле столь же «эстетично», как и это тело, ког-
да оно пышет здоровьем. Чернышевский же внезапно покидает
здесь свою первоначальную точку зрения (природа сама по се-
бе) и обращается к точке зрения человека: «Но нельзя не при-
бавить, что вообще на природу смотрит человек глазами вла-
дельца, и на земле прекрасным кажется ему также то, с чем
связано счастье, довольство человеческой жизни»38. Здесь есть,
без сомнения, значительное сходство с точкой зрения Маркса,
разница лишь в том, что мысль Чернышевского остается абст-
рактной там, где мысль Маркса конкретна. Обращение к чело-
веку само по себе правильно, хотя Чернышевский и не прини-
мает во внимание практическую взаимосвязь человека с при-
родой, являющуюся теоретическим основанием этого отноше-
ния, —■ и тем не менее дуализм объективности и субъективно-
сти остается в силе: «полнота жизни» пребывает по-прежнему
в объективном царстве сущей-в-себе, независимой от человека
природы, а роль последнего сводится к субъективной оценке
непосредственно полезных или приятных для него явлений. По-
скольку же они не укоренены в объективном, бытийственном
взаимодействии между обществом и природой, постольку мо-
мент субъективного произвола остается непреодоленным. (Чер-
нышевский отрицает, например, всякую лишенную жизнеут-
верждающего пафоса природную красоту, к примеру красоту
осени с ее всеобщим увяданием.) Поэтому, с одной стороны,
природная красота у него лишена той универсальности, кото-
рая необходимо и объективно вырастает из взаимообмена об-
щества с природой, с другой же, оценка феноменов не обосно-
вана никаким объективным общественным критерием: с фило-
софской точки зрения она остается произвольной, хотя ее
совсем не трудно понять, если исходить из социально-политиче-
ской позиции Чернышевского, этого революционного демокра-
та, воззрения которого уходили корнями в самосознание
крестьянства.
Если мы рассмотрим теперь некоторые принципиальные
вопросы развития человеческого чувства природы — точка зре-
ния, ранее нами отклонявшаяся, — то это не будет противоре-
чием. До принципиального освещения объективных основ этого
чувства подобное историческое рассмотрение привело бы лишь
к дальнейшим неясностям и путанице; теперь же рассмотрение
действительного развития эмоционального отношения человека
к природе может, без всяких сомнений, пролить некоторый свет
на его существенные особенности. Сделаем лишь одно вводное
замечание. Как раз для анализа этой проблемы мы располага-
ем крайне скромным предварительным материалом. Исследо-
286
ванию этого вопроса, которое и само по себе не было до сих
пор особенно эффективным, препятствует то, что многие авто-
ры догматически исходят из некоего «вечного» и одновремен-
но эстетического отношения человека к природе и потому за-
темняют действительный феномен; к этому прибавляется еще
и то, что подавляющее большинство сведений относится к срав-
нительно поздней стадии развития, что же касается его исто-
ков, то здесь у нас крайне мало информации. При всех этих
источниках возможных ошибок можно тем не менее устано-
вить следующее: даже в столь высокоцивилизованном общест-
ве, как римское, мы едва ли найдем свидетельства того, чтобы
красота какого-либо природного явления в его качестве имен-
но явления природы представляла бы для людей какой бы то
ни было интерес. Места, например, которые посещали и кото-
рым дивились римляне во время своих путешествий, были ме-
ста, известные из мифов или истории, или же относились
к числу природных аномалий39. Интерес этот — разумеется, с
многочисленными модификациями и несколько ослабнув — со-
хранился вплоть до наших дней; вспомним о популярности
мест знаменитых сражений, об интересе к мемориалам выдаю-
щихся людей, их могилам и т. д. Позднее отношение человека
к природе в большой степени определяется мировоззренчески-
ми вопросами. Уже в древности понятие природы, употребляе*
мое метафорически, превратилось в понятие ценностное, оказы-
вающее значительное влияние на человеческое поведение
(жизнь в согласии с природой, естественное право и т. д.).
В определенные периоды — возьмем эпоху Руссо — выведенный
отсюда контраст между здоровой природой и испорченными,
искусственными нравами людей с большой силой воздействует
на отношение человека к окружающей его природной действи-
тельности; вспомним наши собственные рассуждения о так
называемых английских парках. Аффекты, чувства, мысли
и т. д., вызываемые к жизни этим общественно обусловленным
контрастом, относятся, разумеется, как к той природе, над ко-
торой господствует общество, так и к той, которая лежит вне
этой сферы: кантовское «звездное небо» — характернейший
пример подобного отношения к природе. Ясно, что здесь по-
всюду данное состояние общества, позиция, которую занимает
данный человек по отношению к возникающим на-этой почве
контроверзам, образует решающий компонент его чувства при-
роды. В письме к Гёте Вильгельм фон Гумбольдт подводит
следующий итог своим впечатлениям от пребывания во Фран-
ции: «У каждой нации свое собственное понятие природы»40.
Мы можем, учитывая наши предыдущие рассуждения, добавить:
также и у каждого класса внутри каждой данной нации. Та-
ким образом, общественно-исторические мотивы и тенденции
играют чрезвычайно существенную роль в отношениях челове-
ка к природе.
287
Что касается господствующих классов, о чувстве природы
у которых мы имеем больше всего сведений, то начиная с оп-
ределенной ступени цивилизации это чувство весьма часто про-
является как противоположность между городом и деревней,
между чадом и пылью, шумом и суматохой, с одной, и одино-
чеством, свежестью, покоем, с другой стороны. Временами это
переходит в мировоззренческий,контраст: деревня, земля даны
якобы человеку от бога, города же являются его собственным
созданием41. Этой общественной обусловленности соответству-
ет тот факт, что у римлян высшей похвалы удостаивались гра-
циозно-привлекательные ландшафты; чувство природы распро-
странялось на берег моря, долину, холмистую местность; го-
ры, степи или болота не входили в эту сферу42. Якоб Буркхардт
дает блестящую картину того, как в начале ^нового времени
расширялась сфера природно-прекрасного; прежде всего в нее
были включены высокие горы и скалистые пейзажи. Восхож-
дение Петрарки на Мон Ванту близ Авиньона по праву сдела-
лось столь знаменитым; Буркхардт энергически подчеркивает,
что это бесцельное и незапланированное восхождение было для
того времени чем-то совершенно неслыханным. Он прекрасно
рисует взволнованность Петрарки, а также ее причины: «Пе-
ред его умственным взором встает вся 'его прежняя жизнь, со
всеми ее ошибками и заблуждениями; он вспоминает, что в
этот день исполнилось ровно десять лет с тех пор, как он
юношей оставил Болонью, и он с умилением обращает свой
взгляд в сторону Италии; затем он открывает книжку, сопро-
вождавшую его всюду в то время — признания Св. Августи-
на, — и прочитывает случайно попадающиеся ему на глаза
строки, где Августин говорит: «И вот люди идут и с удивлени-
ем смотрят на высокие горы и далекие моря, на бурные пото-
ки, и океан, и небесные светила, но в это время забывают о са-
мих себе». Петрарка прочитывает брату эти строки, и мальчик
не может понять, почему он тотчас закрывает книгу и долго
молчит»43. В дальнейшем мы покажем, что отступление самого
ландшафта на задний план и перевес, который получают вызы-
ваемые им мысли и чувства, ни в коем случае не является чем-
то случайным, напротив, это чаще всего наблюдается именно
там, где переживания природы действительно глубоки и под-
линны, тогда как — по крайней мере чаще всего — господство
длинных и подробных описаний свидетельствует о примитивно-
сти и поверхностности воспринимающего субъекта. Речь идет,
разумеется, не о соотношениях объема, а о соотношениях
удельного веса.
Рассмотрение истории чувства природы во всех ее подроб-
ностях не входит, естественно, в наши задачи. Мы привели и
приведем лишь несколько характерных примеров, которые
должны наметить важнейшие типы или этапы этого процесса.
Решающие моменты здесь таковы: во-первых, круг того, что
288
воспринимается в природе как прекрасное с развитием циви-
лизации все более расширяется, причем в первую очередь
в направлении, показанном Буркхардтом на примере Петрар-
ки; чувство природы все решительнее выходит за рамки при-
влекательно-грациозного; усиливается восхищение перед лицом
высоких гор, заброшенных мест и т. д., и, более того, вклю-
чение в эстетику наряду с прекрасным также и возвышенного
(получающего у Канта даже перевес над прекрасным) означа-
ет совлечение в сферу природной красоты таких явлений, как
буря, гроза, зимняя непогода и т. д. Во-вторых, хотя моменты
исторических и т. д. воспоминаний сохраняются, их роль в то-
тальности того, что охватывает чувство природы нового вре-
мени, становится постепенно все менее значительной. Начиная
с голландской живописи XVII века, в особенности же
в XIX столетии, развивается и чувство обыденных, будничных
явлений природы, более того, постепенно даже картины боль-
шого города начинают восприниматься как некий «ландшафт».
В-третьих, возрастает также и всегда наличествовавшее уча-
стие субъективности. Если раньше оно проявлялось с полной
наивностью, как нечто само собой разумеющееся, то теперь
оно все более осознает самое себя; культ настроения провозг-
лашает субъективность основным моментом чувства природы.
Байрон говорит о том, что для него высокие горы — всего лишь
его чувство этой их высоты. Чем энергичнее и сознательнее,
однако, субъективность отдельного, переживающего природу
человека стремится занять центральное положение, тем с боль-
шей отчетливостью проявляются в его переживаниях общест-
венные тенденции, в качестве важных — безразлично, осознан-
ных или нет, — определяющих мотивов его отношения к при-
роде. Крайне характерно, например, что одновременно с рас-
пространением в европейской культуре романтического движе-
ния внезапно появляются также и романтические ландшафты,
по своим предметным формам, по вызываемым ими настрое-
ниям значительно отличающиеся от тех, которые ранее воспри-
нимались в качестве прекрасных. Гёте замечает: «Так называе-
мый романтизм какой-либо местности заключается в тихом
чувстве возвышенного в форме прошедшего, или — что то же —
в форме одиночества, отрешенности, уединения»44. Излишне,
полагаем мы, упоминать, что подобные романтические ланд-
шафты в своей природной данности существовали давным-дав-
но; должно было, однако, — общественно-исторически — воз-
никнуть романтическое жизнеощущение, чтобы они были под-
няты до уровня переживания природы; до этого на них или
просто не обращали внимания, или воспринимали совсем
иначе.
В течение XIX столетия обе эти взаимосвязанные тенден-
ции непрерывно усиливаются. Растущее благодаря производ-
ству господство человека над природой, отступление природ-
19-805
289
ных границ в рамках взаимообмена между обществом и при-
родой создает все большую безопасность и уверенность в отно-
шениях человека к природным силам. С другой стороны, это
же самое капиталистическое развитие подрывает уверенность
человека в том, что касается его общественного существова-
ния, из чего проистекают многообразнеишие идеологические
кризисы, которыми мы здесь не можем, разумеется, занимать-
ся. По отношению к природе эти кризисы выражаются в том,
что усиливается как субъективистская чрезмерность всего, свя-
занного с настроением, так и возможность достичь пережива-
ния природы от противного, что опять-таки расширяет предмет-
ную сферу охватываемого подобными переживаниями мира
также и с этой стороны. Ригль в статье «Настроение как содер-
жание современного искусства» показывает, как мировоззрен-
ческая безнадежность — «вместо покоя, мира, гармонии беско-
нечная борьба, разлад и раздор, насколько хватает движения
и жизни» — воздействует в этом направлении; не исследуя, разу-
меется, ее социальных оснований, он показывает, к каким осо-
бенным типам природных переживаний, прежде всего на гор-
ных вершинах, она приводит: «Одинокий созерцатель обретает
на этих -вершинах то, к чему сознательно или бессознательно
стремится душа современного человека. Вовсе не мирная тиши-
на сельского кладбища окружает его — наоборот, жизнь во
всем своем многообразии возникает перед ним; однако то, что
вблизи было беспощадной борьбой, здесь, увиденное издалека,
с высоты, кажется миром, согласием, гармонией. И он чувст-
вует себя освобожденным от той мучительной тяжести, кото-
рая давила его во все дни его обыденной жизни»45. Ограничим-
ся этими примерами. Из всего предшествующего становится
очевидным, что данная структура общества, опосредованно за-
висящая от взаимообмена с природой, определяет не только
содержание, объекты переживаний природы, но также и даже
прежде всего — способы их восприятия [с. 282]: содержание
и формы настроений, вызываемых тем или иным явлением при-
роды. Здесь также не должны быть забыты классовые момен-
ты, всегда являющиеся базисом индивидуальной субъективно-
сти. Мы уже ссылались на понимание природы у крестьянски-
революционного демократа Чернышевского. Весьма поучитель-
но сравнить его с аристократическим пониманием, которое
описывает Бальзак в романе «Крестьяне»: имение графа Мон-
корне парцеллировано; та же судьба постигает и старый зам-
ковый парк, за вычетом незначительной его части. Писатель-
аристократ Блонде, гостящий в старом замке, взирает на этот
новый мир с отвращением, видит во всем этом предел мерзо-
сти. Однако в эту же самую эпоху французская — прежде все-
го—-живопись начала открывать новую красоту как раз по-
добных мест. Примеры не трудно продолжить.
Изучение истории чувства природы — и это вполне естест-
290
венно — опирается в основном на свидетельства литературы и
искусства. Однако естественность такого подхода не снимает
латентно содержащегося в нем источника заблуждений: исто-
рически речь должна была бы идти, собственно, о чувстве при-
роды как таковом, причем важен не только его объем, не толь-
ко его позитивно или негативно оцениваемые им предметы, но
и его собственные решающие качества, в данном случае, на-
пример, имеет ли оно эстетический характер или нет. Искусст-
во же использует все эти чувства со всеми их предметами
в качестве сырого материала при отражении и художествен-
ной переработке действительности вообще, обрабатывает их
так же, как и все другие жизненные явления, в соответствии
с изобразительными принципами данного искусства или рода
искусства. Это значит, что связанные с природой переживания,
которые в рамках художественно отображенной жизненной
связи воздействуют эстетически, изначально и сами по себе
могут не иметь с эстетическим ничего общего. (Напомним на-
ши рассуждения об эротическом в предыдущем разделе.)
Лишь в том случае, когда, как это по большей части и проис-
ходило в предшествующей эстетике, всякое переживание при-
роды догматически подводится под понятие красоты, само по
себе идентифицируемое с эстетическим, когда непосредственно
человеческие переживания природы без долгих слов отождеств-
ляются в качестве обработанного искусством материала с воз-
действием вышеуказанной красоты, — лишь в этом случае по-
добные художественные образы могут стать простыми «доку-
ментами» чувства природы. Различие, которое, «если его не
учитывать, если некритически объединять гетерогенные фено-
мены, приводит к этим ошибкам, заключается в том, что в
действительной жизни все сводится к тому, что субъект де-
факто переживает при столкновении с природой, связано ли
его переживание, и если да, то в какой степени, с природой.
В искусстве же человек вместе с переживаемой природой ста-
новится изображенным объектом, и для восприятия эвоци-
руется не сама природа, а художественно оформленное пере-
живание ее, причем всегда в рамках той — тоже художествен-
но оформленной — жизненной связи (а это последнее состав-
ляет решающий момент), которой переживание природы долж-
но быть подчинено, как часть целому. Разумеется, искусство
и в этом случае отражает действительную жизнь, но то, что
в жизни фигурировало по большей части в качестве неосознан-
ной подпочвы переживания, здесь становится излучающим свет
центром.
Всем этим, разумеется, вовсе не оспаривается факт непре-
рывного взаимодействия между такого рода жизненными явле-
ниями и искусством в его развитии. Причем именно наше по-
нимание эстетического, которое, как уже неоднократно указы-
валось, придает исключительное значение преддействию и по-
19*
291
следействию эстетического восприятия — а оба они являются
моментами самой жизни, — менее всего склонно к недооценке
подобного взаимодействия. Однако преддействие и последей-
ствие являются переходными категориями между искусством
и жизнью; их функция заключается прежде всего в руководст-
ве и регулировании воздействия жизни на искусство и искусст-
ва на жизнь. Именно поэтому внеэстетические содержания
и формы могут и должны играть в них обоих весьма значитель-
ную роль, а это в применении к нашей теперешней проблеме
означает, что даже самый сильный импульс, который получает
искусство, скажем, на стадии преддействия, от какого-либо
жизненного факта, еще не свидетельствует об эстетическом ха-
рактере этого факта. Ибо универсальность искусства сказыва-
ется как раз в том, что в эстетическом отражении целостности
человеческой жизни могут быть переплавлены все явления по-
следней. Ясно, что в этом отношении, если взглянуть на дело
в плане художественного формообразования, человеческим пе-
реживаниям природы не может быть отведено никакого осо-
бого по отношению к другим жизненным явлениям места. Все
это следовало подчеркнуть во избежание ошибок. Теперь же,
когда мы учли весь комплекс этих различий, «документы»,
к разбору которых мы переходим, могут быть для нас крайне
поучительны, причем именно в том, что касается истинных осо-
бенностей человеческих переживаний природы, независимо от
того, имеют ли они эстетический или какой-либо другой ха-
рактер.
Основываясь на достигнутом, рассмотрим теперь несколько
подробнее проявления чувства природы, как их изображает ли-
рическая поэзия. При этом сразу бросается в глаза следую-
щая — и на самом деле выступающая как наиболее общий
принцип, формально и духовно объединяющий совершенно ге-
терогенные поэтические творения, — полярность: с одной сторо-
ны, в области лирического господствует по видимости безгра-
ничная, универсальная и суверенная субъективность. К точной
передаче природы — в смысле объективности — здесь не стре-
мятся; один и тот же природный феномен может быть изобра-
жен в различных стихотворениях с противоположным эмоцио-
нальным акцентом: в любом случае — если, конечно, стихотво-
рение удалось — изображение будет в одинаковой степени под-
линным и жизненно правдивым. С другой стороны, образ при-
роды — опять-таки в удавшихся стихотворениях — возникает
вовсе не благодаря фактическому ее описанию, нацеленному
на объективные связи и отношения. Даже в тех стихах, кото-
рые изображают свои предметы, не исходя из субъективности,
из душевных состояний, а, наоборот, стремятся вызвать опре-
деленные настроения, исходя из чувственной целостности своих
объектов, стремятся к эвоцированию их необходимости, — даже
и здесь отношения и связи между объектами определяются не
292
ими самими, а скорее как раз той субъективностью, чье момен-
тальное состояние, чью взволнованность призвано выразить
данное стихотворение. Из этого следует, вообще говоря — а мы,
не выходя за рамки этих направленных на определенную цель
рассуждений, вынуждены говорить вообще, — что как раз те
поэты, чьи стихи обладают наиболее сильным чувственным воз-
действием, очень часто просто называют те или иные создаю-
щие настроение предметы, не предпринимая никаких попыток
выразить и отобразить специфику их конкретно-данного бытия.
(Достаточно сослаться на Гёте: «Близость любимого», «В ты-
сяче форм ты можешь притаиться» и т. д.) Однако и там, где
стремятся к отражению той или иной предметности, весь фе-
номен в целом, во всей полноте его интенсивного развертыва-
ния, является крайне редко; наглядное становится символиче-
ским, его эвоцирующие настроения моменты пластически
оформляются, между тем как все остальное почти полностью
исчезает или выступает в виде размытого заднего плана. Так,
у Стефана Георге мы читаем:
Мы благодарны, чувствуя, как свыше
Луч за лучем — дождь солнечный — идет,
А в перерывах смотрим мы и слышим,
Как наземь шлепается спелый плод.
(Перев. А. Айхенвальд)
Лирика, таким образом, никогда не изображает самой при-
роды, не является она и выражением переживания природы как
такового. Субъектом стихотворения выступает человек, находя-
щийся в определенной жизненной ситуации, лишь важнейшие
компоненты внутренней жизни этого человека становятся види-
мыми. Благодаря своеобразию каждой данной ситуации он
переживает в природе именно то, что в этот момент важнее
всего для его души. Хотя и можно — при достаточной критиче-
ской осторожности — обнаружить у того или иного художника
типические для его эпохи соответствия между природой и субъ-
ективностью, тем не менее в самом стихотворении всегда рас-
крывается лишь неразрывная связанность внутреннего и внеш-
него, причем субъективность играет здесь основную роль, явля-
ется основной движущей силой. Гёте в стихотворении «Различ-
ные переживания на одном месте» с шутливым глубокомыслием
показал этот характер лирического отношения к природе:
Девушка:
Все это — виденье.
Дубравы, под сенью
Сокройте же радость
И счастье мое.
293
Юноша:
Что это — виденье?
Дубравы, под сенью
Не прячьте вы счастье
Мое и любовь.
(Перев. Л. Айхенвальд)
И этого контрастирующего повторения природных декораций
достаточно, чтобы сделать наглядным самое существенное —
возникновение полностью противоположных переживаний бла-
годаря одному и тому же природному окружению. В третьей и
четвертой строфах дубравы уже не упоминаются вовсе, но ста-
новится совершенно очевидным, что переживания тоскующего
героя и охотника на фоне того же самого ландшафта настолько
гетерогенны, что эти заключительные строфы даже не контрас-
тируют с начальными46.
Именно в лирике полная зависимость переживания природы
от субъективного состояния воспринимающего ее человека выра-
жается нередко с почти дидактической определенностью. При-
вожу здесь лишь стихотворение Германа Гессе «Ночью в каю-
те», где первая строфа вкратце намечает ситуацию, после чего
развертывается своеобразная философия или психология этих
настроений, вскрывается их жизненное основание:
Чей дух нетверд и в сердце мгла
И в ком веселья нет,
Тот не найдет на земле угла,
Страх и тоска, вихри отчизны бед
Несутся ему вослед.
О, как несчастен он!
И чужд и страхам всем он и всему:
Ведь носит он врага в груди своей
И, значит, нет спасения ему.
(Перев. А. Айхенвальд)
Связь здесь прямая, как и при всех иронических опосредова-
ниях в процитированном стихотворении Гёте. Бывает, однако,
и так, что лирический смысл стихотворения состоит как раз
в раскрытии резкого контраста, глубокой противоположности
между реально существующей, воздействующей на субъект при-
родой и самим этим субъектом. Вспомним известное стихотворе-
ние Теодора Шторма:
В поле мой шаг раздается, а вслед
Глухо земля ему вторит в ответ.
Осень пришла, и далеко весна.
Счастья пора — да была ли она?
294
Дымка тумана как призрак плывет,
Травы черны и так пуст небосвод.
Если б здесь май мне не радовал глаз!
Жизнь и любовь — все исчезло сейчас!
(Перев. А. Айхенвальд)
Гейне подводит итог этому все нарастающему в лирике XIX ве-
ка чувству своим признанием неприглядности этого «прекрас-
ного мира».
Эти примеры нетрудно продолжить, однако уже и приведен-
ные нами показывают, что для лирики природное переживание
того или иного целостного человека — неважно, какой харак-
тер имело оно первоначально в самой жизни, даже если в нем
не содержалось и намека на эстетическое, не содержалось даже
бессознательного стремления к эстетическому, — становится
частью подлежащего формированию жизненного материала.
Лирическая форма возникает из синтезирующего отражения
взаимосвязи между целостным человеком в обыденной жизни
и тем жизненным окружением, которое вызывает в нем актуаль-
ное в данный момент переживание. Синтезирование, однако,
обозначает здесь одновременно эстетическое обобщение: хотя
в большинстве хороших стихов и сохраняется конкретное hic
et nunc тех явлений, которые послужили поводом к пережива-
нию, тем не менее как переживание, так и его повод подни-
маются, в их сопринадлежности друг другу, на высоту осо-
бенного, типического, причем, разумеется, типическое связано
прежде всего с субъективными реакциями человека, а вовсе
не с теми природными явлениями, которые получают выраже-
ние благодаря этим реакциям на них. Кроме того, однако, син-
тезирование до уровня типического означает, что в сформиро-
ванном мире стихотворения зримо представлена партикулярная
субъективность, наличествующая в используемой как прообраз
действительности, и ее отношение с человеческим родом, причем
не в качестве абстрактно-«общечеловеческого», а в конкретных
формах данного общественно-исторического момента. И потому
отпечаток, который накладывает субъективность на действен-
ный в данном конкретном случае природный повод к пережива-
нию, проявляется на этом уровне эстетического обобщения как
возникающее таким образом особенное. В результате единства
человека с окружающей его природой, единства, в котором пре-
обладает субъективность, раскрываются также и его обществен-
но-исторические определения. Нижеследующее наше утвержде-
ние кажется поэтому парадоксальным лишь по форме выраже-
ния: подлинно поэтическое изображение весны или зимы рас-
крывает также и отношение поэта к действительно великим
устремлениям и противоречиям его эпохи.
С еще большей отчетливостью эта тенденция, свойственная
295
поэтическому отражению отношений человека к природе, про-
является в эпосе и драме. Здесь общественные моменты челове-
ческой жизни выступают гораздо конкретнее и выразительнее,
'чем это возможно в лирике. Их непосредственным объектом
является уже не просто переживание действительности, как
это по большей части происходит в лирике, но сама человече-
ская, а следовательно общественная, практика; переживание
природы становится собственным объектом изображения лишь
эпизодически, в тесной связи с практикой. А это значит, что,
особенно в эпосе, отображенный мир подходит к «обмену ве-
ществ» между обществом и природой гораздо ближе, чем
в лирике, отражает его гораздо более непосредственно. След-
ствием этого является прежде всего то, что отношения людей
к природе охватывают здесь всю глубину и широту их повсе-
дневной жизни, что преобладающее значение 'получают труд,
борьба с природными силами, преодоление границ, поставлен-
ных природой человеку, и т. д., то есть отношения, которые,
если взять их в том виде, как они изначально существуют
в самой действительности, не имеют ничего или очень мало
общего с эстетическим, которые, однако, подобно всем осталь-
ным феноменам жизни, становятся эстетическими лишь благо-
даря их отражению и преобразованию в искусстве. Учитывая ту
основополагающую, жизненную и социальную, значимость, кото-
рую имеет в развитии человеческого рода борьба с природными
силами, нетрудно понять, что в эпосе, где выражается прежде
всего общественная деятельность людей, она с самого начала
играет важнейшую роль. Возьмем лишь в качестве характерно-
го примера мореплавание и неразрывно связанные с ним уси-
лия, борьбу и опасности. Уже в «Одиссее» они занимают цент-
ральное место, и линия эта тянется все дальше, через Дефо и
Мелвилла вплоть до Конрада и Хемингуэя. Поскольку изобра-
жение этих трудов и опасностей привело к созданию крупней-
ших, с неодолимой силой покоряющих и завораживающих чита-
теля литературных произведений,' постольку весьма велик
соблазн увидеть в них поэтическое отображение некоей «природ-
ной красоты» (или возвышенного в природе). Однако это эсте-
тическое впечатление возникает лишь при восприятии уже
сформированных произведений, причем следует особо подчерк-
нуть, что отраженные в эпосе события всегда и принципиально
выступают в качестве прошедших, и никогда — в качестве со-
временных.
В этих произведениях эпически отражена борьба за дости-
жение значительных практических целей, борьба за жизнь и
смерть, борьба, в которой для участников ее речь идет о победе
или поражении, спасении или гибели, и эстетическое созерцание
здесь ни при чем. Силы природы проявляют себя во всей своей
исключительной мощи и во всем своем коварстве (мертвый
штиль в «Теневой черте» Конрада), «красота» же их с литера-
296
турной точки зрения состоит в том, что в сопротивлении, кото-
рое оказывает им человек, в его мужестве, уме, упорстве, ко-
торые он открывает в себе и мобилизует при этом столкнове-
нии с природой, раскрывается та его духовная и моральная
сила, которой человечество обязано всем своим пройденным
до сих пор путем, сколь бы много проблематичного ни встрети-
лось ему на этом пути. Материал, легший в основу таких про-
изведений, содержание, обусловившее их воздействие, носит
моральный по преимуществу характер, возвышаясь временами,
как в случае мелвилловского капитана Ахаба, до подлинно тра-
гического безрассудства. И лишь с этой точки зрения поэти-
чески изображенная природа предстает «прекрасной», точнее
сказать, эстетически отражающей действительность. Очевидно,
однако, что объектом этого отражения является вовсе не приро-
да сама по себе, сколь бы важными ни были при этом и ее
сущие-в-себе качества, а именно природа в ее взаимообмене
с обществом, выдающимися представителями которого как раз
и являются герои, подобные названным. Но говорить на этом
основании, к примеру, о «красоте» морской бури для греков
было бы столь же неправильно, как и — привлечем к делу и
драму, в которой эти мотивы отходят по сравнению с эпосом на
задний план, — видеть в буре «Короля Лира» нечто большее,
чем простой фон и аккомпанемент для событий чисто человече-
ских, событий, стержнем и ведущим мотивом которых является
общественно-нравственная проблематика. Эпос и драма — каж-
дое в своем роде — суть формы для изображения тотальности
общественно-человеческой жизни; формы эти, однако, таковы,
что в них даже при отражении и художественном переформи-
ровании жизненной целостности получают перевес человеческие
компоненты последней. При этом, однако, «обмен веществ»
между обществом и природой — в эпосе это видно отчетливей,
чем в драме, — занимает, более или менее непосредственно, то
центральное положение, которое ему объективно принадлежит
в рамках социального существования людей. Поэтому отноше-
ния изображенных в эпосе и драме людей к природе распола-
гаются на той универсальной шкале содержаний и форм, кото-
рую мы уже наметили в свое время при обсуждении проблемы
приятного: шкала эта тянется от простых проявлений виталь-
ности и вплоть до тех требующих высочайшего этического на-
пряжения коллизий, о которых только что шла речь. И то, чему
эстетика отводит в качестве переживаний «природной красоты»
центральное место, играет при этом в соответствии с объектив-
ным положением дел роль, отнюдь не превышающую значение
всей массы витальных проявлений человека, и тем более дра-
матизма великих испытаний.
Претворение человеческих переживаний природы в музыке
не нуждается в подробных обсуждениях. Неизбежным следст-
вием осуществляемого ею двойного отражения является то, что
297
всякая конкретность hic et nunc исчезает практически пол-
ностью. Гроза в «Пасторальной симфонии», например, еще ме-
нее, чем гроза в лирике, является настоящей конкретной грозой
с ее неповторимыми чертами; она выступает как гроза вообще.
Даже при величайшем усилении «программного» момента, при
использовании всех музыкально возможных непосредственно-
миметических средств, художественному восприятию могут быть
предложены лишь наиболее общие черты того или иного явле-
ния природы. Это не исключает возможности глубоко и тонко
дифференцированной разработки субъективной стороны пере-
живаний природы. Напротив, человеческие, более того, социаль-
ные и исторические внутренние мотивы отношения человека
к природе достигают здесь такой отчетливости, какая вряд ли
возможна в других искусствах, и прежде всего потому, что
музыка в качестве мимесиса эстетически очищенной внутренней
жизни позволяет с исключительной пластичностью проявиться
положительной или отрицательной оценке, которую дает худож-
ник человеческим отношениям к природе. (Это особенно замет-
но у Бартока.) Однако и в подобном случае музыка, эстетиче-
ски формируя эмоциональные реакции художника на отношения
с природой, отнюдь не свидетельствует об изначально-эстетиче-
ском характере этих отношений в самой жизни. Она столь же
суверенна и универсальна в выборе материала, как и всякое
другое большое искусство, она точно так же, только на свой
лад, отражает жизнь в целом, и потому, исходя из эмоциональ-
ной стороны человеческих реакций на внешний мир, отводит
этим реакциям их истинное место, то, которое занимают они
в границах тотальности самой жизни.
Гораздо поучительнее для нас история живописи. Представ-
ляется, что она непосредственно изображает «природную красо-
ту» в ее собственных и изначальных формах, и потому здесь
особенно напрашивается отождествление «эстетического» пере-
живания природы в жизни и в искусстве; кажется, далее, что
в пейзаже, например, мы получаем возможность непосредствен-
но наблюдать и, так сказать, потрогать руками общий объект
обоих этих переживаний. Однако при ближайшем рассмотрении
это оказывается чистой видимостью. Прежде всего, пейзаж как
исключительный предмет живописи есть относительно позднее
явление. Ранее же, и гораздо дольше, чистая природа служила
лишь задним планом для единственно важного, для происходя-
щего с человеком. Разумеется, это лишь наиболее общее поло-
жение. Ведь начиная с композиций Джотто, в которых органи-
зация внечеловеческого заднего плана предназначена по боль-
шей части лишь для ритмического сопровождения драматиче-
ских событий на переднем плане, мы видим все расширяющееся
и углубляющееся развитие ландшафтного заднего плана, разви-
тие, приводящее у фламандских и венецианских художников
к его почти полной самостоятельности. Однако лишь в Голлан-
298
дии XVII века ландшафт, взятый сам по себе, в большой степе-
ни становится отдельным социальным заданием живописи, при-
чем теперь уже вполне универсальным образом, от патетиче-
ской фантастики Рейсдала до повседневных ландшафтов ван
Гойена и Херкюлеса Сегерса, причем, например, у Вермеера
изображение города тоже принимает характер ландшафта.
Естественно, и в данном случае рассмотрение этого развития,
даже самое беглое, не входит в нашу задачу. Заметим только,
что «чистый» ландшафт никогда не получал самодовлеющего
господства даже в чисто ландшафтной живописи. И даже когда
ландшафт в качестве заднего плана заменяется природой как
ареной человеческой деятельности, нас по-прежнему особенно
интересует универсальность тематики и исполнения. Ибо изоб-
ражение отношений между человеком и природой простирается
от лирико-утопического мифологизирования Клода Лоррена до
повседневной жизни людей, а в рамках этой последней — от
трудов человека на природе (Милле, Курбе, Ван Гог и т. д.)
до его праздников и досуга в природном окружении (разнооб-
разные «fêtes champêtres» от Джорджоне до Мане и Моне), и
город в качестве ландшафта переживает качественные и часто
неожиданные изменения от Гварди и Каналетто до импрессио-
нистов и далее, вплоть до Утрилло.
Лишь действительное понимание господствующей здесь
субъективной и объективной универсальности открывает для
нас возможность постижения реальных связей между этими от-
ношениями повседневного человека к природе и содержанием
и формой их эстетического отражения в живописи. Подобно
тому как в свое время идеалистическая эстетика свела эти
отношения в самой жизни к отношению художника к модели,
точно так же она сужает и их следующую фазу, сводя живопис-
ное изображение к якобы полностью очищенной визуальности.
(Взгляды основного представителя этого направления, Конрада
Фидлера, мы подробно разбирали выше [см. т. 1, с. 187, и ел.].)
В обоих случаях исчезают как те определения, которые реально
господствуют в самой жизни, так и те, благодаря которым эсте-
тическое отражение, собственно, и становится искусством. Об от-
ношениях к природе в повседневной жизни мы будем подробно
говорить несколько ниже; предварительно заметим только, что
отношения эти всегда исходят из целостного человека и всегда
оказывают на него обратное воздействие и что, следовательно,
решающим фактором является при этом как экстенсивная це-
лостность природы, так и вся чувственная, духовная и общест-
венная жизнь человека. Транспозиция, осуществляемая худож-
ником в рамках гомогенной посредующей системы визуальности,
означает, таким образом, радикальное и коренное изменение
отношений человека к действительности. Устанавливая этот
факт, Фидлер, как уже говорилось ранее, совершенно прав;
он заблуждается лишь — однако заблуждение это искажает всю
299
проблему, — полагая, что при этом изменении все, воспринятое
целостным человеком совокупностью его чувств, все пережитое
и постигнутое им, все его культурное достояние попросту исче-
зает, уступая место некоей «чистой» визуальности, делающейся
в такой абстрагированности совершенно прозрачной и бессодер-
жательной. Подлинные мастера пейзажной живописи — их соз-
дания однозначно свидетельствуют об этом — бесконечно дале-
ки от подобной искусственной, надуманной и ограниченной по-
зиции, наоборот, их художнические устремления направлены на
то, чтобы ввести в гомогенную посредующую систему живопис-
ной выразительности все богатство связанных с природой пере-
живаний.
Крайне поучительны в этом отношении высказывания Сезан-
на, записанные Гаске, причем, как мы увидим, не только благо-
даря их непосредственному содержанию, но и потому еще, что
именно Сезанна никто не заподозрит в стремлении к внехудо-
жественным, а не целиком и полностью живописным эффектам
(эффектам, следовательно, вызывающим лишь внешние, чисто
жанровые ассоциации). Оба собеседника стоят перед незакон-
ченным пейзажем мастера. Сезанн удрученно говорит: «Это все
не то. Здесь нет общей гармонии. Этой картины еще просто не
существует. Скажите мне, чем веет отсюда? Какой запах вы слы-
шите?» «Запах сосны», — отвечает Гаске. Художник, однако,
этим не удовлетворен: «Вы говорите так просто потому, что
на переднем плане колышутся ветви двух больших сосен.
Но это всего лишь зрительное впечатление. А нужно большее,
нужно, чтобы синий, резкий запах залитых солнцем сосен сме-
шался с зеленым ароматом луга, свежим, как утренняя роса,
и с запахом камня, с тем запахом, который исходит от глыб
мрамора на горе Сен-Виктуар. Этого я не смог передать. А это
должно быть передано. Только красками, без всякой литерату-
ры»47. И это не просто какая-то фантазия Сезанна, но сам
принцип его творчества. В другой раз он говорит о том, что
крестьяне и не подозревают о пейзаже, в котором живут изо
дня в день; они замечают лишь то, на что указывает им их бес-
сознательное чувство пользы. Далее, однако, возвращаясь
к своим собственным задачам, Сезанн добавляет: «А мне нуж-
но, не теряя при этом самого себя, вновь обрести этот инстинкт,
и эти цвета, в которые окрасилось поле, должны означать для
меня некую простую идею, как для них (крестьян. — Д. Л,)
идею урожая. Желтый цвет непосредственно означает для них
приближение сбора урожая, а я при виде той же желтизны спе-
лых колосьев инстинктивно должен готовиться перенести на
холст нужные краски, краски колышимой ветром нивы. Так,
мазок за мазком, должна вновь восстать на холсте земля»48.
Очевидно, что в пейзажной живописи, как и во всяком подлин-
ном искусстве, целостность жизненных содержаний определяет
своеобразие художественного формообразования. Нельзя, одна-
300
ко, соблазняться этой содержательной целостностью эстетиче-
ски отраженной, поднятой до эстетического уровня жизни и
выводить из этой универсальности мимесиса эстетический харак-
тер самого отображенного жизненного материала, как это при-
выкла делать эстетика в случае природной красоты. Природа,
в данном случае пейзаж как материал и содержание живописи,
заняла бы тогда какое-то особенное место в сфере художествен-
ной образности, претендовать на которое у нее нет оснований.
Если взять, к примеру, голландскую живопись XVII столетия,
то нельзя не заметить, какое различие существует в этом отно-
шении между каким-нибудь ландшафтом и любой из так назы-
ваемых жанровых картин Вермеера; никто, однако, не станет
всерьез утверждать, будто содержание последних уже в самой
жизни носило эстетический характер.
Если мы, таким образом, после этого краткого обзора про-
должаем отрицать эстетический характер всех природных свя-
зей и переживаний человека и ставить их в плане художествен-
ной образности на одну плоскость со всеми остальными явле-
ниями жизни, то это отнюдь не означает отрицания опреде-
ленного их своеобразия в рамках этого комплекса. Дело не
только в том, что большинство переживаний природы суть отра-
жения действительности, и потому их связь с нею не является,
в отличие от преобладающей части обыденной жизни, связью
практического прежде всего характера. Более того, они предпо-
лагают определенную дистанцию между субъектом и объектом,
которой при отражении, например, в процессе общения между
людьми в подавляющем большинстве случаев не существует.
Толстой дает очень точное, хотя, разумеется, чисто биографиче-
ское описание этого своеобразия переживаний природы: «Приро-
да до пяти лет не существует для меня. Все, что я помню, все
происходит в постельке, в горнице. Ни травы, ни листьев, ни
неба, ни солнца не существует для меня. Не может быть, чтобы
не давали мне играть цветами, листьями, чтобы я не видал
травы, чтоб не защищали меня от солнца, но лет до пяти, до ше-
сти нет ни одного воспоминания из того, что мы называем приро-
дой. Вероятно, надо уйти от нее, чтобы видеть ее, а я был при-
рода».
Отмеченное Толстым положение дел нетрудно обобщить
с социальной точки зрения: достаточно вспомнить о контрасте
между городом и сельской местностью уже в переживании при-
роды римлянами или высказывания Сезанна о крестьянах.
Чтобы природа стала переживанием, необходимо лишить ее той
глубоко укоренившейся самоочевидности, которая допускает
лишь практическое и обыкновенно тесно связанное с привычками
и традициями отношение к природе, чтобы, таким образом, веч-
но новое, проявляющееся в ее относительной изменчивости, мог-
ло быть пережито человеком как противостоящий ему внешний
мир. Однако созерцательное отношение к природе остается
301
самоцелью, остается в сфере витального или в крайнем случае
психологического и потому решительно отличается от того,
что мы охарактеризовали как приостановку актуального в том
или ином случае практического целеполагания в повседневной
жизни. И потому дистанция, возникающая здесь между челове-
ком и природой, отличается тем, что человек, несмотря на это
отдаление от объекта, а точнее, благодаря ему, чувствует себя
находящимся посреди этого окружения и на самом деле вовсе
от него не отделенным. Это чувство природы также прекрасно
и с глубоким проникновением в суть дела описано Толстым:
«Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня и
потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней.
Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух,
и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда
эти самые сочные листья травы, которые я раЗдавил, сидя на
них, делают зелень бесконечных лугов, когда те самые листья,
которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, со-
ставляют линию далекого леса, когда тот самый воздух, кото-
рым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба;
когда вы не одни ликуете и радуетесь природой; когда около
вас жужжат и вьются мириады насекомых, слепившись, ползут
коровки, везде кругом заливаются птицы».
Толстой, признаваясь, что для глубокого и подлинного пере-
живания природы ему нужно находиться в ней самой, в ее сре-
доточии, остается полностью и совершенно осознанно субъек-
тивным; более того, в дневнике, который мы цитировали, этому
признанию предшествует решительное утверждение, что в гор-
ном ландшафте Швейцарии он не находит возможностей для
подобного чувства пребывания внутри природы. И тем не менее,
или именно потому, Толстой затрагивает здесь весьма сущест-
венный для этих отношений к природе момент: необходимость
известной свободы человека от повседневной практики, в кото-
рой он имеет дело с объектами, их связями и т. д., оказываю-
щими определенное противодействие его практическим целепо-
лаганиям, противодействие, которое он должен преодолеть
благодаря труду, размышлению и сноровке. (Ясно, что труд
на природе определяется именно этой субъектно-объектной
структурой.) С другой стороны, он не должен подниматься над
собственной обыденной жизнью и мышлением, как это проис-
ходит в тех случаях, когда он — продуктивно или рецептивно —
имеет дело с более высокими системами объективации и когда
его усилия направлены на постижение сущности, а формы явле-
ния становятся для него значимы лишь в их соотнесенности
с этой последней. Требуемая Толстым отдаленность, отстранен-
ность от природы, одновременная с чувством пребывания в ее
средоточии — которую, как показывают примеры Байрона и
Ригля, сформировавшийся в иных условиях человек может чув-
ствовать в тех же самых Альпах, — означает, таким образом,
302
свободу от непосредственно-актуальной практики обыденной
жизни, освобождение от абсолютного господства пользы. Акцент
во внутреннем самочувствовании человека падает уже не на дей-
ствие, а на бытие, на простое экзистирование.
Совершенно ясно, что подавляющее большинство возникаю-
щих таким образом переживаний определяется досугом, рас-
тущим благодаря развитию общественного производства, и
по своему характеру относится прежде всего к той области, ко-
торую мы назвали выше областью приятного, жизнеутверждаю-
щего. Сюда же относятся, разумеется, и непосредственно ви-
тальные проявления, как, например, еда и питье; однако
и в этом последнем случае специфически приятное возникает
по большей части лишь тогда, когда господствующим становит-
ся момент определенного избытка, в социальном смысле тесно
связанный с досугом. Понятно без дальнейших разъяснений, что
также и здесь речь идет об определенной разновидности подоб-
ной отдаленности, поскольку человек получает еще и чисто зри-
тельное наслаждение от кушаний и напитков, а не просто удов-
летворяет чувство голода и жажды, что, разумеется, тоже спо-
собно вызвать ощущение приятного. Таким образом, и за преде-
лами отношений к природе возможны переживания, формально
весьма к ним близкие, как, например, в том случае, когда чело-
век после подобной трапезы, удобно устроившись в кресле, на-
слаждается созерцанием приятно-привычного или по-новому
интересного интерьера. Здесь также присутствует, без сомнения,
неразрывная связь близости и отдаления, как и преобладание
бытия над действием. Столь же очевидно, однако, что во всяком
переживании природы содержится еще и другой мотив: ведь
природа по самому своему существу есть нечто иное по отноше-
нию ко всему общественному, ко всему созданному человеком
(каковым, естественно, является и внутренняя обстановка жи-
лища). Однако и это инобытие природы включает в себя обще-
ственно обусловленные компоненты независимо от того,
осознаются они или нет; подобно тому как с субъективной точ-
ки зрения досуг является предпосылкой переживаний природы,
с точки зрения объективно-общественной их предпосылкой вы-
ступает уверенность человека в обращении с природой, легкость
в овладении ею; причем все это, естественно, может расцени-
ваться также и негативно: одни люди предпочитают для обще-
ния с природой накатанные дороги, другие же — полное без-
дорожье. Однако и распространенное сегодня стремление от-
клониться от общедоступных путей реализуется в рамках соз-
даваемой взаимообменом между обществом и природой без-
опасности. Социальный момент обнаруживает себя вполне от-
четливо, когда, скажем, люди в своей устремленности к природе
используют созданные обществом средства передвижения.
Мы ограничимся простым указанием на возникающие здесь раз-
личия, и прежде всего на такие пограничные явления, как тот,
303
например, факт, что ландшафт, увиденный с самолета, уже не
является ландшафтом, поскольку прекращается бытие человека
в нем; то, что мы видим с самолета, воздействует на нас подоб-
но некоей объемной географической карте, но вовсе не так, как
воздействует ландшафт.
При бесконечности таких реально возможных, эмоциональ-
ных отношений к природе попытка даже простой их каталоги-
зации обернулась бы сизифовым трудом. Для нас же единст-
венно важно твердо помнить, что это колебание между отдален-
ностью и пребыванием в средоточии является субъективной сто-
роной объективной поляризации этой взаимосвязи с природой:
инобытия природы по отношению к человеку, с одной стороны,
и ее абсолютной необходимости для его существования, деятель-
ности, развития, с другой. Следствием этого обстоятельства
является то, что чисто созерцательное, пассивно-рецептивное от-
ношение к природе составляет лишь сравнительно скромную,
хотя, разумеется, существенную часть реальных взаимоотноше-
ний человека и природы, их реальной взаимосвязанности. При-
рода и во время досуга в большой степени остается для челове-
ка полем его деятельности: сюда относятся прогулки на приро-
де, в которых очень большую роль играют заботы о здоровье,
удобный случай побеседовать с кем-либо и т. д., собирание гри-
бов и ягод, ловля жуков и бабочек, поиск интересных камней, —
все это легко делается самоцелью, так что субъективно природа
как целое полностью исчезает, продолжая существовать для
человека лишь в качестве той или иной местности, благоприят-
ной или же неблагоприятной для этих целей. Сюда же, наконец,
можно отнести и занятия спортом на природе, где также наме-
чаются два полюса: либо они становятся средством для более
тесной связи с природой, либо полностью или почти полиостью
заслоняют собой эту связь. Своеобразие возникающей таким
образом поляризации основано на двух моментах. Во-первых,
большая часть перечисленных здесь видов деятельности подоб-
на некоей игре, то есть требования, предъявляемые ими человеку,
имеют существенно иной характер, чем те, что предъявляет ему
реальная жизненная практика. С исчезновением игрового мо-
мента связь с природой может ослабнуть до полного уничтоже-
ния, например у профессионала, собирающего коллекцию жест-
кокрылых, или у спортсмена, имеющего столь же профессио-
нальные установки. Во-вторых, и в тесной связи с первым мо-
ментом, переживание природы может возникнуть только тогда,
когда бытие целостного человека, удовольствие, получаемое
им от своего бытия, вступает в близкое соприкосновение с той
частью природы, в которую человек — в рамках отмеченной
выше одновременной отдаленности — на время себя включает.
Это вовсе не отрицает его деятельности как таковой, но исклю-
чает ее преобладание над всем остальным, превращающее при-
роду в простое поле или инструмент деятельности.
304
Если мы говорим о пребывании целостного человека в средо-
точии природы, то это следует понимать буквально: как физи-
ческое присутствие в данном природном окружении, как воз-
действие ее многообразного бытия на все чувства человека.
Мы видели уже это на примере описания, сделанного Толстым;
оно, следовательно, затрагивает самые фундаментальные и все-
общие черты этого отношения к природе. Вспомним, к примеру,,
прекрасное описание того места, где происходит у Платона диа-
лог между Сократом и Федром: «Клянусь Герой, прекрасный
уголок! Этот платан такой развесистый и высокий, а разросшая-
ся тенистая верба великолепна: она в полном цвету, все кругом
благоухает. И что за славный родник пробивается под плата-
ном: вода в нем совсем холодная, можно попробовать ногой.
Судя по изваяниям дев и жертвенным приношениям, видно,
здесь святилище каких-то нимф и Ахелоя. Да если хочешь,
ветерок здесь прохладный и очень приятный, по-летнему звонко
вторит он хору цикад. А самое удачное — это то, что здесь на
пологом склоне столько травы — можно прилечь, и голове будет
очень удобно»49. Ситуация, которую описывают Платон и Тол-
стой, имеет то общее, что в ней целостный человек находится
в природном окружении и всеми своими чувствами реагирует
на ее многообразные проявления. Здесь, без сомнения, может
быть реализовано наиболее позитивное, жизненное отношение
целостного человека к природе, и общее чувство удовлетворе-
ния, исходящее от этого наслаждения собственным бытием
в природном окружении, может, как это и происходит у Плато-
на, побудить человека к значительному духовному подъему,
для которого оно, разумеется, является на самом деле лишь слу-
чайным поводом. Подобные отношения могут возникнуть, но
не возникают с неустранимой неизбежностью. Ведь хотя здесь,
и с той и с другой стороны, речь идет об объективных реально-
стях и настроение человека определяется бытием-в-себе, кон-
кретно-данным бытием предметов и их комплекса, тем не менее
здесь, как и во всех его бытийственных отношениях, где практи-
ческая необходимость не предписывает неукоснительного при-
способления к объективности, решающий и не подлежащий
апелляции приговор выносит непосредственнейшая субъектив-
ность целостного человека. Может на первый взгляд показаться
парадоксальным, если мы противопоставим картинам природы
у Платона и Толстого следующее стихотворение Христиана Мор-
генштерна:
Человеку нервному, похоже,
Лучше бы на луг не выходить.
Ясно, что без этого он сможет
Проще и спокойнее прожить.
Только он разляжется на травке,
Тут же поползут к нему гурьбой
20—805
305
Уховертки, муравьи, козявки,
Шмель гудит, их призывая в бой.
Человеку нервному, похоже,
Лучше было б с этой травки встать
И Эдема нового, быть может,
(Скажем так) подальше поискать.
(Перев. А. Айхенвальд)
За первым гротескным впечатлением не следует, однако,
забывать, что субъект и объект отношений к природе один и
тот же во всех трех случаях. Платон поэтически говорит
о «хоре цикад», но чем они лучше муравьев и шмелей Морген-
штерна, а уж в число мириадов жужжащих насекомых Толсто-
го эти последние входят наверняка. Поскольку подобные проти-
воположные впечатления исходят от объективных особенностей
определенных природных комплексов, которые объективно могут
быть очень похожи друг на друга, постольку дивергентность их
воздействия на человека должна зависеть исключительно
от данного реально существующего субъекта, от данного целост-
ного человека в его психофизическом своеобразии.
Субъективность целостного человека является здесь, таким
образом, — как и во всей сфере приятного — непосредственно
основополагающим принципом, в соответствии с которым ре-
шается вопрос о том, будет ли воздействующее на субъектив-
ность бытие определенного природного комплекса принято этой
последней или отвергнуто ею, и если да, то каким образом и
в какой мере. Поскольку, однако, речь всегда идет лишь о том,
как определенный конкретный человек в данный определенный
момент относится к определенному конкретному явлению при-
роды; поскольку, далее, вопрос об обобщении суждения, импли-
цитно содержащегося во впечатлении, получаемом человеком
от данного явления природы, не встает вовсе; поскольку, нако-
нец, человек в подобной ситуации не чувствует себя обязанным
быть последовательным по отношению к этим явлениям и их
комплексам, постольку вынесенное решение непосредственно
не означает никакого ограничения и — опять-таки, как и в слу-
чае приятного вообще [с. 197 и ел.], — не снимает окончательно-
го характера подобного сиюминутного отношения. Окончатель-
ность субъективного отношения именно потому остается непоко-
лебленной, что в его «да» или «нет» не содержится никакого вы-
сказывания об объектах как таковых, но исключительно о момен-
тальной реакции на них субъекта; и то, что Толстого восхищает
жужжание насекомых, тогда как в стихотворении Моргенштер-
на это жужжание кажется чем-то ужасным, в равной мере не
затрагивает объективного бытия этих насекомых. Тот факт, что
в некоторых переживаниях природы, например в восприятии
природы у Гёте, присутствует живой, ориентированный на объ-
ективность интерес, еще раз показывает, сколь огромна субъек-
306
тивная шкала возможных здесь отношений; подобный интерес,
однако, вовсе не является их необходимым или хотя бы типиче-
ским признаком. И потому попытки таких эстетиков, как Фи-
шер, подразделить явления природы, с «эстетической» точки
зрения и с претензией на объективность, на прекрасное и урод-
ливое остаются пустым педантством. Нормальным является воз-
действие целостности явлений, и в ее рамках «тот же самый»
объект может даже для одного и того же человека сегодня фи-
гурировать в качестве привлекательного, а завтра — в качестве
отталкивающего. Так, например, змеи кажутся Фишеру отвра-
тительными, тогда как в заключительных сценах «Изречения»
Келлера разыгрываются события, в результате которых героиня,
до сих пор ненавидевшая змей, мечтает о том, чтобы видеть
одну из них в тяжелые дни во сне.
Излишне, пожалуй, ссылаться на наши рассуждения по пово-
ду безграничной шкалы возможных переживаний приятного
[с. 195 и ел.]. Как и там, вариационные возможности пережива-
ний природы, как с субъективной, так и с объективной стороны,
практически безграничны. Разумеется, диапазон эмоций каждо-
го данного человека небезграничен, возможное для него «про-
странство» переживаний в каждую данную минуту детермини-
ровано социально, национально, исторически, психологически
и т. д. Все же и для одного и того же человека это «простран-
ство» может расширяться или сужаться, на различных же лю-
дей, принадлежащих, однако, к одной нации и одному классу,
сходные факторы — от решающих определений социального бы-
тия вплоть до влияния моды и т. д. — могут воздействовать
столь сильно, что эти реакции даже у людей со сходным соци-
альным положением оказываются совершенно различными,
более того — противоположными. Подобно тому как физическая
усталость воспринимается одним человеком как нечто приятное,
другим же — прямо противоположным образом, одни и те же
явления природы могут, скажем, у двух различных людей, при-
надлежащих к одному и тому же классу, вызвать полностью
дивергирующие переживания. Принципиально столь же безгра-
ничное «пространство» возможностей создает и объективная
сторона отношений к природе. Мы уже подчеркивали ту важ-
ную роль, которую играет воздействующий в каждом данном
случае ансамбль, комплекс явлений природы, единое целое,
в рамках которого «тот же самый» предмет может производить
совершенно различное впечатление; сюда же, естественно, отно-
сится и перемена освещения, воздействие времени года, времени
суток и т. д., способное многое изменить в характере пережива-
ний. В огромном большинстве случаев человек, находясь в при-
родном окружении, сам движется, из чего проистекает значи-
тельное различие в аспектах «одного и того же» предмета (гора,
увиденная сверху или снизу). Однако движение, совершаемое
человеком, может вызвать и внутренние перемены, как, напри-
20*
307
мер, беседа во время загородной прогулки, последствия которой
сказываются в реакциях ее участников на природное окруже-
ние, и т. д.
Таким образом, большинство подобных, возникающих в свя-
зи с природой эмоций, может быть просто-напросто подведено
под понятие приятного, которое мы анализировали выше. Это
тем более так, что само возникновение большинства пережива-
ний природы указывает на их содержательную и формальную
принадлежность к сфере приятного; достаточно вспомнить заго-
родные прогулки, экскурсии, воздействие свежего воздуха, уме-
ренное занятие спортом, отдых и т. д. Решающим общим факто-
ром является то, что здесь всегда и всюду органом восприятия
этих переживаний служит реальный целостный человек, субъект
в его партикулярности. Отношение художнику к природным
явлениям носит, как мы уже видели, качественно иной харак-
тер даже тогда, более того, именно тогда, когда он стремится
реализовать с помощью гомогенной посредующей системы свое-
го искусства все богатство, все разнообразие человеческих свя-
зей с природой. В подобных случаях то, что в переживаниях
природы целостного, партикулярного человека было субъектив-
ной стороной, перемещается в сферу объективного: оно должно
быть претворено в эстетическом отражении, должно стать для
всех видимым; типическое в частных переживаниях партикуляр-
ного человека должно быть с художественной членораздельно-
стью представлено как достояние человеческого рода. После
всего сказанного подведение большинства человеческих пережи-
ваний природы под понятие приятного не представляет затруд-
нений. Даже Гартман, который, как мы видели, стремится
в несколько модифицированной форме спасти кантовскую концеп-
цию природной красоты, чувствует себя вынужденным исклю-
чить из сферы эстетического подавляющее большинство природ-
ных переживаний, в их качестве переживаний чисто виталь-
ных50. !
Нам, следовательно, остается лишь точнее определить собст-
венные содержательные и формальные особенности таких пере-
живаний природы, которые располагаются на вершине этой
огромной шкалы и чья фактическая или человеческая значи-
тельность препятствует простому подведению их под понятие
приятного. На самом деле здесь заложена реальная проблема.
Мы увидим, однако, что как раз правильное описание этих
феноменов опровергает их эстетический характер. Рассмотрим
сначала простейший вопрос. Наше исследование предметной
структуры природных переживаний в повседневной жизни пока-
зало, что от этих переживаний нет и не может быть прямого
перехода к научному или хотя бы к натурфилософскому пости-
жению сущей-в-себе действительности. Это само собой разумеет-
ся для всякого, кто стоит на методологических позициях совре-
менных естественных наук. Из истории мы знаем, однако, что
308
на протяжении тысячелетий существовала и качественно ориен-
тированная натурфилософия, чьи категории основывались хотя
и не всегда, но во многих отношениях на возможностях связан-
ных с природой человеческих переживаний. Не прослеживает-
ся ли здесь и в самом деле действительная связь между непо-
средственным переживанием природы и натурфилософией, кото-
рая должна достичь объективности, более того: не является ли
как раз «эстетический» характер этих переживаний тем звеном,
которое объединяет их с натурфилософией? Подобные мотивы
всплывают еще в романтической натурфилософии (и эстетике).
Весьма поучительно отношение к этой проблеме Гёте, в «Учении
о цвете» которого качественная натурфилософия дает, пожалуй,
свое наиболее решительное арьергардное сражение. Во вступ-
лении к статье «Опыт как посредник между субъектом и объек-
том» он рассматривает в первую очередь отношение нормаль-
ного человека повседневности к природе, подчеркивая, что этот
последний постоянно соотносит природу с самим собой, причем,
добавляет Гёте, с полным правом, поскольку его судьба в боль-
шой степени определяется возникающими таким образом аффек-
тами. Картина меняется, однако, как только он обращается
к природным явлениям самим по себе. Гёте решительно выдви-
гает на передний план те изменения, которые происходят в са-
хмой человеческой субъективности при этом переключении инте-
реса: «Им не хватает масштаба удовольствия и неудовольствия,
притяжения и отталкивания, пользы и вреда; от этого они долж-
ны вовсе отказаться. Они должны в качестве безразличных и
как бы божественных существ искать и исследовать то, что
есть, а не то, что нравится»51. Совершенно ясно, что гётевское
образное выражение «в качестве безразличных и как бы божест-
венных существ» означает то же самое, что мы рассматривали
в качестве дезантропоморфирующего отражения.
Теперь же для нас важен лишь этот скачок. Он означает,
что переживание природы только тогда возвышается до позна-
вательное™, когда оно без остатка снимает себя самое в каче-
стве такового и перемещается тем самым в радикально иную
сферу. Если же переживание не утрачивает своего сугубо эмо-
ционального характера, то все, что оно способно выразить, — это
остающийся субъективным мистический аспект природы; пре-
вращение бытия-в-себе природы в подлинное бытие-для-нас ему
недоступно. Самое глубокое в субъективном отношении пережи-
вание такого рода, даже если оно находит себе подлинное вы-
ражение в языке, является все же достоянием субъекта и не
способно перекинуть мост к объективной действительности.
Разумеется, его содержание может при соответствующих об-
стоятельствах нести в себе зерно истины; в таком случае оно
нуждается для своего продолжения в описанном Гёте скачке,
а взятое само по себе, остается не более чем догадкой интуи-
тивного характера, о чем уже шла речь в связи с сигнальной
309
системой Г [см. т. 3, с. 34 и ел., 38]. Столь же очевидно, однако,
что это отсутствие прямой направленности на научное отраже-
ние действительности не превращает и не может превратить эти
переживания в эстетические, как это часто утверждается со вре-
мени романтического сближения антропоморфирующей натур-
философии с эстетикой. Подобное утверждение имело бы
своей — столь же романтической, сколь и фактически совер-
шенно необоснованной — предпосылкой другое утверждение,
а именно что всякое субъективное переживание уже просто
вследствие своей интенсивности получает эстетический харак-
тер. Мы уже много раз в разных контекстах имели случай по-
казать, что дело обстоит совсем не так, что даже в случае вели-
чайшей субъективной силы или глубины подобное переживание
остается в сфере партикулярного, если, конечно, не заключает
в себе самом интенции к обобщению, которая может быть раз-
вита путем соответствующих усилий; мы видели, далее, что сфе-
ра эстетического отделена поэтому от партикулярных пережи-
ваний, несмотря на общий им обоим антропоморфирующий ха-
рактер, необходимостью качественного скачка точно так же, как
и повседневная жизнь от дезантропоморфирующего отражения
науки. Эта партикулярность выражается в подобных случаях
следующим образом: именно я, именно в этот момент, именно
на этой ступени моего развития и т. д. переживаю природу, и
переживаю ее именно так. Даже если в подобных случаях жела-
ния отсутствуют и переживание остается чисто созерцательным,
тем не менее определенная структурная аналогия с эротически-
ми переживаниями не подлежит сомнению. В сфере же эстети-
ческого возвышение над этой партикулярностью — при сохра-
нении и даже, более того, углублении антропоморфирующего
отражения — идет в направлении от партикулярного к законо-
сообразному, от частного (и его непосредственного антропомор-
фирующего гипостазирования до псевдовсеобщности, остающей-
ся целиком субъективной) к особенному, представленному эсте-
тически, чувственно-наглядно.
После всего сказанного нами выше по поводу приятного нет,
пожалуй, особой необходимости еще раз подчеркивать, что это
резкое отграничение эстетически-родового от жизненно-партику-
лярного не содержит в себе ничего умаляющего последнее. На-
против, наши наблюдения показывают как раз неуничтожи-
мость, «character indelebilis» партикулярного, который идеали-
стические, аскетические мировоззрения стремятся разложить и
разрушить. Это, естественно, вовсе не означает, что в отноше-
ниях человека к действительности его непосредственная парти-
кулярность является, как полагают многие субъективные идеа-
листы, решающей инстанцией высшего порядка. Задача филосо-
фии заключается скорее в том, чтобы показать, какие формы
принимает снятие партикулярности, одновременно ее сохра-
няющее, в различных сферах человеческих отношений к дейст-
310
вителыюсти, в науке, искусстве, этике и т. д. Что касается эсте-
тического отношения, то мы уже подробно говорили о встающих
здесь проблемах: кое-что, причем в тесной связи с нашим тепе-
решним вопросом, было уже сказано и о направлениях их реше-
ния в науке и этике. Теперь, следовательно, речь идет лишь
о том, чтобы исследовать специфическую сущность особенно
типических переживаний природы, выделяющихся — в силу
своей интенсивности и глубины, в силу своего внутреннего, за-
трагивающего мировоззренческие вопросы содержания — из бес-
конечной массы приятных ощущений. Прежде всего необходимо,
однако, сделать два замечания. Первое: основанием подобных
переживаний всегда является неразрушимая индивидуальная
партикулярность; изначально и прежде всего они всегда являют-
ся переживаниями данной определенной личности, непосредст-
венно соотнесенными с ее самыми личными жизненными вопро-
сами, неразрывно связанными с данным моментом hic et nunc
ее экзистирования. Второе: как и при обсуждении сигнальной
системы Г, мы будем пользоваться примерами, взятыми из про-
изведений литературы; однако и здесь речь идет вовсе не об
эстетической сущности ее образов: мы используем полученный
таким путем материал просто в качестве наглядных свиде-
тельств о существенных моментах самой жизни, свидетельств,
имеющих к тому же еще преимущество всеобщей известности и,
следовательно, более легкой по сравнению с большинством
реальных жизненных событий проверяемости.
Начнем с природных переживаний Ганса Касторпа во вре-
мя снежной бури, переживаний, которым Томас Манн посвяща-
ет в «Волшебной горе» целую главу. Прежде всего следует уста-
новить, что большая часть описываемых здесь событий, сама
буря и борьба Ганса Касторпа за спасение своей жизни, ни
в коей мере не относится к переживаниям природы «эстетиче-
ского» характера, но представляет собой борьбу с природными
силами, подобную той, какую мы видели, скажем, у Мелвилла;
их следует, таким образом, отнести к той группе явлений, кото-
рые в, самой действительности носят практический характер и
лишь благодаря поэтическому изображению, подобно всякому
другому жизненному материалу, получают эстетическую пред-
метность. Гораздо важнее кажется нам сон, который снится
Касторпу под сомнительной защитой деревянного сарая. Здесь
наличествует, без сомнения, значительное и значительно воз-
действующее природное впечатление. Если мы, однако, при-
смотримся к нему повнимательнее, то увидим, что, во-первых,
его природные образы складываются по контрасту с только что
пережитой действительной природой и, во-вторых, что его под-
линное содержание, оказывающее на Касторпа столь сильное
душевное воздействие, исходит вовсе не от самой природы, но
от тех беспокойных и неразрешимых для Касторпа жизненных
проблем, перед которыми его ставят человеческие отношения
311
и мировоззренческие контроверзы во время его пребывания в са-
натории. И потому это содержание, которому угрожающая ге-
рою опасность сообщает ощущение непосредственно-пластиче-
ского присутствия, сводится для него к следующему: «В сердце
своем я сохраню верность смерти, но в памяти буду хранить
убеждение, что верность смерти, верность прошлому — злоба,
темное сладострастие и человеконенавистничество, коль скоро
она определяет наши мысли и чаяния. Во имя любви и добра
человек не должен позволять смерти господствовать над его
мыслями». Ясно без дальнейших комментариев, что эти пережи-
вания и вырастающие на их почве мысли нацелены на правила
собственной жизни героя в будущем, на мировоззренческую
ориентацию в ней, следовательно, на сферу этического. И если
мы захотим отвести им место в целостности жизненных прояв-
лений человека, то вполне оправданным будет следующее
утверждение: они относятся к некоему жизненному «преддей-
ствию» этических решений и выборов52. Причем акцент следует
поставить именно на «преддействии», поскольку Касторп пребы-
вает в некоей предварительной стадии; мысли и ощущение пере-
живаются им в непосредственной одновременности или после-
довательности, и даже в их понятийном обобщении заметно
скорее предчувствие будущих намерений или стремление к ним,
нежели действительное этическое напряжение воли, ведущее
к действию. Томас Манн подчеркивает эту особенность всего
эпизода в целом своим заключительным замечанием: Касторп
благополучно возвращается в привычное окружение санаторской
жизни и с аппетитом съедает свой ужин: «Мысли, бродив-
шие у него в голове, уже в этот вечер стали ему не совсем по-
нятны».
При соответствующих различиях, вытекающих как из совер-
шенно других обстоятельств, так и из прямо противоположного
характера действующего лица, мы можем наблюдать примерно
сходное переживание природы Андреем Болконским на Аустер-
лицком поле. Болконский, чьим жизненным идеалом был Напо-
леон и который в критической ситуации сражения лелеял тай-
ную надежду пережить здесь свой «Тулон», бежит впереди ата-
кующего батальона, получает ранение и остается лежать на
земле, не в силах пошевелиться: «...Он ничего не видал. Над
ним не было ничего уже, кроме неба — высокого неба, не ясно-
го, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем
серыми облаками. „Как тихо, спокойно и торжественно, совсем
не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как
мы бежали, кричали и дрались... совсем не так ползут облака
по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал
прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его
наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного
неба. Ничего, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава
богу!.."» Лишь в чистой непосредственности это высокое небо
312
образует контраст шуму и суматохе сражения. Действительная,
создающая саму противоположность сила этого контраста пи-
тается из другого источника, из глубокого, медленно и бессоз-
нательно нарастающего разочарования Болконского, которое
постепенно усиливается во время всего похода (вспомним его
настроение после Щенграбенского сражения) и здесь, наконец,
прорывается. Очень интересно при этом, что непосредственным
источником всех предыдущих разочарований князя Андрея были
придворно-бюрократические институты, обычаи и нравы тогдаш-
ней царской России (и ее союзника Габсбургской монархии).
Однако во время его великого переживания на Аустерлицком
поле все эти мотивы как будто заретушированы. Это пережи-
вание противопоставляет исключительно предыдущий жизнен-
ный идеал Болконского, историческую фигуру Наполеона, вели-
чию и покою высокого неба и показывает этот идеал в свете
противоположности между подлинной человеческой жизнью и
пустотой всей его предшествующей деятельности. Мы видим это
в той сцене, когда Наполеон, объезжающий поле после победы,
останавливается возле Болконского и смотрит на него: «Он
знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Напо-
леон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком
в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой
и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нему обла-
ками. Ему было совершенно все равно в эту минуту, кто бы
ни стоял над ним, что бы ни говорил об нем; он рад был только
тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб
эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая
казалась ему столь прекрасною, потому что он так иначе пони-
мал ее теперь».
Прежде чем углубиться в дальнейшее воздействие этого пе-
реживания на жизнь героя, будет, пожалуй, небесполезным
вспомнить только что приводившийся пример Ганса Касторпа
и указать также на кое в чем сходные события у Достоевского.
В его романе «Идиот» князь Мышкин рассказывает о чувствах
и переживаниях человека, приговоренного к смерти и в послед-
ний момент помилованного. (Эпизод, по всей вероятности, авто-
биографический.) «Невдалеке была церковь, и вершина собора
с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил,
что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее свер-
кавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи
его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольет-
ся с ними... И в нем непрерывно живет чувство: „Что если бы
не умирать! Что если бы воротить жизнь, — какая бесконеч-
ность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в це-
лый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту сче-
том отсчитывал, уже ничего бы даром не истратил!"» На вопрос
своих слушателей, как же в действительности жил дальше этот
человек, какое дальнейшее развитие получило это его пережи-
313
вание, князь Мышкин отвечает: «...Он мне сам говорил... вовсе
не так жил и много-много минут потерял».
Вернемся теперь к Болконскому и его переживанию природы
на Аустерлицком поле. Стремление к радикальному изменению
своей жизни имело непосредственным и конкретным содержа-
нием примирение князя Андрея с женой, брак его с которой
в силу ее светского и поверхностного характера не был удач-
ным. Судьба, однако, препятствует этому намерению жить но-
вой жизнью: как раз ко времени его возвращения с войны мо-
лодая жена князя Андрея умирает от родов. Это лишает его вся-
кой надежды на новую жизнь. Воспоминание о высоком небе
все больше тускнеет и грозит совсем исчезнуть из его внутрен-
ней жизни. Лишь при посещении князя Андрея его другом
Пьером во время первого спора, который его действительно
задевает, он оживает впервые за много лет. «*...В первый раз
после Аустерлица он увидал то, высокое, вечное небо, которое
он видел, лежа на Аустерлицком поле, и что-то давно заснув-
шее, что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно и молодо
проснулось в его душе. Чувство это исчезло, как скоро князь
Андрей вступил опять в привычные условия жизни; но он знал,
что это чувство, которое он не умел развить, жило в нем».
И действительно, начиная с этого момента жизненная воля
Болконского постепенно выходит из оцепенения, в нем зарож-
дается стремление к осмысленной и достойной его деятельности.
С полной силой это проявляется, разумеется, лишь после пер-
вой, очень краткой встречи с Наташей Ростовой, после того,
как он случайно услышал ее ночной разговор с подругой. В про-
межутке располагаются два сходных, хотя и менее глубоких
переживания природы. Весною, во время деловой поездки, он
видит посреди расцветающего леса старый дуб («Это был
огромный, в два обхвата дуб с обломанными давно, видимо,
суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками.
С огромными своими неуклюжими, не симметрично растопырен-
ными, корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и
презрительным уродом стоял между улыбающимися березами»),
который возвещает ему истину, кажущуюся неопровержимой:
«Наша жизнь кончена». На обратном пути, после встречи с На-
ташей, он проезжает через тот же лес, ищет глазами этот дуб,
воспоминание о котором сделалось ему столь близким, и понача-
лу не может найти его, ибо дуб с тех пор весь покрылся
молодыми, зелеными листьями. И Болконского охватывает чув-
ство радости и обновления: «Все лучшие минуты его жизни
вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц
с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер
на пароме, и девочка, взволнованная красотой ночи, и эта ночь,
и луна, и — все это вдруг вспомнилось ему. «Нет, жизнь не кон-
чена в 31 год», вдруг окончательно, беспеременно решил князь
Андрей».
314
Если рассмотреть эти переживания природы с точки зрения
их взаимной связи и сродства, то сразу станет ясным, что речь
всегда идет о прорыве давно назревавших внутренних коллизий
и противоречий в жизни определенного человека, причем данное
конкретное явление природы оказывается простым стимулирую-
щим поводом. Это, разумеется, вовсе не означает, что само явле-
ние совершенно случайно. Природные феномены, в определен-
ном конкретном случае воспринятые определенной конкретной
личностью, должны быть — объективно — именно таковы, како-
вы они есть, чтобы могло возникнуть спонтанное и не требую-
щее усилий соответствие между ними и рвущимися к выражению
аффектами. Однако эти их в-себе-сущие особенности предо-
ставляют лишь простую и наиболее общую возможность возник-
новения именно этих переживаний. Действительная необходи-
мость заложена всегда в личности данного человека, в его преды-
дущей жизни и в характере того мгновения, в которое внутрен-
ние силы и конфликты, обостренные внешними обстоятельства-
ми, приходят к самовыражению. Взятые в такой всеобщности,
которая, разумеется, отнюдь не является произвольной, далекой
от реальных предметов абстракцией, подобные переживания
природы оказываются очень близки к мощно воздействующим
и богатым по содержанию переживаниям совсем иного характе-
ра, даже если эти последние являются непосредственным отве-
том на совершенно другие объективные данные, такие, как со-
бытия жизни или законченные смысловые построения, вроде
произведений искусства. Достаточно, если взять для начала как
раз последний случай, указать хотя бы на то воздействие, кото-
рое оказала картина Клода Лоррена «Асис и Галатея» на Вер-
силова в романе Достоевского «Подросток». Ситуация ясна
с первого взгляда: мы видим здесь подробно описанное после-
действие сильного эстетического впечатления (см. т. 2, с. 418
и ел.). Поскольку же к существу последействия относится и то,
что оно возвращает потрясенного эстетическим катарсисом цель-
ного человека в его качестве целостного человека из сферы вос-
приятия обогащенным обратно в жизнь, — постольку это эстети-
ческое последействие легко переходит в этическое «преддей-
ствие». И на этом уровне его дальнейшая судьба во многих
отношениях сходна с дальнейшей судьбой сильного пережива-
ния природы: в обоих случаях речь идет о том, как использует
данный человек это потрясение в своей дальнейшей жизни для
ее изменения и развития. Здесь встает уже этическая проблема,
проблема образа жизни.
Более сложен тот случай, когда событие, вызывающее подоб-
ные переживания, исходит из сферы самих человеческих отно-
шений, их изменений и т. д. В подобных случаях, по крайней
мере как правило, интервал между этическим «преддействием»
и самим решением гораздо менее значителен, чем в случаях
только что описанных, поскольку, как мы видели в предыдущем
315
разделе, отношения между людьми носят существенно полити-
ческий характер, что очень часто, особенно при сильных, бога-
тых содержанием переживаниях, делает этическое решение не-
избежным — и причем решение незамедлительное .Вспомним хотя
бы ту сцену в «Анне Карениной», когда Каренин навещает тяже-
ло, с точки зрения врачей, безнадежно больную Анну и, глубоко
потрясенный, принимает перед лицом ее близкой и неизбежной
смерти благородное решение: простить Вронского и Анну и
в будущем мириться с их отношениями. Это момент высокого
морального пафоса, и Анна, как и Вронский, покорена возвышен-
ностью совершающегося. Толстой, этот великий реалист, пока-
зывает, однако, что вопреки возвышенным переживаниям
подобного момента Каренин остается все тем же сухим бюро-
кратом, Анна великосветской дамой, а Вронский светским
кавалером; возвышенное мгновение проходит, и привычно-пус-
тая повседневность вступает в свои права. Толстой показывает
здесь истину того, что Достоевский называл скорым подвигом,
а Горький — героизмом минуты. Не пытаясь, даже в общих
чертах, обрисовать вырастающие отсюда этические проблемы,
скажем лишь с точки зрения нашей проблематики следующее:
исключительные переживания подобных мгновений, неважно,
в связи с чем и по какому поводу они возникают, всегда выте-
кают непосредственно из партикулярной личности человека.
Их сила, их резкий контраст с нормальным содержанием всей
предыдущей повседневной жизни указывают на решающее, важ-
нейшее для всякой жизненной сферы обстоятельство, а именно
что человеческая партикулярность никогда — ни в хорошем, ни
в дурном — не бывает столь единообразной и гомогенной, как
это может показаться при виде внешних форм повседневной
жизни. В каждом человеке взаимодействуют разнообразнейшие,
иногда противоположно направленные силы — на их социаль-
ных, психологических и т. д. источниках мы можем сейчас не
задерживаться, — и борьба этих сил во взаимодействии с внеш-
ними обстоятельствами определяет судьбу каждого данного че-
ловека. Внезапные переломы, прорывы, о которых идет речь,
всегда свидетельствуют о том, что вырывающаяся на передний
план тенденция представляет собой важный компонент целост-
ной личности, который, однако, до этого момента оставался
в небрежении. И тем не менее даже величайшая сила или интен-
сивность подобных прорывов еще не является доказательством
того, что индивид именно здесь должен обрести свою подлинную
сущность. Так обстоят дела лишь в том случае, когда вытекаю-
щие из подобных переживаний решения этического характера
оказываются в состоянии направить всю жизнь данной личности
по этому новому руслу. Поскольку же прийти к такому выводу,
опираясь исключительно на само подобное мгновение в его изо-
лированности, невозможно, постольку нам кажется оправдан-
ным говорить здесь лишь о некоем «преддействии» собственно
316
этики. Как уже указывалось, пример из «Анны Карениной» до
некоторой степени выпадает из этого рода. Мы полагаем, одна-
ко, что в его близости к тому, что Достоевский называл скорым
подвигом, сказывается именно только что отмеченное господ-
ство чисто партикулярного — разумеется, в форме этического
решения.
Показав в общих и наиболее существенных чертах сходство
и родственную близость подобных переживаний природы с аф-
фектами, имеющими совсем другое происхождение, обратимся
теперь к их отличиям от этих последних, к их своеобразию,
в котором раскрываются в соответствии с их специфической
сущностью вызванные природными феноменами катарсические
аффекты. Первое, что поражает нас при таком изменении точки
зрения, есть известная всеобщность переживаний природы; их
содержание связано, скорее, с общим отношением человека
к миру и людям вообще; их воздействие отличается от воздей-
ствия переживаний, вызванных конкретными человеческими от-
ношениями или ситуациями. Мы видим, следовательно, два по-
люса катарсических аффектов, исходящих из самой жизни: если
возбудителем является какое-либо чисто человеческое событие,
вырастающее из конкретных жизненных проблем, межчелове-
ческих отношений, конфликтов и т. д. данного индивида, то ка-
тарсис однозначно-определенным образом соотнесен с объектом,
направлен впрямую на конкретное этическое решение (каким
будет это решение реально, не имеет значения). Если же пово-
дом для катарсического прорыва послужил какой-либо природ-
ный феномен, то феномен этот, как правило, имеет характер
именно простого повода, то есть связь с объектом при всей стре-
мительности, эмоциональной окрашенности, переходах в сферу
мировоззренческого и т. д. носит в высшей степени неопределен-
ный характер и укоренена в настроениях минуты. Оба полюса
отличаются, таким образом, каждый на свой лад, от чисто эсте-
тических форм катарсиса. Соответственно расплывается и кон-
кретно-неповторимо-чувственное начало в непосредственном воз-
будителе переживания: природа переживается скорее в ее чис-
том противостоянии человека вообще, нежели в форме конкрет-
ного, чувственно-определенного явления. За этой тенденцией
к обобщению, присущей подобным переживаниям природы —
в образе высокого неба Аустерлица она проявляется очень боль-
шой степенью осознанности, — стоит важнейший общественно-
исторический опыт человеческого рода. Такова, с одной сторо-
ны, природа (природное, естественное) как ценностное понятие,
как нечто, в своей простоте и единстве стоящее выше социаль-
ных и психологических сложностей человеческой жизни и срав-
нительно с этими последними всегда оказывающееся правым
в своей безыскусно-глубокой истинности. С другой стороны, для
человека, переживающего природу таким образом, она предста-
ет принципом и воплощением вечности в противоположность его
317
собственному мимолетному, подверженному постоянным переме-
нам, превращениям и переходам личному бытию. Ведь даже
в изменениях, происходящих в природе, в смене дня и ночи,
в смене времен года господствует, по видимости, та же вечная
закономерность, взаимопереход роста и увядания, жизни и
смерти.
Отмеченная нами двойственность человеческого отношения
к природе, согласно которой человек живет в определенном от-
далении от природы и вместе с тем не созерцает ее полностью
извне — благодаря чему это отношение становится пребыванием
в средоточии природы [с. 280 и ел., 302], — эта двойственность
поднимается в подобных переживаниях до уровня высочайшей
эмоциональной интенсивности. Что касается происхождения по-
добных впечатлений, то здесь совершенно ясно, что объективно
они получают специфическую для них структуру предметности
от взаимообмена между обществом и природой. Животному не-
ведома дистанция по отношению к природе: оно само является
ее частью, и его взаимоотношения с природой осуществляются
на основе сходных по типу физико-физиологических процессов.
Конечно, простой факт жизни проводит до некоторой степени
границу между микрокосмом данного живого существа и макро-
космом окружающего его мира: сама жизнь есть как раз обособ-
ление определенной физиологически организованной системы
от целого — при всем ее взаимодействии с тем, что ее окру-
жает, — смерть же становится снятием этой относительной,
однако реально существующей направленности на самое себя,
самообоснованности, однако чисто физиологическая самостоя-
тельность не способна в качестве таковой к самоосознанию; по-
следнее осуществляется лишь благодаря процессу труда, причем
и в этом случае всестороннее и полное осознание принадлеж-
ности к природе и отдаленности от нее предполагает тысячеле-
тиями длящееся развитие, в ходе которого прежде всего долж-
ны быть выработаны реально-практические отношения обще-
ства в его «обмене веществ» с природой, и только после этого
начинают постепенно проявляться душевные рефлексы такого
взаимообмена в их все возрастающем богатстве, в их все уси-
ливающейся глубине. Вспомним, что лишь общественное разде-
ление труда между городом и деревней, лишь следующее за
этим отступление природных границ позволило — поначалу,
разумеется, лишь городским жителям — установить эмоциональ-
ную двойственность между отдаленностью и принадлежностью
к природе. В труде крестьян эта двойственность хотя и осущест-
вляется практически, однако так и не приходит к самоосоз-
нанию.
Само собой понятно, что в рамках настоящего исследования
мы не можем хотя бы только наметить пути развития подобных
переживаний. Мы знаем, однако, что лишь в течение последних
столетий после магических, мифологических, религиозных интро-
318
екций антропоморфирующего характера были выработаны со-
ответствующие объективной действительности отношения чело-
века к природе. Эти последние также осуществляются сначала
на практике, позднее проникают в научную мысль и лишь в ко-
нечном счете — в эмоциональную жизнь людей, существенным
образом определяя их переживание природы. Характерно при
этом, сколь упорно цепляются за жизнь представления о при-
родной телеологии, направленной на человека и его благо. Даже
у Канта, который отбросил грубую и прямую телеологию своих
предшественников, остается еще одна надежда: быть может,
сущая-в-себе природа раскроет каким-нибудь обходным путем
(как раз сюда и относится ее «красота») что-либо в тайном —
и соотнесенном с человеком — существе мира или даст по край-
ней мере какой-нибудь намек, какое-нибудь указание [с. 273
и ел.]. Потрясение, вызванное отказом от надежды на природ-
ное благовествование подобного рода, проявляется как болез-
ненная утрата иллюзий и чувство «десакрализации» природы,
в противовес чему лишь очень медленно и неравномерно на-
растало и нарастает такое отношение к природе, в основании
которого лежит ее действительное бытие, ее действительная
связь с человеком, — отношение, в котором инициатива, как
в содержательном, так и в формальном плане, исходит от обоб-
ществленного человека. Отсюда следует то, о чем мы говорили
в связи с бытием-в-себе и переживанием его необходимого про-
явления в повседневной жизни [с. 282, 290]: бытие-в-себе при-
роды всеобщим и неснимаемым образом определяет содержание
и форму переживания, однако лишь постольку и так, как оно
является для человека в соответствии с той ролью, которую оно
в качестве активного и пассивного момента играет в человече-
ской жизни вообще. На этой основе, на основе «обмена ве-
ществ» между обществом и природой, развивается та спонтан-
но-избирательная инициатива человека по отношению к приро-
де, которая при всей ее обусловленности потребностями дан-
ной временной ситуации ни в одном конкретном индивидуаль-
ном случае не является произвольной, но зависит от целостной
судьбы каждого отдельного человека, судьбы, детерминируе-
мой в конечном счете обществом. Дальнейшим следствием этого
является, однако, то, что любые помехи в общественных отно-
шениях людей, любая проблематичность этих отношений оказы-
вают обратное воздействие на эту «надстройку» над их взаимо-
обменом с природой. Если, к примеру, сегодняшнее чувство при-
роды нередко полно — разумеется, абстрактно-бесформенной —
мифологии отчаяния и страха, то причины этого следует искать
во внутренней структуре капиталистического общества.
Содержание того, что мы только что назвали единством,
простотой и вечностью природы в противоположность общест-
венной жизни человека, носит прежде всего характер реально-
сти. Человеку должна противостоять действительно природа,
319
нечто, существующее совершенно независимо от него самого.
Кант выразил это чувство несколько наивным и беспомощным
образом, сравнив действительное пение соловья с подражанием
соловьиному пению и признав лишь за первым способность
вызывать подобные переживания53. Само по себе, однако, ре-
шающее значение подобной реальности, причем реальности, не
воспроизведенной искусственно, не подлежит сомнению (этим
и отличается естественный ландшафт от произведения садово-
паркового искусства). Там, где преображенная общественной
деятельностью людей природа становится предметом природно-
го переживания — вспаханное поле или город, воспринимаемый
как «ландшафт», — она предстает созерцающему индивиду
в качестве законченной в себе реальности; преобразующая при-
роду сила принадлежит человеческому роду в целом, а не от-
дельной личности. Поэтому переживание беспрепятственно вво-
дит в порядок «вечного» чередования времен года такие про-
дукты деятельности общества, возникающие в процессе его взаи-
модействия с полностью независимой от человека природой,
как цветение плодовых деревьев, зреющие хлеба, поле со сня-
тым урожаем и т. д. Поскольку же, как мы показали ранее,
также и самый пустынный, навевающий чувство величайшего
одиночества ландшафт становится доступным переживанию
лишь в связи с общим развитием человечества, постольку из
всего сказанного выступает в качестве существенного содержа-
ния переживаний природы отношение отдельного индивида
к человеческому роду. Тем самым то, что мы выше [с. 317 и ел.]
обозначили как всеобщность и расплывчатость значительных
переживаний природы, получает новую, теперь уже целиком
позитивную характеристику, так как в самой жизненной прак-
тике родовое необходимым образом проявляется в своих реаль-
ных опосредованиях. «Требование дня», которое предъявляет
жизнь действующему в ней человеку, не только непосредственно
соотносится с конкретными формами человеческого сообщества,
с семьей, классом, нацией и т. д., но и укоренено в соответствии
со своей сущностью в самом человеке. Поэтому тот, кто пытает-
ся, минуя эти формы, практически ориентироваться исключи-
тельно на родовое, именно на практике оказывается дальше
от него, чем тот, чьи конкретные действия остаются неразрывно
связанными с классовым, с национальным началом. (Сложные
формы, которые принимают эти отношения в процессе истори-
ческих изменений, мы не можем здесь рассматривать.) Отра-
жающие жизнь искусства могут, разумеется, — прямо или кос-
венно и чаще косвенно, чем прямо, — изображать реальную
связь этих общественных форм с судьбой человеческого рода и
даже, как мы знаем, должны это так или иначе делать, если
осуществляемое ими эстетическое отражение действительности
рассчитывает на сколько-нибудь длительное значение, а не
просто на эфемерную значимость. Таким образом, рассматривае-
320
мые нами серьезные переживания природы именно потому рас-
плывчаты и всеобщи, что в них соотнесение индивида и рода
происходит впрямую, без сколько-нибудь заметных обществен-
ных опосредовании. Выражаясь языком категорий, чисто всеоб-
щий объект противостоит чисто партикулярному субъекту, и
как раз то, что делает искусство искусством, конкретизация
всеобщего в особенном, происходящая одновременно со снятием
партикулярного в том же особенном, здесь по необходимости
отсутствует.
Было бы, однако, ошибкой видеть в этом отсутствии особен-
ного простой недостаток подобных переживаний. Напротив,
именно оно позволяет им пробудить и сделать достоянием чело-
века чувство, к которому он едва ли или лишь с большим тру-
дом смог бы прийти иным путем. Мы имеем в виду опять-таки
связь человека с его собственным родом. В самой природе от-
ношение рода к отдельным своим представителям гораздо про-
ще, чем отношение человечества к человеку: с практическим
развитием общественного, исторического и индивидуального ха-
рактера человеческой жизни это природное отношение сущест-
венным образом модифицируется и усложняется. В природе
родовое выступает как принцип постоянства, более того, вечно-
сти в противоположность рождению и смерти отдельных экзем-
пляров. Тот факт, что и у самой природы есть своя история, что
биологические роды также претерпевают изменения, возникают
и уничтожаются, — это та истина сущего-в-себе мира, которая
в качестве таковой оказывает, разумеется, глубокое влияние на
мировоззрение человека, однако в непосредственном образе
мира, формирующемся в рамках повседневной жизни, для нее
с трудом находится место, стоит человеку с его внутренними
конфликтами оказаться лицом к лицу с конкретными явления-
ми природы. В таком случае неизменное сохранение рода при
непрерывной смене отдельных экземпляров представляется как
раз тем единством, простотой и вечностью, которые человек
неизбежно утрачивает с возникновением культуры. И поскольку
человек стремится вырваться за рамки собственной партикуляр-
ное™, страстно ищет слияния с родовым, с теми нормами, кото-
рые могли бы руководить им в его блужданиях, — неразрывное
единство экземпляра и рода в природе, целостное, без остатка,
воплощение родового в любом непроизвольном движении от-
дельного кажутся ему потерянным раем, единственно возмож-
ным избавлением от всех его бед.' И воспринятая, пережитая та-
ким образом природа — высокое небо, светящийся купол
и т. д. — настолько широка и многозначна в своей всеобщности,
что оказывается способной вызвать как раз те чувства, которые
и нужны субъекту в данный момент, оказывается, следователь-
но, воплощенным ответом на любые вопросы. Именно это с наи-
большей отчетливостью показывает нам, что свою специфиче-
скую физиономию всеобщий и остающийся всеобщим природ-
21—805
321
ный предмет получает лишь благодаря переживающему чело-
веку. Вспомним полное юмора и вместе с тем проникновенное
обращение Маттиуса Клаудиуса к луне:
Она стара, как ворон;
И видит все кругом.
Еще в ребячью пору
Отец был с ней знаком.
(Перев. А. Айхенвальд)
Ради дальнейшего конкретного освещения подобных душевных
обстоятельств процитируем еще и несколько строф из китсов-
ской «Оды соловью»; как и в предыдущих случаях, мы делаем
это исключительно с той целью, чтобы содержание подобных
переживаний выступило с возможно большей ясностью,, и тот
факт, что в стихотворении Китса все эти чувства используются
лишь как материал, сырье для создания завершенной картины,
что интересующая нас поляризация общего объекта и партику-
лярного субъекта снимается здесь в чувственно-наглядном
особенном, — этот факт мы можем здесь оставить без внимания.
Мне смерть, тебе — бессмертье суждено.
Не истребили алчные века
Твой свежий голос, что звучал равно
Для императора и бедняка.
Быть может, та же песня в старину
Мирить умела Руфь с ее тоской,
Бредущую по чуждому жнивью;
Будила тишину
Волшебных окон, над скалой морской,
В неведомом, покинутом краю.
Покинутом... Ну, что ж, и мне пора
Из долгих странствий к дому повернуть;
Прощай! — фантазия как ни хитра,
Навечно нас не может обмануть.
(Перев. Г. Кружкова)
Из всего многообразия реальных переживаний, которые мог-
ли бы здесь возникнуть, Ките выбирает и разрабатывает, разу-
меется, только одно. Для нас поэтому важно не столько его
конкретное содержание, сколько проявляющееся здесь типиче-
ское движение чувства. Чувство это движется от напряженно-
тоскующего созерцания вечности природы, вечности родового
в ней, от блаженного ощущения, сопутствующего растворению
всякой единичности в родовом, в противоположность вечно для-
щейся, вечно возобновляющейся муке человеческой индивидуа-
лизации, к возвращению завороженного созерцателя в нормаль-
322
ную человечность собственного бытия, к эмоциональжшу про-
зрению иллюзорности всякого подобного воссоединения с веч-
ной природой, с вечнородовым. Ките, как подлинно великий
поэт, концентрирует типический ход такого рода переживаний
до интенсивной целостности стихотворения, тогда как в самой
действительности — вспомним приводившиеся выше примеры —
их расцвет и увядание представляют собой длительный процесс,
подъемы и спады которого способны охватить целые этапы внут*
реннего развития данного человека. Это означает, однако, что
стихотворение путем эстетического формообразования перево-
дит в определения эстетического отражения, на уровень эстети-
ческой образности и обобщает в эстетической гомогенности то,
что в самой жизни разыгрывается как опьянение и отрезвление,
как переживание и его проверка на практике, как «преддейст-
вие» этического действования и временами как оно само. По-
скольку, таким образом, это содержание проявляется здесь
с гораздо большей пластической отчетливостью и гораздо глуб-
же врезается в память, чем его осуществление в жизни, постоль-
ку мы получаем возможность использовать этот контраст для
дальнейшего углубления нашего понимания этой жизненной
сферы. И прежде всего, мы начинаем понимать, что пережива-
ния мировоззренческого характера возникают в индивидуальной
жизни человека гораздо чаще, чем принято считать.
Мы привыкли при слове «мировоззрение» думать прежде все-
го об абстракциях философского характера, между тем как
в действительности целый ряд так называемых «последних во-
просов» вплотную связан с повседневным опытом, со спонтан-
ными жизненными впечатлениями людей, крайне важными по-
этому для их внутренней жизни, но отнюдь не всегда с абсолют-
ной неизбежностью достигающими — как на стадии преддейст-
вия, так и на стадии последействия — уровня понятийной обоб-
щенности. Именно это всеобщее — в теоретическом плане в выс-
шей степени расплывчатое, и тем не менее эмоционально впе-
чатляющее — содержание подобных переживаний природы об-
легчает проникновение в жизнь человека. Следует, во всяком
случае, повторить: сами по себе они могут развиться в лучшем
случае до уровня «преддействия» этической установки; именно
эта последняя выносит потом окончательное решение, сохранят-
ся ли они в качестве действительного поворотного пункта чело-
веческой жизни или в качестве преходящего настроения посте-
пенно поблекнут. Во всем этом проявляется, однако, еще и дру-
гой, крайне важный для познания повседневной жизни и чело-
веческой партикулярности момент. При обсуждении проблемы
приятного мы уже имели случай убедиться в бесконечном мно-
гообразии его содержательных и формальных возможностей
[с. 195 и ел.], а наш краткий обзор возможностей, которыми об-
ладает переживание природы [с. 307 и ел.], послужил этому
дальнейшим подтверждением. Непосредственным основанием
21*
323
этого феномена является, естественно, безграничное число воз-
можных для человека типов отношения к природе. Однако без
дальнейших пояснений очевидно, что вся эта шкала объективных
возможностей не могла бы прийти к осуществлению без соот-
ветствующего ей объема возможных переживаний целостного-
человека, партикулярной личности в повседневной жизни. Это
означает, однако, что всякий человек в своей партикулярное™
несравненно сложней и богаче дремлющими, еще не нашедшими
воплощения или так никогда и не осуществленными возмож-
ностями, чем это кажется обыкновенно ему самому и другим
людям. В самом существе жизни заложено непрерывное про-
буждение этих возможностей, хотя, разумеется, их актуализа-
ция часто бывает затруднена. Развитие человеческой личности
не в последнюю очередь заключается в раскрытии или подавле-
нии подобных возможностей. Однако эта диалектика гораздо
сложней, чем кажется на первый взгляд. Ибо всякое реальное
развитие того или иного человека, даже если оно является
поступательным развитием, несет в себе также и подавление
целого ряда его возможностей. Вместе с тем именно раскрытие
одной определенной возможности может отрезать для него дру-
гие плодотворные пути развития. Существенным моментом этой
диалектики является то, что часто, почти всегда человеку прихо-
дится платить за прогресс в одном отношении определенным
регрессом в другом. Готовность к переживаниям природы само-
го различного рода ничем принципиально не отличается от реак-
ций человека на все остальные жизненные события и обстоя-
тельства. На уровне такой всеобщности нельзя даже утверж-
дать, что переживания природы противодействуют рутинности
и фетишизации внутренней жизни человека безусловно сильнее,
чем другие впечатления, получаемые из чисто социальной или
социально-человеческой сферы. Вне всякого сомнения, они могут
воздействовать и часто воздействуют таким образом; то же самое,
однако, происходит и при впечатлениях другого рода, и столь
же очевидно, что отношения человека к природе тоже могут
выродиться в фетишизированную рутину. Все это, однако, не
может быть выведено из самих переживаний, сколь бы харак-
терны они ни были для возможностей данного человека, но за-
висит, как мы показали, от того, как использует их субъект пе-
реживания в своей дальнейшей жизнедеятельности; здесь мы
приближаемся к такой проблематике, которая выходит за пре-
делы непосредственной партикулярности.
Эти наблюдения, представляющие собой, разумеется, лишь
краткий обзор встающих здесь вопросов, показывают, полагаем
мы, что переживания, возникающие у человека от соприкоснове-
ния с природой, не являются ни предварительной ступенью к ис-
кусству, ни тем более откровением какой-либо для-еебя-сущей
«красоты», которая могла бы конкурировать с искусством; при-
чем неважно, кто именно получит философскую пальму пер-
324
венства. Такой вывод не несет в себе ничего уничижительного для
подобных переживаний. Как и все непосредственные реакции
на объективную действительность, впрямую соотнесенные с чело-
веком и способствующие его жизни, они охватывают целостного
человека повседневности во всей его психофизической тотально-
сти и партикулярности. При этом не приходится более сомне-
ваться, что подавляющее большинство подобных переживаний
имеет такую же природу, как и те жизненные проявления, ко-
торые мы отнесли в предыдущей главе к сфере приятного. Одна-
ко именно тем самым они образуют основу, исходный пункт для
возникающих в обществе высших объективации, которые оказы-
вают на них обратное воздействие. Очевидным следствием дезан-
тропоморфирующего характера отражения в науке является то,
что эти взаимосвязи наименее интенсивны в естественных нау-
ках: решающую роль, как в исходном пункте, так и на конечном
этапе, играют здесь трудовой опыт и требования, предъявляе-
мые человеку процессом труда. Тем большее значение имеет
этот комплекс переживаний для искусства. Сошлемся еще раз
на то, что говорилось в другой связи по поводу преддействия и
последействия художественного произведения. Как мы убеди-
лись, этот жизненный комплекс обладает неизмеримой значи-
мостью и для формирования социального задания, и для даль-
нейшего воздействия искусства. Вместе с тем из полученных
результатов с полной очевидностью следует, что переживания
природы не могут претендовать на какое-либо особое положе-
ние в рамках этого комплекса: универсальность эстетического
отражения проявляется именно в том, что для него все, что во-
обще как-либо связано с человеческой жизнью, может и должно
стать материалом для формообразования, причем степень зави-
симости от тех или иных художественных целей, от того или ино-
го жанра и т. д. во всех случаях одинакова. В этом отношении
совершенно безразлично, носит ли переработанный искусством
жизненный материал изначально эстетический характер или не
имеет с эстетической сферой ничего общего. Мы указывали уже
и на то, что переживания природы могут получить дальнейшую
жизнь в процессе нравственного развития человека [с. 315 и ел.],
но и в этом случае признание их отмеченного нами выше свое-
образия ничего не меняет в том основном положении, что они
как таковые образуют лишь предварительную ступень, и судьба
их целиком зависит от дальнейшего этического развития лич-
ности.
Все эти соотношения между приятными, жизнеутверждаю-
щими переживаниями и высшими объективациями обществен-
ной жизни людей определяются в конечном счете тем, что субъ-
ектом переживаний всегда является партикулярный индивид
повседневности, тогда как объективации неизменно требуют
определенного — в каждом случае различного — преодоления
простой партикулярности. В противоположность идеалистиче-
325
ским философским учениям, которые — разумеется, в различ-
ных формах — усматривают в человеческой партикулярности
некую неполноценность, констатация этого факта означает для
нас лишь признание определенного своеобразия общественной
жизни и не является иерархическим перемещением этих фено-
менов на какую-то низшую ступень. Мы говорили уже о «cha-
racter indelebilis» партикулярности [с. 310], и, хотя мы не имеем
сейчас возможности рассматривать даже очень бегло проблемы
этики, следует сказать: позиция, которую занимает каждый
данный человек по отношению к собственной партикулярности,
представляет собой одну из важнейших проблем индивидуаль-
ной жизни, более того, проблема эта постоянно становится проб-
лемой всего общества, всей культуры. Диалектика обществен-
ной жизни проявляется в том, что партикулярность должна
непрерывно сниматься и вместе с тем постоянно* сохраняться —
то и другое с одинаковой необходимостью. Жизненная задача
всякого человека — а тем самым всякого общества и его культу-
ры — заключается в том, чтобы найти в рамках этой диалекти-
ческой противоречивости нужную середину (в смысле аристоте-
левой этики), то есть не допускать простого сглаживания проти-
воречий и не соглашаться на удобные компромиссы. Самоудов-
летворенность человека в пределах партикулярного столь же
опасна для него самого и для общества, в котором он живет,
как и разрыв с самим собой, попытка любой ценой освободить-
ся от партикулярности. Общество, состоящее из ибсеновских
троллей — противопоставивших свое кредо: «Тролль, будь дово-
лен самим собой» призыву: «Человек, будь самим собой», —
было бы столь же нежизнеспособным, столь же бессильным
создать сколько-нибудь плодотворную культуру, как и обще-
ство, сделавшее своим лозунгом характеристику, даваемую
Порфирием своему учителю Плотину, который, по словам Пор-
фирия, казалось, стыдился, что имеет тело. Это стремление
к своего рода золотой середине не только гармонизирует и опло-
дотворяет индивидуальную жизнь отдельного целостного чело-
века, не только сообщает заложенному в нем противоречию
плодотворное движение, но вместе с тем оказывает и обратное
воздействие на его общественную активность, на его, особенно
сейчас нас интересующие, связи с высшими объективациями.
Если мы возьмем, к примеру, хотя бы искусство, то легко убе-
димся, что данный социальный заказ и данная рецептивная
сфера формируются на основе социального взаимодействия от-
дельных людей. Поскольку же содержание и формы искусства
суть более концентрированное и более интенсивное отражение
отношений человека к самому себе, к другим людям, к окру-
жающему миру, следовательно, также и к природе, постольку эти
внутренние качества отдельных людей, господствующая тенден-
ция их развития в масштабах всего общества представляют
собой один из важнейших факторов поступательного или регрес-
326
сивного развития искусства. «Литература портится лишь в той
мере, в какой люди становятся испорченнее»54, — говорит Гёте.
В этом смысле можно сказать, что эмоциональное отношение
людей к природе, его содержание, направление и т. д. оказы-
вают в качестве элементов самой жизни решающее воздейст-
вие на судьбы искусства, разумеется, наравне со всеми другими
значительными комплексами человеческой жизни. Теперь, после
того как мы детально в их конкретных особенностях проанали-
зировали те весьма существенные проблемы, которые объеди-
няются под в высшей степени расплывчатым и противоречивым
названием «природная красота», можно в итоге сказать: осно-
вой этих многообразно дивергирующих переживаний является
не природа сама по себе, а «обмен веществ» между обществом
и природой, в них, следовательно, раскрывается опять-таки не
природа сама по себе, а общественно-историческая сущность
человека. В основе всякого переживания «природной красоты»
лежит, таким образом, определенный этап подчинения природы
господству обобществленного человека, разумеется, во всей его
сложности, со всеми его противоречиями. Сюда относятся также
и переживания возникающих в этой связи проблематических
моментов, падений и неудач, ибо подобные переживания лишь
в их целостности выступают органической частью самосознания
человеческого рода. Поэтому ни одно из этих переживаний не
должно рассматриваться изолированно от целостной жизни
общества; поэтому же их целокупность образует полюс, проти-
воположный по отношению к дезантропоморфирующему отраже-
нию природы самой по себе, осуществляемому в науке и техни-
ке, хотя, разумеется, эти последние в качестве элементов жизни
и моментов целостного развития общества также оказывают
определяющее воздействие на содержание и формы той или
иной «природной красоты». Именно таким образом возникает
прежде всего отдаленность от природы, дистанция по отноше-
нию к ней, характерная для собственно человеческих природ-
ных впечатлений, в отличие, скажем от магии. Напротив, в ка-
честве эстетической категории или тем более — а это в подоб-
ных случаях неизбежно, — будучи метафизически гипостазиро-
вана, «природная красота» способна породить лишь философ-
скую путаницу, причем не только в эстетике, но также и в этике,
способна лишь помешать верному постижению человеческой
жизни.
Глава 16
БОРЬБА ИСКУССТВА ЗА СВОЕ
ОСВОБОЖДЕНИЕ
1. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И ГЛАВНЫЕ ЭТАПЫ БОРЬБЫ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
В ходе предыдущего изложения мы подробно обсуждали как
своеобразие эстетического отражения, так и то, чем оно отли-
чается от других видов апперцепции действительности. В связи
с этим речь шла также о различных видах общественно-челове-
ческих реакций на возникающие при этом произведения и на
способы поведения. Здесь мы рассмотрим эти вопросы более
подробно и более систематично, в их соотнесенности с основны-
ми структурами эстетического и других комплексов форм, чтобы
получить обобщенную и ясную картину сущности эстетического
отражения, форм его объективации, их дифференцирования,
этапов становления его самостоятельности и т. д. До сих пор
мы уделяли внимание только вопросу о том, как из спонтанно-
хаотической универсальности магической практики постепенно
возникало, не руководимое никакой определенной волей, специ-
фически эстетическое полагание. Если теперь, оставляя в сто-
роне стадию чистого генезиса, мы будем подробнее анализиро-
вать более поздние этапы этого процесса, в котором, однако, все
еще встречаются периоды смешения, подчинения и т. д., само
собой разумеется, что во внимание будет принят только фило-
софский и никоим образом не исторический аспект проблемы;
в противном случае мы должны были бы дать по крайней мере
краткий очерк истории искусств, что существенно расширило бы
рамки этой работы. Как и ранее, мы должны констатировать
здесь, что этот вопрос относится к историко-материалистической
части наших эстетических исследований. Разумеется, кроме того,
следует сделать оговорку, что диалектико-материалистический
и историко-материалистический способы рассмотрения искусства
не отделены друг от друга пропастью. При этом из диалектиче-
ского единства их разд елейности и неотделимости вытекает
главная установка для последующего рассмотрения: требование
дать ответ на вопрос о том, каким образом историческая судьба
искусства способствует полному выявлению его эстетически ре-
шающих определений.
Наша отправная точка также известна: эстетическое долж-
но рассматриваться как общественно-историческое явление не
.328
только в его генезисе, но также и на протяжении всего своего
развития; при этом необходимо учитывать и такое часто обсуж-
даемое обстоятельство, что структура каждого художественно-
го произведения как продуцированной ^индивидуальности долж-
на иметь исторически определенный характер как в формаль-
ном, так и в содержательном отношении. Попытки открыть
в искусстве (и науке) противоположность между имманентно-
художественным (и научным) совершенством и социальной
функцией следует отнести к новейшим предрассудкам. Действи-
тельное отношение социального запроса к произведению, напро-
тив, таково, что, чем органичнее имманентное эстетическое со-
вершенство произведения искусства, тем лучше оно может
выполнить вызвавшее его социальное задание. Это единственно
правильное понимание взаимоотношения индивидуальности про-
изведения и его социальной обусловленности направлено одно-
временно против обеих ложных крайностей: с одной стороны,
против практицизма, требующего от каждого художественного
произведения немедленного и прямого общественного воздей-
ствия и ограничения задачами настоящего дня (то, что в отдель-
ных случаях такая эффективность художественного действи-
тельно может существовать, не устраняет ложности общего'
постулата); с другой стороны, против столь же абстрактной tf
в конечном счете враждебной искусству теории «искусства для:
искусства», провозглашающей полную независимость художест-
венной формы от какой-либо социальной потребности. Бодлер,
чье чувство эстетического, конечно, никем не оспаривается,
в своем исследовании романтического искусства ведет подоб-
ную же борьбу на два фронта. «Является ли искусство полез-
ным?» — спрашивает он, отвечая на свой вопрос безоговороч-
ным утверждением. ИРпродолжает: «Почему? Потому что оно —
искусство. Есть ли вредное искусство? Да. Это то, которое
разлагает устои жизни. Порок соблазнителен, его можно со-
блазнительно описать; но он вызывает особые моральные неду-
ги и страдания, и это тоже может быть описано... Я сомне-
ваюсь, чтобы можно было указать хотя бы на один-единствен-
ный продукт фантазии, который являлся бы во всех отношениях
воплощением4 прекрасного и, однако, был бы вреден». И против
другой крайности: «Неумеренная приверженность форме при-
водит к ужасающему и непостижимому беспорядку. Из-за не-
обузданного пристрастия к прекрасному, причудливому, при-
влекательному, живописному —поскольку тут нужна мера — ис-
чезают представления о правильном и истинном. Бурная страсть
к искусству есть разъедающая язва, которая поражает все;
и так как полное отсутствие в искусстве правильного и истин-
ного означает отсутствие самого искусства, то здесь исчезает и
весь человек; чрезмерная спецификация какого-нибудь свойства
выливается в ничто»1. Таким образом, очевидно, что к преодо-
лению обеих ложных экстрем ведет объективная интенциониро-
329
ванность современных художественных произведений на кон-
кретно общечеловеческое. Конечно, здесь можно говорить лишь
о тенденции: столь же мало возможными и необходимыми явля-
ются здесь абсолютные или непосредственные связи, сколь не-
обходима сильная и живая тенденция, хотя бы она была и не
прямой и не обязательно осознанной; речь идет о такой тенден-
ции, такой интенционироваиности, которые могут быть эстети-
чески выражены в рамках целостности произведения.
Как уже не раз отмечалось, эта плодотворная «середина»
между ложными крайностями существует и применительно
к научному отражению, действуя здесь с необходимыми вариан-
тами, с качественными различиями в объективной сущности
произведения и социального задания. Так возникают две систе-
мы отражения действительности, различные в своей основе; каж-
дая— в соответствии с ее своеобразием — имманентно приводит
к совершенству, достигая оптимума в осуществлении того или
иного социального заказа. Их явное разделение следует из их
сущности, но одновременно является результатом общественно-
исторического развития. Здесь также, как уже подчеркивалось,
предметом обеих систем отражения является та же самая
объективная действительность, и неизбежно, что между обеими,
столь разнородными системами в ходе их исторического осу-
ществления возникают снова и снова смешения, пересечения
и т. д. (О проблеме античной историографии, риторики, публи-
цистики и т.д. мы уже говорили [см. т. 1, с. 175 и ел.; т. 2,
с. 306 и ел., 439 и ел.].) Теоретически точное разграничение лег-
ко выполнимо, и оно было не раз продемонстрировано в ходе
предыдущего рассмотрения. Мы знаем, что истиной искусства
является истина самосознания человеческого рода, и поэтому
она всегда и везде должна оставаться неразрывно связанной,
как по форме, так и по содержанию, с конкретной исторической
данностью, с hic et nunc истории. Эта внутренняя гармония от-
дельного произведения в его индивидуальности — единая в вели-
ком всемирно-историческом смысле — разрешается в его истин-
ности; так, поскольку мы вновь и вновь переживаем космого-
нии Гомера или Данте, образно воссоздающие сущность челове-
ка и его отношения, то они не устаревают и с эстетической точ-
ки зрения остаются истинными. Точно так же границы между
наукой и искусством не уничтожаются с применением «художе-
ственных» средств как составной части изложения некоторых
научных работ: они находятся целиком на службе передачи со-
держания, которое имеет по своей сущности дезантропоморфи-
рующий характер; их большая или меньшая ценность опреде-
ляется не эстетическими принципами, а этой помощью при вы-
ражении сущей-в-себе истины. Распространенное в новое время
заблуждение в этом вопросе служит лишь симптомом историче-
ской ситуации, а не его фактической релевантности; к отдель-
ным моментам этого комплекса мы еще вернемся.
330
Как бы четко ни были определены эти границы сами по себе,
в ходе истории каждый раз снова выступают недооценка, ослож-
нения и т. п. Достаточно просто сослаться на такой живучий
предрассудок, как утверждение, что поэты «лгут» и что это
можно подтвердить примерами от Солона и Агриппы Неттес-
геймского и —пусть в смягченных формах — до наших дней..
Это предубеждение проявляется, конечно, не всегда в свое*
очевидной классической форме. Расшатанность общественных:
отношений, которая обычно находит свое выражение в пробле-
матичности их взаимосвязи с действительностью, в явлениях,
оскудения и исчезновения общепризнанной и воспринимаемой
всеми перспективы развития, привносит, как мы отмечали, рас-
плывчатость, своего рода колебания между двумя ложно экстре-
мальными подходами к социальной заданности искусства.
То, что применяемые в искусстве и в науке методы явно опре-
деляются направлением и четкостью социального задания, мы
видим в наши дни на примере двух весьма путаных концепций
относительно действительности и истины. О субъективировании
истины, о внутреннем разложении понятия действительности
в картине мира, создаваемой наукой, речь будет идти ниже.
Применительно к искусству здесь нужно отметить лишь то, что
на него действуют общественно-исторически обусловленные ко-
лебания представлений о действительности и истине, что спон-
танное понимание своеобразного характера эстетического отра-
жения утрачивается или по крайней мере значительно ослаб-
ляется. Это может проявляться в форме прямого отречения от'
истины и действительности, и притом в различных вариантах:
от банальной беспомощности перед действительностью до рафи-
нированного отрицания необходимости какой бы то ни было
предметной формы. Здесь возможны также поиски суррогата,
замены художественной правды научной (которая в большин-
стве случаев, разумеется, практически оказывается псевдонауч-
ной). Такие течения в искусстве, как натурализм, идущий
от Золя, как литература, базирующаяся на «монтаже» докумен-
тов, и т. п., можно понять только тогда, когда ясно видишь,
что в таких суррогатах науки думает найти убежище ослаб-
ленное чувство художественной правды изображаемой действи-
тельности. Причем с точки зрения рассматриваемой нами проб-
лемы безразлично, является ли возникающее таким способом
произведение бунтарским или апологетическим пс$ отношению
к данному состоянию общества; во всяком случае, 1гакое произ-
ведение доказывает свою действительность и истинность не из-
нутри, не собственными средствами эстетического отражения,
но подкрепляя их ненадежность чисто внешними доказатель-
ствами. Эта крайне сомнительная практика смыкается с теория-
ми, выступающими против «лживости» искусства; уже метод
критики в «Ионе» Платона рассчитан на то, чтобы заменить
всего лишь уподобляющуюся явлениям очевидность эстетиче-
331
ской предметности «профессионально» контролируемой «пра-
вильностью».
Эти тенденции выступают, естественно, прежде всего и пре-
имущественно в литературе. В других искусствах размывание
границ между художественным и научным отражением реже
и относительно эпизодичнее, хотя, например, в современной
архитектуре очень часто технологически-научные элементы по-
лучают исключительное преимущество, замещая эстетическую,
визуально-пространственную предметность чисто конструктив-
ной «правильностью». Подобные проблемы могут возникать
и в киноискусстве, где соскальзывание к научному отражению
облегчается с самого начала его фотокопирующей основой.
Мы имеем в виду, конечно, не чисто документальные фильмы,
которые относятся к жанру, аналогичному публицистике, не при-
надлежащему по существу к области эстетического, хотя здесь
может применяться крайне виртуозная художественная техника.
Сложной и запутанной является роль геометрии, например,
в кубистской живописи; здесь дело, очевидно, заключается
в том, что за основу принимается псевдонаучная точка зрения:
об этом свидетельствует крайний субъективистский произвол,
который сопутствует осуществлению требований высшего «объ-
ективизма». Все эти явления, столь качественно отличные друг
от друга, имеют ту общую черту, что они выходят за пределы
эстетического, что его имманентность произведению заменяется
принципами и методами, привнесенными из других сфер, транс-
цендентными эстетическому. Возникающие в связи с этим вопро-
сы стиля мы будем подробно обсуждать в следующем разделе
этой главы [с. 401 и ел.].
Более важно здесь для нас отношение искусства к религии,
поскольку оно оказало очень большое влияние на все его раз-
витие. Эта проблема также затрагивалась нами ранее в иной
связи. Теперь это важно для обобщения всего комплекса проб-
лем с его принципиальными определениями и существенными
этапами развития, для выявления столкновений, взаимоперехо-
дов, мирного или враждебного размежевания и т. д. двух этих
систем отражения, которые при всей своей глубокой противоре-
чивости имеют общую антропоморфирующую основу. В системе
этих взаимосвязей античная Греция занимает совершенно свое-
образное место. Мы уже ссылались [см. т. 1, с. 114 и ел.] на
тот важный факт, что общество не имело тогда своей особой
касты духовенства. По этой причине мировоззренческое и худо-
жественное развитие было гораздо более свободным и независи-
мым, чем в других культурах, где господствующая теология
притязала на главенство во всей идеологической жизни и реаль-
но осуществляла его. По этой причине искусство в Греции —
особенно литература — играло вполне решающую роль в интер-
претации мифов, в актуализации их путем перетолкования
в духе своего времени. По существу, почти безразлично, какой
332
характер имела осознанная интенция этого явного перетолкова-
ния мифов: сознательно религиозный или антирелигиозный, так
как по своей сущности эти поэтические интерпретации большей
частью уводили от религии. Не говоря уже о Еврипиде, у кото-
рого эти тенденции были в высшей степени осознанными, у Го-
мера, а еще больше — у трагиков и Аристофана развитие дейст-
вия сводится к цели развенчания богов. Гегель очень глубоко
понимал эту ситуацию; он писал в «Феноменологии духа» об
-антирелигиозном воздействии трагедии: «Эта судьба завершает
изгнание населения с неба, бессмысленного смешения индиви-
дуальности и сущности — смешения, благодаря которому дейст-
вование сущности является действованием непоследовательным,
•случайным, ее недостойным, ибо индивидуальность, которая
лишь поверхностно присовокуплена к сущности, есть несущест-
венная индивидуальность. Устранение таких лишенных сущно-
сти представлений, которого требовали философы древности,
начинается, следовательно, уже в трагедии вообще благодаря
тому, что разделение субстанции подчинено понятию, а инди-
видуальность тем самым есть существенная индивидуальность,
и определения — абсолютные характеры». Еще яснее это на-
правление, по мнению Гегеля, выступает в комедии: «Таким
образом, одна сторона комедии состоит прежде всего в том, что
действительное самосознание проявляется, как судьба богов.
Как всеобщие моменты эти стихийные сущности не представ-
ляют собою самость и недействительны. Хотя они и наделены
формой индивидуальности, но она у них только воображаемая
и не присуща им в себе и для себя: действительная самость не
имеет своей субстанцией и содержанием такого абстрактного
момента. Самость, субъект, возвышается поэтому над таким мо-
ментом как над единичным свойством и, надев эту маску,
выражает иронию этого свойства, которое хочет быть чем-то
для себя. Претенциозность всеобщей существенности обнару-
живается в самости; она оказывается в плену у некоторой
действительности и сбрасывает маску, именно желая быть
чем-то "настоящим». И он резюмирует: «Так как исчезает слу-
чайное определение и поверхностная индивидуальность, сооб-
щаемые представлением божественным существенностям, — со
стороны природной у них остается еще лишь нагота их непо-
средственного наличного бытия: они — облака, исчезающий
туман, как и те представления [«Облака» Аристофана]. После
того как по своей мысленной существенности они превратились
в простые мысли о прекрасном и добром, их можно наполнить
любым содержанием... Единичная самость есть негативная сила,
благодаря которой и в которой исчезают как божества, так и
их моменты, налично сущая природа и мысли об ее определе-
ниях; в то же время она не есть пустота исчезновения, а содер-
жится в самом этом ничтожестве, остается у себя и есть един-
ственная действительность»2.
333
В то время как литература, сама по себе антропоморфиро-
ванная, подрывает религиозный антропоморфизм мифов, древне-
греческая философия непосредственно осуществляет дезантро-
поморфирующую атаку против религиозных представлений,,
стремясь к законченной посюсторонней картине мира; и тот
факт, что некоторые философские представления сами имели
псевдомифический вид — в силу состояния тогдашней науки»
полному развитию которой препятствовала основанная на раб-
стве экономика, — отнюдь не умаляет всемирно-исторического'
значения этого стремления. Разоблачение Ксенофаном антро-
поморфизма религии (см. т. 1, с. 119] известно, и нет нужды
вновь его приводить. Но одновременно эта борьба явно направ-
ляла свое острие против поэзии, в которой многие философы
видели разновидность антропоморфирования и», следовательно,,
союзницу враждебной им религии, и притом такую союзницу,,
которой удается выразить антропоморфирующую тенденцию
наиболее ярко. Так, Диоген Лаэртский отмечал: «...Когда Пифа-
гор сходил в Аид, он видел там, как за россказни о богах душа
Гесиода стонет, прикованная к медному столбу, а душа Гомера
повешена на дереве среди змей»3. О Солоне мы находим у нега
следующее высказывание: «Феспиду он воспретил представлять
трагедии, полагая, что притворство пагубно»; он же приводит
слова Гераклита: «Также и Гомеру... поделом быть выгнану
с состязаний, и Архилоху тоже»4. Другое высказывание Герак-
лита ясно показывает конкуренцию между поэзией и филосо-
фией в посюстороннем освещении мировоззренческого вопроса:
«Неправильно говорит Гомер: «Пусть исчезнут споры в мире бо-
гов и людей!» Тогда бы все погибло. Нет же никакой гармонии,,
если нет высоких и низких звуков, и нет живого существа без.
женского и мужского, которые ведь являются противополож-
ными»5. Гераклит выступает здесь против Гомера как защитник
диалектики, как провозвестник идеи о противоречивости основы
всех вещей и всех процессов, всеобщность и систематическая
взаимосвязанность которых позволяет объяснить всю действи-
тельность с точки зрения ее внутренних движущих сил. Здесь
не так уж важно, является ли справедливой эта критика Гоме-
ра на основании одного его изолированного высказывания. Чем
меньше она относится к воззрениям Гомера в целом, тем яснее
становится постоянная враждебность философов-досократиков-
к поэтам, основанная на том, что они как бы соревнуются
в борьбе против традиционной религии, ведя ее с различных
сторон и противоположными средствами; их противостояние воз-
никло из соперничества в этом споре. Правда, столь же явно
обнаруживается, что эти философы понимают поэзию толь-
ко как высказывание о мире и мало заботятся о специфике
эстетической сущности, по крайней мере в философском-
плане.
На первый взгляд поражает, что мы не находим такого рода
334
враждебности к искусству, прежде всего к поэзии, у последо-
вательных философов-материалистов. Чем бесспорней и реши«
тельней осуществляется у них дезантропоморфирование (доста-
точно'сравнить атомизм с более или менее мифологизированны-
ми натурфилософскими символами некоторых других досокра-
тиков), тем более очевидно, что они не видят врага ни в искус-
стве, ни в религии, где антропоморфирование является средством
для создания и восприятия бытия, выступающего с претензией
на истинность и действительность, и стараются выразить в по-
нятиях их своеобразие. Для иллюстрации приведем несколько
высказываний Демокрита, который, по-видимому, намеревался
даже сочинить работу о поэзии: «...Демокрит ...говорит, что «му-
зыка есть младшее из искусств», и объясняет это тем, что ее
породила не нужда, но родилась она от развившейся уже роско-
ши».— «Все, что поэт пишет с божественным вдохновением и
святым духом, то весьма прекрасно». — «Гомер, получив в удел
божественный талант, возвел великолепное здание разнообраз-
ных стихов»6. Для Эпикура, этическими воззрениями которого
мы будем заниматься в другом разделе [с. 481 и ел.], характер-
но, что богов он помещает в интермедии, за пределы событий
мира, и тем самым отказывает им в каком бы то ни было вме-
шательстве в явления посюсторонней жизни. Он говорит:
«Бог — вечный и непреходящий, но не заботится ни о чем. Про-
видения и судьбы вообще нет, а все происходит само собой.
Боги живут в промежутках между небесными телами. Они
полны радости и покоятся в высшем блаженстве, не создавая
ничего ни для себя, ни для других»7. В своем раннем произве-
дении, диссертации о Демокрите и Эпикуре, молодой Маркс
дал чрезвычайно интересную и ясную интерпретацию этого
фрагмента: «И все же эти боги не фикция Эпикура. Они сущест-
вовали. Это — пластические боги греческого искусства»*.
В виде краткого дополнения следует еще упомянуть, что
софистам — прежде всего Горгию, — отталкивавшимся от рито-
рики, теория которой и ее применение играли для них решаю-
щую роль, случайно удалось приблизиться к пониманию свое-
образия искусства. Конечно, Горгий рассматривает всю поэзию
еще как «речь в связной форме», как часть риторики; конечно,
поэтому его ироническая полемика против поэзии как «лжи»
имеет судебно-риторический привкус. Но несмотря на это, он
был первым, кто до Аристотеля пролил свет на диалектику эво-
цируемого поэзией «обмана» и тем самым — на специфичность
ее характера: «Трагедия создает видимость исторических собы-
тий и аффектов. Поэт, который создает эту видимость, выполня-
ет свою задачу лучше, чем тот, кому это не удается, и зритель,
который поддается этому обману, является более образован-
ным, чем тот, который ему не поддается»9.
Платоновский отказ от искусства не следует понимать как
продолжение ранее указанной полемики против него; напротив,
335
этот отказ есть ее прямая противоположность (конечно, если
не иметь в виду пифагорейцев или орфиков, которые являются
наиболее древними предшественниками его идеализма), так как
отрицание искусства возникло здесь не из попыток преодоления
религиозного антропоморфизма, как у досократиков: источником
этого отрицания является защита религиозных преданий от
стремлений искусства отражать изменяющуюся действитель-
ность во все новых формах соответственно ее реальным измене-
ниям. В своем завершающем позднем произведении «Законы»
он поэтому выступает против всего развития греческого искус-
ства и прославляет мудрость египтян, которые отбрасывают лю-
бое новшество и искусство которых в течение тысячелетий не
претерпевает никаких изменений. (Речь идет, вполне понятно,
исключительно о философской позиции Платона; верны ли era
рассуждения и в какой мере они отвечают реальному состоянию
египетского искусства, несущественно в плане данного обсужде-
ния.) То, что египтяне раз и навсегда выработали точные пред-
писания для всякой художественной деятельности, Платон рас-
сматривает как «признак выдающегося ума». «Установив, чта
прекрасно, египтяне объявили об этом на священных празднест-
вах и никому — ни живописцам, ни другому кому-то, кто созда-
ет всевозможные изображения, ни вообще тем, кто занят муси-
ческими искусствами, — не дозволено было вводить новшества
и измышлять что-либо иное, не отечественное. Не допускается
это и теперь. Так что если ты обратишь внимание, то найдешь,
что произведения живописи или ваяния, сделанные там десять
тысяч лет назад... ничем не прекраснее и не безобразнее ны-
нешних творений, потому что и те и другие исполнены при по-
мощи одного и того же искусства»10. Тем самым Платон воз-
вращается к принципам, которые мы выявили при обсуждении
генезиса своеобразия искусства, его зарождения из примитив-
ного и недифференцированного комплекса магической практики.
И делает он это для того, .чтобы, с одной стороны, спонтанно и
постоянно устремлять освобожденные от этой практики миме-
тические силы к самораскрытию и достижению самостоятельно-
сти в качестве эстетического полагания; с другой же стороны,
чтобы самой магией — которая каждый момент мимесиса пред-
ставляет как покорение или высвобождение якобы подчиняю-
щихся ей «сил» — именно в целях магического действия каждый
миметический момент был окончательно фиксирован в ка-
честве ритуального [см. т. 2, с. 45]. Своеобразие развития грече-
ской культуры основано на том, что она смогла рано и ради-
кально освободиться от оков магии. В то время как на Востоке
они были закреплены в большинстве случаев как ритуальные,,
либо в виде магических пережитков при переходе к религии,
либо в виде новой религиозной функции. Платон решительна
выступал при этом за магически-религиозную традицию, против
тенденций развития елецифически греческой культуры. Это было
336
окончательной и вполне последовательной кульминацией в раз-
витии платоновской теории искусства.
Уже эта завершающая установка Платона выказывает основ-
ную тенденцию его суждений об искусстве: искусство в том еп>
виде, как оно действительно развивалось в Греции, то есть
искусство, заставлявшее считаться с развивающейся самостоя-
тельностью сферы эстетического, следовало решительно изгнать,
из полиса будущего, который, по Платону, должен формиро-
ваться на новой основе; то, что наряду с этим в платоновской-
системе отводится место идеалистически-трансцендентной, су-
щественно теологизированнои «красоте»; то, что он признает
магически и теологически регулируемое искусство составной-
частью своей социальной педагогики, является вовсе не ослаб-
лением его позиции, а ее конкретизацией. Само собой разумеет-
ся, такой возврат к магической ритуальности мимесиса в евро-
пейском Средиземноморье на этой ступени развития был уже
реакционной утопией. Последующее долгое и значительное влия-
ние платоновской точки зрения относительно места искусства*
в общественно-духовной системе человеческой деятельности осу-
ществляется не столько по линии последовательного радикализ-
ма самого Платона, сколько исходит от неоплатонизма, и преж-
де всего от Плотина, модифицировавшего и смягчившего взгля-
ды Платона в соответствии с реальными отношениями. Об этом-
уже шла речь выше [см. т. 1, с. 125 и ел.; т. 4, с. 255 и ел.],
и в первую очередь об изменении оценки эстетического отраже-
ния. Из этого следует, согласно неоплатонизму, что искусство-
как отражение отражений мира идей не является чем-то безус-
ловно неполноценным и неприемлемым, а может достигать боль-
шого значения, если оно служит отражению человеком транс-
цендентного, и, значит, пытается — подобно познанию — совер-
шить восхождение в мир идей. С помощью такого смещения:
акцента искусство сохранило свою ценность для теологии, а эта
теория в ее опосредованное™ гносисом стала в тот период ре-
шающей для христианского понимания искусства, конечно с не-
которыми модификациями.
Бесспорно, Платон гораздо логичнее, чем его неоплатонист-
ские последователи. Но если рассматривать его теорию как:
таковую, а не ее следствия, то оказывается, что она — несмотря^
на противоположность главного направления — в некоторых оп-
ределенных пунктах все же примыкает к теории его предшест-
венников. В платоновском отбрасывании эстетического отраже-
ния сохраняется как раз определенный элемент борьбы за де-
зантропоморфизацию картины мира, что вытекает из отношения'
Платона к математике, и в том числе — к геометрии. Так, в от-
меченной нами общей его борьбе против искусства сюда отно-
сятся прежде всего рассуждения об объективности меры, кото-
рая, по его мнению, фальсифицируется искусством, поскольку
оно задерживается на явлениях, искаженно воспроизводя су-
22-805
337
щее-в-себе обстоятельство. Сюда же относится и тот мотив,
который возникает уже в «Ионе»: поэты, утверждает Платон,
-всегда пишут о жизненных обстоятельствах, в которых они ни-
чего не понимают, тогда как в искусстве отражение действи-
тельности— рассматриваемое философски — должно точно соот-
ветствовать научному в любом отношении: на уровне взаимосвязи
между явлением и сущностью, содержанием и формой и т. п. Все
это естественно встраивается в специфическую платоновскую тео-
рию познания, в соответствии с которой каждый эмпирически
существующий предмет является только отражением своего ори-
гинала из мира идей. Однако, в то время как научное отраже-
ние движется вверх, к настоящим образцам, в искусстве возни-
кает презренное отражение отражений. В «Государстве» эта
иерархия разъясняется путем противопоставления богу — творцу
идей — создателя вещей (например, плотника), à этому послед-
нему— чистого подражателя (живописца). Критический накал
достигает высшей точки в этическом осуждении содержания ис-
кусства, которое превозносит страсть как образец в противопо-
ложность этическому идеалу разумного и спокойного располо-
жения духа; но как же можно, вопрошает Платон, почитать и
восхвалять в искусстве то, чего в жизни мы должны стыдиться!11
Итак, сама специфика эстетического полагания как таковая тео-
ретически отвергается Платоном; правда, некоторые ранние его
произведения обнаруживают высокие художественные качества,
что делает парадоксальным смысл платоновской философии ис-
кусства и превращает ее в проблему истории философии, что,
однако, не ведет к исключению ее из истории эстетической мыс-
ли или к компромиссному смягчению.
В этом плане чрезвычайно важно, что между Платоном и
-неоплатонизмом стоит Аристотель, истинный первооткрыватель
своеобразия эстетического. Эпохальное значение его определе-
ний уже обсуждалось здесь в различной связи; прежде всего
тот факт, что он выявил отличие эстетического отражения как от
самой жизни, так и от ее научного отражения, а также и его
отношение ко всей совокупности человеческой практики и к эти-
ке. Открытое им своеобразие эстетического полагания как
утверждения самостоятельности искусства не является поэтому
ни внеэтическим, ни антиэтическим, только лишь место плато-
новских отношений между образцами — достаточно механисти-
ческих — занимает сложная диалектика катарсиса. И если
Аристотель оспаривает трансцендентность учения об идеях Пла-
тона с точки зрения теории познания, то как противовес теоло-
гической трансцендентности этики он выдвигает катарсис: с по-
мощью катарсиса образное воплощение человеческих судеб про-
буждает собственные силы каждого человека, с тем чтобы он
•с их, и только с их, помощью стремился улучшить свою жизнь
и свою личность. Внутренняя, имманентная, посюсторонняя за-
вершенность художественного произведения, таким образом,
338
служит этой посюсторонней завершенности человеческой души..
Искусство предстает у Аристотеля на этом основании ничуть
не менее общественным, чем у Платона: оно рождено обществом
и вливается в его жизнь; равным образом эстетика Аристотеля
не прибегает к абстрактному противопоставлению индивида и.
общества, как это часто происходит в новое время; причем об-
щественно-педагогическая действенность искусства возникает
здесь из его эстетической самозавершенности, а не из закосте-
нения или снятия собственно художественных принципов, как.
у Платона. Как первооткрыватель своеобразия эстетического,..
Аристотель выводит его сущность из области человеческой по-
сюсторонности путем поисков правильной «середины», средото-
чия всякой человеческой активности.
Это его достижение было полностью воспринято западно-
европейской эстетикой; без Аристотеля было бы, вероятно, не-
мыслимо как возникновение неоплатонистского компромисса
в его сложившемся виде, так и его последующее господство*
в средневековой эстетике. Действенность философии, харак-
тер и формы ее конкретного влияния никогда, однако, не зави-
сят исключительно от ее собственного содержания, и уж
по крайней мере не в первую очередь от него. В плане актуаль-
но-практических требований, диктуемых тенденциями развития*
того или иного времени, — это только сырье — конечно, уже
определенным образом оформленное, — которое обрабатывается
соответственно формирующимся потребностям. Так, эстетика
Аристотеля выступала в течение почти тысячелетия в своем1
ослабленном, а затем даже в искаженном виде, и тот «автори-
тет», которым она в этом своем качестве пользовалась в сред-
ние века, был в течение долгого времени интеллектуальным, И'
прежде всего эмоциональным, препятствием для понимания
того, что концепция осознанно посюстороннего искусства необ-
ходимым образом только в ней может найти свое истинное обос-
нование. Большой заслугой Лессинга было то, что он вновь от-
крыл и возродил к жизни подлинный характер аристотелевой
эстетики.
Мы не можем излагать здесь даже в общих чертах ни исто-
рию эстетики, ни историю искусства. Новые, радикально изме-
нившиеся условия (возникновение христианства и завоевание
им господствующего положения) мы также должны учитывать
в ходе нашего анализа как факт мировой истории, не имея
возможности исторически или систематически анализировать их
генезис, развитие и т. д. Следует лишь кратко охарактеризовать
точку зрения, вызывающую множество недоразумений. Истори-
ки искусства, такие, как Воррингер, Шелтема и другие, пытают-
ся противопоставить античному искусству не христианское,.
а северное, германское искусство. Детальная полемика
в рамках данной работы не представляется возможной, так как
она должна, во-первых, принимать во внимание переходные
22*
339
•формы искусства, возникшие на почве эллинистически-поздне-
римской культуры, развившейся на базе тогдашних экономиче-
ских переходных форм, которые привели к ликвидации рабовла-
дельческого хозяйства; во-вторых, подробнее рассмотреть во-
прос о том, как в ходе триумфального шествия христианской
.религии на основе культуры античного Средиземноморья воз-
никла европейская культура. Ни то, ни другое обсуждать здесь
;нет ни возможности, ни необходимости. К первому вопросу это
относится потому, что он — при философском, а не чисто исто-
рическом изложении — охватывает только наиболее общую,
всемирно-исторической значимости типологию, поэтому значи-
тельные проблемы перехода должны разрабатываться в исто-
рико-материалистической части. Второй вопрос, касающийся
включения северных народов в новую, христианскую культу-
ру, естественно, рассматривает также участие их изначальных
традиций в становлении новой культуры. Однако если — как
мы это здесь и делаем — внимание направляется только на об-
щетипологические проблемы, то следует считать установленным,
с одной стороны, что духовный базис этой культуры образует
христианство, возникшее на почве эллинистически-римско-пере-
днеазиатской культуры; с другой стороны, что центр тяжести
постепенно перемещается на север, особенно ко времени кризиса
средневекового образа жизни и мировоззрения. Но народы, ко-
торые взяли на себя тогда ведущую роль — задолго до того
самостоятельно добившиеся признания, — давно не представ-
.ляли более древнегерманского мировоззрения; они претерпели
радикальное преобразование в своей глубочайшей сущности
■благодаря новым формам жизни и сформированным ими новым
^культурным течениям. Однако при этом никоим образом не сле-
дует недооценивать вновь возникшие национальные особенности.
Напротив, существенно новым моментом средневекового разви-
тия было как раз образование национальных культур, едва ли
известных ранее в таком объеме и в таком качестве. Вместе
с тем было бы ошибочным недооценивать решающую силу хри-
стианства, выросшего на почве античности, и выводить новые
культуры непосредственно из древнегерманских преданий. (О ви-
зантийской культуре как культуре совершенно другого рода
речь здесь может идти лишь вскользь.)
Обобщение важнейших моментов этого развития может иметь
место, естественно, только по отношению к искусству. Оно дает
картину прочного общественного базиса искусства, его широких
возможностей при решении различных социальных задач, кото-
рые близки по богатству содержания задачам греческого искус-
ства, основанного на мифах. Конечно, здесь мы видим и теоло-
гическое упорядочивание этого материального базиса, которое
греческой культуре в значительной степени было неизвестно.
-Однако на Западе (Византия шла другим путем, более близким
Востоку) постепенно побеждала относительно большая гибкость
S40
как результат непрерывной партизанской борьбы искусства
с религией, то есть при относительно жесткой связанности ико-
нографией вначале наблюдалась все усиливающаяся эстетиче-
ская свобода формальных средств выражения, уже перед Ренес-
сансом превратившихся из иконографически-тематических пред-
писаний в требующую художественного решения задачу. В ходе
поступательного развития действующих в этом направлении сил,
общественной основой которого был рост буржуазии, ее эконо-
мического и идеологического влияния уже внутри феодального
общества, круг мифов христианства постепенно обретал столь
же плодотворную роль для развития искусства, как и мифы вре-
мен античности. Библия и священные легенды стали мифологи-
ческой основой нового искусства, его неизменным и в то же
время безгранично изменчивым, неистощимым источником, по-
добным тому, каким был, например, Гомер для древних. Общим
для них является то, что они передают неисчерпаемо богатый
фольклорный материал, который, с одной стороны, охватывает
весь возможный круг жизни человека — от идиллии до глубо-
чайших трагических конфликтов, — представляя его в чувствен-
но-наглядной форме, именно поэтому допускающей различного
рода истолкования; так, например, греческие трагики могли
широко, порой контрастно интерпретировать микенский или фе-
баистский эпический цикл; таково же отношение и христианско-
го искусства к мифам: от сотворения мира до Страшного суда.
С другой стороны, всякая художественная обработка может
всегда принимать в расчет как чувственно-наглядные свойства
материала, так и общеизвестность его содержания. Это делает
содержание искусства само собой разумеющимся, сообщает ему
очевидность непосредственного явления, придает композиции
удачную и плодотворную связность, не снимая тем самым жи-
вого своеобразия и свободы отдельных произведений в их инди-
видуальности, ибо иконографически-определенная тематика поз-
воляет создавать композиции различного рода, в соответствии
с различными духовными целеполаганиями, и при художест-
венно верном решении проблемы содержание придает формам
непосредственно очевидную необходимость, недостижимую вне
подобной содержательной фиксированное™. Абстрактность и
внечувственность исполнения, наносящая ущерб монотеизму
в его противопоставленности античному политеизму, снимается
вследствие очеловечивания Христа, разнообразия драматиче-
ского содержания его человеческой жизни, вследствие широты
иерархической лестницы апостолов, святых и т. д., также
постоянно переинтерпретируемой в границах человеческой
сферы.
Таким образом, очевидно, что мифологическая основа хрис«
тианского искусства самого по себе не была менее благоприят-
ной, чем таковая же во времена античности, для его собствен-
ных устремлений к эстетической образности. (Заметим лишь
341
вскользь, что античная мифология относительно более рано на^
чинает выступать в роли материала.) Конечно, здесь должна
быть подчеркнута в качестве важнейшего различия между
античностью и средневековьем уже упоминавшаяся ранее веду-
щая и направляющая роль церкви, в то время как в Греции,
искусство само определяло свое содержание и формы, разумеет-
ся на основе того или иного социального задания. Именно-
вследствие этого в средние века возникло конкретное простран-
ство, поле действия для той борьбы за освобождение, за само-
детерминированность искусства, которая — как мы увидим —
столь характерна для этой культуры. В сфере влияния восточ-
ной церкви, где иконографические установления все шире пред-
писывали жесткие законы для конкретного художественного
формообразования, развитие искусства по преимуществу не вы-
ходило из русла аллегоричности, в то время как на Западе из
этой освободительной борьбы искусства против религиозно-цер-
ковного регулирования вырос реализм символического способа
изображения, разумеется долгое время существовавший при
сохранении иконографической связанности. (О принципиальной
противоположности аллегории и символа будет идти речь в сле-
дующем разделе этой главы.) На Западе эта ведущая роль
церкви с самого начала имела свои границы, которые возникли
из ее собственных целевых установок. Социальная система фео-
дализма должна была изначально опираться на более широкие
слои населения, чем культура классического полиса, строившая-
ся на основе рабства. Эти слои в феодальном обществе были
гораздо более необразованными и неграмотными, нежели те,,
которые определяли социальную заданность искусства антич-
ности, к которым оно апеллировало. Таким образом, искусство-
как чувственная интерпретация мифологических основ религии
должно было модифицировать свои целевые установки в соот-
ветствии с новыми общественными задачами. Следствием этога
было прежде всего то, что в положении социально ведущих
искусств возникли значительные изменения. Для античности ре-
шающим искусством была литература, — несмотря на исключи-
тельное художественное совершенство пластики; Гомер, Гесиод>.
Пиндар, трагики переводили на общедоступный язык изменения
в общественном бытии и общественном сознании с помощью
художественной трансформации мифов. (Обсуждавшаяся уже
полемика ранних философов с Гомером [с. 333 и ел.] является:
важным свидетельством этого положения.) В противополож-
ность этому в средневековье только Данте может считаться фи-
гурой подобной значимости, и в своем всемирно-историческом*
развитии литература после него движется — во главе с изобра-
зительными искусствами — уже по линии буржуазной секуляри-
зации искусства, но как раз поэтому она должна отказаться or
той массовой основы (Боккаччо и новелла), на которой форми-
ровались изобразительные искусства. Перед изобразительными
342
искусствами, которые богословская литература стремилась рас-
сматривать только как украшение божьего дома, с самого нача-
ла^было поставлено социальное задание, сформулированное па-
пой Григорием Великим: его произведения должны быть вы-
ставлены в церквах именно для наставления необразованных.
«Картина используется в церкви для того, чтобы те, кто не зна-
ет грамоты, читали по крайней мере на стенах путем созерца-
ния то, что они не могут читать в книгах». Требование, чтобы
изобразительное искусство было иллюстрированным наставле-
нием, своего рода книгой с картинками для неграмотных, попу-
ляризирующей мифологические основы религии, служило ре-
шающим социальным заказом для тех, кто творил в период рас-
цвета феодализма12. Конечно, это требование было выдвинуто
задолго до возникновения и укрепления феодализма как общест-
венной формации, еще во времена разложения рабовладельче-
ского хозяйства. Но так как нас интересует здесь идеологиче-
ское развитие церкви и искусства, то мы можем отказаться от
анализа влияния, оказываемого изменением общественных основ
на идеологию.
Обретение значимости этим социальным заданием и его дли-
тельное сохранение в неизменном виде было результатом дол-
гой борьбы, шедшей с переменным успехом. Здесь, естественно,
невозможно исторически проследить большое влияние этого
авторитарно сформулированного социального заказа. Сошлемся
лишь на остроумное замечание Лихтенберга: «Резные изображе-
ния святых совершили в мире больше дел, чем сами святые
при жизни»13. Само собой разумеется, что угнетенная, борю-
щаяся церковь выступала против установленного государством
почитания изображений императоров и т. д. Но и по поводу
отображения христианских тем в искусстве существовали резкие
различия мнений. Климент Александрийский, ссылаясь на зап-
рет во второй книге Моисеевой, выступал против изображения
бога и сверхъестественных вещей. Эти разногласия касались не
только тематики, но также и изобразительных средств искус-
ства, его центральной установки при воплощении предметов
объективной реальности. Дворжак замечает по этому поводу,
что отображающий (он говорит: «натуралистический») харак-
тер античных изображений авторитетами этого времени откло-
нялся, «так как истинный образ бога следует искать не в подра-
жании земному, а в человеческой душе». Перед искусством это
ставит проблему аллегоричности, ибо подобным изображениям
предписывалось иметь конечное содержание, трансцендирующее
чувственное отображение14.
В острой форме, но именно поэтому весьма наглядно, эта
последовательно религиозная, спиритуалистически-трансцендент-
ная тенденция выступает у Тертуллиана. Он тоже ссылается
на заповеди Моисея, выводя из них религиозную необходимость
отвергать всякое изобразительное искусство: «Дьявол ввел
343
в мир фабрикантов статуй, изображений и всякого рода приз-
раков...» Изготовление и почитание изображений — и не только>
в человеческом образе — является греховным для христианина.
В высшей степени интересно, как он в своем сочинении о зре-
лищах выступает против всякого катарсиса. Таким образом,,
очевидно, что термин «натурализм», имеющий широкое хожде-
ние у историков искусства, в его интерпретации у Дворжака вво-
дит в заблуждение; речь идет о чем-то гораздо большем: об
отречении от катарсиса, то есть от центральной категории мо-
рального воздействия искусства на человека в период расцвета
античности и (эту проблему мы подробно рассматривали в дру-
гой связи (см. т. 2, с. 424 и ел.]) в определенном смысле от цент-
ральной категории художественного воздействия вообще. Тер-
туллиан писал о посетителях зрелищ: «Они скорбят о несчастий-
других, радуются о счастии других же: все, чего они желают,
все, что клянут, до них не касается. Пристрастие их суетно»
ненависть несправедлива».
Тертуллиан видит в этом непристойность; на замечание, что
и бог является зрителем, он возражает: да, конечно, как судья„
а не как обвиняемый. Он «не помилует» актера, «представляю-
щего из себя влюбленного или гневливого человека, проливаю-
щего лживые слезы или испускающего ложные вздохи»15. В не-
которых аргументах Тертуллиан доходит до прямых обвинений
искусства во «лжи», присоединяясь тем самым к многоголосо-
му хору его порицателей, звучащему в течение тысячелетий;
но существо нападок Тертуллиана на искусство много сложнее.
Ибо отрицание катарсиса, интенсивного участия не в собствен-
ных, не в «действительных» радостях и страданиях не «действи-
тельного» человека приобретает свой подлинно религиозный
смысл только тогда, когда становится понятно, что вера требует
от человека сосредоточенности на спасении собственной души,,
исключающей все иные помыслы, то есть концентрации на по-
тусторонней судьбе собственной партикулярной личности. Поз-
же мы подробнее проследим в этой связи основополагающую
специфику религиозности: любовь, сочувствие и т. д. могут
быть вполне религиозными добродетелями; они могут даже за-
нимать в религиозной морали важное место, но неизменно стоят
на службе главной задачи: спасения души. Отбрасывание Тер-
туллианом участия к чужим, «ненастоящим» — художественно-
воплощенным — людям и судьбам исходит из существа его эсте-
тической установки, из принципиального господства особенного,,
типичного над частным. Мы видим, что именно такое преодоле-
ние той точки зрения на жизнь, которая заставляет задержи-
ваться на частностях, образует существенный момент катарсиса
как всеобщей категории эстетики, и именно на этом пути воз-
никает глубокая связь между подлинной (посюсторонней) эти-
кой и подлинным (посюсторонним) искусством.
Тот факт, что со времен Константина христианство стало
344
государственной религией, во многом принципиально меняет си-
туацию. Дворжак с большой решительностью указывает на то,
что аллегорические изображения времен катакомб сменились
реалистическими, более приближенными к античному искусству.
Тем самым — конечно, только для Запада — были заложены
основы того развития, на общие симптомы которого мы уже
указывали и конкретным самораскрытием которого мы еще бу-
дем подробно заниматься. Первым большим взрывом сосредото-
ченных здесь противоречий является длительная борьба между
иконоборцами и их противниками, которая бушевала главным
образом в Византии, но волны которой докатились и до Запада.
На первом плане стоит — как постоянный момент религиозного
развития в Европе — попытка удалить остатки магии, которые
существуют в христианстве и неизменно вновь проникают в него.
Характерно, что изображения при этом ставятся на одну доску
с мощами, талисманами и т. п. Самим изображениям также
приписывалась чудодейственная сила, например защита от де-
монов, избавление от физических недостатков и т. д.; повсе-
местное распространение получает вера в то, что силы подлин-
ника (спасителя, ангела, святого) остаются действенными и
в его отражении, что этот подлинник испытывает все то и сопри-
частен всему тому, что выпадает на долю изображения16. Маги-
ческий характер таких воззрений, конечно, не нуждается ни
в каком дальнейшем доказательстве. Бунт против христиан-
ства, в большой степени пронизанного магией, стремление очис-
тить религию от остатков магии, идеологически восходят отчас-
ти к периоду становления христианства; частично здесь сказы-
вается влияние магометанства, где с самого начала, как и
в иудействе, изображение божественного всегда было под стро-
жайшим запретом. Идеология иконоборчества приобретает
в этих условиях аскетически-спиритуалистический характер, ис-
ключающий все посюсторонне-человеческое. Епископ Астерий
Амасийский так говорит в одной из своих проповедей: «Не ри-
суйте Христа; для него достаточно одного унизительного пре-
вращения в человека, которому он подвергся добровольно ради
нас»17. Конечно, чтобы правильно оценить в этой борьбе поло-
жение искусства, нужно учитывать, что иконоборцы выступали
против изображения человека лишь в религиозном искусстве.
Подобно тому как запрет на изображения у магометан не ста-
вил никаких препятствий на пути пышного расцвета геометриче-
ской и аллегорической орнаментики, даже активно требовал
ее, так и византийское иконоборчество не было направлено про-
тив светского искусства; здесь расцветает не только орнаменти-
ка, но также и светская живопись (пейзажи, изображения жи-
вотных и т. п.)18.
Противники иконоборчества, в конце концов одержавшие по-
беду, практически опирались, конечно, на глубоко укоренившие-
ся предания времен магической веры в чудеса, теоретически же
345
свою точку зрения их главные идеологи обосновывали пример-
но следующим образом: «Все материальное подлежит изображе-
нию в живописи. Раз Христос вступил в этот материальный
мир... то и он подлежит с необходимостью внешнему описанию...
Христос изображается, принимая во внимание его личность, без
оглядки на то, что он имеет двойную природу». Изображение
является «символом, гарантией и видимым выражением таин-
ственного чуда вочеловечения»19. Было бы, однако, непониманием
истинных обстоятельств дела, если бы, исходя из таких теорети-
ческих высказываний, как только что процитированное, мы при-
шли к заключению о расцвете реалистической живописи после
победы над иконоборцами. Напротив, в Византии возникает
строжайшим и точнейшим образом регулируемое теологией ис-
кусство, в котором иконографически-теологические предписания
не оставляют никакого простора для развития реалистического-
изображения предметов20. Намечается значительное сближение
с восточным пониманием искусства (конечно, без полного упо-
добления), осуществление тех принципов, которые мы уже об-
суждали на примере поздних работ Платона. Но тем самым
одновременно были отбиты атаки на магические элементы ре-
лигии. Такое решение проблемы, конечно, выходит далеко за
рамки признания и отрицания изображений. Оно концентрирует-
ся на вопросе о том, можно ли вообще, и до какой степени,,
определить и удержать чисто этически связь человеческого
с абсолютно-трансцендентным (в религии — с богом), основан-
ную только на вере. Если это будет достигнуто, то тогда будет
теологически разрешена общеизвестная историческая противо-
положность между верой и знанием. Однако пока сохранялась
вера в то, что определенные человеческие действия (крещение,
причастие, молитва и т. п.)—содержательно или вполне фор-
мально, путем их ритуального воспроизведения, — могут оказы-
вать прямое влияние на трансцендентные явления (само собой
разумеется, в их отнесенности к земному благополучию или
к потустороннему спасению частной личности), проникновение
магических тенденций в тогдашнюю религию было неудержи-
мым. Магическая действенность образного воплощения принад-
лежала к этому комплексу. И история религий фактически под-
тверждает неизбежность этого процесса. С этой борьбой тесна
связано отношение искусства к религии. То, что у Платона
являлось социально-педагогической тенденцией к образованию
и определением искусства, само собой превращается в полума-
гический или полностью магический ритуал. Но и там, где, как
это было на Западе, церковная иконография все-таки давала
простор для свободной художественной формы, можно указать
на бесчисленные случаи, когда определенным изображениям
приписывалась такая чудодейственная (магическая) сила. Осо-
бое положение феодального искусства на Западе состоит лишь
в том, что социальное задание, сформулированное для него Гри-
346
торием Великим, не связывало механически религиозно-церков-
ное значение изобразительных искусств с их ритуально обосно-
ванным магическим действием, тем самым невольно освобождая
путь для эстетического развития. Магическое почитание изобра-
жений сохраняется здесь как момент случайности, что не меша-
ет частым его проявлениям вплоть до наших дней.
Попытка очистить религию от ее магических пережитков
достигла новой, более значительной и углубленной обостренно-
сти в период реформации. И здесь, конечно, нашей задачей не
может быть обсуждение историко-религиозных и догматических
-проблем. Но вполне очевидно, что, начиная с выступлений Лю-
тера против продажи индульгенций — через новую концепцию
причастия — до попытки анабаптистов, не вышедшей за рамки
секты, превратить крещение из магического в этический по
своей сущности акт, решительные стремления реформаторов
были направлены на очищение религии от ее традиционных ма-
гических элементов. Нас при этом, естественно, прежде всего
интересует религиозная точка зрения на изображения. Тут сра-
зу же следует заметить, что указанные иконоборческие тенден-
ции (Карлштадт) никогда не выливались в официальное, гос-
подствующее направление реформации. Как и во всех других
областях, наиболее радикальную позицию занимал в этом во-
просе Кальвин. Он решительно отклонял обоснованный Григо-
рием Великим социальный заказ религиозному искусству, оспа-
ривал его педагогическое воздействие, объявляя то, чему чело-
век мог бы научиться по картинам фривольным, даже ложным;
представлять бога с помощью изображений — это значит
осквернять его славу21. Он отбрасывает, так же как и идолопок-
лонство, всякое приписывание изображениям божеских доброде-
телей. Поэтому он не признает в церквах никаких изображе-
ний22. Но это радикальное отбрасывание изобразительных ис-
кусств касается, по Кальвину, только их отношения к божествен-
ной, религиозной жизни. Живопись и скульптура имеют в его
глазах оправдание, когда их предметами являются вещи, до-
ступные зрению, когда они служат удовольствию человека2,3.
В целом живопись и пластика, то есть все изобразительные ис-
кусства, тем самым объявляются безразличными религии и
принципиально свободными от нее. Кризис феодальной системы,
идеологическими последствиями которого в отношениях религии
с искусством мы еще будем подробно заниматься, приводит
в этом плане к полному упразднению средневековой зависимо-
сти искусства от религии, к признанию его светскости.
Точки зрения Лютера и Цвингли в принципиальных вопро-
сах далеко не столь однозначны, как у Кальвина, но в своей
основной направленности они очень схожи. Лютер обращается
к интересующей нас проблеме прежде всего в проповеди-воззва-
нии, направленной против иконоборчества Карлштадта. Он тоже
Считает создание художественных изображений безразличным
347
для религии; но и само по себе уничтожение икон допустимо,
не возбраняется: «...Мы могли бы их иметь или не иметь, и,
конечно, было бы лучше, если бы мы их совсем не имели». За-
прещено только обращать к ним молитвы, но не создавать их.
Так, апостол Павел читал в Афинах проповедь против идоло-
поклонства, а не за уничтожение икон, так как никакое внешнее
изображение не может повредить вере. Лютер борется также
против злоупотребления изображениями, прежде всего против
возникающего из преклонения перед ними (пожертвования.^
дары, приносимые иконам) опасного заблуждения относительна
заслуг произведения24. Цвингли вообще считал, что иконы —
это подлинная мерзость перед очами божьими. Но категори-
чески он запрещал только изображения бога; он считал, что
изображения должны быть удалены из церквей, так как созда-
ют опасность поклонения им; в других же местах, то есть
в светских домах, они вполне допустимы25. Из этих немногих
замечаний становится совершенно ясно, сколь мало враждеб-
ность к иконам в период реформации была направлена против
искусства вообще в своем стремлении искоренить исключитель-
но остатки магического в христианстве. Католическая писатель-
ница Энрика фон Гандель-Мазетти достаточно наглядно описы-
вает в романе «Иисус и Мария» эту ситуацию. Среди тех pro et
contra в ходе событий, развертывающихся вокруг чудотворной
иконы Марии, эстетические свойства ее играют роль лишь по-
стольку, поскольку отвращение гуманистически воспитанных
дворян-протестантов вызывают не только магические суеверия
в отношении к иконе, но также и ее чудовищная антихудожест-
венность, в то время как у молящихся католических крестьян
отсутствует даже подозрение о том, что подобные святые пред-
меты должны обладать эстетическими свойствами.
Между этими двумя периодами иконоборчества мы наблюда-
ем расцвет средневекового искусства. При этом легко может по-
казаться, будто освобождение искусства от служения религии
не было столь уж необходимым, будто именно эта связанность
искусства дала силу для его грандиозного взлета, а негативным
подтверждением этого служит тот факт, что разрыв таких свя-
зей повлек за собой ряд глубоких проблем, и потому — как
утверждают до сих пор теоретики и историки, примыкающие
к романтизму, — подлинных своих вершин искусство могло до-
стичь только на основе внутренней связи с религией, мировоз-
зренчески-художественного подчинения ее требованиям. (Ко-
нечно, речь идет при этом только об изобразительном искусстве;
развитие литературы или музыки протекает совершенно по-дру-
гому; но мы думаем, что принципиальное отношение искусства
и религии выступает именно здесь нагляднейшим образом.)
И сколь бы решительно ни отвергался нами этот многосторон-
ний, получивший громкую известность и подхваченный многими
теоретиками тезис, — верно в нем лишь то, что здесь скрыта
348
реальная проблема. Мы уже отмечали [с. 343], что в средневе-
ковом искусстве социальная заданность искусства сама по себе
выступает отчетливее и конкретнее, чем это было возможно
в более позднее время. Одновременно она обладает в этот пе-
риод— по крайней мере на Западе в противоположность Восто-
ку и Византии — гибкостью, сделавшей возможным плодотвор-
ное и конкретно-свободное его развитие. Возникает — на более
широкой, более демократической основе [с. 340 и ел.]—нечто
аналогичное классической античности: кажущаяся неисчерпае-
мой фольклорная основа мифов, все значительные персонаж»
и ситуации которых обрисованы чувственно-наглядно, но в соот-
ветствии с лаконизмом народных преданий крайне скупыми
штрихами, не только допускающими поэтому различные истол-
кования, но и прямо предполагающими их; и хотя каждое из их
действующих лиц становится известным широким массам толь-
ко из таких изображений, но поскольку эти мифы образуют
фундаментальную составную часть всей господствующей хри-
стианской культуры и поэтому так или иначе популяризируют-
ся— например, в проповедях и т. п., — они все же не противо-
стоят человеку как чуждая ему тематика, разгадываемая лишь
путем мыслительной работы. Такой материал чрезвычайно бла-
годатен для художественной обработки, так как для него ха-
рактерна плодотворно противоречивая «биполярность»: хороша
знакомое содержание в своем постоянном возрождении образу-
ет уже нечто вещественное, чувственно причастное миру, миро-
созидающее концентрированное отражение того, что в самой
действительности сущностно значимо для людей, для человече-
ского рода, что сохраняется неизменным во всех своих новых
воплощениях. Мир форм, составляющий собственно сферу худо-
жественного, неотделим при таком положении дел даже отно-
сительно от оформленного материала: композиция и в целом, в
в деталях выступает при этом как способ проявления и осозна-
ния действующей взаимосвязи между материалом и требования-
ми дня, его укоренения в важнейших проблемах человеческого
рода, наглядного воплощения важнейших и всеобщих проблем'
человечества в ясно и просто изображенных судьбах конкрет-
ных людей.
Это органически сформировавшееся, принимаемое как нечто
само собой разумеющееся единство непосредственно очевидного
и духовно значимого может ставить перед искусством только
такое социальное задание, которое опирается на всеми приз-
нанную основу и лишь путем ее опосредования может быть об-
ращено к художникам, а через них — к воспринимающим их
произведения массам. Своеобразие развития средневекового
искусства обусловлено, следовательно, этой специфичностью его
социального задания. В то время как в античной Греции отсут-
ствие касты духовенства создавало основу для такого рода
истинно художественно — то есть содержательно — связанной
349*
с мифами, а формально свободной (определяемой тем или иным
социальным заказом) их интерпретации, — в феодальном обще-
стве подобное же благоприятное положение складывается вслед-
ствие расширения границ для истолкования иконографически
четко зафиксированного содержания мифов, ставшего возмож-
ным в силу постоянно растущего значения городской буржуазии.
Романтически настроенные теоретики и историки искусства,
таким образом, правы, когда они констатируют наличие этих
особо благоприятных условий, а также указывают на пробле-
мы, возникающие с прекращением их действия; но они оши-
баются, когда это историческое исключение хотят представить
всеобщей нормой и тем более когда они делают из этого вывод
о постоянном позитивном влиянии религии на искусство.
Мы увидим, что, напротив, это неповторимо своеобразное благо-
приятное воздействие возникает из-за того, что церковь вынуж-
дена предоставлять все большую свободу эстетически самостоя-
тельной активности искусства. Если в античности важнейшим
фактором развития искусства было отсутствие теологического
регулирования, то во времена средневековья в этой роли высту-
пала сила того противодействия, которая была в состоянии
использовать в эстетических целях эту иконографическую обус-
ловленность и обходить теологическое руководство или прене-
брегать им. Таким образом, благоприятность обстоятельств
основана здесь не на власти религии, а на силе освободитель-
ной борьбы искусства против нее.
Речь идет о том, чтобы философски подробнее описать эту
• освободительную борьбу эстетического. Некоторые контуры ее
социальных основ мы уже наметили: постоянно растущее влия-
ние буржуазии в рамках феодального общества2,6. Если бур-
жуазия укрепляла свои позиции настолько, что оказывалась
;в состоянии разорвать рамки феодализма, пусть даже вслед-
ствие этого сначала возникала только компромиссная переход-
ная форма абсолютной монархии, то это специфическое разви-
тие прекращалось; возникал кризис, который мы также будем
анализировать ниже как важный этап этого процесса. Главная
линия развития исследуемого нами периода ведет от теологиче-
ской иерархии в направлении к равенству людей, от трансцен-
дентности потустороннего к посюсторонности, к признанию
самоценности ориентированного на самого себя человека. В ли-
тературе этот новый поворот выступает относительно рано и
в сравнительно открытой форме, например в Италии — от Бок-
каччо до Ариосто. Теоретически он проявляется сначала преи-
мущественно на религиозной почве как мистическое, церковно-
: реформаторское или еретическое движение. Так, мистические
требования непосредственного отношения к богу у Майстера
Экхарта означают по существу элиминирование, разрушение
щерковно-теологической иерархии феодализма, гипостазирован-
ной до сферы потусторонности; сюда же относятся и религиозные
:350
утопии, такие, как представление о третьем царстве, царстве-
святого духа у Иоахима Флорского. В области изобразительных
искусств эти тенденции концентрируются на разрыве с аллего-
ризованной иконографией, хотя в тематическом плане изобра-
жаемый материал не претерпел никаких изменений (предания1
Ветхого и Нового завета, жития святых, в том числе также но-
вые— например, житие Франциска Ассизского и т. п.).
Революционным было изображение человека или человече-
ских групп только предметными средствами искусства, перено-
сящими религиозные мифы как основу этих изображений в зем^
ную сферу, выявляющими то их ядро, ту их суть, которая может
служить значимой характеристикой важного этапа в развитии:)
человеческого рода, — одним словом, вновь возвращающими на
землю человеческие ситуации и человеческие типы, составляв-
шие содержание религиозных мифов, религиозно истолкованного-
фольклора. Такие тенденции выступают очень рано, еще в пе-
риод господства романского стиля; достаточно вспомнить от-
дельные скульптуры соборов Шартра, Реймса, Бамберга, Наум-
бурга и т. д., а также работы Никколо Пизано; эта борьба не
прекращается и в готике, даже становится порой еще решитель-
нее и интенсивнее. Однако не случайно, что решающий поворот
повсеместно связывают с именем Джотто. Эти тенденции вы-
ступают у него с детальнейшей систематичностью, они устрем-
лены на то, чтобы возвысить эстетическое отражение человече-
ской жизни в ее завершенной целостности, сделать ее исключи-
тельным предметом искусства. Искусствоведческие споры о том,,
можно ли говорить о связи Джотто с существовавшей тогда
византийской иконографией или следует признать его внутрен-
не независимым от нее, столь же несущественны для нас в дан-
ном случае, как и выявление, к примеру, средневековых мотивов^
и т. п. у Рабле или Сервантеса. Творчество каждого художника,
необходимым образом соотнесено с течениями в искусстве, дей-
ствующими при его появлении; в художественном плане при;
этом намного важнее не то, «откуда» исходит его путь, но то,,
«куда» он направлен, и именно решительность и последователь-
ность в достижении поставленных задач отделяют Джотто не-
проходимой пропастью от всех византийских, религиозно-транс-
цендентных ориентации и связывают его — как первую вершину
на пути восхождения искусства к высотам своей самостоятель-
ности — со всеми его по-земному реалистическими предшествен-
никами романского и готического периодов независимо от того,,
были они известны ему или нет.
Поскольку именно Воррингер является главным теоретиком;
«нордически» антиреалистической сущности средневекового ис-
кусства, его можно считать вполне беспристрастным свидетелем-
того эпохального переворота, который был совершен Джотто.
Воррингер наглядно противопоставляет искусство Джотто искус-
ству современной ему французской миниатюры. Форма ее в ко-
351*
лечном счете всегда неустойчива, в то время как у Джотто
-и других представителей идущего по его стопам итальянского
искусства господствует стабильность композиции и линии. «Оно
никогда, — пишет Воррингер об итальянском искусстве, — не мо-
жет иметь постоянной чувственно-сверхчувственной трансцен-
дентности, подобно французскому. Однако именно развитое
чувство стабильности вещей, прочности их телесного бытия по-
могает итальянцу спасти готику от каллиграфичности. Со своим
пониманием глубочайшей ценности тела и пространства он фор-
мирует субстанцию современного искусства, достигает таких
успехов в своем труде, для которых необходим был более гру-
бый талант, чем французский с его тонким слухом, направлен-
ным только на сущность вещей... Каждое движение руки
у Джотто действует как прорыв в пространственную глубину и
становится объемным переживанием. Италия вновь возвестила
Европе тот факт, что вещи имеют три измерения. Открытие им
телесного мира равнозначно этому его открытию пространствен-
ного мира. Со своим даром четко продуманной композиции он
умеет сообщать этим новым ценностям устойчивую прочность.
Его целью является как анатомия телесного, так и анатомия
пространственного. Тем самым он создает основные предпосыл-
ки для формирования современной системы образности. Он дает
сотическому искусству души тело, готическому искусству ли-
нии — пластический субстрат»27.
Воррингер верно очерчивает общий контур мира форм Джот-
то, и достаточно лишь нескольких замечаний, чтобы также эсте-
тически и философски охарактеризовать то решающее пере-
крестие открывающихся перед искусством дорог, которое он
создал своим творчеством. Предлагаемая Джотто для мира
человечески-драматических явлений живописная форма стоит
ив резкой противоположности к религиозно-аллегорической об-
разной форме с ее декоративной репрезентативностью. Домини-
рующая роль пространственного формообразования, собствен-
ного пространства для каждой отдельной картины преобразует
все такого рода изображения в самостоятельные, замкнутые
-в себе, завершенные продуцированные индивидуальности, живо-
писное содержание которых отныне выходит за рамки всего
лишь убранства внутреннего пространства церкви, иконографи-
чески-декоративного, аллегорического иллюстрирования рели-
гиозных истин, библейских или иных христианских легенд.
В этом чувственно-реальном, конкретно-индивидуализированном
пространстве движутся люди, обладающие подчеркнутой, здо-
ровой телесностью, с драматической напряженностью участвую-
щие в человеческом действии, непосредственно понятном в своей
человечности; они составляют как бы самостоятельные части
.композиционного единства, которое для того и было создано,
чтобы с непосредственной очевидностью эвоцировать впечатле-
ние человеческой сущности участников действия, их человеческих
:352
отношений друг к другу. Из органического соединения подоб-
ных моментов возникает собственная жизнь этих произведений
во всей их индивидуальности: фрагмент действительности, отто-
ченный до совершенства, свойственного только ей одной (како-
вым бы ни было ее иконографически данное содержание),
и сверх этого ни на что более не указывающий. Уже отмечен-
ная нами жизненная полнота и вполне земная весомость обра-
зов Джотто, могучая тяжеловесность их движений придает окон-
чательную завершенность этой их посюсторонности. Некогда
канонизированные события человеческого бытия — в своем со-
держании и в своих границах определяемые тогдашними рели-
гиозными традициями — наполняются здесь совершенно земной
жизнью. Именно потому, что каждая трагедия, каждая драма,
каждая идиллия и т. д. построена из соотнесенных друг с дру-
гом комплексов движений явно земных людей, из их ставших
пластически зримыми отношений друг к другу в пространстве,
обретающем конкретность благодаря этим телам и этим движе-
ниям; именно потому, что конкретно-реальная целостность под-
линно человеческих определений преобразуется в завершенно-
чувственную очевидность; именно потому, что тела и души
отдельных людей, одухотворенность и патетика их движений
составляют нераздельное единство, — именно поэтому может
быть художественно воссоздана такая эстетическая имма-
нентность отображенной искусством посюсторонности человече-
ской жизни.
Объективно выступающие здесь противоречия между эстети-
ческой посюсторонностью и религиозной трансцендентностью
могут как таковые оставаться неосознанными для тех, кто их
творчески выражает, претворяет в образы. В этот период, каза-
лось, всем миром столь всесторонне владеют категории христи-
анства, что обнаруживать себя могли лишь самые ожесточенные
и решительные оппозиционеры, да и то говоря языком против-
ника. Поэтому общим требованием было судить о настроениях
художника по его произведениям, а не наоборот — понимать
произведение, исходя из взглядов его создателя, нередко крайне
ограниченных и анекдотически традиционных. По этой причине
,мы лишь вскользь упоминаем, что все известные нам сведения
о личности Джотто, по-видимому, подтверждают большую или
меньшую осознанность им самим того мировоззренческого анта-
гонизма по отношению к религии, который излучают его про-
изведения. Его канцона о бедности, направленная по существу
против францисканского спиритуализма и прославления бедно-
сти — согласно передаваемому Саккетти анекдоту, — была упо-
мянута в разговоре в связи с тем, что святой Иосиф на его кар-
тинах обычно имеет печальную мину, на что Джотто якобы
заметил, что он имеет все основания для того, чтобы быть пе-
чальным; это и другие подобного рода свидетельства однознач-
но говорят в пользу сказанного28.
23—805
353
Поэтому речь всегда идет лишь о том, обретает ли произ-
ведение свою художественно завершенную форму в земном
или в потустороннем мире. В этом отношении творчество фра
Анджелико представляет, пожалуй, наибольший интерес. При-
ведем лишь некоторые характеристики историков искусства,
стоящих явно не на нашей точке зрения. Так, Дворжак устанав-
ливает у фра Анджелико определенную линию связи, с готиче-
ским искусством, однако только для того, чтобы прийти к вы-
воду, что оба искусства представляют в своих существенных
проявлениях противоположность друг другу: в готике — «бес-
плотная материя», тогда как в произведениях фра Анджели-
ко — «гимн чувственной красоте». Дворжак подчеркивает так-
же, что фра Анджелико не только глубоко изучил природу, но
был «первым из художников эпохи кватроченто, у которого мы
можем обнаружить точное, «портретное» воспроизведение опре-
деленных пейзажей»29. Бернсон пишет о его «Короновании
Марии» (Сан Марко, Флоренция), что композиция фрески «не-
сравненно прекрасна»: «И ко всему этому — наличие осязатель^
ной ценности, которая заставляет нас увериться в реальности рай-
ской сцены, хотя мы и не можем понять до сих пор, как фигуры
могут так стоять, так сидеть и так преклонять колени? Но, по
правде сказать, нам это и неважно!.. Если его чувства связаны
еще со сферой средневековых представлений, то земная радость»
испытываемая им, почти адекватна нашей, так же как адекват-
ны и средства ее художественного выражения». И если Бернсон
говорит далее о ранних произведениях Беноццо Гоццоли, то он
видит в них фра Анджелико, «который забыл о небе». Таким
образом, хотя у фра Анджелико, согласно Бернсону, присутст-
вует религиозное чувство, но источник его субъективен: оно пи-
тается земными впечатлениями и объективируется в отражении
наиболее прекрасных предметов в их очевидной посюсторонно-
сти30.
Именно универсальность католической церкви, кажущаяся
незыблемость ее духовной мощи привели к тому, что всякое
художественное стремление представлялось сливающимся с ней,
ей служащим, независимо от своего действительного объектив-
ного содержания. Так, если непосредственно окинуть взглядом
все художественные творения Джотто, то они предстанут пря-
мым олицетворением требований к искусству Григория Великого.
Это позволяло большей части художников жить в относитель-
ном мире с религией, во всяком случае пока они сами были
убеждены, что они действительно служат ей. Но тот дух, кото-
рым преисполнено большинство их произведений, особенно вы-
дающихся, говорит совсем о другом. Все дальше продвигается
изучение человека не как грешного создания бога, а как хозяи-
на земли; обнаженный человек признается объектом, достойным
созерцания и осмысления. И если анатомия, перспектива и т. д.
становятся средствами такого познания видимого мира, если они
354
в возрастающей степени определяют отношение художника
к этому миру и к его воспроизведению, то иконографически
предписанная тема у менее значительных художников превра-
щается в повод или предлог для экспериментирования, а у бо-
лее крупных — выступает как основание новой, законченно зем-
ной картины мира. Все более широкое — и при этом опять-таки
неосознанное — обращение к античной тематике, делающее хри-
стианский круг мифов всего лишь частью значимых для чело-
вечества сказаний и легенд; все более энергичные требования
земной жизни монументально увековечить отдельные ее прояв-
ления и все более полное удовлетворение этих требований (кон-
ные статуи Коллеони и Гаттамелаты) показывают с возрастаю-
щей отчетливостью, что универсальность христианской формы
жизни, ее тотальное господство над искусством уже начинают
отходить в прошлое, хотя церковь чисто внешне выдержива-
ла еще свою роль абсолютной властительницы духовного бытия.
Нашей задачей не может быть описание этого развития. Оно
оказывается столь непреодолимым, что даже там, где чисто ху-
дожественные тенденции разительно расходятся, как мы это
видим во Флоренции и Венеции, эта ориентация на превраще-
ние религиозной тематики в более или менее внешний повод
для выражения совершенно иного духовного содержания рав-
ным образом становится господствующей; в этом отношении, на-
пример, Рафаэль и Тициан очень близки друг другу. Конечно,
следует считать предрассудком утверждение многих историков
искусства XIX века, что такое движение вело к «чистому» искус-
ству. «Бессодержательность» существует только там, где содер-
жание отождествляется с религиозным содержанием. В «Биче-
вании Христа» Пьеро делла Франческа (Урбино) исторический
скепсис выражен с отчетливостью, весьма близкой Анатолю
Франсу, а так называемые «Три философа» Джорджоне (Вена)
утверждают — согласно остроумному замечанию Буонаюти —
победу нового естественнонаучного способа рассмотрения над
схоластикой и ее арабскими критиками31. Все это относится, ко-
нечно, не только к Италии. Мы не будем здесь говорить о фигу-
ре Христа в «Изенгеймском алтаре», так как она уже свиде-
тельствует о живом предчувствии надвигающегося кризиса от-
ношений между искусством и религией. Вспомним только о фи-
гуре мертвого спасителя у столь вдумчивого реалиста, как Голь-
бейн (Базель). Достоевский в романе «Идиот» заставляет
своего князя Мышкина воскликнуть в глубоком потрясении:
«Да от этой картины у иного еще вера может пропасть».
Нетрудно угадать, почему эта простая картина, реалистически
конкретно изображающая мертвого Христа, вызвала у глубоко
религиозного князя Мышкина такое потрясение: именно под-
черкнутая объективность Гольбейна делает сам факт смерти
чем-то земным, посюсторонним, чем-то окончательным, отвер-
гающим возможность какого-либо трансцендентного перехода,
23*
355
воскрешения, — просто с помощью переданного средствами жи-
вописи присутствия мертвого тела перед глазами зрителя.
Картину Гольбейна можно считать характерным погранич-
ным проявлением новой универсальной мировоззренческой уста-
новки, обусловливающей индивидуально различные способы
отражения внешнего и внутреннего мира человека в его целост-
ности. Уже упоминавшееся растущее проникновение античной
тематики в искусство свидетельствовало о новом понимании
всемирной истории человечества, о выходе за рамки христиан-
ской концепции, подчинявшей всю историю — от грехопадения
до Страшного суда — спасению души частного индивида в сфе-
ре потусторонности. Так, когда Рафаэль сопоставляет в «Стан-
цах» «Диспут», «Афинскую школу» и «Парнас» как символиче-
ские изображения важнейших моментов духовной жизни чело-
веческого рода, то религия сохраняет здесь свое «протокольное»
положение рядом с философией и искусством, но при ближай-
шем рассмотрении легко убедиться, что это чистая видимость:
ощутимо большая внутренняя живость и жизненность послед-
них изображений, особенно «Афинской школы», отчетливо пока-
зывают, в каком направлении смещается теперь главный акцент
социального задания, выполняемого художником. Тольней верно
замечает, что у Микеланджело в первый период его творчества
языческое и христианское не только сосуществуют, но и незамет-
но переходят друг в друга: «В течение первого, античного этапа
христианские и язычески-античные образы как бы взаимозаме-
няются: мадонна становится сивиллой, античный путто — ребен-
ком-Христом. Изображение Страшного суда восходит к мифу
о падении Фаэтона, Христос в роли судьи напоминает Аполло-
на»32. Следует сказать, что это взаимопроникновение антично-
сти и христианства характерно для всего творчества Микеланд-
жело; пророки и сивиллы выполняют в композиции плафона
Сикстинской капеллы равнозначные, взаимоупорядочивающие,
взаимодополняющие функции, как духовные, так и живописные.
У Микеланджело достигает высшей точки могучий порыв, при-
ведший к Ренессансу и все решительнее выдвигающий в центр
всех человеческих интересов самого человека. Микеланджело,
который довел до художественного совершенства изучение обна-
женной натуры, вместе с тем выводил его далеко за пределы
порой уже полунаучного экспериментирования кватроченто;
эстетическое завершение стало также и мировоззренческим.
Таким образом, Бернсон правильно отмечал: «Микеланджело
завершил то, что начал Мазаччо, создал такой образ человека,
который может подчинить себе землю и, кто знает, м-ожет быть,
больше, чем землю»33. Земная посюсторонность изображенного
им мира, конечно, не исключала преисполненности людей глубин-
ным стремлением к избавлению, трагической тоски о бесконеч-
ном. Несмотря на то что поздний период творчества художника
уже совпадал с началом упомянутого нами кризиса, такого рода
356
субъективные стремления, характерные для наглядно деклари-
руемого своеобразия изображаемого субъекта в его, казалось
бы, очевидной ориентированности на трансцендентность, сами
по себе не содержали ничего трансцендентного: все это может
быть в полной мере отнесено к исторической характеристике
данного этапа развития человеческого рода лишь тогда, когда
подобные моменты не только присутствуют в нем, но являются
главными, типическими. Мы можем наблюдать на уровне идил-
лии у фра Анджелико те же черты, что мы замечаем в титаниз-
ме Микеланджело. Зиммель метко схватывает сущность этой
противоречивости образов, мира Микеланджело, когда он гово-
рит: «...Неизмеримая сложность их существования позволяет
включить тоску, как часть их бытия, в самое бытие, так же и
обратно — самое бытие в их тоску. Поскольку это же бытие
есть бытие земное, питаемое из источников сил, лежащих в из-
мерениях протяженного мира, постольку и тоска души обра-
щена, здесь правда, к абсолютному, бесконечному, недостижи-
мому, но, с другой стороны, непосредственному, нетрансцендент-
ному; она внутренне созерцает нечто, хотя на земле и не дейст-
вительное, но все же возможное на ней, созерцает не религиозное
совершенство, но совершенство собственного данного бытия, не
Богом ниспосланное и Судом Его предназначенное избавление,
но судьбу, определенную сплетением мировых сил жизни».
Тоска выливается здесь поэтому в стремление «замкнуть, завер-
шить жизнь в самоё себе»34.
Мы уже неоднократно упоминали о великом кризисе запад-
ной культуры, который в общем плане обозначают терминами
реформации и контрреформации. Решающей силой, вызвавшей
этот кризис, было становление капиталистического хозяйства,
которое подрывало феодализм, принуждало его к экономиче-
ской, а значит, и идеологической, перестройке. То, что эти силы
были еще недостаточно развиты, чтобы осуществить полный
поворот к капитализму, первоначально привело к обострению
кризиса прежде всего потому, что наложило на него отчетливо
выраженный отпечаток бесперспективности; объективно это со-
отношение классовых сил вело к компромиссному разрешению
в абсолютной монархии, несущей с собой временное, мнимо ста-
бильное, а в действительности — крайне неустойчивое равнове-
сие между укрепляющей свои позиции буржуазией и гибнущим
классом феодалов. Для нас здесь, конечно, в первую очередь
интересна идеологическая сторона кризиса, причем не во всей
ее целостности, а лишь в той мере, в какой она имеет отноше-
ние к религии и искусству. Брокмёллер писал о современном
положении религии: «Быть может, в западном мире еще и есть
христианство, но оно уже больше не формирует его»35. Еще
дальше идут некоторые сторонники Карла Барта и те пиетисты,
которые прямо говорили на конференции в Нюборге (в январе
1959 года) о конце Константиновой эпохи в религии. Профессор
357
Буржелен объяснял: «В центре внимания находится тот новый
факт, что отныне христианская церковь как основа социального
порядка стоит под вопросом. В этом смысле Константинов век
кончился»36. Мы не имеем возможности останавливаться здесь
на деталях его выступления, но лишь обращаем внимание на то,
что оно особенно подчеркивает освобождение человека от гос-
подства трансцендентности, его обоснованность имманентностью
хода истории, которому он призван дать истолкование. Само
собой разумеется, что эти формулировки, при всей правильно-
сти отмеченных ими различий, имеют чисто идеологическую
ориентацию. Средневековое общество также формировалось не
христианством, а феодальной экономикой; но оно имело такой
характер, и католическая церковь была столь совершенным при-
способлением к нему, что — как мы видели — фактически все
явления идеологии, включая и оппозиционные, выливались
в форму христианства, вся общественная действительность (го-
сударство, общество и т. д.) обретала по существу христианское
выражение, вся картина мира человека (природа и общество)
казалась полностью согласованной с церковными предписания-
ми. Мы уже рассматривали ранее [см. т. 1, с. 131 и ел.] в плане
эстетическом воздействие возникающего в недрах феодализма
капиталистического способа производства, развитие которого
привело к усилению буржуазного давления на церковную идео-
логию в искусстве. Кризис возник тогда, когда эти, так сказать,
капиллярные преобразования вызвали к жизни новое качество.
Это произошло, с одной стороны, в естествознании — прежде
всего в астрономии — благодаря трудам Коперника, Кеплера
и Галилея, что привело к крушению геоцентрической картины
мира, признанной церковью. С другой стороны, политическая
практика формировала структуры человеческих отношений, типы
поведения людей в их рамках и по отношению к ним, которые
также потрясали до основания христианскую картину мира; сто-
летнее экстенсивное и интенсивное влияние Макиавелли основы-
валось в значительной степени на том, что его произведения
разъясняли существенные черты этого нового отношения к миру,
этого радикального разрыва со средневековьем.
Вполне понятно, что непосредственной реакцией широких
масс на эту кризисную и не дающую никаких ясных перспектив
ситуацию была новая вспышка религиозности. И поскольку этот
первый потрясший основы христианской религии контрудар, ре-
формация, исходил от самой религии, то, естественно, католиче-
ская церковь — после того как ей не удалось задушить в заро-
дыше новые движения «надежными» средневековыми средства-
ми— должна была попытаться создать новую конкурентоспо-
собную форму религиозности. Интеллигенция периода заката
Возрождения, лелеявшая надежды на мирный путь «просвеще-
ния» и постепенных реформ общества и духовной жизни —
Эразм Роттердамский был типичной фигурой этого переходного
358
времени, — восприняла этот кризис как крушение всех основ
жизни и мировоззрения. Кастильоне писал Виттории Колонне
о том, как это ужасно, «знать, что мы ничего не знаем, что
большинство из того, что казалось нам истинным, ложно, и,
наоборот, то, что представлялось нам ложным, — истинно»37.
Так у значительной части интеллигенции, пользующейся в этот
период наибольшим влиянием, возникают кризисные умона-
строения, отчетливо ощутимые, например, в последних творе-
ниях Микеланджело. Характерно, что в исторических исследо-
ваниях, посвященных этому периоду, истории искусства прошло-
го столетия долгое время полностью обходили тот «хаос», тот
«упадок», который казался им столь резко диссонирующим с ре-
нессансной упорядоченностью и гармонией. Подобной точки зре-
ния придерживался и такой значительный теоретик, как Якоб
Буркхардт. После ряда серьезных попыток научного истолкова-
ния этого переходного времени у тех идеологов, которые стре-
мятся обеспечить для интеллигенции в самом средоточии со-
временного скрытого кризиса буржуазного общества и идеоло-
гии уютное, с полным интеллектуальным комфортом оборудо-
ванное «нонконформистское» существование в сферах духа,
возникает ныне другая крайность: апология кризисности как
«condition humaine», как единственно достойного человека и
сообразного времени состояния. Работа Хокке «Мир как лаби-
ринт» может служить типичным примером этого популярного
ныне направления. Уже титульный лист с очевидностью демон-
стрирует эту искажающую тенденцию, так как символизирую-
щий мир лабиринт представлен здесь как безысходный хаос,
тогда как во взятом за основу мифе о Тезее и Ариадне, а так-
же в относящейся к исследуемому периоду — и не принятой
у Хокке во внимание — его интерпретации смысл и содержание
сказания, его символического использования составляет нить
Ариадны, то есть именно хаос и выход из него в их единстве;
так, Цвингли в одном из стихотворений обращается к этому
сравнению, чтобы восславить разум, прокладывающий путь
к спасению38. В представленной у Хокке картине времени не
нашли отражения такие имевшие место в тот период факты,
как подъем естествознания, философии, завоевывающей сферу
посюсторонности, расцвет реалистического искусства и т. д.
Такая односторонность господствует во многих современных
трактовках этого переходного периода. Зедльмайр, мировоззрен-
ческий и эстетический подход которого к обсуждаемой пробле-
ме прямо противоположен принятому Хокке, приходит, однако,
в своей интерпретации этого исторического этапа и будто бы
продолжающего его современного развития искусства к весьма
схожим результатам; к примеру, у Брейгеля, Гойи, Домье
и т. д. он совершенно не видит их реализма. И если Зедльмайр
выводит кризис искусства из утраты религиозности, принимая
в качестве предпосылок, что «человек становится вполне чело-
359
веком, только будучи носителем божественного духа» или что
«так как бога нет, то нет и никакого имманентного мирового
порядка»39, — то это отнюдь не свидетельствует о принципиаль-
ной противоположности его понимания истории и его эстетиче-
ской оценки современного искусства тому, что высказывает Хок-
ке. Здесь важны способность и желание осознать борьбу дейст-
вительно противоположных тенденций в искусстве и культуре.
Такой серьезный исследователь, как Дворжак, одним из первых
открывший художественно позитивные моменты в искусстве обо-
стренно кризисного времени — маньеризме, — напротив, ясно
видит обе тенденции. И здесь не столь уж существенно то, что
он называет — следуя традициям наук о духе — одну тенденцию
индуктивной, а другую — дедуктивной; во всяком случае, он не
упускает из виду могучие реалистические тенденции этого перио-
да, ссылаясь, например, на Брейгеля и Рабле, на Шекспира и
Гриммельсгаузена40.
Только признание одновременности, а нередко и взаимопро-
никновения обеих тенденций, иногда даже их совпадения
в одной личности (Паскаль как естествоиспытатель и как фи-
лософ), может привести к конкретному пониманию этого кризи-
са. Именно пример Паскаля показывает, сколь значительно оп-
ределяют новые тенденции в созданной естествознанием новой
картине мира специфику новой религиозности: богооставлен-
ность, покинутость человека богом, то есть определяемая имма-
нентными законами природы сущность природы и мира, служит
основой религиозной установки Паскаля, противоположной уста-
новкам средневековых мыслителей на богопреисполненность.
Только исходя из этого, становится понятным характер рели-
гиозности данного времени. Брокмёллер также исходит из этой
противоположности; средневековый институт монахов и святых
был ориентирован на поиски «пути от мира к богу», в то время
как у Лойолы, характерного представителя новой религиозно-
сти, речь идет об обращении к миру, о завоевании (о возвраще-
нии утраченного) мира для бога41. Это относится и к практи-
чески-организаторской деятельности Лойолы, и эта обращен-
ность вовне, к миру, означает также его вторичное завоевание;
так как монашеские ордена более раннего времени также рабо-
тали в миру и он виделся им уже завоеванным христианством,
то эта новая активность получала совсем иной эмоциональный
акцент. Таким образом, сколь бы решительно ни противостояли
взгляды Паскаля и иезуитов, они давали ответы — конечно,
прямо противоположные — на вопрос, поставленный одним и
тем же положением в мире; они были пусть враждующими, но
все же братьями. Это близкое родство проявлялось также в том
преувеличенном значении, которое придается у обоих субъектив-
ности. Официальной философией церкви можно считать томист-
ский объективизм; но реальная религиозность должна была
постоянно создавать своего бога заново. Применительно к про-
360
блематике его господства над миром чисто субъективное отно-
шение получило значимость, никогда ранее для него недостижи-
мую. (Духовные упражнения Лойолы были нацелены на макси-
мальное возвышение субъективности с тем, чтобы поставить ее
в дальнейшем, при соблюдении строгой дисциплины, на службу
завоеванию мира.) Гонгора, возможно, самый знаменитый поэт
этого времени, писал:
Творит из дерева искусство истуканов,
А поклонение богов из них творит.
(Перев. А. Айхенвальд)
В том же духе католический писатель Райнхольд Шнайдер"
описывает вымышленную встречу св. Терезы Авильской с Дон
Кихотом. (Заметим вскользь, что подобные сопоставления в ли-
тературе достаточно широко распространены. Унамуно неодно-
кратно включает Лойолу в духовные отношения с Дон Кихотом.
Дворжак также придает большое значение тому, что Эль Греко
был современником Сервантеса ) Квинтэссенция символической
встречи представлена у Шнайдера следующим образом: «Ведь
в темных, влажных глазах худого рыцаря теплится, как в глазах
святых, тот свет, который только и ждет, чтобы быть пробуж-
денным, чтобы воспламениться; все, что он делает, — это испо-
ведание того небесного безумия, которым мы так восторгаемся
у святых. Он также открыл источник жизни в экстазе и прекло-
няется перед ним с трепетной верой. Оба они едины в своем
признании истинным лишь того., что происходит в глубине души
человека, в своей уверенности, что внешний мир должен быть
решительно подчинен этой истине, как бы он этому ни сопротив-
лялся». И в заключение у него вырываются слова, не предна-
значенные для чужих ушей: «...Победа, конечно, неминуема, но
она не вознаграждает; ибо нет на земле никакой победы и ни-
какой надежды, которые могли бы утишить печаль души». Так,
из этого первого кризиса современного мира возникает типично
современная субъективность.
У такого писателя, как Шнайдер, могут сосуществовать и
Рыцарь Печального Образа, и экстатически настроенная, с ли-
хорадочной активностью занимающаяся практической деятель-
ностью святая в качестве взаимосоотнесенных, равноправных
и равноценных персонажей его произведения. Признаком объек-
тивности в сфере культуры может служить отношение Серванте-
са к образу Дон Кихота: жестоко-комичные приключения, в ко-
торых автор сталкивает мечты рыцаря с действительностью,
выявляя тем самым их реальную суть. Таким образом, если
Хокке считает знамением этого времени, его внутренней сущно-
стью «трагически несчастную любовь к богу»42, то это утверж-
дение следует признать, полуправдой хотя бы потому, что в нем
361
отсутствует трезвая противопоставленность действительности,
трагикомическая, а часто просто комическая противоречивость
подобного отношения к ней, потому что Хокке абсолютно не-
критически внутренне принимает все передвижения такой став-
шей безобъектной субъективности. Поэтому он не умеет отли-
чать подлинно значительные фигуры этого кризисного времени
от тех, кто самодовольно-иронически использовал его в качестве
материала. Такой паяц-экспериментатор, как Арчимбольди,
предстает у него не менее значительным, чем трагически вели-
кий Тинторетто.
Именно у Тинторетто художественно передана на высшей
ступени ее противоречивости та напряженность, которой было
отмечено его время. Вместе с тем примечательно, что Буркхард-
та больше всего шокируют у него те якобы натуралистические
моменты, которые он считает снижающими величие и возвы-
шенность изображаемой тематики43. Таким образом, тенденция,
образующая, несомненно, одну из компонент этого искусства, не
понята Буркхардтом не только в эстетическом смысле — так
как у Тинторетто не может быть и речи о «натурализме», — но
и в ее духовном значении. Бернсон видит гораздо яснее ее ис-
тинное содержание. Он говорит о «Распятии» (Скуола ди Сан
Рокко, Венеция): «...В центре, у подножия креста, — группа
учеников, охваченных скорбью и отчаянием, тогда как осталь-
ные люди, изображенные на картине, смотрят на эту казнь как
на привычное и скучное зрелище. Некоторые помогают ее вы-
полнению, другие равнодушно за ней наблюдают, сохраняя при
этом невозмутимость уличных сапожников, напевающих за ра-
ботой»44. Тем самым Тинторетто лишь продолжает ту интерпре-
тацию библейской истории, подходы к которой ранее мы уже
отмечали у Брейгеля, и даже у Пьеро делла Франческа: худо-
жественно воплощает убеждение, согласно которому события
христианского мифа не имеют центрального всемирно-истори-
ческого значения, приписанного им церковью, более того —
представляют собой лишь эпизод в истории радостей и страда-
ний, в истории поступательного развития человеческого рода,
преходящий момент в ходе становления его духовно-человече-
ской проблематики, отнюдь не претендующий на принципиаль-
ное преимущество перед другими. Однако Тинторетто принци-
пиально отличается в плане живописно-эмоционального содер-
жания, а потому и композиционно, от своих предшественников.
У них такой подход составляет существенное содержание их
картин, определяет, следовательно, основную линию их компо-
зиции, в то время как у Тинторетто речь идет лишь об одном
из моментов напряжения, выражающих его точку зрения на со-
временный ему кризис. Ибо дехристианизации мира, окружаю-
щего воплощаемую художником трагедию, соответствует выс-
шая интенсивность религиозной субъективности, переданная
в центральных образах. При этом Дворжак справедливо заме-
362
чает, что Тинторетто работал не для князей и королей, а в ре-
шающие для его развития годы — не для Венецианской респуб-
лики, как большинство художников Возрождения, но прежде
(всего для своих собратьев по вере, так что «в известной степени
он начинал как любимый художник средних сословий»45, выра-
зив их восприятие кризиса. Дворжак делает из этого выводьл
прежде всего тематического плана, однако мы убеждены, что.
их можно отнести и к основополагающему эмоциональному со-
держанию его картин, и к их диалектически противоречивой
композиции.
Речь идет о крайней, последовательно проведенной и потому
эстетически необычайно плодотворной противоположности у него
высшего субъективизма эмоционального содержания и неудер-
жимого стремления к истинной объективности образной предмет-
ности картины. Мировоззренческой основой этого выступает про-
тиворечие между жаждущей веры субъективностью и глубоким
чувством «богооставленности» истинно сущего мира. На уровне,
живописного мастерства это противоречие проявляется в попыт-
ке органически объединить высокую культуру, данную исследо-
ванием человеческих движений, их высшей, патетической напря-
женности (наследие позднего Микеланджело) со способами ком-
позиции, основанными на созвучии цветовых тонов, валёров, све-
тотеневых соотношений. У позднего Микеланджело мы видим
крайнее заострение мировоззренческих противоречий времени в
границах эстетического объективизма, который кажется как бы
взрывающим изнутри самого себя, но который, однако, при всей
своей проблемной перегруженности всегда остается объективиз-
мом. Тинторетто вводит в этот мир движений субъективный
принцип цветового мерцания как предметно-созидающей силы,,
стремясь найти пластическое выражение им же самим углублен-
ной мировоззренческой противоречивости; перевод библейской
тематики на язык современной ему повседневности — так, что она
полностью утрачивала при этом свой ориентированный на поту-
сторонность мистический характер и обретала действенность
лишь благодаря общечеловеческой значимости, — объединяется
здесь с попыткой привнести в этот мир жизненных состояний,
формально субъективно обусловленных, фактически же чуждых
всякой трансцендентности, глубокую, но лишенную четкой на-
правленности тоску кризисного времени по богу. Выразительные
средства у Тинторетто постоянно предполагают, таким образом,
предельный мир крайней субъективности, лишенной собственной
действительности, но допускающей немедленную преобразуе-
мость в отрицающую ее объективность. Тем самым его образная
система сохраняет пластическую, подлинно живописно сформи-
рованную предметность и одновременно субъективным пафосом
приводится в движение на грани взрыва. Само пространство
у Тинторетто — при всей его реалистической подлинности — при-
нимает участие в этих бурных подъемах и спадах внутренне на-
363
пряженной патетики, выступая даже ее главным носителем бла-/
годаря особенностям компоновки фигур. Поэтому Тинторетто,/
как правильно заметил Дворжак, в силу плебейской основы
своего искусства отходит от аллегоризма своих современников
и вновь возвращается к библейской тематике. Это возвращение
к прежнему мировосприятию предстает, однако, лишь чистой ви-
димостью, так как здесь отсутствует даже внешняя возможность
выполнить социальное задание, поставленное Григорием Великим
перед средневековым искусством: изображение было столь да-
леко от простоты и непосредственной содержательной наглядно-
сти, что упомянутая социальная данность не могла не утратить
свое значение, даже если бы Тинторетто ощущал ее своей лич-
ностной задачей. Устойчиво общечеловеческое ядро библейских
сцен сохраняет, конечно, ценность истинной гуманности; но оно
апеллирует к зрителю, интеллектуальная и эмоциональная жизнь
которого формируется в условиях острейшего кризиса этой идео-
логии как глубинной жизненной основы своего времени.
Тем самым Тинторетто указывает — как подчеркивал и
Дворжак — направление к искусству Рембрандта46. Но по край-
ней мере с тем важным различием, что деятельность Рембрандта
относится уже ко времени после описанного кризиса. Односто-
ронность новейших изображений этого кризиса не только ведет
к пренебрежению реалистическими тенденциями, выступающими
в новых постановках проблемы и — часто в парадоксальной фор-
ме— вынужденно ориентированными на посюсторонность, но и
стремится лишить весь процесс кризиса его конкретной обще-
ственно-исторической почвы. Проделывается это с апологетиче-
ским намерением установить непрерывную линию связи с совре-
менным искусством и представить его беспредметно-аллегориче-
ский антиреализм как вневременную основополагающую тенден-
цию всякого подлинного искусства. Мы увидим [с. 459 и ел.], что
здесь кроется полуистина, поскольку эти самые современные тен-
денции вновь приводят к подрыву имманентной замкнутости про-
изведения и к стремлению подчинить эстетический способ изо-
бражения ставшей совершенно пустой и крайне проблематич-
ной религиозной потребности. Чтобы восстановить порядок в
этом запутанном положении, необходимо вновь поставить в
центр рассмотрения моменты, игнорируемые современными
теоретиками и историками искусства: с одной стороны, реализм,
неудержимо растущий и заново рождающийся с каждым преж-
ним кризисом, а, с другой стороны, конкретный и своеобразный
общественно-исторический характер каждого такого кризиса.
При этом конечно, не исчезнут исторически и эстетически род-
ственные черты определенных кризисов, они лишь обретут, при-
нимая во внимание обе приведенные точки зрения, соответствую-
щее им место в упорядоченной целостности этих явлений. Ре-
шающие моменты социального переворота мы уже отмечали и
показывали, что в целом возникновение и временное укрепление
364
абсолютной монархии создало отношения (преходящее равнове-
сие феодальных и капиталистических классов и слоев), которые
подготовили конец этого острейшего кризиса, путем упрочения
бщественного бытия придя также к. упорядочению в области
деологии и ее ориентации на новые перспективы.
j В истории искусства эти перемены отражаются наиболее от-
четливо в творчестве Рубенса. Формально он испытывал сильное
влияние устремлений кризисного времени (Микеланджело, Тин-
торетто и т. д.). Но все то, что у его предшественников было
выражением внутренней кризисной раздвоенности, стало у него
высокохудожественной упорядоченностью, было поставлено на
службу придворно-репрезентативных тенденций декоративной
изобразительности47. Мы не будем здесь заниматься искусством
Рубенса в целом. Для нас важно только установить, что преодо-
ление им кризиса, ставшее социально возможным, никоим обра-
зом не означало возвращения к живописи в средневековом смыс-
ле, ни художественно, ни духовно, в плане отношения искусства
и религии. Социальное задание, которое он был вынужден вы-
полнять, даже если речь шла об иконах для церкви, — исходило
из репрезентационных потребностей абсолютной монархии, из ее
ориентации на пышность и на широкие жесты; религиозное —
по непосредственному своему содержанию — полностью подчиня-
лось этим требованиям и выполняло их с великолепным худо-
жественным воодушевлением. Таким образом, религиозное отно-
шение выступало здесь — среди разнообразных явлений жизни —
лишь одним из феноменов, не имевшим никакого преимущества
по сравнению с другими. И если здесь иконографическая просто-
та, непосредственная наглядность и понятность тонут в высоко
упорядоченной путанице могучих жестов, блестящих цветовых
контрастов, то эмоциональное содержание картин кризисного
времени было уже совершенно иным, хотя в плане разрушения
связей, некогда существовавших между религиозными потребно-
стями и художественной деятельностью, искусство Рубенса мож-
но считать прямым продолжением времени кризиса. Можно
также бегло упомянуть о том, что в основе великого реализма
Веласкеса — в художественном отношении совершенно иного —
лежали такие же тенденции абсолютной монархии. Не рассмат-
ривая более подробно их, а также исторически и художественно
различных черт их творчества, можно сказать, однако, что рели-
гиозная тематика появляется здесь еще более эпизодично, чем
у Рубенса, и ее изображение — хотя и с совершенно другими
эмоциональными акцентами — имеет по меньшей мере столь же
посюсторонне-земной характер. (Так как мы исследуем здесь
проблему «искусство — религия» на материале развития живо-
писи, то мы, естественно, не останавливаемся на абсолютизме
Тюдоров в Англии.)
Голландская живопись также стоит по ту сторону кризиса.
Но здесь в условиях национальной борьбы за свободу в социаль-
365
ном базисе — при всех дворянски-феодально-патрицианских пе-
режитках— уже начинают проступать общие контуры позднего,
буржуазного общества. Идеологически ведущая роль протестан-(
тизма в этой революции в противоположность католицизму, гос-'
подствующему в большинстве типично абсолютных монархий,|
давала преимущества искусству в освобождении от всяких рели-
гиозных обязательств. Новые формы буржуазной жизни опреде^
ляли социальную данность этого искусства; уже тематически
в нем преобладали события и предметы буржуазной повседнев-
ности, интерьер, ландшафт, натюрморт, групповой портрет и т. п.„
что соответствовало уже известной нам точке зрения деятелей
реформации на искусство. Поэтому поиски религиозного искус-
ства в преобладающем числе великих произведений и мастеров^
(вспомним о Франсе Хальсе, Рейсдале, Вермеерс и др.) не могут
иметь здесь никакой отправной точки. Рембрандт, по-видимому,,
является единственным — правда, в высшей степени важным —
исключением, позволяющим думать о возрождении религиозного*
искусства. И это вполне объяснимо для нового времени, рас-
плывчатость, неопределенность, беспредметность которого по от-
ношению к сущности религиозности мы будем подробно анали-
зировать [с. 446 и ел.]. Здесь же, где речь идет лишь об общем
отношении искусства к религии, достаточно бегло упомянуть
о тесной связи Рембрандта с описанным ранее развитием, чтобе
показать, что его творчество органически включается в это раз-
витие, хотя оно обязано своими решающими чертами периоду
уже преодоленной остроты кризиса. Например, Зиммель, кото-
рый хотел во что бы то ни стало открыть в искусстве Рембранд-
та современную религиозность sui generis, вынужден был кон-
статировать относительно мира, им изображенного, следующее:
«...Люди не пребывают более в объективно благочестивом мире,.
но являются благочестивыми субъектами объективно индиффе-
рентного мира»48. Однако то, что Зиммель называет здесь благо-
честием, в качестве субъективного чувства не имеет никакой:
связи с религиозностью, ни в плане содержательном, ни с пози-
ций предметной соотнесенности. (Зиммель сам приходит к по-
добному выводу относительно внутренней жизни образов Ремб-
рандта: «Их углубленность, их торжественное спокойствие или-
их потрясенность относится только к их жизни, протекающей
в себе самой, и неважно, какое внешнее или внутреннее событие
все это обнаруживает...»49 Конечно, как мы далее увидим, в поз-
днебуржуазной жизни было принято называть чувства, которые,,
казалось, не проявлялись ни в повседневной практике, ни в ху-
дожественном творчестве, — религиозными. Такие чувства могут
быть связаны, правда, с религиозными потребностями; их разно-
образие, их соотнесенность со всеми областями человеческой"
деятельности является симптомом того, что эти потребности не
связаны ни с каким вполне определенным миром объектов, ко-
торый сам — в виде субъективной фантазии — мог бы давать им
366
адекватное наполнение. К подробному рассмотрению этого комп-
лекса вопросов мы вернемся в последних разделах.
Что же касается эмоционального содержания искусства Рем-
брандта и внутренней жизни его образов, то вся огромная шкала
ощущений, которую эвоцируют их жесты, выражения их лиц,
композиция картин — все это может переживаться и быть понято
в границах посюсторонности; даже при библейской тематике ре-
шающую роль играют у него ее фольклорные черты, укоренив-
шиеся в народе. Характеристика, данная Роменом Ролланом
ораториям Генделя, возникшим много позже, но тоже на проте-
стантской почве, может быть отнесена и к Рембрандту: «Ген-
дель, выбирая для некоторых из них [ораторий] библейские сю-
жеты, преследовал не религиозные цели, а делал это потому,
что... жизнеописания библейских героев вошли в плоть и кровь
народа, с которым он хотел говорить. Они были знакомы всем,
тогда как античные и романтические сказания могли интересо-
вать только общество дилетантов с его утонченным и извращен-
ным вкусом»50. Не следует забывать при этом, что в Голландии
так же, как позже в Англии, национальная и социальная борьба
за свободу против тирании, поддерживаемой католицизмом, бы-
ла доведена до конца под флагом протестантизма. Библия стала
здесь букварем мятежа, освобождения. И естественно, что это
не вело к искажению характера внутренней жизни человека, про-
низанной религиозными мыслями и чувствами. Однако так как
эти силы включались в действительность, которая была движима
собственными, посюсторонними законами, а не в ту действитель-
ность, которая была проникнута божественностью, то для боль-
шого искусства возникала неизбежная тенденция к смещению
акцента на борьбу как таковую (человеческая душа в ее проти-
воборстве с объективным и чуждым внешним миром), на чисто
душевные коллизии, возникающие у отдельного человека и меж-
ду людьми. Отягощенность этих чувств в высшей степени интен-
сивной внутренней религиозной жизнью, всегда остающейся, од-
нако, субъективной, продвигалась тогда с эстетической неизбеж-
ностью в сторону придания художественной имманентности, че-
ловечески-посюсторонней тональности религиозно (библейски)
традиционным важнейшим событиям, то есть превращения самих
по себе трансцендентно ориентированных ситуаций в чисто внут-
ричеловеческие коллизии, трагедии, идиллии, элегии и т. п. Ве-
роятно, впервые это выступило с неодолимой мощью у Рембранд-
та. Но тем самым он лишь завершил то развитие, духовно-худо-
жественное направление которого мы пытались сделать ясным
при анализе кризиса во всех его всеобъемлющих существенных
чертах [с. 364]. Мы много говорили, опираясь на наблюдения
Дворжака, о связях, которые ведут от Тинторетто к Рембрандту.
В своем исследовании голландского группового портрета Ригль,
обратившись к его внутреннему драматизму, отличает в этой об-
ласти — то есть в типично мирской, посюсторонней живописи —
367
Рембрандта от его современников, решительно подчеркивая, что
принцип композиции, возникающий из этих устремлений — суб-
ординация в противоположность координации, — господствует и
в картинах Рембрандта с религиозной тематикой. Однако в этом
отношении у Рембрандта «старая проблема барокко Микеланд-
жело»51 выражена — в соответствии с новым социальным зада-
нием — как внешне, так и внутренне совершенно другими сред-;
ствами. '
Подробный анализ драматизма в живописи выходит за рамки
нашей работы. Заметим здесь только в заключение, что Рем-
брандт, хотя он долгое время не имел в живописи достойного на-
следника, выступает в общем в искусстве как новатор, открыв-
ший новую эпоху. В великом искусстве оратории этот внутрен-
не-драматический мотив, проникающий в силу сложности своего
конфликта в сферу посюсторонности, становиться центральным
пунктом. Вспомним сложнейшие коллизии баховских месс
(Иисус или Варавва, конфликт Петра со своей совестью и т. п.),
драматически-музыкальный, резко очерченный образ Самсона
у Генделя и т. д. Но эстетической родиной этого пафоса всегда
является художественно воплощенная субъективность. Только
литература в состоянии включать внутренние противоречия этого
рода в «тотальность объекта» (впрочем, также глубоко пробле-
матичную); достаточно сослаться на Мильтона. Если, однако,,
сравнить его с Данте, то становится очевидным, что и в литера-
туре неизбежно возникало чрезмерное подчеркивание внутренней
жизни за счет объективности мира вследствие этого отступления
трансцендентности из обыденной жизни человека; это привело
к ослаблению художественно-образной взаимосвязи между субъ-
ективностью и ее внешним пространством и преобладанию лири-
ческой образности. (Здесь было бы до некоторой степени умест-
но— между Данте и Мильтоном — сказать о всемирно-историче-
ском значении Шекспира. Но так как условия развития литера-
туры радикально отличаются и в отношении комплекса проблем
религия — искусство от условий развития в живописи, мы не мо-
жем здесь говорить о них, не выходя за рамки нашего рассмот-
рения, и должны ограничиться этой общей ссылкой.) Музыка и-
изобразительное искусство, напротив, — каждое своим спосо-
бом— достигают сбалансированного разрешения: музыка — по-
гружая посюсторонний драматизм в субстанцию чистого ощуще-
ния; живопись — позволяя тончайшей внутренней субъективности
проявляться в виде органической части видимой действительно-
сти, полностью независимой от этой субъективности, и помещая^
таким образом, ее в реально соответствующую ей обстановку
в сфере чисто посюстороннего, «покинутого богом» мира. Все-
мирно-историческое значение Рембрандта основано не в послед-
нюю очередь на том, что ему удалась — употребляя любимое вы-
ражение Сезанна — реализация мимесиса действительности, од-
новременно свободного от субъекта объективного и все же всегда
368
излучающего субъективность, бессильную перед влиянием пред-
метности.
Так возникло высокое искусство, которому тесны стали рамкш
социального задания, сформулированного Григорием Великим,.
Мы описали внутреннюю успешную борьбу искусства с этой его
связанностью в ее существенных определениях и этапах. К ска-
занному, однако, следует добавить — чтобы не создавать одно-
сторонней картины, — что в период по крайней мере до Рафаэля;
изобразительное искусство, несмотря на свою победоносную
эмансипацию от религиозно-трансцендентного содержания, все-
таки могло еще воздействовать в духе Григория Великого как.
Biblia pauperum. О предметной объективности изображений и
ясности композиции заботились для того, чтобы картины Перуд-
жино или Пьеро делла Франческа могли выполнять свои функ-
ции, пробуждая благоговение и служа нравоучением. Только
с обострением кризиса эта связь прерывается. И было бы опять
же односторонним представлять себе это разрешение как нечто-
совершенно непроблематичное. Общественная действенность изо-
бразительного искусства в западноевропейском средневековье.
означала для него единственное в своем роде благоприятное по-
ложение, которое можно сравнить только с греческой антично-
стью в отношении пластики; драматически-исторический харак-
тер народных сказаний, объединенных в Библии, делал их еще-
более благодарным материалом для живописи. Поле деятельно-
сти для свободного развития эстетического, которое предостав-
лял ему социальный заказ, требующий ясности и общепонятно-
сти, именно в силу непрекращающейся борьбы посюсторонности.
и потусторонности стало основой формирования этого единствен-
ного в своем роде искусства. С прекращением действия социаль-
ного заказа, которое, как мы видели, непосредственно привело^
к повышенному напряжению этих противоположных сил, изобра-
зительные искусства потеряли свою ведущую роль в обществе.,
сохранявшуюся в течение веков. Бернсон правильно характери-
зует общественную сторону этого положения, утверждая, что
в XVI веке живопись в жизни венецианцев занимала примерно-
такое же место, как музыка в нашей теперешней жизни52. Но
это относится не только к Венеции и не только к повседневной,
жизни. Речь при этом идет не о художественной высоте исполне-
ния. Новое время выдвинуло большее число значительных ху-
дожников — от Гойи до Сезанна, — но ни один из них не стоял
подобно средневековым художникам — от Чимабуэ до Микелан-
джело — в центре развития духовной культуры; если не считать-
Данте, то большие духовные перемены намечаются именно в
этот период. Здесь нельзя забывать и о тематике. Неизбежное
падение влияния григорианского социального задания никоим
образом не делает живопись бессодержательной, как думают
многие; незачем ссылаться на такие фигуры, как Делакруа; ни;
Курбе, ни Лейбль, ни великие импрессионисты или Ван Гог не
24—805
36$
были бессодержательными, если не ограничивать понятие содер-
жания религиозной или литературно-анекдотической сферой. Но
содержание, возникающее таким образом, не может объединить
в себе органически-живописно все точки зрения на решающие
вопросы культуры с сиюминутной очевидной ясностью. Вопрос
о новой содержательной предметности живописи после ослабле-
ния старого социального задания становился все более сложным.
На другой стороне, на стороне религии, возникает, напротив,
лолный эстетический вакуум. Для протестантизма это само со-
бой разумелось и не признавалось потерей. И сегодня еще, на-
пример, Карл Барт говорит совсем в духе реформаторов о так
называемом религиозном искусстве: «Благая вещь весь этот
«спектакль» христианского искусства, благая, но бессильная...»53
Совершенно иное значение имеет этот вопрос длд католицизма.
Французский художник Морис Дени, который порой страстно
выступал — в теории и на практике — за возрождение религиоз-
ного искусства, ясно высказался о существующем здесь в настоя-
щее время противоречии: «Французского священнослужителя,
который вернулся из Рима, спросили, что он думает об итальян-
ских церквах. В этих церквах, сказал он, были только предметы
искусства и не было ни единого религиозного предмета. Церкви
стали только музеями. Он был разочарован». Дени говорит о ме-
ханически-фабричном изготовлении «религиозных предметов»,
официально признанных и употребляемых. Он возмущается тем,
что католики смирились с этим унизительным положением. «Ис-
кусство— для мира, «религиозные предметы» — для бога»54. Эта
ситуация возникла, конечно, не вследствие злоупотребления или
легкомыслия. Иначе нужно было бы только мобилизовать на-
стоящего художника, и вопрос был бы легко разрешен. Известно,
что в этом направлении постоянно предпринимаются все новые
попытки заменить фабричность и антихудожественность религи-
озной живописи или пластики, внести в нее большую художест-
венную живость, обращаясь к помощи самых различных на-
правлений в искусстве, от «югендстиля» до сюрреализма. Но все
это остается любительскими причудами, не играющими никакой
роли в развитии искусства и не колеблющими монополию рели-
гиозной веры. В теоретических замечаниях Маритена по этому
вопросу легко определима основа этого принципиального беспло-
дия. Он исходит из старого григорианского постулата, который
нацеливает церковное искусство (art sacré) на поучение народа,
предписывает ему быть богословием в образах. Это искусство
существует, говорит Маритен, в абсолютной зависимости от бо«
гословской мудрости: оно должно всегда сохранять в себе иерар-
хический, так сказать идеографический символизм55. Очевидно,
что в этих требованиях — хотя Маритен настойчиво подчеркива-
ет, что они не содержат никаких предписаний в отношении стиля
и т. п. — совершенно исчезла прежняя гибкость социального за-
дания, некогда установленного церковью для искусства; они пред-
370
ставляют собой такую же реакционную утопию, как в свое время-
взгляды позднего Платона. То, что социальный заказ мог быть,
превращен в фабричный шаблон, объясняется не художествен-
ным отказом от единичного, но тем, что здесь полностью исчезает-
всякая связь между религией, искусством и народными чувства-
ми. Причем в данном случае неважно, создают ли сегодняшнее
церковное искусство одаренные художники или халтурщики,„
авангардисты или академики. Матисс, например, расписал ка-
пеллу и снабдил ее стеклянными окнами; осматривая ее, Пикас-
со заметил, что ему все это очень нравится, но вот только забыта;
ванная комната56.
На эту полную слепоту все еще живо воспринимаемой рели-
гиозности по отношению к искусству мы уже указывали, цитируя
роман Гандель-Мазетти [с. 348 и ел.]. Тогда речь шла во всяком*
случае только о полумагической вере простой крестьянки времен
контрреформации, в то время как высшие слои еще строили
церкви в стиле барокко, часто украшая их художественно доста-
точно значительными картинами и статуями. И сегодня, конечно,,
имеются случаи объединения в одной личности религиозности И:
художественного вкуса. Для принципиального отношения между-
современной религиозностью и искусством, однако, более харак-
терной является в высшей степени эксцентричная фигура извест-
ного католического писателя Леона Блуа. Маритен характеризу-
ет его взгляды: «Искусство, — так пишет Леон Блуа на страни-
це, ставшей знаменитой, — является паразитическим аборигеном;
на коже первой змеи. Оно сохраняет из-за этого свое колоссаль-
ное высокомерие и свою гипнотическую власть. Оно довольству-
ется самим собой, подобно богу... Оно упорно восстает против,
поклонения или повиновения, и воля человека не может заста-
вить его склониться перед алтарем... „Можно в виде исключения?
найти несчастного, который одновременно является художником:
и христианином, но нет никакого христианского искусства"»57..
Эти свои взгляды Блуа последовательно претворяет в конкрет-
ной критике. Так он пишет о Данте: «Я пытался временами чи-
тать Данте... Скука была невыразимая, буквально придавившая
меня к земле... Нужно быть большим ребенком, чтобы ощущать
при чтении его «Ада» что-нибудь большее, чем отдаленный
страх... Что же касается далее его «Чистилища» и его «Рая», то
только те, кто изучал историю искусства в школе господина Пе-
ладана, могут пребывать в неведении относительно того, что-
Данте делит славу с немыслимым без него Рафаэлем, у которого
нужно признать приукрашивание божьей идеи крестного отца,
о чем так сильно заботится современная высшая школа духовен-
ства. Даже самые известные главы «Божественной комедии»
рядом с самыми неизвестными стихотворениями Анны-Катарины-
Эммерих, Марии Агредской или пятьюдесятью другими пророчи-
цами едва ли способны пробудить нечто большее, чем сочувст-
вие»58. Конечно, способ выражения здесь в высшей степени вы-
24*
37Ь
»сокопарен и эксцентричен. Но в своей непринужденной беском-
промиссности он так же характерен для глубоко внутреннего,
окончательного расхождения искусства с религией, как и наив-
ная слепота перед красотой у вышеупомянутой бедной крестьян-
ки, вера которой несет в себе пережитки магии. Поэтому само
содержание высказываний Блуа и нашедшая здесь свое выра-
жение его внутренняя установка кажутся нам более ярко харак-
теризующими современную ситуацию, чем иногда эстетически
очень интересный компромисс в духе Клоделя или Пеги, Мориа-
ка или Грэма Грина.
Тем самым, казалось бы, борьба за освобождение искусства,
за его полное отторжение от религии должна получить свое за-
вершение. В смысле церковной, тематически-иконографической
связи это действительно так. Между тем, как мы видим [с. 411
и ел.], именно в новейшем искусстве, и именно»в его крайнем,
самом авангардистском крыле, все больше обнаруживается гос-
подство фундаментальных стилистических принципов искусства,
связанного с религией, с аллегорией, и тем самым — разрыв с об-
разно-предметными традициями развития западноевропейского
искусства. Эти феномены — в той мере, в какой продукты таких
устремлений могут быть художественно оценены, — являются
с точки зрения нашей проблемы столь важными, что мы должны
•будем детально рассмотреть их в следующем разделе в связи
с сущностью аллегории и важнейшими этапами ее мировоззрен-
ческого обоснования. Только такое исследование мировоззренче-
ских и эстетических свойств аллегории дает возможность объяс-
нить общие определения этого феномена в двух последних раз-
делах. Таким образом, принципиальные вопросы, встающие
здесь, относятся к области последующих рассмотрений. Предва-
рительно, возвращаясь к уже упомянутому ранее, здесь доста-
точно заметить лишь следующее: всякая религиозная потреб-
ность находится во внутренней, неразрывной связи с частной
личностью человека. Известный итальянский писатель Чезаре
Павезе остроумно замечает в своем дневнике: «Религия заклю-
чается в вере в то, что все, что с нами случается, необычайно
важно. Она никогда не исчезнет из мира именно по этой причи-
не». Мы имеем тем меньше поводов обсуждать этот вывод Па-
везе, что, с одной стороны, для нашего данного исследования его
диагноз гораздо важнее, чем его прогноз. С другой стороны, мы
находим у него там же великолепные утверждения, очень инте-
ресные для нас и позволяющие дать первое представление о том
комплексе проблем, который мы здесь обсуждаем, так сказать,
в качестве первого, вводного аккорда. Павезе пишет: «То, что
нам никогда не удастся правильно понять корни этого мира
(с помощью труда, чего-то обыкновенного), это ясно... То, что
мы никогда не будем больше влюблены в такую идею, за кото-
рую нужно умирать, это ясно...»59 Последние замечания вскры-
вают динамику отношений между частной личностью и потусто-
372
ронностью: всякое субъективное или объективное препятствие в
человечески-земном выявлении частного человека может вызвать
к жизни мечту о его потустороннем исполнении, и обычно в
большинстве случаев так и происходит. Чувство своей полной
растворенное™ в жизни, безусловная преданность идее, опреде-
ляющей для этой жизни, является — не говоря, конечно, о науке
и искусстве — главной движущей силой, выводящей человека за
пределы его непосредственной партикулярности таким способом,
который не разрушает его человеческих основ, а наоборот—пу-
тем включения его в различные человеческие общности — при-
ближает ее к общечеловеческой точке зрения, формируя у него
конкретную и сознательную связь с человеческим родом. Если
этот путь закрыт, или он требует приложения сил, далеко пре-
восходящих средние, то в человеке либо происходит затвердева-
ние его непосредственной партикулярности в неизменную суб-
станцию, либо он должен внутренне противопоставить себя поту-
сторонности, в которой будто бы может осуществиться то, в чем
отказано здесь. (Обе возможности никоим образом не взаимо-
исключающи; они могут выступать одновременно — в различных
пропорциях.) Из такого жизненного разлада у человека спонтан-
но возникает религиозная потребность. Рассмотрению специфи-
чески современных форм этой потребности будут посвящены сле-
дующие разделы.
2. АЛЛЕГОРИЯ И СИМВОЛ
В 1803 году Гёте писал Шеллингу об отношении того к одному
молодому художнику: «Если Вы поможете ему понять различие
между аллегорическим и символическим принципом, то Вы — его
благодетель, ибо столь многое вращается вокруг этой оси»60. Гё-
те выдвинул этот момент как средоточие своих художественных
воззрений наверняка не случайно. Однако, хотя противополож-
ность аллегории и символа образует древнейшую центральную
проблему художественной практики, только в то время начали
серьезно подходить к ее теоретическому объяснению. ЕщеуВин-
кельмана, который написал работу об аллегории, это понятие
осталось крайне расплывчатым. Оно по большей части приравни-
вается к тому, что позже стало обыкновенно называться иконо-
графическим содержанием, и даже там, где у Винкельмана брез-
жит представление о связи аллегории с религией, где он ощуща-
ет, что как естественная форма выражения она принадлежит
прошлому, он локализует ее в древности и тем самым лишает
себя возможности различать аллегорию и символ как принци-
пиальные противоположности. Поэтому он и из этой констатации
не может вывести разрыва настоящего с аллегорией; напротив,
он утверждает, что в этом отношении следовало бы кое-что по-
373
заимствовать у прошлого61. Подобная ориентация Винкельмана,.
естественно, приводит к тому, что проблема аллегории трактует-
ся у него как одна из проблем изобразительного искусства; Го-
мер и другие поэты играют у него роль лишь тогда, когда дело
касается содержательности аллегории. Все это упоминается толь-
ко потому, что позволяет в правильном свете увидеть осново-
полагающую новизну постановки вопроса у Гёте. Лишь у него
проблема аллегории становится проблемой искусства в целом
(тем самым и проблемой литературы); лишь у него впервые
(если не считать скудные и забытые исключения в истории тео-
рии) в центре внимания стоит принципиальная противополож-
ность аллегории и символа.
Выше [см. т. 3, с. 213, 219, 224] уже указывалось на роль
Гёте — теоретика искусства в открытии особенного как решаю-
щей категории эстетики. Следовательно, для характеристики то-
го значения, которое он придавал противопоставлению аллегории;
и символа, в высшей степени примечательно, что его теоретиче-
ская экспозиция восходит к соотношению общего и особенного.
Удельный вес проблемы еще возрастает благодаря тому, что Гё-
те касается ее и при своей попытке определить отношение шил-
леровского творческого метода к своему собственному. Вот как
звучат теоретические выводы этого противопоставления: «Дале-
ко не одно и то же, подыскивает ли поэт для выражения общего*
нечто особенное или же в особенном прозревает общее. Первый
путь приводит к аллегории, в которой особенное имеет только*
значение примера, только образца общего, последний же и со-
ставляет природу поэзии; поэзия называет особенное, не думая
об общем и на него не указуя. Но кто живо воспримет изобра-
женное ею особенное, приобретет вместе с ним и общее, вовсе
того не сознавая или осознав это только позднее»62. Таким обра-
зом, наблюдения Гёте над этим комплексом проблем всегда воз-
никают по наиболее важным поводам. Определение символа
в другой связи, когда полемическое острие откровенно направ-
лено против романтизма, говорит о намерении особо выделить
реалистический характер символического способа изображения:
«Настоящая символика там, где особенное представляет общее
не как сон или тень, но как живое мгновенное откровение не-
познаваемого»63. Итак, в этих полемических высказываниях яв-
ственно выступают принципы, которыми руководствуется Гёте
при определении различий между аллегорией и символом.
Однако же в другом случае Гёте ясно выразился о решении'
проблемы и в общетеоретическом аспекте: «Аллегория превра-
щает явление в понятие, понятие в образ, но так, что понятие
все еще содержится в образе в определенной и полной форме и
с помощью этого образа может быть выражено. ...Символика
превращает явление в идею, идею — в образ, причем идея оста-
ется бесконечно действенной и недосягаемой и, даже будучи вы-
раженной на всех языках, остается невыразимой»64. Фундамен-
374
тально новое для эстетической теории в этих гётевских определе-
ниях различия состоит прежде всего в том, что он (по существу
дела, если не терминологически) выявляет неснимаемо дезантро-
поморфирующую тенденцию аллегории и именно поэтому проти-
вопоставляет ее принципиально антропоморфирующей установке
символики. (Об эстетическом смысле невыразимости подробно
говорилось в другой связи [см. т. 3, с. 134 и ел.].) При этом
терминология Гёте в значительной степени обусловлена влияни-
ем классической немецкой философии, однако, как и всегда,
здесь она также отмечена в высшей степени самостоятельной
личностной характерностью. Поэтому так важно, что мыслитель-
ный элемент аллегории фиксируется как понятие, а символ —
как идея. Гёте не упускает и возможности отчетливо разделить
оба типа определения. А именно: понятие всегда четко ограни-
чено и как таковое сохраняется в аллегории, то есть оно опреде-
ляет (можно сказать, по способу дефиниции) постоянное и одно-
значное содержание и объем детерминируемого им предмета.
В этом суть любого первого дезантропоморфирующего прибли-
жения к объективной действительности, которое, хотя и может
подвергаться в ходе научного исследования самым различным
модификациям, может быть расширено, углублено, ограничено
и т. д., однако вновь и вновь воскресает в этом своем процессе
преобразования именно как понятие, как однозначно фиксиро-
ванное, дезантропоморфирующее, абстрагирующее отображение
объективной действительности. И в самом деле, мы видим, что
когда Гёте описывает это преобразование понятия в образ (точ-
нее, полагание образа как «равнозначного» понятию), то он ак-
центирует как раз эту внутреннюю фиксированность понятия,
которая остается независимой от человека. Но тем самым двояко
увековечивается дуализм чувственного восприятия и мыслитель-
ного содержания: во-первых, в понятии снимается чувственная
непосредственность, во-вторых, понятие превращается в образ
(с его описанным выше структурным своеобразием). Но в обоих
этих актах не содержится никакого сохранения или расширения
того, что было живо в чувственной очевидности явления, что
предполагалось скрытым в его чувственно-имманентном содер-
жании. Поэтому образ аллегории отнюдь не означает возврата
к исходному пункту, к миру явлений; он выходит в трансцендент-
ную по отношению к аллегории сферу мышления, даже если этот
образ создавался для того, чтобы зримо представить ее содержа-
ние, как это делает уже понятие. Становление образа понятия
означает здесь не снятие, но увековечение пропасти между чув-
ственно-человеческим и понятийно-дезантропоморфирующим от*
ражением действительности; эта пропасть именно вследствие чув-
ственного способа проявления образа принимает характер про-
тивопоставления посюстороннего и потустороннего, имманентно-
человеческого ми;р:а и мира, трансцендентного по отношению
к нему.
375
В то же время в символике идея фигурирует как принцип
опосредования между явлением и образом, поэтому следует об-
ратить здесь внимание на различие между понятием и идеей в
классической немецкой философии. Уже у Канта идея акценти-
рована как синтез тотальности, как противопоставленная поня-
тию по наличию интенции одновременно к целостности и к диа-
лектической подвижности, гибкости; эта тенденция возрастает
у Шеллинга и Гегеля. В «Критике способности суждения», кото-
рую прилежно изучал Гёте, Кант определяет эстетическую идею
как «представление воображения», которому не может быть
адекватно ни одно определенное понятие, «...следовательно, ни-
какой язык не в состоянии полностью достигнуть его и сделать
его понятным»65. Влияние Шеллинга и Гегеля, а прежде всего
собственные мыслительные тенденции привели к тому, что идея
получила у Гёте объективный характер, как и* у Канта. Роль
посредника между явлением и образом, выполняемая идеей, об-
ладает поэтому абсолютно иными свойствами, чем роль понятия:
она вбирает не только содержание явления, но и внутреннее бо-
гатство его отношений и определений, преобразует все это в об-
разность и придает образу существенные признаки идейной на-
полненности в вышеприведенном смысле. Когда Гёте и здесь
говорит о «невыразимости» символического формообразования,
то, как мы уже знаем, это ничего общего не имеет с полемически
упоминаемыми ранее грезами и тенями. Приближение Гёте
к объективности идеи есть, в сущности, философская формула
для экстенсивной и интенсивной бесконечности реальных предме-
тов, откуда необходимым образом следует их неисчерпаемость
для аналитико-языкового выражения. Так, он говорит об искус-
стве: «Природу и идею нельзя разобщать без того, чтобы не раз-
рушить искусства, равно как и жизни»66. Итак, образ, который в
символике способствует развитию идеи из явления, следует гё-
тевскому требованию «нежной эмпирии», которая в самой дей-
ствительности открывает общее и, вновь преобразуя его в осо-
бенное, представляет его как чувственно-наглядное своеобразие
самого предмета. Следовательно, ясно, что здесь у Гёте симво-
лика по сути выступает как четко ограниченное, противопо-
ставленное аллегории понятие; вне этой полемики они сущест-
венно совпадают, что в наших наблюдениях постоянно определя-
ется как реалистическое искусство.
Мы видели, что Гёте во многих случаях формулировал стро-
гое разделение аллегории и символа в качестве средства борьбы^
против конкретных тенденций своего времени. Этому, естествен-
но, не противоречит древнее происхождение самой проблемы..
При рассмотрении генезиса искусства и свойств его самых ран-
них объективации мы уже говорили об аллегорическом характе-
ре орнаментики. Дуализм формы и содержания аллегории в ней
выступает еще ярче, нежели при более позднем развитии, однако-
не препятствует ее своеобразному эстетическому единству, а да-
376
же находится с ним в теснейшей связи. Ибо орнаментальные
формы, рассматриваемые с эстетической точки зрения, с точки
зрения их особой непосредственности, соответствуют чисто слу-
чайному, произвольно меняющемуся содержанию именно пото-
му, что оно им полностью трансцендентно. Эта случайность, как
говорилось ранее [см. т. 1, с. 275 и ел.], не может, однако, трак-
товаться в современном смысле, так как формальная неисчер-
паемость подобной орнаментики весьма тесным образом связана
с ее «произвольным» содержанием; мы можем наблюдать, как
его общественно-исторически необходимое отмирание вело к
оскудению, к опустошению самих орнаментальных форм. В на-
стоящее время ставшее совершенно недоступным для нас, кон-
кретно не поддающееся более пониманию соотношение между
полностью трансцендентным содержанием и чисто орнаменталь-
ной формой было, таким образом, внутренним движущим стиму-
лом для плодотворности и выразительной способности этой свя-
зи, хотя, как мы указывали выше, заменяемость этих трансцен-
дентных содержаний этнографически прослеживается уже на
ранних ступенях развития. Для нашего рассмотрения историче-
ская сторона вопроса менее важна, чем эстетическая: сохранение
самостоятельной значимости имманентно целиком бессодержа-
тельных орнаментальных форм, получающих самостоятельное
«бессодержательно»-абстрактное содержание исключительно бла-
годаря своей геометрической сущности, геометрической комбина-
торике, и сохраняющих на этом основании возможность воздей-
ствия, обретающую независимость от трансцендентности.
Последнее следует подчеркнуть особо, так как исключительно
благодаря этому внутри области эстетики обеспечивается место
для аллегорического. В магический период, как и позже, под
влиянием магии и религии в массовом масштабе изготавлива-
лись предметы, значение которых основывалось на якобы прису-
щей им способности быть носителями, возбудителями, но прежде
всего — посредниками между трансцендентно представляемыми
силами и верящими в них людьми. Прекращение такой веры ли-
шало их всякого смысла; отныне они должны были фигуриро-
вать как то, что они объективно собой представляют: кусок де-
рева, камень и т. д. Как ни проблематично всякое аллегориче-
ское изображение с точки зрения эстетики, его проблематичность
раскрывается тем не менее внутри эстетической сферы. Именно
это способно осветить характер воздействия геометрической ор-
наментики. Но ситуация усложняется, когда предмет подобного
нацеленного на трансцендентность назначения уже обладает ми-
метическим характером. При этом в высшей степени примеча-
тельно то, что примитивный мимесис ведет себя явно нейтрально
по отношению к присоединяющейся к нему трансцендентности.
И вполне вероятно, что высокоразвитый мимесис пещерной жи-
вописи палеолита возник на потребу магии. Но эти рисунки об-
ладают конкретным и своеобразным, не выходящим за чисто
377
эстетические рамки предметным содержанием, и для их воздей-
ствия совершенно неважно, было ли концентрирующееся в них
правдивое отражение действительности (с точки зрения проис-
хождения) эстетической самоцелью или же инструментом магиче-
ского влияния определенных «сил». Мы полагаем, что этот ней-
тралитет совпадает с тем явлением, которое мы вычленили при
анализе этих рисунков [см. т. 2, с. 100 и ел.]: обладая в своем
предметном проявлении высокой степенью эвокативной истинно-
сти, одновременно они, однако, внемирны, как и коренящаяся в
полностью противоположных принципах орнаментика. Только са
становлением миросозидающих притязаний искусства и его спо-
собности соответствовать этим притязаниям эстетическая про-
блема аллегории оказывается полностью актуальной, так как
только на этой ступени внутреннее расхождение имманентно за-
вершенного, направленного на себя самого «мира» любого худо-
жественного произведения и его трансцендентного содержания
развивается до уровня эстетического противоречия.
Ядро этого противоречия принадлежит сущности эстетическо-
го полагания предметности. В свое время мы подробно анализи-
ровали, как и почему оно обладает характером отражения дей-
ствительности (а не самой действительностью как таковой), сле-
довательно, выступает как бытие-для-нас, которое, однако, при-
нимает способ проявления бытия-в-себе. Вследствие этого бытие-
в-себе эстетической предметности зависит от того, в состоянии ли
оно функционировать как бытие-для-нас, и если да, то в какой
степени. То, что мы в предыдущем изложении определили как
«мир» любого данного произведения искусства, — это именно*
развитие образной предметности в эстетическом отражении да
уровня такого бытия-в-себе, то есть до такого свойства, когда
комплекс (тотальность) чувственно явленных объектов непо-
средственно содержит в себе собственный смысл, собственное
значение, а чувственный способ проявления становится непосред-
ственным выражением его сущности. Следовательно, миросози-
дающий характер произведения искусства покоится на его кате-
гориальной структуре, в соответствии с которой любой отдельный
предмет формируется с целью раскрыть в себе свою собственную'
сущность, суть своего отношения к внешнему миру как непосред-
ственно проявляющуюся форму самого себя. Становление этого«
«мира» опирается на последовательное использование эстетиче-
ской сущности категорий, причем де-факто не играет роли,,
составляет ли произведение связанный комплекс предметов
или один отдельный предмет. Портрет Рембрандта в эстети-
ческом смысле — «мир»; сами по себе чудесно доподлинные жи-
вотные пещерной живописи внемирны. Поэтому дилемма имма-
нентности или трансцендентности смысла скользит мимо них, не
касаясь их сущности, а именно: отдельный предмет (или его
мыслимо лучшее эстетическое отражение) остается полностью
индифферентным по отношению к его употреблению в интересах
378
трансцендентных целеполаганий; он — то, что он есть (то есть,
что он отражает), и эта его функция ни в каком отношении не
изменяет его эстетической предметности, если таковая наличе-
ствует; художественно ли исполнен «чудодейственный» амулет
или нет, это не влияет на его волшебную силу, а с другой сто-
роны, его эстетическая сущность, коль скоро она существует,
ничего общего не имеет с тем, что его вследствие «освящения»
и т. п. приспособили для подобных целей.
Эта проблема реально может быть поставлена только тогда,
когда сущность эстетического формообразования составляет воп-
лощение «мира», но и тут только в том случае, если употребле-
ние в трансцендентных целях решающим образом обусловливает
социальное задание при возникновении данного предмета и тем
самым его внутреннюю структуру и т. д. Лишь тогда на самом
деле выявляется господствующее здесь противоречие: миросози-
дающий характер произведения искусства требует завершенной
имманентности его смысла; если одна лишь деталь кажется вы-
ступившей за пределы этого магического круга, «мир» этот пере-
стает быть миром, он становится неупорядоченным или механи-
чески собранным множеством гетерогенно присовокупленных
друг к другу объектов. Жизненная достоверность частностей,
тонкость художественной манеры и т. д. не могут уравновесить
такого основополагающего порока; и даже сумма живых деталей
дает в таких случаях лишь мертвое целое. При такой ситуации
альтернатива имманентности или трансцендентности, как пред-
ставляется, не в состоянии образовать для эстетической сферы
подвижного и плодотворного противоречия; она лишь создает
жесткую дилемму общеэстетического свойства вообще.
Однако реальное развитие искусства и в этом случае «хит-
рее» абстрактной теории. При рассмотрении «внемирной» орна-
ментики мы указывали [см. т. 1, с. 278; т. 2, с. 135 и ел.] на эсте-
тическую категорию декоративности, которая, прежде всего в жи-
вописи, представляет не только высшее общее определение всех
произведений, но и принципы опосредования в случае нашей ди-
леммы. Декоративность относится к конкретной целостности оп-
ределений любого произведения как продуцированной индивиду-
альности. Она характеризует двухмерное расположение и соеди-
нение всех его элементов, укрепляет и фиксирует созданный
«мир» — бытие-для-нас, ставшее бытием-в-себе, — именно в этом
его качестве бытия-для-нас, сковывает тенденции, которые, пре-
доставленные самим себе, могли бы, вероятно, чрезмерно усилить
реальный характер произведения, удерживая их в сфере эстети-
ческого. Вследствие своего глубоко опосредованного и притом
глубинного формального родства с орнаментикой принцип деко-
ративности может претендовать на относительно самостоятель-
ное значение и в случае миметического формообразования, а при
известных обстоятельствах может даже получить определенные
эстетические преимущества в структуре произведения; это зна-
379
чит, что двухмерная композиция может играть роль не просто
фактора равновесия между двух- и трехмерностью, но конечной
организующей силы произведения в целом. Разумеется, это всего
лишь пограничная ситуация, так как при ее полной победе ми-
метический характер произведения был бы уничтожен, дегради-
ровал бы до абстрактного орнамента.
В реальности художественного развития этот процесс всегда
осуществляется лишь как процесс более или менее решительного*
приближения к такой экстреме. Трехмерность сворачивается до,
так сказать, чисто идеального указания пространства и находя-
щейся в нем телесности; миметически отображенные образы и
предметы становятся только символом своего собственного бы-
тия; они, можно сказать, обладают лишь квазителесностью, ве-
дут существование цветных теней настоящего существования. Их
отношения редуцированы до упорядоченного ритмического сопо-
ложения, благодаря чему невольно обретают характер церемо-
нии; кажется, что они движутся и производят действия не в силу
собственных импульсов; их движения и действия становятся ско-
рее застывшими моментами некоего ритуала. И так как отнесен-
ность к двухмерному миру такого множества — это не просто
один из принципов его сочетаемости, придающих трехмерно-ре-
альному, пространственно-телесному «миру» произведения искус-
ства видимость синтеза, поверхностного единства, но всемогу-
щая сила эстетического гомогенизирования, то миметический ха-
рактер претерпевает качественное изменение: простая отобража-
тельность становится непосредственным способом проявления
всего, что изображено, в то время как мимесис, ориентированный
на развитую телесность и пространственность нормальным обра-
зом, придает произведениям искусства характер реальности. Не
требуется особо подчеркивать, что при этом речь идет не о «си-
муляции» действительности в смысле анекдота о Зевксисе; но
истинный мимесис всегда с несомненностью будет эвоцировать
представление и восприятие реальности. Простая отображатель-
ность как преимущественный способ проявления такого сведен-
ного к двухмерности мимесиса часто может, однако, растворить-
ся в бессодержательной игре, в буквальной декоративности, то
есть в простом украшательстве; но в то же время именно из этой
ее сущности может развиться содержательность sui generis,
именно ее внемирность может стать эвокативной основой особой
иллюзорности, пробудить в зрителе видения потустороннего.-
Повторяем: это пограничный случай, которым никоим обра-
зом не охватывается вся подлинная область декоративности, но
это и реальная — и в высокой степени чреватая последствиями
с точки зрения нашей проблемы — содержательная возможность
действия принципа декоративности, доминирующего в изобрази-
тельном искусстве. Сама по себе она может заполняться самым
различным эвоцированным чувственным содержанием. Она мо-
жет принять игровой характер, приблизиться к полнейшей бес-
380
содержательности и, так же как чистая орнаментика, служить
для украшения архитектонических плоскостей; но она может и
перевести этот игровой момент в собственно содержание и сде-
лать средством выражения игры свою сознательно ослабленную
предметность; наконец, она может использовать декоративное
господство двухмерности для выражения некоторой — светской
или церковной — репрезентации. Этому многообразию содержа-
тельного наполнения соответствует многообразие декоративного
формообразования; от чистой двухмерности эта шкала тянется
к состоянию ее значительного перевеса, то есть к весьма реальна
задуманному претворению пространства, когда, однако, само это
пространство опять-таки становится органом декоративной ре-
презентации, а восприятие пространства зрителем не возникает
в эвокативном становлении внешних или внутренних драматиче-
ских движений, в самораскрытии реальной предметности или
предметных отношений, но служит оживляющим элементом деко-
ративного украшения (вспомним о таких художниках, как Пин-
туриккьо).
В своем месте [см. т. 2, с. 138 и ел.] указывалось, что прин-
цип декоративности как категориальная структурная тенденция
искусства находит свой способ проявления в самом чистом виде
в изобразительных искусствах, прежде всего в живописи; в дру-
гих областях он повсюду носит более или менее смешанный,.
а подчас и просто метафорический характер. Несмотря на это.,
его наличие и действенность невозможно отрицать и в литера-
туре. На протяжении истории ее развития снова и снова возни-
кают тенденции, не" ориентирующие на радикальную закончен-
ность изображений человека, имманентной диалектики внутрен-
них сил человека в его борьбе с судьбой, но редуцирующие бытие
и отношения людей до состояния репрезентации. Разумеется^
существенно иной характер приобретает она в рамках гомоген-
ной посредующей системы повествовательного жанра, качествен-
но отличающейся от гомогенной системы опосредовании изобра-
зительных искусств. Благодаря этому эстетическая проблематика
в литературе издавна носит значительно более острый характер.
Ибо пространство и телесная предметность в нем, глубина в ее
диалектической взаимосвязи с плоскостью и т. д. здесь в опре-
деленном смысле обладают лишь метафорическим бытием. Хотя
любая подобная категория выражает известные принципы во-
площения образов людей и их судеб, их противоположность в го-
могенной посредующей системе поэтического языка гораздо бо-
лее антагонична, чем в красочной визуальности живописи. От-
сюда следует, что абстрагированное упрощение характеров и
судеб в повествовании должно оставаться движением, направ-
ленным на абстрагированное обобщение, и вряд ли может до-
стичь чувственности sui generis, осуществляемой декоративной
двухмерностью в живописи. К тому же и композиционные прие-
мы, направленные на априорную аранжировку,, функция симмет-
38t
рии и т. п. в литературе должны проявляться на уровне обоб-
щающе-мыслительном, отличном от человечески-чувственного
способа изображения. Ясно, что при таком положении естествен-
ная тенденция композиции, основанной на декоративности, в зна-
чительно более сильной степени, нежели в живописи, реализу-
ется в направлении содержательной обедненности. Но при всех
подобных оговорках налицо все же параллелизм, проявляющий-
ся в том, что это репрезентативно-декоративное упрощение форм
предметности в повествовании способно сформировать обширную
шкалу эмоциональных содержаний; от мистерий, autos sacramen-
tales, она простирается до придворных представлений масок,
рефлексы которых наблюдаются еще у Гёте. Так как здесь речь
идет о принципиальных вопросах искусства вообще, мы не мо-
жем подробнее проследить это противопоставление и в других
-областях. Следует лишь вкратце заметить, что в танце границы
противоположных принципов зачастую неощутимы и даже пол-
ностью исчезают, в то время как в музыке наблюдается тенден-
ция к снятию всякой подобного рода абстрагированности в кон-
кретной эмоциональной тотальности.
Если отвлечься от генетически-исторической ситуации, в пер-
спективе которой именно принцип декоративности в искусстве,
как правило, формируется раньше, чем принцип, ориентирован-
ный на изображение саморазвивающихся предметов, прежде все-
то людей, — то уже из самого существа дела следует, что любая
религия, стремящаяся не просто подавить искусство, но подчи-
нить его своим собственным целевым установкам, присоединяет-
ся к описанным нами особенностям сотворения аллегории. Ко-
нечно, понятие декоративности шире и объемнее, нежели понятие
аллегории. Однако там, где декоративный способ изложения
кристаллизуется в содержании, предназначен для его выраже-
ния, неизбежно возникает нечто аллегорическое или по меньшей
мере к нему стремящееся. Не случайно, что подавляющее боль-
шинство придворно-репрезентативных произведений искусства
(или формообразований, создаваемых с претензией на искус-
ство) отличается аллегорическим характером. Но решающим со-
четанием для степени искусности искусства остается сочетание
данного религией социального запроса к искусству с его соб-
ственными формами декоративности, в которых возникает пусто-
та между необходимо сниженной чувственной эвокативностью и
непосредственной бессодержательностью. По видимости, эту пу-
стоту заполняет предписываемая религией трансцендентная со-
держательная отнесенность, так как благодаря ей ослабление
предметности предстает не как недостаток, но как необходимое
свидетельство дистанции, отделяющей все земное от потусторон-
него. Это сочетание составляет основу длительности эстетическо-
го воздействия значительных аллегорических произведений ис-
кусства; вспомним о лучших византийских мозаиках, о множе-
стве произведений искусства Востока, об отдельных произведе-
382
ниях Кальдерона и т. д. В этих произведениях возникающее
таким образом трансцендентное внутреннее содержание излива-
ется на декоративную форму, преисполняя ее прозрачным сия-
нием иллюзорности; отсюда — эстетическая сущность определен-
ных вершинных достижений связанного с религией аллегориче-
ского искусства. Однако и сюда проникает основное противоре-
чие воздействия аллегорического, а именно: пока общая религи-
озность лежит в основе того трансцендентного содержания, вы-
разить которое призвано аллегорическое произведение, воздей-
ствие этого произведения опирается на помощь веры, а его худо-
жественные качества создают всего-навсего аксессуарную под-
держку. Если же это содержание будет предано забвению и даже
просто подвергнется существенному изменению, то перед вос-
принимающим субъектом предстанет нечто непонятное, так как:
изображенные формы не могут выступать реальными органами-
опосредования конкретного трансцендентного содержания. С эс-
тетической точки зрения речь в таком случае может идти лишь
о собственной ценности декоративно представленных связей,,
о том, в состоянии ли они сами по себе вызвать эстетическую
эвокацию, пусть даже сниженного неполноценного рода. Приве-
денные выше пограничные случаи не могут ликвидировать этой
фундаментальной ситуации. Ибо — как мы могли констатировать
это относительно магии через Платона вплоть до позднейших,
религиозных требований к искусству—подобный социальный за-
прос всегда подчеркивает теологически-ритуальную фиксацию и<
поэтому в большинстве случаев препятствует постоянному само-
обновлению искусства, его обращению к новым чувственным со-
держаниям, непрерывно производимым общественно-историче-
ской .жизнью и непрерывно обновляющим в эстетически нор-
мальных условиях содержание и формы искусства.
Лишь отсюда становится очевидным, до какой степени исто-
рической удачей, хотя и никоим образом не случайной, были*
специфические обстоятельства, создавшие условия развития ан-
тичности и западноевропейского средневековья. В огромном
большинстве стран, прежде всего восточных, искусство (как и
наука и философия) оставалось под религиозным, теологическими
контролем и поэтому в общем развивалось по линии аллегории.
Само собой разумеется, что повсюду существовала борьба на-
правлений, попытки прорыва к миметическому отражению дей-
ствительности в собственно эстетическом смысле. Достаточно*
вспомнить о периоде Эль-Амарны в Египте; но наряду с этим
самым естественным образом сходные столкновения обоих осно-
вополагающих эстетических принципов происходили в Индии,
Китае и т. д. Конкретное раскрытие этого спора и его судьбы на
материале конкретных изменений общественно-исторических ос-
нов художественной практики должно стать задачей историко-
материалистической всеобщей истории искусства. В наших на-
блюдениях, где речь идет исключительно о вскрытии эстетиче-
383»
<ской проблематики и ее противоречий, следует удовлетвориться
этим скупым указанием, тем более что упомянутые выше пред-
варительные наметки имманентно-жизнеспособного эстетического
мимесиса никогда не были в состоянии надолго повлиять на ос-
новную линию развития искусства Востока. Такую устойчивую
тенденцию в противоборстве обоих направлений, как подлинно
освободительная борьба эстетического принципа против засилья
религиозно-магического мышления и представлений, можно на-
блюдать лишь на Западе. Историческая уникальность этого раз-
вития ни в коем случае не означает, однако, что мы имеем дело
с исторической случайностью. Напротив, уже сам факт того, что
это развитие, как мы и до сих пор неустанно констатировали,
протекало параллельно с развитием науки в подлинном смысле
слова, с последовательным внедрением дезантропоморфирующе-
го отражения, с завоеванием господствующего положения эти-
кой, ориентированной на земную имманентность, указывает на
глубинную закономерность социальных основ обеих сторон раз-
вития, которые приобрели главенствующее значение именно на
Западе. Естественно, здесь неуместно подробно излагать научно
обоснованным образом социальные условия этого развития. Как
и ранее, мы должны удовлетвориться констатацией тех общих
мест в науке, того всем известного положения вещей, что только
греко-римская форма разложения первобытного коммунизма
привела к созданию полиса, базирующегося на рабовладельче-
ской экономике, и что только тенденции его разложения в ком-
бинации с общественными формами германских племен создали
феодализм, внутренняя проблематика которого в свою очередь
достигла кульминации, порождая капитализм; что капитализм
есть такая формация, противоречия которой ведут к социализму.
Так в Европе (вначале в районе Средиземного моря, а затем и на
всей западной части континента) осуществлялось своеобразное
общественно-историческое развитие, не находящее себе аналогии
в остальных частях света. Противоречие двух линий развития
создает основу для своеобразия автономного развития науки и
искусства на европейском Западе, самооткрытия этих двух форм
отражения, осуществляющих затем подобное преобразование во
всем мире.
С точки зрения эстетики речь идет о способе отражения и со-
ответственно изображения человека, его судьбы. Общеизвестно,
что в классической античности, а также на том пути, который
средневековое искусство проторило к Ренессансу, подобное изу-
чение человека универсальным образом ставилось во главу угла;
в том, каковы были чисто эстетические следствия такой ситуа<
ции, насколько они подлежат оценке, также нет места сомнению.
•Но что же означает это продвижение человека в центр того кос-
моса, который, с человеческой точки зрения, представляет инте-
рес? Где коренится конвергентность мировоззренческого и эсте-
тического аспекта подобных устремлений? Ответ на это не нуж-
384
но долго искать: человек как средоточие человеческих интересов
эстетически конвергирует с фундаментальной позицией искус-
ства, с последовательной антропоморфизацией; мировоззренчески
же это идентично посюсторонней, земной ориентации относитель-
но действительности, что со своей стороны — в художественном
выражении — обнаруживает глубинно обоснованное родство с
внутренней содержательной замкнутостью произведения как про-
дуцированной индивидуальности, с его миросозидающим харак-
тером. Человек в центре внимания — это для искусства не пря-
молинейная одномерная «программа», но в той степени, в какой
«программность» здесь наличествует, она присутствует в целевой
установке на овладение действительностью человеком для чело-
века, на мир как самосотворенную родину человека. Но «роди-
на» эта никак не означает здесь незаслуженного, получаемого
как милосердный дар райского блаженства. И даже если это по-
нятие носит идиллический характер, даже в тех случаях, когда
потерянная «родина» предстает как «золотой век», она должна
выступать стимулом, призывом к борьбе и труду, к завоеванию
утраченного во имя настоящего и будущего. Поэтому глубочай-
шим откровением звучит у великих творцов от Софокла с его
хором в «Антигоне» до Горького признание высшей ценности
человека среди всех реально существующих вещей. Поэтому
утверждение посюсторонности бытия простирается от идиллии
до трагедии и именно в последней достигает своих высочайших
вершин, своей глубинной самозавершенности.
В рамках подробного обзора всего созданного искусством в
ходе тысячелетий именно трагедия предстает как форма выра-
жения наиболее яркого, интенсивного, земного самосохранения,
самосовершенствования человека. И в то время как в ней глубо-
чайшие собственные силы человека терпят поражение в борьбе
с судьбой и с внутренними обстоятельствами, миметическое ото-
бражение видимого мира с равной однозначностью стремится
к постижению и воплощению красоты обнаженного человеческо-
го тела. Оба эти явления теснейшим образом связаны, и не слу-
чайно классическое искусство Эллады параллельно достигло вер-
шин в том и в другом: с одной стороны, в изображении физиче-
ского облика уже сформировавшегося в известной мере «челове-
ка в себе» в его освобожденном от всех чуждых определений,
только из него самого состоящем и только на нем основанном
бытии; с другой — в изображении высшего напряжения всех его
физических и психических, интеллектуальных и моральных сил,
испытываемых в борьбе против внешней и внутренней враждеб-
ности в коллизиях, которые возникают из противоречий обще-
ственной жизни, производимых и воспроизводимых самим чело-
веком, так что эта борьба, даже если отдельный человек в ней
гибнет, даже если его поражение типично для данного этапа раз-
вития человечества, несет в себе торжество подлинно земных
способностей человека. Выделение обеих этих вершин эстетиче-
25—805
385
ской имманентности, провозглашаемой искусством посюсторон-
ности, призвано высветить не особенности жанров, но главные
направления его мировоззренчески-эстетического единства. Внут-
ренняя связь греческой трагедии с гомеровским эпосом ясно по-
казывает эту закономерность, к тому же Гомер подчас еще более
безоговорочно посюсторонен в концепции человека и человече-
ских судеб, чем некоторые трагедии. Всякий, кто хотя бы бегло
изучает развитие итальянского искусства, неизбежно видит, на-
сколько внутренний драматизм движений, характеризующий че-
ловека, а также то место, которое он занимает в рамках компо-
зиционной целостности исключительно вследствие ее заданное™,
уже у Джотто, а точнее, начиная с Мазаччо, ориентированы н,а
изображение человека в себе, в его законченно-земном совер-
шенстве, в его прекрасной наготе, безразлично, нагота ли это
Венеры Джорджоне или скульптур Микеланджело. Понимание
всей полноты этого развития, его всемирно-исторического значе-
ния обедняется, если воспринимать его как «чисто» эстетическое
или даже как художественно-техническое. Оба движения, как
античное, так и ведущее от средневековья к Возрождению, в сво-
их глубочайших внутренних мотивах представляют собой миро-
воззренчески обусловленное контактирование с важнейшими
жизненными проблемами своего времени. То, что это находит
свое отражение в форме все новых интерпретаций некогда гос-
подствовавших мифов, является художественным достоинством
обоих периодов, так же как возможность осуществлять это сред-
ствами искусства — достоинством социальным, которое открыва-
ется лишь в обрисованной нами перспективе исторического раз-
вития. Однако не следует механически отождествлять оба перио-
да; в более позднем из них, как мы видели, художественная, то
есть посюсторонняя, интерпретация библейских мифов является
результатом исподволь ведомой упорной партизанской войны
между церковью и искусством, хотя вначале она никогда не объ-
являлась открыто и даже, очевидно, сознательно не воспринима-
лась как таковая ни самими художниками, ни теми, кому были
адресованы их творения. Но с философской точки зрения здесь
выступает объективный характер этого противоборства и его ми-
ровоззренческие последствия в той мере, в какой они находят
отражение в произведениях, из чего с однозначной очевидностью
следует неизменная посюсторонность этих последних, их соотне-
сенность с земным человеком, от которого они отталкиваются и
к которому постоянно возвращаются.
С одной стороны, мы видели, что мировоззренческая посюсто-
ронность и эстетическая имманентность структуры произведения
являют собой тенденции, находящиеся в отношении резкой кон-
вергенции, и их направления обусловлены последовательно ант-
ропоморфирующей сущностью эстетического отражения. Содер-
жательно и формально возникающее на этой почве эстетическое
полагание стремится поэтому создать мир человека, в котором —
386
если только такое стремление находит свое подлинное, глубокое
и поэтому всеобъемлющее проявление — невозможно субъективно
воспринимать человека в его отношении к внешнему миру. Это
значит, что искусство нацелено на отражение данного отношения
в его объективной истинности, что оно отводит желаниям, иллю-
зиям, воображению человека именно то место, тот ранг в общем
комплексе изображаемого, которые им объективно присущи; ис-
торические границы этой объективности относятся к тем опреде-
лениям произведения как индивидуальности, которые мы уже
неоднократно привлекали к рассмотрению в качестве его несни-
маемой историчности. Последовательная антропоморфизация ис-
кусства предполагает, далее, что отображенный им мир ни пред-
метно, ни по своей концептуальной сущности не будет ограничен
рамками частного субъективизма. То, что ранее было определено
как особенное, как типическое, здесь обретает облик посредую-
щего звена между искусством и жизнью, причем такого, которое
одновременно способствует процветанию искусства как искус-
ства и стимулирует его укорененность в сущностных жизненных
отношениях человека, которое помогает искусству обрести черты
совершенства и в этом его качестве нести важную миссию в раз-
витии человечества. В сущности говоря, одна из центральных
проблем человеческого бытия — так преобразовать партикуляр-
ность любого отдельного его проявления, чтобы она не только не
препятствовала, но прямо способствовала бы успешному выпол-
нению его важнейших задач. Здесь, разумеется, невозможно опи-
сать в подробностях, как действуют в этом направлении наука,
этика и т. д.; эти их функции мы охарактеризовали в другой
связи и еще к ним вернемся. Что касается эстетического отраже-
ния образов объективной действительности, влияния создавае-
мых таким путем структур на человека, то мы уже ранее кон-
статировали, что такое преобразование непосредственно данного
в жизни исходит именно из перевода частного в типически пред-
почитаемое (в особенное), чем частное не уничтожается, но, со-
храняясь, снимается. Наша постоянная полемика как с класси-
ческим понятием «общечеловеческого», так и с любым видом
натуралистической непосредственности, с изобразительной при-
верженностью частностям направлена именно на то, чтобы одно-
временно четко отграничить специфическую сущность эстетиче-
ского полагания, самое существо создаваемой им «середины»
как от абстрактной всеобщности, так и от эмпирической парти-
кулярное™.
С другой стороны, именно в этом вопросе религиозное пола-
гание свидетельствует о своей резкой противоположности эсте-
тическому, демонстрируя непоследовательное антропоморфирова-
ние. Противоположность проистекает из неизбежного притяза-
ния религии представить антропоморфированно отраженное в его
исходной (следовательно, антропоморфирующей) форме одно-
временно адекватным, и даже единственно адекватным, выраже-
25*
387
нием объективной действительности. (Часто упоминаемая нами
структура бытие-в-тебе — бытие-для-нас эстетических образо-
ваний ipso facto выступает как отказ от такого рода объектив-
ности.) Фундаментальное противоречие, естественно, еще заост-
ряется сравнительно с дезантропоморфирующим отражением,
так как объективность, объективное бытие означает именно не-
зависимость от человеческого сознания, причем не просто в выс-
шей, уже ставшей полностью бессодержательной абстракции, по-
добной вещи в себе у Канта, а в связи с определенными конкрет-
ными содержаниями и формами сущего-в-себе мира. Религиозное
чувство со времен Паскаля выражает вынужденное признание
этого фактического положения вещей следующим образом: объ-
ективная действительность обозначается как «богооставленный»
мир и признается необходимым приписать религиозным содержа-
ниям лишь субъективный источник, лишь на субъективности ос-
нованную «реальность». В дальнейшем мы подробнее займемся
различными сторонами возникающей отсюда проблематики,
а здесь следует лишь бегло подчеркнуть эту самую общую сто-
рону противоречивости религиозных притязаний на объектив-
ность, на охват сущей-в-себе реальности, чтобы перед нами и
с этой стороны тоже со всей очевидностью предстало родство
аллегории с религией, после того как мы уже изложили эстети-
ческие принципы их духовной близости. Притязание выступать
в качестве объективной действительности, а не ее антропомор-
фирующего отражения означает, если исходить из эстетического
аспекта, наличие противопоставленного художественным обра-
зам, независимого от них трансцендентного содержания. Непо-
следовательный характер религиозного антропоморфирования
расширяет возникающую таким образом пропасть между эсте-
тически оформленным чувственным и этой трансцендентностью
еще и благодаря тому, что ее выражение необходимо должно
обладать понятийным, то есть дезантропоморфирующим, харак-
тером; даже когда трансцендентность выходит за пределы любой
человеческой формы выражения (негативная теология), ее кон-
кретизация, указание на место, занимаемое ею в космосе, в той
же степени должны высказывать понятийную, дезантропоморфи-
рующую сущность. Так религиозная антропоморфизация именно
там, где она достигает своих вершин, поневоле переходит в фор-
мально-научную, а по содержанию в псевдонаучную форму, так
как высказывания, претендующие на определение реальности, но
фактически или даже принципиально не верифицируемые, по са-
мой своей сущности псевдонаучны или в лучшем случае (как
в обыденной жизни) донаучны. И как всегда в подобных случаях
с теоретико-познавательными проблемами, при транспозиции в
область эстетического содержание последнего должно быть гете-
рогенно содержанию самого изображаемого: чувственно-нагляд-
ный мир произведения искусства, говоря эстетически, находит
свою кульминацию в ничто, в мрачном провале, в эстетически
388
ничего не говорящей абстрактной всеобщности. (Мы уже неодно-
кратно показывали, как искусство возвращает общее человеку
и таким путем превращает его в особенное.)
Живой диалектикой системы эстетических категорий объясня-
ется то, что в конечном итоге абстрактной всеобщности содержа-
ния должна соответствовать партикулярность основания, так как
только особенное, будучи средоточием, «серединой», в состоянии
обеспечить полную гомогенизацию общей совокупности предме-
тов в рамках произведения как индивидуальности; возвышение
любой частной предметности до типического, однако, каждый
раз замещается уже упомянутым процессом затвердения в
частном, если не может осуществиться последовательная перера-
ботка совокупности жизненного материала в соответствующее
ему особенное. Но здесь возникает не простая, так сказать, спон-
танная партикулярность обыкновенного натурализма, но скорее
такая партикулярность, когда остановка на этом уровне находит-
ся в прямой корреляции с любой решающей, высшей, абстракт-
ной всеобщностью. Достаточно продемонстрировать эту пробле-
му на таком простом примере, как придворное представление
масок. Хотя день рождения государя в связи, например, с бога-
ми, нимфами и т. п., играющими при этом свои роли, — это пло-
ское и пустое общее место, не обладающее какой бы то ни было
глубиной, но именно поэтому он выступает по отношению к лю-
бому образу или ситуации как абстрактная трансцендентность.
Следовательно, образы или ситуации в их саморазвитии до уров-
ня типического не могут получить никакой помощи от собствен-
ного «конечного» содержания произведения, не говоря уже о том,
что это их содержание изначально действует как скрытая конеч-
ная точка, как невысказанная цель собственного развития. А вы-
ше мы неоднократно показывали, что проявление судьбы (ди-
намики воплощенного в образах внешнего мира) может полу-
чить подлинно художественное выражение лишь как открытое
провозглашение специфических внутренних свойств и проблем
изображаемых субъектов.
Абсолютное господство декоративного принципа, о котором
идет речь, функционально создает замену столь остро ощутимой
в художественно отображаемом мире нехватки предметности,
отношений, роста и т. д.; сама эта замена имеет эстетический
характер, хотя она — фигурируя не как корректива и регулятор
изображения в собственном смысле слова, а как единичный но-
ситель композиции — пребывает у самых границ области эстети-
ческого, будучи в состоянии сформировать гомогенную посредую-
щую систему, но не придать ей миросозидающую силу. Ясно,
что при этом те моменты, которые были в свое время определе-
ны нами как абстрактные формы эстетического отражения (про-
порция, симметрия и т. д.), здесь в столь же значительной мере
должны быть направлены на то, чтобы стать всеопределяющей,
упорядочивающей силой. В геометрической орнаментике они до-
389
стигали этого в совершенной адекватности с формируемым ими
материалом; в чистых манифестациях миметики они необходи-
мым образом становятся в высшей степени важными, но по сути
своей всего лишь регулирующими пограничными категориями
первичной предметности. Лишь в аллегорическом преобразова-
нии трансцендентных содержаний они должны художественно
овладеть миметическим предметом, не обладая возможностью
самостоятельно развить его конечное воплощение за счет своей
собственной сущности. Так возникает уже упоминавшаяся деко-
ративная замена подлинного изображения, вынужденным след-
ствием которой является то, что ничто частное, будь это человек
или предмет, не может саморазвиться в типичное; оно застывает
"в своей партикулярности, и все формирующие силы, эстетически
(или псевдоэстетически) упорядочивающие его »простое сополо-
жение, противостоят этой партикулярности непосредственно (или
чисто формально опосредованно) как абстрактные общности. По-
этому аллегорию можно трактовать как некий (достаточно про-
блематичный) тип формообразования в рамках эстетики, так как
в ней вопреки всем антихудожественным встречным тенденциям
возникает чувственно гомогенное отображение действительности,
хотя это последнее и не выходит за рамки внемирного, абстракт-
ного сочетания частности и абстрактной общности, которое, до-
стигая длительного воздействия, осуществляет его лишь на уров-
не декоративной бессодержательности: исходная трансцендент-
ность более или менее выветривается и оставляет после себя
в лучшем случае очарование колористически упорядоченной бес-
содержательности.
Правильность такого противопоставления аллегорического и
символического искусства наиболее отчетливо выявляется в ти-
пичных феноменах образной миметики: в изображении человека
нагого и человека трагического. Первый комплекс мы можем
обрисовать немногими словами. Уже книга Бытия рассматривает
состояние человеческой наготы как нечто, чего человек должен
стыдиться; знание о добре и зле прежде всего выражается как
стыд наготы. Отвращение любого решающим образом обуслов-
ленного религией искусства от изображения нагого человека од-
нозначно подтверждается историей. И даже в искусстве Востока
мы видим — причем нередко — вытеснение человека вообще из
центра эстетического воплощения видимой вселенной; это искус-
ство часто и охотно поднимается над анатомо-физиологическими
характеристиками человека и выходит в область мифологически-
фантастическую, комбинирует человеческое тело с разнообраз-
ными звериными головами и т. п. и даже зачастую именно жи-
вотное помещает в центр. Изучение человека как объекта искус-
ства— это всегда результат освободительной борьбы искусства
против засилья религии.
Столь же очевидно (а в философском аспекте еще более со-
держательно) высказывается этот контраст в трагедии. Упомя-
390
нем, кстати, что ее становление в основном совпадает с освобож-
дением искусства от ярма религиозности. Но противопоставление
становится более резким, если мы рассматриваем его теоретиче-
ски. Кьеркегор, к чьим интеллектуальным добродетелям прежде
всего относится безоговорочный отказ от тех определений, кото-
рые он считал несогласуемыми и даже противоречивыми, однаж-
ды противопоставил трагедию Агамемнона и Ифигении чисто-
религиозному жертвоприношению Исаака Авраамом. Пример
выбран удачно еще и потому, что в обоих случаях конфликт —
принесение в жертву божеству самого дорогого для человека —
разрешается вмешательством высшей силы. Но Кьеркегор по
праву акцентирует радикальную противоположность содержа-
тельного наполнения конфликтных ситуаций, столь же справед-
ливо находя ее как в содержании представляемой коллизии, так
и в личном отношении к ней соответствующих главных персона-
жей. Он говорит: «Трагический герой все еще остается в грани-
цах этического». Это значит, что его глубочайшие личные стра-
дания вступают в конфликт с определенными общими интереса-
ми: Агамемнон должен принести в жертву свою дочь ради об-
щего блага греков; божественное предстает здесь как власть
общественно-человеческих отношений: «Трагический герой не
вступает с божеством в приватные отношения; божественным
является этическое...» Тем самым коллизия основывается на
враждебной противопоставленности двух равно посюсторонних
и мирских жизненных сил или жизненных кругов. Совсем иное —
с Авраамом. Он велик благодаря «чисто личной добродетели...
Авраам перешагивает через общий уровень не для спасения на-
рода, не для утверждения идеи государства, не для смягчения
разгневанных богов». И отмечая таким образом контраст траги-
ческого героя с религиозным человеком, с «рыцарем веры», Кьер-
кегор приходит к важной для нас констатации: «Человек может
собственными силами стать трагическим героем, но не рыцарем
веры»67.
Уяснив вкратце суть этого четкого противопоставления, мы
приходим к следующим результатам: во-первых, трагедия — это
точка столкновения двух этических сфер, но вместе с тем по всей
своей субстанции она остается земной, посюсторонней; и по
Кьеркегору, как мы об этом говорили выше [с. 385], трагедия
демонстрирует вершину человеческой имманентности: глубочай-
шую внутреннюю противоречивость, которая, однако, именно по-
этому и является ее имманентной кульминацией и нигде над со-
бой не поднимается. Во-вторых, трагический герой в простом
акте представленной коллизии перешагивает границы своей соб-
ственной, строго личностной партикулярности. В этом отношении
Кьеркегор полностью согласен с тем самым Гегелем, на которого
обычно он так яростно ополчается и который говорит по этому
поводу следующее: «Эта цель, суть всего дела, выше широты ин-
дивидуальных особенностей, поскольку индивид является только
391
как живой посредник и одушевляющий носитель действия»68.
Отсюда, как показывает в целом учение Гегеля о трагическом
пафосе, с необходимостью следует, что разрешение трагической
коллизии неуклонно усиливает это движение, удаление от про-
стой частности, В связи с этим Кьеркегор справедливо замечает:
«Трагический герой переходит от надежного к еще более надеж-
ному, и глаз зрителя беззаботно покоится на нем». Напротив,
у «рыцаря веры» нравственный аспект и связанное с ним обоб-
щение партикулярного в человеке вообще не фигурируют; то, что
он делает, — это «чисто частное предприятие. Следовательно,
в то время как трагический герой велик своей нравственной доб-
родетелью, Авраам велик благодаря чисто личной добродетели».
И Кьеркегор бескомпромиссно и последовательно делает вывод
из этого соотношения: «Вера — это парадокс, согласно которому
отдельный (частный человек. — Д. Л.) выше общего (человече-
ски-посюсторонней нравственности. — Д. Л.)...»69
Разумеется, у Кьеркегора все контрастирующие определения
и парадоксы появляются в заостренном виде. Но это затрагивает
не саму суть постановки вопроса, а лишь исторический аспект
ее конкретного проявления. Вспомним привлекавшийся нами
факт выступления Тертуллиана против катарсиса [с. 343 и ел.];
общее с Кьеркегором состоит здесь в том, что оба по праву ви-
дят в религиозном поведении практику частного индивида, кото-
рый благодаря своей вере вступает в непосредственные отноше-
ния с трансцендентным божеством. Ради этого единственно важ-
ного жизненного отношения Тертуллиан отбрасывает даже
душевное участие в иначе ориентированных человеческих судь-
бах, а Кьеркегор показывает, что это участие (в том числе и там,
где оно выступает в своей высшей форме, а именно в трагедии)
принципиально менее ценно, ничтожно по сравнению с отношени-
ем человека с богом, и притом именно потому, что в нем частная
личность и трансцендентный бог непосредственно соотносятся
друг с другом таким неповторимым образом. Следует добавить,
что формулировка Кьеркегора умышленно парадоксальна. Но,
с одной стороны, эта парадоксальность не выходит за пределы
христианских воззрений на отношения человека с богом; он все-
го лишь перефразирует то «безумие», которым эти воззрения
(согласно Посланию к коринфянам) должны обладать в глазах
язычников, то есть людей, ориентированных на посюсторонность;
с другой стороны, намеренное обострение ситуации целиком объ-
ясняется общественно-историческими обстоятельствами. Тертул-
лиан писал в условиях, когда реальное руководство человеческим
общежитием находилось в руках языческого государства, языче-
ского общества, когда вследствие этого общественная и частная
мораль, вся культура направлялись враждебными христианству
силами. Со своей стороны Кьеркегор поднял эту проблематику
в период, когда весь социальный мир был уже полностью «обез-
божен», и по праву воспринимал христианские предписания в ад-
392
pec ставших уже целиком земными и мирскими установлений как
кощунство. Между этими периодами лежит средневековье, ка-
чественно отличающееся от них тем, что в то время вся светская
жизнь человека представлялась встроенной в религиозно-церков-
ную иерархическую систему усилиями теологии и ориентирован-
ной на теологию философии.
Здесь мы не будем рассматривать, как возникла такая идео-
логическая ситуация, какого рода внутренними и внешними про-
тиворечиями она отличалась, как они развивались и т. д. Для
нас важно лишь то, что при таком монументальном и монолит-
ном регулировании всей земной жизни людей должны были осу-
ществляться необходимые компромиссы между посюсторонней
этикой и направленной на потусторонность религиозной верой
в форме субординированного положения первой относительно
второй. Затрагиваемая здесь конечная сущность отношений с бо-
гом этим не переворачивается, однако ее антитеза выступает уже
не в столь резко парадоксальной форме, как это было ранее
у Тертуллиана или позднее у Кьеркегора. Но на то, что она ла-
тентно действует, указывает «спонтанное» исчезновение высшей
формы внутренней противоречивости земной этики — трагедии.
Поэзия Данте явно исполнена трагедий. Но они, можно сказать,
выступают на видимую поверхность лишь per neîas. Только в
рамках описанного нами кризиса католицизма и после него ста-
ло возможным полностью открытое воплощение трагедий в рам-
ках круга его идеологического влияния (имея в виду и художе-
ственную форму). Радикальное изменение идеологических отно-
шений религии и общества выказывается не только в вынуж-
денном предоставлении мирской жизни в распоряжение писате-
ля-трагика, но и в том, что смогли появиться на свет [даже
такие трагедии, основной конфликт которых проистекает из ре-
лигиозного отношения к действительности, как в «Стойком прин-
це» Кальдерона или в «Полиевкте» Корнеля. Из религиозного
поведения неизбежно возникает как конкретная основа трагиче-
ской коллизии, как носитель трагического пафоса глубоко про-
никающая внутренняя художественная проблематика. Лессинг
энергично выдвигает на первый план это противоречие в траге-
диях Корнеля: «Ожидание им награды блаженства за пределами
этой жизни не противоречит ли тому бескорыстию, которым, по
нашему желанию, должны отличаться все действия, происходя-
щие на сцене с начала и до конца?»70 Но вопреки этой пробле-
матике в таких трагедиях все же действуют тенденции, согласно
которым религиозные страдания, по существу, на равных правах
присоединяются к другим, земным, человеческим, и тем самым
их внутренней диалектике приписываются посюсторонне-имма-
нентные моменты. Когда Кальдерон пишет свои autos sacramen-
tales, то сам дух их содержания и формы более чужд, более по-
лярен духу «Стойкого принца», чем дух этой трагедии — духу
трагедий светских.
393
Теологическое руководство культурой и аллегория как прин-
цип художественной формы смыкаются вследствие этого во всех
важных вопросах формы и содержания. Мы неоднократно ука-
зывали, что уже магизм обнаруживает тенденцию подчинять все
детали изображения точно предписанным им ритуалам [см. т. 2,
с. 44], что этот принцип действует всегда, пока каста жрецов
в состоянии отстаивать свое господствующее положение, что та-
кая концепция отношения религиозно управляемой общественно-
сти к искусству была философски сформулирована Платоном
и т. д. То, что искусство связано с необходимостью выражать
трансцендентное содержание, влечет за собой в этом случае и
внешнее формальное ограничение: переход художественных форм
в ритуальные церемонии. (Выше [с. 389] мы убедились, что в
случае светских, таких, как придворные, аллегорий проявляется
та же структура, только с более плоским, более конвенциональ-
ным содержанием.) Решающее различие между аллегорией и
символикой тем самым обосновывается таким же образом, ка-
ким приводятся в действие социальные запросы к искусству, ибо
несомненно, что описанное влияние на искусство религии и тео-
логии представляет собой конкретную форму социального зада-
ния, отличающегося от других «лишь» значительно большей
определенностью. Но именно это «лишь» и создает качественное
противопоставление аллегории и символа, причем точно предпи-
санная соотнесенность всех деталей с трансцендентным содержа-
нием препятствует как самостоятельному развитию изображае-
мой предметности, так и гибкому приспосабливанию художе-
ственных содержаний и форм к постоянным изменениям конкрет-
ных общественных потребностей. Соответственно речь идет об
освободительной борьбе искусства не как о пустом идеале «аб-
солютной» свободы; таковой просто нет и быть не может с обще-
ственной точки зрения, и даже попытка ее осуществления, осво-
бождения искусства от социальных к нему запросов, несла бы
искусству (причем именно подлинному искусству) угрозу гибели,
так как неизбежным следствием такого рода «абсолютной само-
стоятельности» было бы опустошение содержания, обеднение
формы. Итак, освободительная борьба искусства с точки зрения
всемирной истории — это борьба за то, чтобы социальное зада-
ние к нему общества достигло той золотой середины между об-
щей определенностью содержания и свободной подвижностью
формы, благодаря которой только и может искусство выполнять
свою миссию самосознания человеческого рода. Религиозно-тео-
логические социальные задачи, как правило, с точки зрения ис-
кусства одновременно чужды предметности, абстрактны и в выс-
шей степени жестко определены. Как мы видели, они не дают
«сценического пространства» для эстетического раскрытия худо-
жественной предметности. Их особенность определяется как раз
закономерным, устранением: самостоятельности изложения и от-
клонений от религиозных догм. Из-за этого такое практически
394
столь влиятельное социальное задание принципиально закрывает
возможности для проявления в искусстве изменений содержания,
а вместе с тем и формы, которые подсказываются жизнью. Гос-
подство аллегории, возникающее таким путем, — это одновремен-
но и процесс окостенения формы. С отказом от права самостоя-
тельной интерпретации важных явлений социальной действитель-
ности с позиций направленного непосредственно на нее саму со-
циального запроса (интерпретация мифов и легенд — это особая
разновидность проблематики данного феномена) искусство теря-
ет и инициативу, и возможность постоянного обновления формы.
Как повсюду в эстетике, здесь теория также на столетия и
даже на тысячелетия отстает от практики. Спонтанная аллего-
ризация мифов, конечно, изначально наличествовала как в лю-
бой теологии, так и во многих философиях, стремившихся от
теологии освободиться. Но осознанной теорией аллегорическая
интерпретация становится лишь в то время, когда мифы и их
художественные обработки еще составляли важную составную
часть живой культуры, но были уже решительно отчуждены от
исключительно духовных (философских или религиозных) тече-
ний. Чтобы вживить их в современность, для определенных ду-
ховных течений становится необходимым их аллегорическое из-
ложение. Но оно по большей части лишено эстетической ориен-
тации, а имеет намерением всего лишь удалить благодаря опре-
деленной интерпретации все идеологически вредное из опреде-
ленных переложений мифов (в античных — прежде всего это
касалось Гомера) и тем самым поставить их на службу миру
соответствующих идей. Так, стоик Гераклит пишет о Гомере:
«Против Гомера безнаказанно открыли острый и язвительный
спор из-за его намеренно принижающего обращения с религией.
И впрямь, если его повествование лишено образного смысла, то
он сплошь вольнодумец. В обоих его эпосах кишат безбожные
истории, исполненные враждебного богам неразумия. Если счи-
тать, что это просто поэтические рассказы, лишенные философ-
ского значения и какого бы то ни было аллегорического смысла,
скрытого на заднем плане, тогда Гомер, наверное... страдал по-
стыдным недугом необузданности языка»71. Аллегоризирующий
метод тем самым еще не представляет тенденции, непосредствен-
но ориентированной на эстетическое, но и в этом своем качестве
он уже осознает себя и свои средства, так как тот же Гераклит
ясно формулирует и его определение: «Выражение, говорящее
нечто отличное от подразумеваемого, называется аллегорией»72.
В исторической ситуации, ориентированной полностью по-иному,
этот метод был принят философами и теологами-патристами.
В ожесточенных и жизненно важных для христианства дискус-
сиях с гностицизмом, с различными языческими и еретическими
направлениями первые представители христианской догматики
должны были, с одной стороны, твердо придерживаться воззре-
ний на Библию как на откровение, с другой стороны, многие при-
395
веденные там мифы и даже воззрения выступали как препят-
ствие при опровержении ими еретических взглядов, при система-
тизации их собственных догм. Исходя из этих потребностей,
вновь развивается метод аллегорической интерпретации, также
прежде всего на базе единой мыслительной системы, причем на
эстетику он ориентирован не главным образом, хотя и несомнен-
но (прямо или косвенно) находится под сильным влиянием
раннехристианской художественной практики. Так, Климент
Александрийский пишет: «Все теологи среди греков и негреков
(раннего времени) скрыли суть вещей и передавали истину
загадками и символами, аллегориями и метафорами». Высказы-
вания Оригена методологически этому близки, как и приведен-
ные мнения стоиков о разительном расхождении между непо-
средственным смыслом библейских мифов и тем истинностным
значением, которое за ними религиозно закреплено: «При стрем-
лении к соединению букв и дословному восприятию текста Свя-
щенного писания обязательно увидишь, хотя стыдно это сказать
и признать, что Бог дал законы, в сравнении с которыми законы
языческих народов, например римлян или афинян, выглядят и
намного великолепнее, и намного разумнее»73. Разработанный
здесь метод образования аллегорий по аналогии, разумеется, не
ограничивается святоотеческим периодом. Всякий раз, когда из
библейских текстов выводятся следствия, которые не могут в них
содержаться, этот метод привлекается заново, как это сделал
Иоахим Флорский, пытаясь вывести на основе Библии свое
революционное по замыслу «третье состояние» мира73а.
Очевидно, что эти высказывания имеют теологический, а не
эстетический характер: именно в силу этого в них рассматрива-
ется только трансцендентный смысл, а при выделении этой транс-
цендентности аллегория и символ зачастую просто равным об-
разом употребляются в качестве ее выразительного средства.
При дальнейшем — оказавшем влияние на всю позднейшую эпо-
ху— развитии теории аллегории у так называемого Дионисия
Ареопагита не только применяется единая терминология, но и
в более сильной степени конкретизируется внутренняя связь меж-
ду эстетическим, образным рассмотрением действительности и
подлинным пониманием ее трансцендентной сущности для того,
чтобы с помощью такого метода точнее определить сущность
аллегории, нежели это делалось до того времени. Дионисий
Ареопагит считает, что чувственная форма проявления, в которой
изображаемое аллегорически становится нам доступным, обяза-
на своим существованием тому, что творец мира учитывает огра-
ниченные возможности нашего восприятия. «Греховно» полагать,
что те символы, в которые Священное писание облекает свои
откровения — «в священной пластичности и в цветовой полноте
исполненных значения символов», — идентичны небесной действи-
тельности. «Правда, откровение использует поэтически освящен-
ные воплощения, чтобы перед нами предстали безобраз-
396
ные духи, потому что оно, как сказано, учитывает наши возмож-
ные познания. Но оно ставит целью только соответствующее нам,
соразмерное нашей природе представление и анагогически при-
спосабливает священное повествование к нашим возможностям».
Но никогда не следует забывать, что между этими отображения-
ми и их первообразом никаким путем не устанавливается подо-
бие. Дионисий Ареопагит стоит на почве негативной теологии,
согласно которой все позитивные и позитивно ограничиваемые
высказывания о божестве необходимо должны быть ложными.
Поэтому «откровение путем несходных образов, очевидно, ближе
всего к невыразимому в области непостигаемого». Это теорети-
ческое обоснование аллегории через несходство образов не про-
сто последовательно вытекает из негативной теологии, но одно-
временно точно определяет отношение аллегории к изображаю-
щему действительность искусству, к символике. Отсюда возника-
ет опасность: «Именно при благородстве образов можно сильно
заблуждаться, удовлетворяясь ими... Чтобы при этих заблужде-
ниях деятельно избежать того из них, согласно которому нельзя
помыслить ничего более высокого, нежели внешняя красота яв-
ления, всегда ведущая нас к высшему, мудрость святого автора
снисходит до того, чтобы священно избрать в откровении вовсе
несходные и даже неподходящие сравнения. Итак, она не терпит,
чтобы наше чувственное начало к ним прикрепилось и на этом
успокоилось. Она пробуждает душевные выси, уязвляя душу не-
сообразностью предлагаемых образов...» Требуемое Дионисием
Ареопагитом несходство заходит столь далеко, что и нижайшее
может аллегорически изображать наивысшее, сама материя ка-
ким-то образом соотносится с божественным, и в высочайших
и прекраснейших земных феноменах она здесь так же неадекват-
на, как и в наиболее низменных: «С помощью таких образов
можно подняться и к нематериальным прообразам, при условии,
что будешь считать сходства сходными не в земном смысле...»74
Тем самым с точки зрения теологии закрепляется то отношение
образа и действительности, которое характерно для места алле-
гории в религиозной жизни.
В другой связи [см. т. 1, с. 39 и ел.; т. 2, с. 21 и ел., 47 и ел.]
мы обсуждали категорию аналогии, установив, что она была
призвана играть значительную роль в практике и мышлении
обыденной жизни как одна из самых первоначальных мысли-
тельных форм. Границы и проблематика ее применения в науч-
ном отражении действительности выпадают из круга наших на-
блюдений. Укажем лишь бегло на то, что аналогизирующее
восприятие и мышление играют в высшей степени важную роль
в становлении и развитии поэтической образности. Подчеркнем
мотив, решающий в философском отношении: акты духовно-чув-
ственного аналогизирования отчетливо и постоянно характери-
зуются как антропоморфирующие; при этом их предмет всегда
соотнесен с человеческим субъектом, и задачей образа, сравне-
397
ния и т. п. является всегда открывать новые черты именно в его
отношении к субъекту (который может быть и общим, обще-
ственным) и делать их доступными чувствам. Конечно, при этом
могут обрести наглядность и новые свойства самих предметов,
но это лишь побочный продукт, нечто привходящее, то, что оста-
ется мертво, пока (непосредственно или опосредованно) не при-
дет в действие эта соотнесенность с субъектом в образном пола-
гании предмета. Ясно, что эта проблема возникает, собственно
говоря, лишь в поэтическом творчестве, что музыка вследствие
ее двойного отражения и возникающей отсюда неопределенной
предметности не знает аналогизирования внешнего мира, что,
наконец, развитие изобразительных искусств необходимо проте-
кает в том направлении, согласно которому отражение видимого
мира не допускает ничего застывшего в области простой анало-
гии. Аллегория как эстетический формальный принцип оказывает
поэтому решающее влияние на поэзию и изобразительные искус-
ства; направление и сущность этого влияния мы в общем уже
обрисовали.
Однако у Дионисия Ареопагита рождаемая аналогизацией
аллегория приобретает особый оттенок, а именно: в то время
как нормальная аналогия, исходя из сходства (зачастую лишь
поверхностного), преобразует его в существенную связь, «онто-
логическим» основанием аналогии и аллегории в негативной тео-
логии, как мы видели, служит прямое несходство. Здесь снова
выявляется гибридный характер теологического механизма обра-
зования понятий: теология, исходя из антропоморфических пред-
посылок, возводит все свое здание, пользуясь антропоморфирую-
щим методом, чтобы вдруг перескочить в область дезантропо-
морфизации, фиктивной и насильственной, причем антропомор-
фированное обоснование необходимо ведет в область, абсолютно
потустороннюю не только в отношении восприятий и чувств, но
и в отношении высших человеческих мыслей. Здесь не место
разбирать все это в аспекте научной критики, так же как и ана-
лизировать методологическую необходимость для теологии не-
прерывно (и именно в решающие моменты) опираться на анало-
гию. Например, в высшей степени характерно, что Карл Барт,
который долгое время углублял до пределов возможного разрыв
между богом и человеком, в конечном итоге подошел к этому
вопросу самокритично и вернулся к аналогизации в концепции
бога75. Но абсолютно ясно, что аллегорическое искусство, под-
чиняющееся подобным предписаниям, отдается во власть без-
удержного произвола, хотя пока еще не произвола неуправляе-
мых ассоциаций, поток которых способен поглотить всякую
предметность, но произвола трансцендентно являемого и теоло-
гически воспринятого декретирования. В аллегорическом направ-
лении искусства всегда налицо тенденция к замещению внутрен-
не действенных предметов условными знаками, и здесь она тео-
ретически освящается.
398
Чем более условны общие знаки, тем более предстают они
приспособленными к тому, чтобы выражать аналогичность то-
тального несходства. У Дионисия Ареопагита щедро представле-
ны примеры подобных предписаний, например при изображении
ангелов. И поскольку задача визуального изображения состоит
именно в том, чтобы не фиксировать зрителя на себе с помощью
изображаемой предметности, но всего лишь дать ему стимул
для прыжка в безобразное море трансцендентности, поскольку
именно чувственное и мыслительное несходство образуют на-
правляющую этого прыжка, — постольку даже принцип декора-
тивности становится для этого вида аллегорий всего лишь при-
входящим моментом. И даже если их внешняя сторона выпадает
из сферы эстетического, с точки зрения подобных теологических
принципов они могут быть совершенными.
В наши задачи не входит описание взаимосвязи тех обстоя-
тельств, которые исторически вызывали то подъем, то падение
этой экстремы в восточноевропейском искусстве. В Западной Ев-
ропе развитие искусства идет менее радикальными путями. Сред-
невековая теология и философия Запада во всем, что касается
главной линии их развития, не стоят на точке зрения негативной
теологии, поэтому принцип несходства не обретает здесь столь
радикального понимания, как у Дионисия Ареопагита. Примеча-
тельно, что заходящий достаточно далеко в аналогической алле-
горизации Иоахим Флорский довольствуется определением алле-
гории как «сходства любой отдельной малой вещи с большей»76.
В рамках системной архитектоники победоносной, подчинившей
себе всю культуру церкви различия определяются более остро,
чем в патристике, и менее радикально, чем у Дионисия Ареопа-
гита. Так, Ришар Сен-Викторский уже различает аллегорию и
символ: первая, поскольку соприкасается с подлинно мистиче-
скими тайнами, обладает авторитарным (то есть церковно-тео-
логическим) характером, вторая, напротив, относится к области
личной интуиции, отличается «философской» природой. Даже
если такие констатации исходно не служат освещению эстетиче-
ских проблем, они с ними существенным образом связаны, ибо,
когда речь заходила об этих различиях, для схоластических мыс-
лителей важнее всего было религиозно детерминированное отно-
шение к действительности, соотношение земного и потусторон-
него мира, способ, каким человек может постигать потустороннее
и сообщать о постигнутом. Поэтому для сущности аллегории
очень важно, что схоластика видит в ней отражение высшей ре-
альности, подлежащее истолкованию раскрытие взаимосвязей
земной и потусторонней действительности, отражение одной из
них, которое по меньшей мере брезжит в другой (Ноев ковчег
как аллегория спасающей церкви). Поэтому ведущие схоластики
отделяют аллегорию, и зачастую весьма различными способами,
от других форм несобственно-прямого или метафорического
выражения. Например, Фома Аквинский. ограничивает аллего-
399
рию соответствием действительности; в тех случаях, когда это
вызывает словесную неоднозначность, он говорит о парабо-
лах77.
В подобных воззрениях виден теоретический рефлекс той пар-
тизанской войны между религией и искусством, о которой мы
в общих чертах рассказывали. После периода иконоборчества
искусство христианского Востока строго и однозначно подчини-
лось богословию; аллегория, почти не имея соперников, овладела
всей художественной практикой. Те расхождения во взглядах на
Западе, о которых мы здесь крайне скупо говорили, напротив,
отчетливо показывают, что хотя церковь и теология рассматри-
вают аллегорию как единственно верный, единственный действи-
тельно оправданный способ выражения божественного, но вме-
сте с тем на практике они были вынуждены постоянно идти на
компромиссы. Причем не только допуская в определенных гра-
ницах светское искусство, но и в области самого религиозного
искусства. Ибо при выполнении требований, поставленных перед
этим последним папой Григорием Великим, при осуществлении
его богословски-определенного социального задания необходимо
было обеспечить какое-то место и для тех социальных запросов,
которые—пусть долгое время невысказанно — живут в том са-
мом человеке, ради наставления которого на путь истинный и
создавалось это искусство. В зависимости от подъемов и спадов
творческой активности и решительности последнего, в зависимо-
сти от уровня способностей и ориентации художников-творцов
и т. д. чаша весов в этом споре склоняется то к аллегории, то
к символике. Вспомним хотя бы о решительном повороте к чув-
ственной «реализации» образов параллельно с увеличением ал-
легоризации в тематике и подходе после великого прорыва, осу-
ществленного Джотто; очевидно, здесь достаточно будет указать
на фрески в испанской капелле церкви Санта Мария Новелла во
Флоренции.
В качестве примера отклонения маятника в противоположном
направлении наряду с уже упоминавшимися великими живопис-
цами и скульпторами можно указать Данте. Разумеется, здесь
не следует и думать о том, чтобы хотя бы наметить существую-
щие у него противоречия, значительно более сложные, нежели
в изобразительных искусствах, очертить внутреннюю противопо-
ставленность теологически детерминированной внешней формы
и чистой, посюсторонней человечности содержания, а потому и
его собственно художественного формообразования. Приведем
лишь некоторые выводы Эриха Ауэрбаха; мы выбрали среди
многих других возможностей именно эту, потому что его воззре-
ния на поэзию, его методы анализа открыто противоположны
нашим. Поэтому его свидетельство относительно констатируе-
мой нами ситуации прозвучит наименее предвзято. Ауэрбах пи-
шет: «Можно восхищаться Фаринатой и проливать слезы вместе
с Кавальканте; нас волнует не то, что бог осудил их, а то, что
400
один из них не сломлен, а другой столь душераздирающе опла-
кивает своего сына и свет небесный; весь ужас их положения
в Аду — как бы лишь средство усилить воздействие этих чисто
земных движений души... Справедливо сказать это даже и об
избранниках Чистилища и Рая... и даже сам апостол Петр... так
много человеческих образов раскрывают тут перед нами целый
мир земной и исторической жизни, земных дел, стремлений,
чувств и страстей; даже сама земная сцена не могла бы пред-
ставить их в таком многообразии и полноте... Конечно, все они
твердо включены в божественный миропорядок, и, конечно, ве-
ликий христианский поэт вправе сохранить земное и человече-
ское в загробном мире, сохранить человеческий прообраз внутри
самого запредельного исполнения, по возможности приводя к за-
вершению все земное. Но великое искусство Данте идет так да-
леко, что действие целого переносится в плоскость земного и в
самом исполнении слушателя завораживает фигура, прообраз;
загробный мир становится театром, на котором выступает чело-
век со своими страстями и чувствами. ...И благодаря этому непо-
средственному участию в делах человеческих, этому восхищен-
ному к ним вниманию неразрушимая вечность целокупного чело-
века, исторического и индивидуального в своем существовании,
обращается против того самого божественного миропорядка, на
котором основана сама идея неразрушимости; вечность человека
подчиняет себе миропорядок и^затмевает его; образом человече-
ским застилается образ божий. Творение Данте воплотило^ хри-
стиански-фигуральную сущность человека и разрушило ее в са-
мом осуществлении...»78 Если сопоставить это вполне обоснован-
ное суждение с взрывом ярости Леона Блуа, которого мы цити-
ровали выше [с. 371 и ел.], то не требуется никакого дополни-
тельного комментария. Но тем самым раскрывается также все
неповторимое своеобразие поэтического мира Данте. Снова речь
идет о «чуде» единства содержания и формы. Форма у Данте
достигла того состояния, при котором он может развивать посю-
сторонне-человеческие стороны воплощаемых им характеров, не
будучи при этом вынужденным открыто порывать с богословски
предписанной аллегорией. Эта ситуация, когда становление фор-
мы создает собственное мировоззренческое содержание — muta-
tis mutandis, — в известной мере сходна с тем, что мы видим
у Джотто. Драма типа шекспировской, и даже драма Кальдеро-
на, была бы в таком мире абсолютно невозможной.
Мы охарактеризовали наиболее значительные этапы этой
борьбы в их важнейших принципиальных чертах — полемизируя
с односторонними искаженными новейшими воззрениями — вплоть
до воздействия великого кризиса реформации и контрреформа-
ции. При этом мы установили, что этот кризис привел к возник-
новению современного реализма, освободил искусство от руко-
водства со стороны религии. Отсюда может возникнуть види-
мость того, что освободительная борьба искусства уже закончена
26—805
401
и является фактом истории, а не проблемой современности. Та-
кое убеждение было бы величайшим заблуждением, оно не толь-
ко игнорировало бы возрождение религиозного искусства в пе-
риод романтизма (правда, это возрождение было двойственным),
но прежде всего пренебрегало бы тем важным и актуальным
фактом, что новейшее авангардистское искусство, как мы уви-
дим, возникло существенным образом в связи с религиозными
потребностями. В том смысле, какой придают этому упомянутые
нами течения, авангардизм, разумеется, имеет с религией очень
мало или вовсе ничего общего. Лишь у меньшинства крупных
художников можно проследить связь с религией в старом пони-
мании; еще в меньшей степени речь может идти о подчинении
художественного содержания, художественной целевой установ-
ки догматической системе определенной церкви.% Скорее авангар-
дистское искусство служит художественным выражением анар-
хического, нигилистического индивидуализма. Эти немаловажные
и отнюдь не только внешние симптомы не в силах, однако,
скрыть от нас тот решающий факт, что переживания, лежащие
в основе главных существенных произведений авангардизма,
возникли из религиозной потребности, а форма этих произведе-
ний определяется содержанием данных переживаний. В следую-
щих разделах [с. 447 и ел.] мы подробно рассмотрим встающую
здесь проблему характеристики современной религиозной потреб-
ности. Теперь же, в качестве вводных замечаний к интересующей
нас проблеме, мы обратимся к духу аллегории в современном
авангардизме, недвусмысленно выступающему как в его прак-
тике, так и в теории.
Не случайно, что уже в течение десятилетий указывается на
существенное родство барокко и романтизма с конечными осно-
ваниями любого модернистского мировоззрения и искусства, ко-
торые могут быть признаны на этих окольных путях наследника-
ми и продолжателями великого кризиса нового времени, вырази-
телями глубокого современного кризиса. Наиболее значительным
и оригинальным теоретиком этого направления можно считать
Вальтера Беньямина. В своем исследовании немецкой трагедии
эпохи барокко он энергично и последовательно развивает теорию
аллегории как специфического стиля, действительно соответст-
вующего современному восприятию, мыслям и переживаниям;
однако этот тезис не развит им достаточно выразительно: его
изложение довольно строго придерживается избранной истори-
ческой темы. Но по своему общему духу работа гораздо шире
ее узких тематических рамок. Беньямин трактует барокко (и ро-
мантизм) с позиций мировоззренческих и художественных по-
требностей современности; выбор им узкой темы при такой по-
становке задачи особенно удачен потому, что кризисные моменты
барокко в специфических условиях Германии того времени имен-
но здесь выступают наиболее явно, однозначно и очевидно, так
как здесь вследствие того, что Германия временно деградировала
402
до уровня простого объекта мировой истории, вследствие возник-
новения в связи с этим обращенного вовнутрь и исполненного
отчаяния провинциализма встречные реалистические тенденции
данного периода (как мы показали в другом месте) могли вы-
ражаться либо лишь очень слабо, либо были исключительным
явлением, как, например, в случае с Гриммельсгаузеном. Итак,
Беньямин нашел удачный прием, сделав предметом рассмотре-
ния эту эпоху на немецкой почве и особенно в области драмы,
так как исторический анализ может здесь проводиться без на-
силия, без искажения фактов (как это встречается во многих
современных исследованиях общеисторических проблем), и тем
не менее — или именно поэтому — в состоянии наглядно предста-
вить собственно теоретическую проблему.
Прежде чем обратиться к этому теоретическому истолкова-
нию барокко в аспекте современной художественной проблемати-
ки, целесообразно бросить беглый взгляд на истолкование эсте-
тикой романтизма противоположности аллегории и символа, что-
бы убедиться, что его позиции в этом вопросе менее решительны,,
нежели позиции предшествовавшего и последующего кризисных
направлений в искусстве. Причины, обусловившие эту промежу-
точность его позиции, многочисленны. Прежде всего, здесь ощу-
щается воздействие могучей личности Гёте с его ясным понима-
нием проблемы, которую он, как мы видели [с. 373 и ел.],также
считал решающей для судеб искусства. Этому влиянию способ-
ствовала и значительная тенденция к художественному реализ-
му, проявлявшаяся не только у Гёте. К тому же сам романтизм
воспринимал себя как переходную стадию между двумя кризи-
сами, что вело, с одной стороны, к определенным, хотя и спор-
ным представлениям об историческом характере проблемы,
а с другой — одновременно — к известному сглаживанию внут-
ренней проблематичности самого по себе полагания аллегориче-
ского. Шеллингианская эстетика строит свою историческую фи-
лософию искусства, руководствуясь принципом, согласно кото-
рому античность есть период символики, христианство же, на-
против, период аллегории79. Первая констатация опирается на
традицию Винкельмана, Лессинга и Гёте, вторая призвана стать
историческим обоснованием специфически романтического под-
хода. Неоднозначность и расплывчатость взглядов Шеллинга ос-
нованы здесь не столько на недостатке точных исторических зна-
ний об эпохе христианства, сколько на том, что эта эпоха рас-
сматривается под одним углом зрения, только в перспективе ро-
мантизма. Поэтому обходится вниманием уже известная нам
борьба между символической и аллегорической живописью;
в терминах аллегории интерпретируются даже произведения та-
ких авторов, у которых однозначно выявляется преобладание
реалистической символики. Зольгер берет это противопоставле-
ние Шеллинга, но у него на общетеоретическом уровне эстетиче-
ский контраст разработан более отчетливо80. Собственно теоре-
26*
403
тиками кризисных тенденций аллегорического в рамках роман-
тизма были Фридрих Шлегель и Новалис. Освещение и пропа-
ганда кризиса, аллегории как его выразительного средства тесно
соприкасаются с охарактеризованными выше течениями в фило-
софии истории. Но в то время как (особенно у Шеллинга) объ-
ективируемый историко-философский аспект в известной степени
вносит в сферу данной проблематики умиротворение, Фридрих
Шлегель присоединяется к тем ее моментам, где потеря мифоло-
гии как основы культуры и в первую очередь искусства рассмат-
ривается как кризисный фактор, но для современности намечает-
ся возможность, надежда избежать тупика, глубокого кризиса
на путях создания новой мифологии. Постольку поскольку для
Шлегеля любая мифология представляет собой не что иное, как
«иероглифическое выражение окружающей природы», проясняе-
мое фантазией и любовью, неудивителен и егсьвывод: «...Всякая
красота есть аллегория. Высшее, именно потому что оно невы-
сказываемо, можно сказать лишь аллегорически». Отсюда следу-
ет универсальное преобладание аллегории во всех областях че-
ловеческой деятельности; даже язык в его первоначальном смыс-
ле «идентичен аллегории»81. Ясно видно, что при таком рассмот-
рении аллегория все больше теряет свою древнюю, связанную
с христианской религией, точно определенную и даже теологи-
чески предписываемую сущность, что в ней развивается внутрен-
няя склонность к специфически модернистской анархии чувств,
к разложению формы, размывающему предметность. Новалис
весьма решительно выражает эти тенденции: «Бессвязные, но
полные ассоциаций рассказы, подобные снам. Стихи, вполне
благозвучные и исполненные прекрасных слов, но тоже без об-
щего смысла и связи — понятны в лучшем случае лишь отдель-
ные строфы, — сплошь обломки самых различных вещей. Истин-
ная поэзия может обладать лишь аллегорическим общим смыс-
лом и оказывать косвенное влияние, как музыка и т. п.»82
При сравнении с такими зачастую шаткими, неясными, внут-
ренне противоречивыми воззрениями романтиков изображение
Беньямином немецкой трагедии эпохи барокко импонирует внут-
ренней завершенностью, последовательностью. Здесь не место
входить в подробности его часто остроумной полемики, напри-
мер направленной против Гёте, и в детали его изложения, спо-
собные пролить на проблему яркий свет. Но в первую очередь
следует отметить хотя бы то, что его толкование барокко в целом
не останавливается на контрастирующем сопоставлении с клас-
сицизмом или (как у позднейших эклектиков) на рассмотрении
маньеризма и классицизма как соподчиненных, дополнительно
взаимокорректирующих течений, но с грубоватой откровенностью
возводится к разоблачению художественного принципа вообще.
«Образ, — пишет он, — в поле аллегорической интуиции является
фрагментом, руной. Его символическая красота улетучивается
в свете божественного учения. Уходит ложная иллюзия тоталь-
404
ности, эйдос гаснет, появляется сравнение, иссушающее космос...
Основательное понимание проблематики искусства... возникает
как оборотная сторона его ренессансной самодержавности»83. Но
в согласии с последовательными взглядами Беньямина пробле-
матика искусства — это проблематика самого мира, мира людей,
истории, общества, их ставшего очевидным благодаря аллегори-
ческой образности упадка: в аллегории «перед глазами наблюда-
теля оказывается faciès hippocratica истории», как бы ее пред-
смертцая гримаса, «застывший первобытный пейзаж». История
отныне предстает не «как процесс вечной жизни, а скорее как
процесс неудержимого упадка». Но «тем самым аллегория нахо-
дится по ту сторону прекрасного. Аллегории в царстве мысли —
то же, что руины в царстве вещей»84. Итак, Беньямин вполне
ясно понимает, что противоположность аллегории и символа,
сколь бы решающей она ни была для глубочайшей эстетической
сущности любого художественного произведения, в конечном
итоге не может быть — спонтанным или осознанным — результа-
том самого эстетического полагания; она исходит из более глу-
бинных источников: из необходимого отношения человека к дей-
ствительности, в которой он живет, в которой он развивает свою
активную деятельность или встречает препятствия для такого
развития. Не потребуется дальнейших подробных рассуждений,
чтобы установить, что Беньямин тем самым воспринял в углуб-
ленном виде и развил ту проблему современного осмысления
искусства, которую за двадцать лет до него затронул Вильгельм
Воррингер в своей книге «Абстракция и вчувствование». Эстети-
ческий анализ Беньямина глубже и дифференцированней, чем
у его предшественника, а его исторический подход к упорядочи-
ванию выявленных им структурных форм искусства конкретнее
и тоньше. Развивающееся таким путем разделение художествен-
ной продукции на две сферы, которое, как мы видели [с. 403],
впервые находит свое отражение, хотя и крайне абстрактное,
в романтической историко-философской концепции искусства,
становится у него отчетливым, способным служить солидным
историческим обоснованием описания и интерпретации современ-
ного ему кризиса мировоззрения и искусства. Беньямину уже не
нужно (как Воррингеру) и еще не нужно (как тем, кто позднее
писал о модернистском искусстве) проецировать душевные и ду-
ховные основы искусства на плоскость доисторической эпохи для
эстетического и философского выявления разрыва между аллего-
рией и символом. Несколько уменьшает его заслуги лишь то, что
общественно-исторические основы и социальный фон и у него
продолжают пребывать в виде достаточно туманного общего
места.
Таким образом, анализ Беньямина исходит из фундаменталь-
ного различия способа отношения человека к действительности
в аллегорическом и символическом типах изображения. Подвер-
гая резкой критике неясности романтического осмысления искус-
405
ства в этом вопросе, он привлекает внимание к тому, что аллего-
ризующее созерцание в своей конечной интенции зависит от пре-
пятствия, разрушающего антропоморфическое отношение к миру,
то есть фундамент эстетического отражения. Но так как здесь
отношение человеческого рода к сфере его деятельности в при-
роде и обществе не выходит из круга самосознания, то ясно, что
устремленность к аллегории необходимо подавляет всесторон-
нюю человечность, которая всегда имманентно содержится во
всяком эстетическом отражении. Беньямин высказывается об
этом весьма решительно, впрочем не обобщая вопрос в той мере,
в какой он обобщен здесь нами: «И сегодня по меньшей мере
само собой разумеется, что в примате вещного перед личным,
фрагмента перед целым аллегория полярно противопоставлена
символу, но именно поэтому они и равнозначны. Аллегорическая
персонификация постоянно испытывает разочарование по тому
поводу, что ей приходится не персонифицировать вещное, но
всего лишь, принарядив его, представлять под видом личного
с большей импозантностью»85. Важнейшие черты феномена опре-
делены здесь четко и остроумно. Но Беньямину важно лишь до-
казать эстетическую (или переходящую в эстетическое) равно-
ценность аллегории, поэтому он останавливается на уровне про-
стого, хотя и понятийно обобщенного описания. Он не обращает
внимания на то, что такое придавание вещи импозантности рав-
нозначно ее фетишизации, в то время как антропоморфирующему
отражению в его эстетической завершенности присуща направ-
ленность на дефетишизацию, на истинное познание вещи как по-
средника в человеческих отношениях. Беньямин даже не подни-
мает вопроса об этом; у более поздних теоретиков, в позднейших
манифестах авангардистского искусства, которые гораздо менее
критичны, чем высказывания Беньямина, уже довольно часто
встречается выражение «фетиш», разумеется в его «элементар-
ном» смысле, как выражение чисто примитивного «магического»
отношения к вещам. Правда, ни эти теории, ни их практика не
замечают, что они восходят к древней магической культуре лишь
в своем воображении, а в действительности некритично участву-
ют в капиталистической фетишизации человеческого отношения
к вещам. И положение ни в малейшей степени не меняется с рас-
тущим употреблением вместо слова «фетиш» слова «эмблема»
(в его позднее сформировавшемся значении). В связи с аллего-
рией эмблема также не выражает ничего, кроме некритически
одобряемой фетишизации.
Беньямин по праву усматривает в барокко неразрывное со-
единение религиозности и условности, в своем взаимодействии
создающих атмосферу, в которой аллегория с двух сторон под-
капывает любую реальную предметность. Момент раздувания
фетишизма мы уже рассмотрели. Но Беньямин верно подметил,
что параллельно с ним выступает другой постоянно действующий
и встречнонаправленный момент: «Любое лицо, любая вещь, лю-
406
бое отношение могут означать что угодно иное. Эта возможность
приговаривает непосвященный мир к презренной, однако спра-
ведливой участи: он характеризуется как мир, в котором нет
нужды придерживаться детальной точности»86. Это религиозный
мир девальвированной, но одновременно сохранившейся в этом
своем обесценении партикулярности. Нефетишизированная вещь
с необходимостью строится из своих свойств, из своих деталей;
нефетишизированная вещность — это непосредственность кон-
кретно-данного бытия определенной частности. При необходимо-
сти выйти за ее пределы все сильнее должна углубляться внут-
ренняя связь явления и сущности, детали и предметного единства,
так как только после обретения деталью симптоматического,
указывающего на сущность, выявляющего ее характера предмет
в качестве разумно организованной, находящейся в разумных
отношениях целокупности деталей поднимается до уровня осо-
бенного, типического. Верно подмеченная Беньямином полная
ничтожность детали, а вместе с ней и конкретной предметности
в аллегории — это, на первый взгляд, радикальное низведение
в ничто любой партикулярности. Но лишь на первый взгляд; по
сути таким актом уничтожения полагается нечто вечное, нетлен-
ное; заменимые вещи и детали снимаются при этом лишь в сво-
ем конкретно-данном бытии; акт снятия направлен только на их
преходящие свойства, место которых занимает нечто полностью
тождественное им по внутренней структуре; Итак, если при этом
нечто частное заменяется столь же частным, то такое снятие
частности — это не что иное, как ее полное воспроизведение. Это
положение сохраняется в любом аллегорическом толковании или
изображении и никоим образом не противоречит общерелигиозно
обоснованной сущности аллегории. Однако когда в самом барок-
ко, и особенно в его беньяминовской интерпретации, выступает —
хотя и без существенной модификации основополагающей рели-
гиозности — новый мотив, то та трансцендентность, в свете кото-
рой протекает вышеописанный процесс, лишается конкретной ре-
лигиозной соотнесенности, сама превращается в ничто. Беньямин
пишет: «Аллегория пуста. То зло, что всегда таится в ее глубине,
существует только в ней самой, это всего лишь аллегория, и обо-
значает она нечто отличное от того, чем является, а именно: обо-
значает как раз несуществование того, что представляет». Столь
же справедливо Беньямин усматривает в этом выражение «тео-
логической сущности субъективного»87. Этой доходящей до чрез-
мерности, до самоуничтожения субъективности творческого ас-
пекта точно соответствует и субъективность аспекта восприятия.
И здесь Беньямин с его неиссякаемой любовью к истине отмеча-
ет самое существенное: «Аллегория—это тот единственный и
мощный дивертисмент, который предлагается меланхоликам»88.
Сам Беньямин слишком безупречный стилист, чтобы позволить
себе небуквальное употребление иронического обозначения «ди-
вертисмент» со всеми его пейоративными нюансами. Вместе
407
с серьезностью объективного мира неизбежно исчезает и серьез-
ность мира субъективного.
Как уже было упомянуто, работа Беньямина с формальной
точки зрения написана как строго историко-философское иссле-
дование. Но не только предметное содержание его результатов
однозначно указывает на современное искусство; ему принадле-
жат и различные эссе о современных художественных воззрени-
ях, в которых обретают свою духовную родину взгляды, касаю-
щиеся аллегорического способа изображения; достаточно ука-
зать на его заметки об аллегории у Бодлера. Вместе с Ворринге-
ром (и его источниками, в первую очередь с Риглем и т. п.) эта
теория стала основой интеллектуального упорядочивания аван-
гардистского искусства. Для наших целей достаточно этой про-
стой констатации. Заметим лишь попутно, что новейшие авторы
в том, что касается духовного и морального уровня, стоят гораз-
до ниже Беньямина, и в первую очередь потому, что они не дела-
ют с той же добросовестностью всех выводов, не ставят в центр
внимания антиэстетичность аллегории, а либо заключают эклек-
тические компромиссы с прошлым, чтобы снизить значение прин-
ципиального различия аллегории и символа до простого истори-
ческого вопроса стиля, либо умалчивают о встречных реалисти-
ческих тенденциях в прошлом и настоящем, а иногда даже пере-
интерпретируют их как авангардистские. Несмотря на это, разу-
меется, и в сегодняшних опытах анализа современного искусства
можно найти утверждения, способные дополнить набрасываемую
здесь картину несколькими штрихами, тем более что нам важны
не оценки тех или иных произведений искусства, а исключитель-
но определения основных тенденций развития данного художе-
ственного направления. В этой связи для нас представляет инте-
рес тот факт, что Гуго Фридрих в своем исследовании современ-
ной лирики исходит из ее направленности на трансцендентность,
но определяет ее у Рембо как «пустую трансцендентность», и это
точно соответствует утверждению Беньямина о «ничто» как пред-
мете аллегории новейшего времени. Вот как определяет ситуа-
цию Фридрих: «У Рембо «неизвестное» остается пустым полю-
сом напряжения»8*9. То же положение вещей констатируется и
в анализе Малларме у Хокке: «Речь идет о набросках к значи-
тельному произведению, названному впоследствии «Книга» и из-
лагающему «тесную связь поэзии с универсумом»... Оно должно
было содержать «блестящие аллегории» абсолюта, даже если
этим абсолютом будет «ничто». Эту напряженную работу над
поэтической книгой мира Малларме сравнивает с поисками аб-
солюта алхимиками».
Из фрагментов Малларме Хокке, с одной стороны, выводит,
что тот рассматривал «остатки религиозной веры после Француз-
ской революции как чреватую последствиями трагедию», что за-
трудняло для него возможность «опосредовать религиозное с по-
мощью образов и средств оелигий откровения»; с другой сторо-
408
ны, он указывает на стремления Малларме придать аллегории
математическую форму, которая, по его мнению, соответствовала
бы «универсально-логическому инструментализму Витгенштей-
на»90. Правда, одновременно Малларме склоняется и к орфиче-
ской мистике. Это смещение признаний упадка исторических ре-
лигий с тенденцией к соединению современной формальной ма-
тематики и доисторической магии придает фрагменту Малларме
симптоматическое относительно авангардистского искусства зна-
чение. К подобным же результатам ведет анализ работ художни-
ка Макса Бекмана, предпринятый Вернером Хафтманом. Он
считает, что Бекман исходит не из стремления к аллегории, а из
самих вещей; к тому, что из этого следует, целиком приложимы
наши выводы о современной фетишизации [с. 406]. Но эти
устремления Бекмана «сами собой» переходят в аллегорию,
а именно в такую, трансцендентным содержанием которой снова
становится ничто. «Но как подлинное «fait gratuit» возникаю-
щая аллегория неразрешима в точном смысле. Она остается
герметической метафорой экзистенциального познания действи-
тельности, истина которой скрыта во мраке». То, что Хафтман
сначала обозначает эту позицию художника как «кощунствен-
ную», а затем открывает в ней «религиозность безнадежно скры-
того бога»91, показывает, как и в случае с Малларме, чаще всего
выявляющуюся связь, к которой мы еще не раз будедо обра-
щаться.
Случаи, когда художники сами определяют свои конечные
устремления как аллегорические (в смысле направленности на
ничто), также довольно часты, причем прежде всего у типичных
представителей авангардизма. Так, Хафтман цитирует программ-
ное высказывание художника Макса Эрнста: «Сближение двух
по видимости сущностно-чуждых вещей с сущностно-чуждым им
планом вызывает сильнейшее поэтическое возбуждение, величай-
шую силу эмоций и полнокровную художественную действитель-
ность. Чем отдаленнее связаны друг с другом оба сближаемых
элемента действительности и чем более произвольно они соеди-
няются, тем надежнее и тем сильнее осуществляется переосмыс-
ление вещей и их эвокативное воздействие, вспыхивающее от
стремительно разлетающихся поэтических искр»92. По поводу
этого в высшей степени характерного объяснения заметим лишь,
что дух его — это современное обновление самого радикального
из учений об аллегории — учения Дионисия Ареопагита. Вспом-
ним, что он для достижения путем аллегорического мышления
и аллегорического созерцания подлинно трансцендентного исхо-
дил из аналогии полностью несходного [с. 396 и ел.]. Эту пол-
ную гетерогенность непосредственно изображаемой предметности
и ее трансцендентно отнесенного содержания мы можем найти
и у Макса Эрнста. Обусловленное временем различие состоит
лишь в том, что у Дионисия Ареопагита обе сферы четко пред-
писываются теологией (даже если это негативная теология),
409
благодаря чему и необходимый прыжок, призванный реализо-
вать переход между двумя принципиально гетерогенными сфера-
ми, таким же образом несет в себе нечто теологически детерми-
нированное, ритуализованное, предписанное как церемониал,
в то время как несходство у Макса Эрнста есть несходство со-
гласно чистому «самодовлеющему» субъективному произволу.
Ясно, что тем самым не только трансцендентное содержание, ко-
торое должно эвоцироваться этим сгруппированным в аллегорию
несходством, сводится к категории «ничто», но и видимые эле-
менты утрачивают в себе самих и в своих взаимосвязях всякую
необходимость, и их сочетание сводится к пустой игре. Здесь
в своей полной и откровенной ничтожности проявляется вся ал-
легорическая сущность этого искусства.
Провозвестники аллегории в области литературы по большей
части имеют обыкновение драпировать сугубым глубокомыслием
«сущее» или «не-сущее» ничто. Так, Герман Брох открыто при-
знает, что аллегория Одиссея у Джойса была бы «только шут-
кой, если бы не обладала глубинным духовным значением, не
содержала бы аллегории второго и третьего порядка, если бы
в ней не было призвано вновь осуществиться сущностное начало
жизни и поэзии, обозначаемое Гомером. Это аллегорическая по-
стройка и надстройка, соотнесенная как с примитивными жиз-
ненными функциями, так и с последними философско-схоласти-
ческими дерзаниями, аллегорическая космогония...»93
Уничтожение непосредственной, чувственной действительности
относится к сущности аллегории. Старая, определяемая религи-
озной трансцендентностью аллегория должна была снизить до
совершенного ничтожества земную действительность в противо-
вес потусторонне-небесной; но мы могли заметить, в конечном
итоге следуя Беньямину, что уже в искусстве барокко начали
действовать тенденции, которые вели к опустошенности потусто-
роннего содержания, и они — через посредство определенных на-
правлений романтизма — достигли своей вершины в современном
искусстве. Некоторые из важнейших моментов этого эстетическо-
го нигилизма, заложившего фундамент новой аллегорической об-
разности, мы уже отмечали. Теперь дело только за тем, чтобы
разъяснить его непосредственный мировоззренческий базис, к ко-
торому мы обратились в ходе предшествующего изложения. Луч-
ше всего способно ввести нас в центр проблематики обращение
к Готфриду Бенну. Бенн неоднократно и настойчиво говорил
о том, что его «не покидает ощущение, что действительности
нет»; «нет действительности, есть человеческое сознание, которое
непрестанно... образует миры»94-95. Эта премудрость сама по
себе не нова для европейской философии; она вновь и вновь по-
является со времен Беркли и по сей день владеет умами ученых
в капиталистическом мире, как в русле официального мышления,
так и неофициального. Новы те выводы (хотя они не принадле-
жат исключительно Бенну), которые отсюда следуют. Прежде
410
речь шла в основном о теоретико-познавательном учении, не ока-
зывавшем решающего влияния на конкретное отражение в науке
и искусстве; хотя картина мира с субъективно-идеалистической
точки зрения конструировалась совершенно иначе, чем с мате-
риалистической, но наиболее существенные жизненные факты
все же пребывали в ней в своей единой (правда, взаимопротиво-
речиво интерпретированной в теоретико-познавательном аспекте)
реальности. Отрицание Бенном реальности прежде всего разру-
шает единство человека: «„Мы жили несколько отлично от того,
кем мы были, мы писали несколько по-иному, нежели думали,
мы думали не совсем так, как мы ожидали, и то, что остается, —
это не совсем то, что мы предвкушали..." Короче, мышление и
бытие, искусство и образ того, что оно делает, и даже действия
и приватная жизнь частных лиц — это полностью разделенные
сущности; вопрос о том, соотносятся ли они вообще, я оставляю
открытым»96. Тем самым, как мы могли убедиться, вся внутрен-
няя жизнь человека распадается на гетерогенные обломки; и не
только партикулярный человек вполне сознательно отказывается
от того, что может способствовать развитию вовне этой партику-
лярное™, но и его отдельные силы и способности (взаимодей-
ствие которых несет в себе немаловажную движущую силу та-
кого развития) распадаются, обретают в сознании автономность,
ориентированную на то, чтобы сохранить партикулярность в пол-
ной неприкосновенности. Разумеется, объективно этот распад
существует лишь в воображении, а не в действительности. Во
всех областях культуры можно как угодно обыгрывать подобную
«патологию» сознания; можно привнести ее в качестве метода
в научную или художественную деятельность; можно отказаться
с ее помощью прежде всего от этических обязанностей: коль
скоро речь идет о счастье и горе или даже о бытии и небытии
частного индивида, этот внутренний распад, это отрицание дей-
ствительности тотчас проявляются как в высшей степени пригод-
ный инструмент для достижения любых практических жизнен-
ных интересов. Бенн с циничной откровенностью говорит о жиз-
ненном комфорте, который может возникнуть из такой установ-
ки: «Здесь и теперь, никаких общих мест и звездных устремле-
ний — вот хорошая основа для двойной жизни. И моя собствен-
ная двойная жизнь не только всегда была мне очень приятна —
я намерен сознательно культивировать ее, пока живу»97. Если
с этой установкой Бенна подойти к его собственному искусству,
то не так уж трудно прийти к мысли и о беньяминовском «ди-
вертисменте для меланхолика» [с. 407].
Пустая трансцендентность и субъективистски-произвольное
обыгрывание фрагментов действительности, вырванных из своих
объективных взаимосвязей, тем самым с необходимостью взаи-
модополняют друг друга98. Высказывание Гегеля: «Кто разумно
смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно; то и другое
взаимно обусловливают друг друга»99—в полном объеме может
411
быть отнесено также к неразумию, и тем больше, чем оно прин-
ципиальнее, чем более оно возводит в систему свои противоречия
разумному. Возможны, правда, такие изменения объективной
действительности, идеологическим отзвуком которых становится
ее отрицание, но это никоим образом не оправдывает ее искаже-
ния в искусстве и отнюдь не свидетельствует об общественно-
исторической необходимости подобной установки на ложный тип
отражения. Тем самым путь к аллегории в наше время ведет
в ином направлении, нежели во времена господства религиозных
форм жизни, где трансцендентность, существующая и истинная
в общепринятом мнении, низводит самостоятельность посюсто-
ронних предметов до уровня простых эмблем аллегорического
смысла; в современном же искусстве этот процесс разрушения
осознанно и непосредственно исходит от отдельного субъекта,
и «пустая трансцендентность», «ничто» как парадоксальное за-
полнение созданной им пустоты, как парадоксальное восхвале-
ние возникающего таким образом пустыря с грудами развалин
устанавливается индивидуально, самостоятельно. Конечно, в ос-
нове таких актов лежат социальные причины, но этот генезис
придает им всего лишь навязчиво соотнесенный с современно-
стью характер, не ослабляя их солипсической сути. Речь идет
о неразрывной связи двух кажущихся экстремально противопо-
ложными тенденций: тенденции к отчужденности, а иногда и
враждебности по отношению к миру, в котором живешь, и одно-
временно тенденции к возможному приспособлению к нему, же-
лания жить в нем хорошо, по меньшей мере — спокойно. (Разу-
меется, в отдельных случаях и первый компонент может носить
положительный характер; такова позиция футуризма по отноше-
нию к фетишизированному миру современной техники.) Тогда
как в прежние времена недовольство существующим пробуждало
волю к его изменению, теперь возникает мыслительный и изо-
бразительный формальный нонконформизм, который, однако,
в том, что касается практических и решающих жизненных про-
блем, в конечном итоге переходит в конформизм, по большей ча-
сти старательно замалчиваемый (двойная жизнь Бенна). Приме-'
нительно же к возникающей на этой почве аллегории именно
ничто служит отражением этого неразрешимого — и вовсе не
стремящегося к разрешению — противоречия.
Такая позиция по отношению к миру вынужденно ориентиро-
вана на аллегорическое, так как ее сторонники критикуют мир
не для того, чтобы выявлять его подлинные, фактически скры-
тые закономерности, возвещать или разоблачать их, но, как мы
видели, для того, чтобы вообще отрицать действительность. Этот
принцип, перенесенный в изобразительную практику, равнозна-
чен разрушению существующих, непосредственных и глубоко
опосредованных форм предметности. Безразлично, идет ли речь
о кубизме или футуризме, о сюрреализме или абстрактном ис-
кусстве,—разъятие явлений в их реальной предметности с той
412
или иной стороны всегда включается в процесс. Велеречивое от-
рицание действительности объективно покоится на невозможно-
сти разрешить ее насущные проблемы.
Конечно, таким образом поставленное на первый план алле-
горическое искусство отнюдь не исчерпывает того, что сделано
и делается в искусстве современности. Наряду с многообразны-
ми «измами» в литературе развивается и созвучное времени про-
должение традиций реализма (у Джозефа Конрада и Роже Мар-
тена дю Тара, у Синклера Льюиса и Арнольда Цвейга и т. д.).
Томас Манн сумел создать крупное реалистически-целостное про-
изведение, использовав те элементы авангардистских изобрази-
тельных средств, которые действительно отображают современ-
ный способ проявления сущности, освободив их от эквилибристи-
чески-экспериментаторских искажений. Было бы формалистиче-
ским заблуждением зачислять в ряды сторонников авангардизма
Бертольта Брехта в связи с его теорией «эффекта отчуждения».
В другом месте [см. т. 3, с. 163 и ел.] мы с эстетических позиций
полемизировали с этой теоретической установкой Брехта. Одна-
ко здесь следует констатировать, что «эффект отчуждения» в
важнейшей своей интенции пробивает дорогу в направлении,
прямо противоположном авангардизму; в нем нет ни малейшего
следа скрытого конформизма, скорее он нацелен на то, чтобы
вырвать человека из его ложной укорененности в существующем,
возникающей в большинстве случаев в силу привычки доволь-
ствоваться непроницаемой (для беглого взгляда) поверхностью
бытия, чтобы ориентировать человеческое сознание и деятель-
ность на правильно познанную сущность и на правильное изме-
нение действительности. Действительность, которую авангардизм
отрицает и стремится эстетически уничтожить, есть исходный
пункт и конечная цель «эффекта отчуждения». Бесспорно, Брехт
так же начинал свою драматургическую карьеру с аллегории,
но в его произведениях этого периода аллегории никогда не пре-
бывали в сфере субъективистского ничто; напротив, они были та-
ковыми именно из-за слишком прямой пафосности требований
мгновенного и непосредственного общественного действия. В сво-
ем зрелом творчестве он все очевиднее отказывается от избы-
точно-непосредственного и создает — вопреки «эффекту отчужде-
ния»— свои крупнейшие драмы, поднимая лежащее в их основе
осмысление действительности на поэтически значимую высоту.
Подобные встречные движения гораздо слабее в современном
изобразительном искусстве. Задачей историко-материалистиче-
ского исследования должно быть выявление причин, в силу ко-
торых здесь прогрессивная реалистическая линия почти полно-
стью обрывается на Сезанне и Ван Гоге, и такие великие талан-
ты, как Матисс, такие мощные творцы, как Пикассо, зачастую
ограничиваются весьма проблематичным экспериментированием.
В заключение бегло коснемся специфически декоративной
сущности этого рода искусства. Мы уже неоднократно подчер-
413
кивали, что аллегорическое искусство при отсутствии образно
представленного «мира» ищет и находит эстетический замени-
тель в декоративности. Как ни абстрактен декоративный прин-
цип в сравнении с конкретной предметностью, создающей свой
собственный «мир», но сам по себе он никоим образом не сво-
дится к полной абстрактности; в его функции входит художест-
венная организация аллегорически преобразованного, свернуто-
го, редуцированного до двухмерности слепка действительности.
В противоположность древнему чисто геометрическому орнамен-
ту аллегорическая декоративность поэтому всегда сохраняет так
или иначе, более или менее явно следы снимаемой ею конкрет-
ной предметности, и способ осуществления этого акта снятия
непосредственно отражает его социальную заданность, ведущую
именно к этой декоративной сущности, именно je данной аллего-
рии. Совершенно ясно, что даже там, где авангардистское искус-
ство абсолютно последовательно ограничивается двухмерностью,
где оно вытесняет геометрическими знаками любую конкретную
предметность, осуществляется не возврат к прежнему геометри-
ческому орнаменту, а воздействие специфически современного
декоративного принципа. Чем энергичнее он проявляет себя
в сфере формообразования, чем решительнее изгоняется из про-
изведений всякая конкретно изображаемая предметность, тем
отчетливее выступает собственное значение этого декоративного
принципа, тем легче отрешается он от аллегоричности и художест-
венно претворяет свою собственную жизненность. Хафтман, исто-
рик этого движения, подметил в жизни и описал подобные вспле-
ски. Так, он пишет о кубизме: «В плакатном стиле синтетический
кубизм завоевал общее признание. Сегодня любой легко воспри-
нимает симультанную последовательность структур кубизма, ко-
гда, например, над вагонным колесом, создавая иллюзию реаль-
ности (в стиле «trompel'oeil»), в орнаментальном порядке рас-
положены сифон, бутылка и стакан (в виде «plans superposés»),
тем более что под этим значится: „Путешествуйте с помощью
МитропьГ»; и о дадаизме: «Непосредственно освободительными
и чрезвычайно плодотворными были идеи «дада» для полигра-
фии. Привычное зеркало набора с его стереотипной монотонно-
стью строк разлетелось вдребезги, знаки ставились косо, попе-
рек, заглавные буквы возникали кое-где как чуждые магические
знаки, написанное слово также обрело значимость формального
образования, абзац открыли как эстетическую ценность, строчки
бежали по бумаге без пунктуации и без заглавных букв. Идеи
футуризма с его чувством рекламы, идеи кубизма с его интуи-
тивной артистичностью помогли сделать ошеломляющие откры-
тия»100-101. Нечто сходное можно было бы сказать и о сюрреа-
лизме и об оформлении витрин и т. д. Это анонимное и широкое
воздействие крайне эзотерических направлений, которым, прав-
да, с помощью рекламы, художественных салонов и журналист-
ского интеллектуального террора102 удалось овладеть так назы-
414
ваемым общественным мнением интеллигенции, отчетливо пока-
зывает решающий компонент их социального задания: обеспече-
ние возбуждающей комфортности существования капиталисти-
ческого общества наших дней. В вышеприведенном контексте
[с. 412] мы говорили о внутреннем противоречии между поверх-
ностным нонконформизмом и глубинным конформизмом основ-
ной жизненной позиции. Вполне оправданный массовый успех
декоративных принципов этого рода с полной отчетливостью об-
наруживает сущность конформизма как социально-человеческого
ядра подобных тенденций.
3. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ, ЧАСТНЫЙ ИНДИВИД
И РЕЛИГИОЗНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
Всякая деятельность человека, всякое восприятие им феноме-
нов развертывается в системе социальных взаимосвязей и бла-
годаря этому объективно соотнесена — прямо или косвенно,
с разной степенью опосредованное™ — с судьбой рода, с разви-
тием человечества. Эта связь с родом уже на самой примитив-
ной ступени характеризуется качественно по-иному, нежели в
животном мире, где она чисто объективна, чисто в-себе-суща,
где невозможно поэтому никакое становление диалектики от-
дельного и родового сознания. Но эта диалектика вступает в
действие, хотя и в зачаточной форме, с началом развития чело-
вечества. Правда, возникающее при этом сознание по большей
части носит характер «ложного сознания»; наш эпиграф: «Они
не сознают этого, но они это делают»—относится к преимуще-
ственному способу его проявления. Но именно таким путем и
внедряется имеющаяся здесь диалектика, осуществляется ее
постоянное преобразование в субъективную позицию, ее посту-
пательное развитие, обогащение, дифференциация и т. д.
Своеобразие эстетического до сих пор также постоянно рас-
сматривалось с этой точки зрения, как объективно, так и субъ-
ективно. Теперь нам следует подойти к данному проблемному
комплексу таким образом, чтобы с полной отчетливостью вы-
явить отношение отдельного к родовому; при рассмотрении от-
дельного индивида это означает, что соответственно освещается
роль частных моментов в его существовании. Без комментариев
понятно, что для жизни и мышления, для чувств и действий
человека в повседневности его партикулярность необходимо
выступает движущим центром. Сохранение жизни, ее обогаще-
ние и т. д. непосредственно не может быть ничем иным, кроме
как воздействием частного на окружение, его реакцией на внеш-
ние влияния. Однако мы уже неоднократно констатировали, что
стремление обыденного человека к оптимальности этого своего
самовоспроизведения создает инструментарий, который никак
не может быть употребленным адекватно, если сам человек при
415
его употреблении не выходит за пределы своей партикулярно-
сти или по меньшей мере не стремится выйти из нее в опреде-
ленных направлениях. Но это движение есть движение к сня-
тию в тройственном диалектическом смысле, то есть речь идет
не о том, чтобы частное было уничтожено, напротив, оно всегда
остается тем жизненным базисом, из которого черпаются глав-
ным образом силы для его самопреодоления, тем последним
резервуаром, где накапливается энергия для усиленного стрем-
ления как к дальнейшим шагам, так и к высшему уровню раз-
вития. Итак, частное никогда не аннулируется; но это ни в ко-
ем случае не означает его простого сохранения: его снятие на
более высоком уровне общественно-человеческих возможностей
влечет за собой его содержательные и структурные изменения
такого рода, что они привносят качественное различие в изна-
чальный и непосредственный способ его существования.
В этом отношении наука и искусство — при всех своих столь
часто затрагиваемых здесь различиях и даже противоположно-
стях— действуют в одном направлении: наряду с этической
позицией они являются мощнейшими двигателями подобного
качественного преобразования партикулярности, и поэтому они
вместе противостоят религии, главные тенденции которой ведут
к сохранению частного. Прежде всего необходимо вернуться к
уже цитированному в этой главе [с. 372 и ел.] меткому замеча-
нию Павезе, так как теперь пришло время еще раз обратиться
к затронутой проблеме. В этой связи со всей очевидностью
предстает ситуация с дезантропоморфирующим отражением в
науке: здесь не просто в высокой степени исключаются частные
особенности занимающихся наукой лиц, но исключаются и оп-
ределенные общеантропологические свойства человека вообще,
так как привнесение чисто частных моментов в научное отобра-
жение объективных, не зависящих от человека процессов может
быть источником элементарных ошибок. Но было бы вредным
предубеждением считать, что дезантропоморфирующее отобра-
жение способно преобразовать ученого в безличный инструмент,
что идеальный субъект науки может быть сходен в чем-то с
кибернетическим устройством. В точных естественных науках
личность исследователя также играет неоценимую — как поло-
жительную, так и отрицательную — роль. Не понадобится кро-
потливый анализ, чтобы понять, что здесь решающие интеллек-
туальные и моральные свойства человека (острота ума, вы-
держка, мужество и т. д.) не представимы без их укорененно-
сти в сфере партикулярности соответствующего человека, но
что они, с другой стороны, должны подвергнуться значитель-
ным модификациям, чтобы стать пригодными для подобных
целей. Любой подлинный ученый должен преодолеть (или по
крайней мере уметь отодвинуть в интересах работы) многие из
своих частных свойств, чтобы его человеческие особенности не
превратились в препятствие для его же собственной научной
416
деятельности. Не менее ясно обстоит дело с антропоморфиру-
ющим отображением в искусстве. Этот вопрос выше часто под-
нимался нами в разной связи, и мы полагаем, что для его по-
нимания будет совершенно достаточно, если мы укажем на
феномен катарсиса, избрав его хотя бы уже потому, что бла-
годаря этому одновременно выявляется также и связь этики с
проблемой партикулярности. Потрясение, очищение, им вызы-
ваемые, поднимают человека над непосредственно данным
частным, показывают ему широту и глубину перспективы, взаи-
мосвязь его узколичной, ограниченной судьбы с сущностью
окружающего мира, в котором он действует, а благодаря это-
му опосредованно — с судьбой всего рода. Чтобы стать субъек-
том такого переживания — все равно, путем ли творчества или
восприятия, — человек по меньшей мере на длительный срок
должен поднять над сферой частного свое живое отношение с
подобным «миром», с эстетическим слепком мира реального.
Такие основополагающе важные для эстетики категории, как
особенное и типичное, отчетливо показывают, что сам по себе
простой факт эстетического полагания таит в себе выход за
рамки чистой партикулярности индивида, хотя одновременно
он указывает на то, что здесь еще более отчетливо, нежели в
случае с дезантропоморфирующим отражением, речь идет о
внутренне инициируемом снятии частного.
Абсолютно противоположны категориальная структура и
направленность действия в религиозном полагании. Здесь транс-
цендентность не временная преходящая неосуществленность
познания, не чувственно исчезающий горизонт человеческого
восприятия, а нечто, противопоставленное земному бытию че-
ловека в качестве высшего, более достойного и подлинного бы-
тия. Этому — качественно отличному от всех других доступных
восприятию его форм — бытию соответствует и качественно
иное к нему отношение. Вера, которая обычно повсюду в жизни
выступает как предварительная (и подлежащая преодолению)
ступень методологически надежного рассмотрения любого пред-
мета, здесь преображается в собственное и в конечном итоге
единственно возможное опосредование отношений между чело-
веком и трансцендентностью. Это опосредование обладает един-
ственным специфическим содержанием, которое лучше всего
характеризуется выражением «спасение души». Для большин-
ства религий — и в первую очередь для христианства как важ-
нейшей для нас формы религии в плане наших преобладающе
эстетических интересов — это означает неразрывную связь
между конкретно-данным бытием каждого верующего (его пар-
тикулярностью) и его личной судьбой в потустороннем мире: его
стремление к спасению необходимым образом направлено на
обретение спасения именно для себя, именно для своей частной
личности. Конечно, любая религиозная жизнь знает святых,
которые отдают свою жизнь спасению ближних, но и для них,
27—805
417
и на этом высшем уровне невозможно исключить направлен-
ность жизненной деятельности на спасение собственной души,
ибо без такой заботы фундаментальная религиозная отнесен-
ность индивида не смогла бы ни возникнуть, ни сохраняться.
Сила религии, церкви, ее связей, ее воздействия и т. п. первич-
но зависит, однако, от того, насколько глубоко и твердо люди
(отдельные частные люди в массе) убеждены в единственности
и непреложной гарантированное™ им именно как индивиду-
альным, частным людям, обещанного спасения в ином мире
(а по возможности — и в этом, но всегда с проекцией на транс-
цендентность) с помощью данного пути, данных средств, от
догм до ритуалов. Само собой разумеется, что в мировой рели-
гии, в особенности если ее воплощением в обществе становится
господствующая церковь, это ядро окружается широкообъемной
периферией, включающей в себя человеческую жизнь в целом:
этика и искусство, наука и философия на равных правах вхо-
дят в эту систему. Однако — и этого никогда не следует забы-
вать— они включены в нее лишь как строительные блоки ре-
лигиозной целокупности, лишь служа конечным спасительным
целям религии; в противном случае они, как правило, характе-
ризуются лишь как «блистательные пороки». Развитому средне-
вековью казалось, что христианская религия действительно
смогла овладеть всей человеческой жизнью; наука и философия
включались в это отношение, но лишь в той мере, в какой они
были готовы функционировать в качестве «ancillae theologiae»,
служанок теологии, ибо в ней, и только в ней, могло найти ре-
шающее понятийное выражение первичное религиозное отноше-
ние, путь к спасению, предначертанный для любого отдельного
частного человека. Исполненные борьбы вынужденные отступ-
ления религий после великого кризиса не были пока еще пред-
метом нашего рассмотрения, хотя мы уже коснулись их в связи
с искусством; здесь мы несколько подробнее остановимся на
них в общем плане.
Следует констатировать этот основной факт, не вульгаризи-
руя его механическими обобщениями, так как несомненно, что
в любой религии в силу потусторонности ее конечной цели важ-
ную роль играет борьба с тварным началом в человеке — а что
же такое это тварное начало, если не частное бытие человека?
(По меньшей мере так это представляется на первый взгляд.)
Аскетическое сведение счетов со всякой тварностью первосте-
пенно значимо почти для каждой религии, а в буддизме консти-
туирующим определением цели освобождения, подлинной поту-
сторонности выступает даже полное уничтожение человеческой
личности. Но этот экстатический уровень не в состоянии дли-
тельное время определять собой религиозную жизнь в целом.
Во времена наивысшего кризисного напряжения, которое для
религиозного сознания зачастую реализовалось в форме ожи-
дания близящегося конца света или новой мировой эпохи,
418
аскетические воззрения и аскетическая практика, отбрасывав-
шие наряду с частным и все земные цели человечества, захва-
тывали не только отдельных людей, но и широкие массы. Да и
в обычные времена подобные течения способны достигать мас-
сового воздействия, однако, как правило, святые, ориентирован-
ные преимущественно на иной мир, и рядовые верующие резко
различаются между собой, и при этом церковная практика
прежде всего направлена на религиозное упорядочивание и ру-
ководство жизнью последних. Отсюда естественным образом
следует, что эти люди ведут обычную повседневную жизнь, дей-
ствуют в соответствии со своими индивидуальными (частными)
целями, однако благодаря церковному руководству выполнение
ими религиозных обязанностей удовлетворяет условиям, гаран-
тирующим им спасение души в потустороннем мире. В наши
задачи не может входить даже беглое рассмотрение упомяну-
того различия, проявлявшегося во множестве исторических и
религиозных особенностей (касты в Индии, монахи, священно-
служители и миряне в католицизме и т. д.). Речь идет лишь о
том, чтобы констатировать, что подобное религиозное формиро-
вание обыденной жизни не затрагивает решающим образом ее
основополагающих структур, как это постоянно делают (в каж-
дом случае по-своему) наука и искусство. Напротив, наисуще-
ственнейшие моменты этой структуры приобретают как раз бла-
годаря органическому включению в сферу религии некоторое
особое освящение, консервирующую их сущность сублимацию,
дальнейшее свое усиление и даже ужесточение. При этом мы
имеем в виду элементарную соотнесенность всех предметов и
событий с благополучием частного лица. При спонтанности
обыденной жизни само собой разумеется, что все обретает на-
правленность на то или иное частное «Я». Хотя опыт, и в пер-
вую очередь трудовой опыт, и научает человека самым настоя-
тельным образом принимать во внимание независимые от него
закономерности объективной действительности, но сущности
обыденной жизни принадлежит та особенность, что даже и по-
лученное таким образом познание снова замыкается на част-
ном «Я»; его счастье, равно как и неудачи в овладении миром,
проистекающие из игнорирования его закономерностей, вновь
проявляются в ориентированной на субъект форме: человек по-
вседневности слишком часто забывает, что он сам своим тру-
дом навязывает теологию миру объектов, и считает, что миро-
вой процесс телеологичен сам по себе, а именно таким образом,
что его человеческая, партикулярно-личностная умелость обра-
зует по меньшей мере точку пересечения телеологических рядов.
Николай Гартман правильно анализирует теоретико-позна-
вательную сторону этой спонтанности обыденной жизни. При
этом он исходит из наличествующей и в наши дни формы по-
вседневности и констатирует относительно господствующего в
ней мышления следующее: «Здесь налицо тенденция спраши-
27*
419
вать при любой оказии, «чего ради» это должно было случить-
ся. «Чего ради это со мной приключилось?» или «Чего ради я
должен так мучиться?», «Чего ради он так рано умер?» При
любом событии, которое нас тем или иным образом «касается»,
подобные реплики напрашиваются сами собой, даже если при
этом они выражают лишь полную беспомощность. Молчаливо
предполагается, что все это так или иначе может кончиться
добром; ищется смысл, оправдание, как будто мир устроен так,
что все, что происходит, обязательно обладает каким-то смыс-
лом»103. На более высоком уровне мышления, не выходящем,
однако, за пределы обыденной спонтанности, это означает мыс-
лительную попытку исключения случайности из объективной
действительности; случайность предстает перед человеком по-
вседневности как нечто неправомочно расстраивающее его пла-
ны. Однако здесь возможны два разнонаправленных движения.
Первое ориентировано на познание причинной необходимости
случая, на диалектику случайного и необходимого, впервые
познанную и философски разработанную Гегелем, практическим
следствием которой может быть лишь утонченная, улучшенная,
более гибкая разработка индивидуальных ,и коллективных пла-
нов. Второе движение основывается на общем «мировоззрении»
повседневной жизни. Из него, по словам Гартмана, вырастает
отвращение обыденного мышления к случайности, ее неприя-
тие. Ее, правда, нельзя отрицать как факт, но она истолковы-
вается как нечто «одновременно предвиденное и желанное», за
которым кроется иное, уже не человеческое предвидение, более
высокая, нежели у человека, воля. «Таким обходным путем все
в мире получает затем свое определение и обретает телеологи-
ческую планомерность. И если человеку удается вступить в ис-
полненное прозрений отношение с тем, иным предвидением,
то прекращается его беспомощная предоставленность произво-
лу непредвидимого»104.
Здесь недвусмысленно ощущается предпосылка для перехо-
да обыденного «мировоззрения» в религиозность. Глубоко уко-
рененная в повседневности сущность этого перехода основыва-
ется на уже упоминавшейся нами [см. т. 1, с. 32 и ел.] непо-
средственной связи в обыденной жизни теории и практики; этот
постоянно и повсеместно господствующий здесь принцип воз-
вращает все и вся к телеологической разновидности соотнесе-
ния с «Я», причем в обыденной жизни любое объяснение объ-
ективных связей с помощью труда и науки, любое снятие
истинных, сущих-в-себе, субъектных отношений через искусство
снова и снова отодвигается в область спонтанной телеологиче-
ской зависимости от партикулярного субъекта. Мы достаточно
часто подчеркивали глубокое сродство между обыденной жизнью
и жизнью, детерминируемой религией; это сродство основано на
том, что религия — в противоположность искусству и.науке, раз-
рушающим спонтанно-телеологическую соотнесенность с част-
420
ным «Я», — обладает и должна обладать структурой, сохра-
няющей, увековечивающей эту тенденцию. Данную взаимо-
связь Гартман анализирует верно и многосторонне; он не просто
выявляет категориальные связи элементарных фактов обыден-
ной жизни, но в то же время на другом, высшем уровне миро-
воззренческих проблем показывает, каким образом телеологи-
ческое отношение к частному «Я» способствует ложной интер-
претации возникающих здесь вопросов. Гартман вскрывает
ложную альтернативу, согласно которой «мир должен быть ли-
бо осмысленным, либо абсурдным»; ведь и эта дилемма состо-
ит всего-навсего из телеологической соотнесенности внешнего
мира с любым частным «Я», причем абсурдность в негативном
плане точно так же группируется вокруг частного человека,
как и позитивно оцениваемая осмысленность. По словам Гарт-
мана, объективно существует третье, а именно мир, который не
осмыслен и не абсурден, а «бессмыслен»: «Это мир, который,
взятый в целом, не основан на смысле, но в котором, смотря по
обстоятельствам (то есть в силу слепой необходимости «слу-
чая»), пестро переплетаются осмысленность и абсурдность.
Последняя — это как раз то, что эмпирически доступно, извест-
но нам в границах данности этого мира на каждом шагу. Это
пестрое переплетение осмысленности и абсурдности вовсе не
нуждается в телеологическом истолковании: оно не несет в се-
бе никакого предписанного направления... Только человек сво-
им перетолковыванием преобразует мир, открытый осмыслению,
в мир замкнутой осмысленности. Только благодаря этому он
отказывает миру в процессе смыслообразования (а именно эту
услугу он мог бы ему оказать) и тем самым превращает его в
подлинно абсурдный мир»105.
Подобный критикуемый Гартманом путь к религиозному
рассмотрению открывается как бы сам собой, причем, разуме-
ется, следует иметь в виду, что это воззрение, образующее —
будучи результатом всегда наличествующей, постоянно воспро-
изводимой, но всегда невыполнимой из-за расхождения с объ-
ективной действительностью человеческой потребности — одно
из важнейших оснований потребности религиозной, никоим об-
разом не идентифицируется с ней безоговорочно, механически.
Разумеется, здесь мы не можем проследить все промежуточные
формы; достаточно вспомнить о теодицеях, о самых различных
базирующихся на телеологии натурфилософских и философско-
исторических системах. Несомненно, они обладают категориаль-
ной структурой, подобной той, которая описана Гартманом;
однако, хотя многие их идеи заимствованы у религии и со своей
стороны вторично влияют на теологию, им нельзя приписать
непосредственно религиозного характера. Это объясняется тем,
что телеология таких систем не распространяется на отдельно-
го частного человека; стоит лишь вспомнить гегелевскую фило-
софию истории, которая признает телеологическую детермини-
421
рованность общеисторического процесса, а потому предстает
столь же антропоцентричной, сколь и описанный выше ход мыс-
.ли, однако субъектом, образующим средоточие телеологических
:рядов, выступает в ней само человечество; следовательно, те-
леологические определения не проникают непосредственно в
жизнь индивидов, которые суть просто орудия, употребляемые
мировым духом в своих собственных целях. Поэтому люди,
обладающие религиозным восприятием, нередко отвергают по-
добные теодицеи, и даже не без упреков в атеизме. Чтобы та
или иная теодицея была признана подлинно религиозной, в том
числе и в эмоциональном аспекте, это соотношение должно из-
мениться на обратное: общее телеологическое устройство исто-
рии человечества хотя и может и должно принять форму тео-
дицеи, но таковая обязана обладать свойствами, в силу кото-
рых любой отдельный партикулярный индивид будет в состоя-
нии воспринимать свою собственную судьбу как ее существен-
ную, неотторжимую составную часть (а не как исчезающий мо-
мент, в духе Гегеля), так чтобы эта судьба стала предметом
его собственного переживания. Чтобы привести более современ-
ный пример, возьмем Бердяева, у которого данная ситуация
прослеживается весьма отчетливо. Он пишет о множестве ир-
рациональных, неправомерных и т. д. факторов действительно-
сти. «Но великая тайна, — продолжает он, — состоит именно в
том, что мы в состоянии увидеть руку Божью в индивидуаль-
ной судьбе каждого человека и найти смысл, хотя он и усколь-
зает от любой попытки рационализации. Ни один волос не па-
дает с головы человека без воли Божьей. Это истинно не толь-
ко в элементарном смысле, но исполнено глубочайшей истин-
ности»106.
Здесь описывается наиболее фундаментальный факт рели-
гиозной потребности. Но из этого еще не следует, как это сде-
лали мы, для прояснения категориальных связей выдвинув вме-
сте с Гартманом на первый план теоретико-познавательную
сторону, что эта сторона и в обыденной жизни непосредственно
действует как первопричина. Напротив, первичной следует при-
знать спонтанно охватывающую все жизненные явления эле-
ментарную потребность человека воспринимать и постигать
свою частную личность как средоточие всех мировых событий.
Конечно, и в этом случае речь идет о результате длительного
исторического развития, начальные этапы которого, очевидно,
никогда не будут исследованы до конца, ибо с первого же
взгляда очевидно, что на самых примитивных стадиях столь
явно доминирующее теперь чувство собственного «Я» в обы-
денной жизни людей могло вовсе отсутствовать или наличест-
вовало в зачаточном состоянии. Нужно было преодолеть дол-
гий путь, достичь высокого уровня развития труда (ранее [см.
т. 1, с. 67] мы указывали, что только в труде и только через
него человек начал осознавать подлинное субъектно-объект-
422
ное отношение), должно было произойти разложение первобыт-
ного комммунйзма, чтобы человек вступил в обладание своим
частным «Я» как интеллектуально-эмоциональным центром
жизни. Это развитие протекает параллельно с преобразовани-
ем магии в религию.
В свое время [см. т. 1, с. 89 и ел.,] мы ссылалисьна остро-
умную гипотезу Фрэзера, согласно которой именно расширение
человеческих знаний о процессах внешнего мира разрушает
иллюзию овладения ими посредством магии и ставит на ее мес-
то религию с ее человечески-этической установкой на отноше-
ние человека с трансцендентностью107. Благодаря этому жертва
и молитва передвигаются в центр развивающейся в этой сфере
человеческой деятельности. Становление и углубление религи-
озной потребности, как мы определили выше, одновременно сти-
мулировалось установлениями и вводилось в систему возника-
ющих и развивающихся религий. В зависимости от обществен-
но-исторических условий в классификации религии различают-
ся чрезвычайно несхожие типы таких структур. Они могли
формироваться однозначно и жестко, многозначно и расплывча-
то, могли резко полемически противостоять всему земному, от-
брасывая его прочь, могли являться в широком окружении
научных (дсевдонаучных) методов и результатов и т. д. Опять-
таки здесь невозможно хотя бы бегло наметить все эти типо-
логические возможности, не говоря уже об исследовании исто-
рических причин их возникновения или их социальной обуслов-
ленности. Для наших целей достаточно констатировать, что в
каждом случае эти функции выполняет устанавливаемая рели-
гией «объективность», занимающая в сфере вечных колебаний
центральное место в ее телеологической отнесенности к судьбе
любой исповедующей соответствующую религию частной лич-
ности. В качестве иллюстрации такого положения вещей мож-
но привести астрологию, играющую заметную роль в ряде вос-
точных религий. Ее категориальную основу составляет убежде-
ние в том, что движение звездного мира управляется законами,
позволяющими в любой момент соотнести то или иное положе-
ние небесных тел с любым частным индивидом, со всей его
судьбой и успехом его отдельных предприятий и т. д. Согласно
этим законам существует телеологическая связь между индиви-
дом и созвездием, а исключение случайного из жизни частного
человека простирается и на законы космоса.
Тем самым уже обрисовывается универсальность гаранти-
руемого религией удовлетворения религиозной потребности,
охватывающей всю совокупность жизненных явлений. Объем,
качественные характеристики, тип и т. д. этой универсальности,
разумеется, отличаются чрезвычайным исторически обусловлен-
ным разнообразием, но принципиально общей во всем этом
разнообразии остается живая тенденция телеологической связи
универсума с судьбой частного лица. Так, в ответе, который
423
любая религия дает религиозной потребности ее привержен-
цев, содержится стремление управлять всей внешней и внут-
ренней жизнью людей, поставить их перед «системой мира»,
основанной на откровении и посему обязывающей к исполне-
нию долга, берущей на себя решение в религиозном духе всех
шроблем, возникающих в ходе регулируемой подобным обра-
зом жизни, и тем самым пытающейся включить все диктуемые
религиозной потребностью частного лица желания в единую
всеохватывающую взаимосвязь, призванную гарантировать их
исполнение. Этой объективной — духовной, эмоциональной, ор-
ганизационной и т. д. — универсальности религии и религиозно
настроенного человека должна соответствовать субъективно
переживаемая универсальность; это значит, что религия все
время должна обращаться к целостному человеку. Отсюда сле-
дует, как уже упоминалось раньше, что способ восприятия са-
мим человеком своей связи с религией определяет всю шкалу
его жизненных проявлений, которая простирается от непосред-
ственно-практического участия в обыденной жизни до экстати-
ческого ухода в жизнь святых. Великие мировые религии отли-
чаются от сект именно и прежде всего в этом отношении: по-
следние обращены к избранной и поэтому численно ограничен-
ной группе единомышленников, у которых религиозность вопло-
щается в сущностно сходном содержании, на принципиально
одинаковом уровне и т. д., в то время как первые стремятся к
чему-то гораздо более общему и всеобъемлющему, причем они
обязываются — различным способом соответственно историче-
ским условиям — удовлетворять религиозные потребности как
самого возвышенного, так и самого мирского характера. По-
скольку для нас интерес представляют в первую очередь взаи-
мосвязи религии и искусства, в качестве главного предмета
рассмотрения здесь выступают универсальные мировые рели-
гии, и прежде всего христианство.
Так как большинство наиболее известных трудов по теории
религии создавалось с открытым или тайным апологетическим
намерением, то «многомерность веры» как следствие ее универ-
сальности и всеобщности, как писал Малиновский, редко быва-
ет оценена должным образом. У самого Малиновского эта про-
блема представлена, однако, лишь как критико-полемический
момент этнографического исследования, касающийся религиоз-
ных верований первобытных народов. Правда, в одном из при-
мечаний он пытался провести обобщение проблемы до уровня
общесоциологического исследования религиозных феноменов;
так, он указывает на то утверждение, что «приверженцы рим-
ско-католического вероисповедания верят в непогрешимость
папы» может быть правильным лишь как общий ортодоксаль-
ный тезис веры. Однако, добавляет Малиновский, польский
крестьянин-католик знает об этом догмате не больше, чем о
дифференциальном и интегральном исчислении108. Это указыва-
424
ет (правда, чисто негативно) на мощный «нижний» слой рели-
гиозной потребности, глубоко уходящий в повседневную жизнь
общества. Не притязая на то, чтобы хотя бы наметить контур
этого круга проблем, мы приведем некоторые факты; само со-
бой разумеется, они исходят от авторов, которые даже отдален-
но не могли бы быть заподозрены в том, что они решили свои-
ми наблюдениями послужить антирелигиозной пропаганде.
Так, Г. С. Коммаджер пишет о тенденции к «обмирщению» ре-
лигии в Америке: «Типичный протестант двадцатого века уна-
следовал свою религию, как он унаследовал и свою политику,
только несколько более поверхностно, и он был бы совершенно
не в состоянии объяснить различия между отдельными испове-
даниями. Он случайно обнаруживает себя принадлежащим к
определенной церкви" и по привычке сохраняет ей верность;
каждая новая воскресная служба мало его трогает, но он
убежден, что своим участием в богослужении он оказывает
благодеяние священнику и приходу»109. Еще отчетливее и со-
циально конкретнее выступает эта тенденция у Макса Вебера
в его известном и гораздо более раннем исследовании проте-
стантизма, причем интересующие нас описания также касают-
ся сущности религии в современных Соединенных Штатах.
Макс Вебер между прочим пересказывает разговор, в котором
его собеседник-коммивояжер сообщает ему следующее: «Сэр,
что касается меня, то я думаю, что каждый может верить или
не верить, как ему больше подходит, но если я вижу фермера
или торговца, который вообще не принадлежит ни к какой
церкви, то я за него и пятидесяти центов не дам: как я могу
поверить, что он мне заплатит, если он ни во что не верит?»
В другом случае речь идет о новокрещеном баптисте, причем
в его местности существует лишь одна маленькая баптистская
община. Макс Вебер замечает: «В результате встречных во-
просов выяснилось: прием в местную, все еще строго придер-
живающуюся религиозных традиций баптистскую общину, ко-
торый осуществляется лишь после тщательного «испытания»
и после кропотливейших, охватывающих и раннее детство рас-
следований «образа жизни»... считается своего рода абсолютной
гарантией этических качеств джентльмена, прежде всего дело-
вых, что открывает ему банковские кредиты по всей округе и
делает его неограниченно кредитоспособным вне всякой кон-
куренции»110.
Поучительно сравнить эти описания с высказываниями
Кьеркегора в его последней полемической работе, направлен-
ной против современного христианства, чтобы увидеть, что речь
идет о крайне распространенном феномене, причем здесь для
нас перечисление симптомов безусловно важнее авторских вы-
водов. Кьеркегор пишет: «Допустим, нет Бога, нет вечности,
нет Страшного суда; в таком случае официальное христиан-
ство— это совершенно очаровательное изобретение и хорошего
425
вкуса, самым разумным образом придающее жизни массу удо-
вольствия; она богаче удовольствиями, чем когда-либо могла
стать жизнь язычника. Ведь наслаждениям язычника препят-
ствует, как известно, невыясненность вопроса о вечности, но
официальное христианство придало этому делу такое направле-
ние, что именно вечность обеспечивает нам подлинную ра-
дость, подлинный вкус к жизни и жизненным удовольствиям»111.
Полвека спустя, выступая с публицистической апологией като-
лицизма, Честертон избрал исходным пунктом своей защиты
как раз резко критикуемую Кьеркегором сторону религии; он
провозглашает, что только католическая церковь в состоянии
создать подлинный колорит интеллектуальной и моральной сто-
ронам обыденной жизни112.
Подобные критические и апологетические выступления по-
казывают, насколько то, что составляет собственно содержа-
ние веры, постепенно отдаляется от повседневной жизни ее
приверженцев. Даже те критики, которые полагают, что обна-
ружили в современности взлет религиозного искусства, вынуж-
дены признать этот очевидный факт. Так, Карл Август Гёц в
работе о Леоне Блуа констатирует, что поэты «окончательно
пресекли наивную бездумность, с которой прежние поколения
называли себя христианами». Таково и мнение Вальтера Хай-
ста об отношении Бернаноса к победе Франко в гражданской
войне в Испании: «То, что христианство не выступило как мир,
противоположный бесчеловечности, а вместе с остальной, не-
христианской половиной человечества было готово в нее погру-
зиться, лишило его иллюзий, так что он почувствовал себя не
в состоянии вести в дальнейшем свою прежнюю жизнь»113.
Поэтому вполне понятно и далеко не случайно то, что уже во
второй половине XIX века один за другим выступают значи-
тельные писатели, изображающие полную духовную и челове-
ческую неукорененность откровений христовых в нашем време-
ни. Этот ряд открывается легендой о великом инквизиторе в
романе Достоевского «Братья Карамазовы». Чтобы предупре-
дить возражение, что Достоевский имел при этом в виду один
лишь католицизм, сошлемся на его описание жизни и смерти
старца Зосимы в том же романе: это жизнь святого, доходящая
до вершин доброты и мудрости земного мира, но после его
смерти не происходит чуда, знамения, подтверждающего свя-
тость, и все в целом завершается скандалом более чем земного
свойства.
Герхарт Гауптман тоже изображает эту внутреннюю бес-
приютность Христа в наше время, причем основную линию
композиции у него не случайно образует иронически-подчерк-
нуто неопределенная, колеблющаяся грань между апостольст-
вом и безумием. Роман Понтоппидана «Обетованная земля» ос-
нован на сходной оценке современного состояния проблемы,
хотя во всем остальном он диаметрально противоположен на-
426
меченному у Гауптмана подходу к ней. Этот ряд не прерыва-
ется и в дальнейшем, он прослеживается также у католических
авторов. «Избави нас боже от святых!» — восклицает настоя-
тель в романе Бернаноса «Дневник сельского священника»,
совершенно в духе сатиры, изображенной в эпилоге «Святой
Иоанны» Бернарда Шоу.
Число примеров может быть дополнено и ссылками на ав-
торов противоположной ориентации: не только христианский
мир знать не хочет больше ни Христа, ни подлинных святых;
эта проблематика проникла и во внутренние переживания са-
мых значительных поэтов современности. Важнейшие из их
внутренних откровений предстают трагически невыполнимыми в
аспекте чисто абстрактной религиозной потребности. Не будем
приводить здесь кощунственные стихотворения умирающего
Гейне. Но Бодлер, которого Рудольф Касснер называет «хри-
стианнейшим поэтом»1133, религиозность которого признавалась
Маритеном и т. д., в котором, несомненно, жила сильная ре-
лигиозная потребность, чувствует себя вынужденным к следую-
щему признанию (в цикле «Мятеж») :
Ужель не вспомнил ты, как за тобою вслед,
Ликуя, толпы шли, когда в своей столице
По вайям ехал ты на благостной ослице —
Свершить начертанный пророками завет,
Как торгашей бичом из храма гнал когда-то
И вел людей к добру, бесстрашен и велик?
Не обожгло тебя Раскаянье в тот миг,
Опередив копье наемного солдата?
— Я больше не могу! О, если б, меч подняв,
Я от меча погиб! Но жить — чего же ради
В том мире, где мечта и действие в разладе.
От Иисуса Петр отрекся... Он был прав.
(Перев. В. Левика)
Рильке, чьи религиозные потребности были столь же интен-
сивны, так показывает в стихотворении «Масличный сад» Хрис-
та в разговоре с богом:
Я потерял Тебя. И нет Тебя во мне,
И нет в других. И в этом камне нет.
Я потерял Тебя. Один в ночной стране.
Я здесь наедине со скорбью всех людей.
Я исцелить хотел их милостью Твоей,
Но нет Тебя. И жизнь — как цепь бесславных дней.
А скажут: тут явился ангел, всех светлей...
427
Нет, то не ангел. То явилась ночь,
Бесстрастною рукой перелистав оливы.
Ученики ворочались сонливо.
Нет, то не ангел. То явилась ночь.
Так приходили тысячи ночей,
И эта ночь пришла обыкновенной:
Спокоен сон собак, и вечен сон камней.
И ночь печально ждет над головой моей,
Пока забрезжит утро над вселенной.
(Перев. М. Журинской)
Это глубокое потрясение некогда принятого на веру истин-
ностного содержания, действенности христианской религии, све-
дение ее к простой религиозной потребности, »которая может
обладать как внутренним, так и внешним воздействием, выка-
зывается в повседневной практике, конечно, в самых различных
формах, среди которых встречаются и крайне парадоксальные.
Например, Фридрих Хеер цитирует высказывание Шарля Мор-
раса: «...Я атеист, но я католик»114. Этот случай экстремален,
поскольку Моррас был достаточно умен, чтобы осознавать
проблематичность своей позиции, и достаточно честен или ци-
ничен, чтобы открыто высказать свои самонаблюдения; но это
ни в коем случае не снимает типичности данного высказывания,
так как зачастую случается, что люди, которые в силу своих
интересов и убеждений склоняются к определенному образу
действий, узнают или инстинктивно понимают, что социальная
ситуация соответствующего периода подчиняет их действия и
определенной религиозной ориентации, как мы это видим в
случае с роялистски-реставраторскими устремлениями и като-
лицизмом Морраса. Заурядные люди в подобной ситуации,
когда идейные вожди, их соратники или последователи прихо-
дят (или по крайней мере считают, что приходят) к такой со-
циальной приданной их практическим действиям религиозно-
сти, проворно перепрыгивают пропасть, которую отверзает
нашим взорам цинизм Морраса. Но объективные противоречия
не могут быть аннулированы их сознательным или неосознан-
ным отрицанием, и возникающая таким путем религиозность в
своих существенных свойствах отличается качественно, но не
принципиально от религиозности в вышеприведенных американ-
ских примерах Макса Вебера. Этот вид переплетения религиоз-
ных убеждений, установок и т. п. с практикой обыденной жиз-
ни в соответствии со своим субстратом обладает бесконечной
содержательной и формальной вариабельностью. Упомянем еще
лишь один особенно характерный тип: влияние на обыденную
жизнь еще сохранившихся в религии магических пережитков.
Хотя в основном религии серьезно стремятся к их преодолению,
не столь уж часты случаи, когда это действительно происходит.
428
И это не случайность, потому что к любому точно зафиксиро-
ванному и предписанному ритуалу почти насильственно присо-
вокупляются магические представления: его содержание, его
внутренне религиозное значение блекнут в сравнении с верой в
то, что выговаривание определенных слов в определенной си-
туации, последовательность определенных жестов или телодви-
жений и т. д. оказывают прямое воздействие на трансцендент-
ные силы уже самим фактом наличия соответствующих свойств.
Доверие к подобным ритуалам., часто фанатически-слепое, при
известных обстоятельствах может стать решающим средством,
позволяющим человеку ощутить свою сопричастность религии и
непоколебимо уверовать в то, что только благодаря этому по-
средничеству трансцендентные силы помогут достижению его
частных целей в ином (и в этом) мире. Русский церковный
раскол XVII века был вызван не догматическими противоре-
чиями, а ритуальными литургическими нововведениями; это,
пожалуй, наиболее отчетливо может проиллюстрировать ска-
занное.
Однако видеть единственный источник религиозной потреб-
ности во влиянии на жизнь подобных магических пережитков,
в обусловленности хода вещей в этом или в потустороннем ми-
ре определенным типом человеческого поведения столь же
ошибочно, как и недооценивать значение этих пережитков в их
становлении и сохранении. Это тем более справедливо, что в
конкретном религиозном поведении, с одной стороны, границы
по большей части размыты, а с другой — никакая религиоз-
ность, как бы ни была она очищена от следов магии, не может
сохраниться при отказе от телеологического определения част-
ной человеческой судьбы. Говоря о кальвинизме, Макс Вебер
дает интересную характеристику этой наиболее последователь-
ной попытки полного искоренения из религии магических эле-
ментов. По Кальвину, не существует вообще никаких средств
привлечь милость божью к тому, кому в ней отказано; не мо-
жет быть и никаких внешних знаков избранности или отвер-
жения. Но у его последователей «certitudo salutis» [уверен-
ность в спасении], узнаваемость избранности играет тем не ме-
нее очень важную роль. С одной стороны, она выступает как
долг, обязанность считать себя избранником, рассматривая
любое сомнение как дьявольское искушение, с другой — не-
устанная профессиональная деятельность выделяется в качест-
ве средства достижения подобной уверенности, а успехи в осу-
ществлении такого образа жизни расцениваются, следователь-
но, как знаки избранности. «И в противоположность изначаль-
ному учению Кальвина он [позднейший пуританин] знал, по-
чему Бог предпринимает то или иное. Освящение жизни таким
образом могло принять характер почти что делового предприя-
тия»115. Мы видим, что категориальная структура телеологиче-
ского центрирования причинных процессов объективной дейст-
429
вительности на судьбе частного лица сохранялась в неизмен-
ности и после решительного отказа от всех магических предрас-
судков, но, правда, сохранялась в постоянно изменяющейся
форме. Макс Вебер дает психологически верное резюме соци-
альной и духовной мотивации подобной религиозной теодицеи:
«Счастливый редко довольствуется фактом наличия своего
счастья. У него всегда есть потребность в праве на это счастье.
Он хочет быть убежденным, что он его «заслужил», прежде
всего заслужил в сравнении с другими. И еще он хочет тем са-
мым иметь право верить в то, что с другим, менее счастливым,
не сумевшим обрести такого же счастья, равным образом слу-
чилось лишь то, что ему предназначалось. Счастье хочет леги-
тимироваться»116.
Представленная таким образом теодицея успеха в земном и
потустороннем мире наверняка не единственная р вряд ли игра-
ет наиболее важную роль среди тех телеологических центриро-
ваний на партикулярном «Я», сумма и система которых состав-
ляют универсальность религий. Другая сторона — это теодицея
страдания. Совершенно определенно вовлечение страдания, не-
удачи, угнетенности и т. д. в эту систему составляет по мень-
шей мере такую же элементарную потребность, как и потусто-
роннее благословление земных удач. Ибо именно несчастливый
исход человеческих предприятий, болезненные повороты чело-
веческого бытия обычно с крайней интенсивностью порождают
те вопросы о смысле страдания, о цели крушения и т. д., те-
леологический характер которых верно анализирует Гартман.
Объективно неудача точно так же возникает из «бессмысленной»
причинности мирового процесса, как и счастливый исход. Всег-
да лишь сам человек придает смысл «бессмысленным» событи-
ям, черпая его в непосредственной связи с отдельными данностя-
ми или исходя из дальнейших перспектив; но ценность такого «ос-
мысления» может быть обоснована только тем, насколько содер-
жащийся в нем новый взгляд на вещи в состоянии служить уточ-
ненным руководством для будущей деятельности человека или
моделью для практики других. Маркиз Кейт у Ведекинда мет-
ко высказывается о подобных ситуациях: «Несчастье для ме-
ня— такое же удачное обстоятельство, как и всякое другое.
Несчастье может случиться с любым ослом: искусство же со-
стоит в том, чтобы понять, как его правильно использовать».
Несмотря на умышленное циничное заострение, эти слова вер-
но передают объективные взаимоотношения субъекта и объек-
та в подобных ситуациях человеческой практики, они нисколь-
ко не умаляют подлинного значения субъекта, но отбрасывают
всякую ориентированную на «Я» характеристику внешнего ми-
ра. Подобный разрыв с направленной на субъект теодицеей
неудачи в этом отношении выходит за пределы непосредствен-
ности обыденной жизни, ибо в такой теодицее из жизненной
важности его поведения (когда человек должен немедленно,
430
под угрозой гибели, без всякой подготовки находить мгновен-
ные решения, которые определяют его судьбу на долгий срок,
а то и навсегда) вырастает ложная убежденность в том, что
внешний повод, провоцирующий то или иное решение, был ка-
ким-то образом предуготован уже в объективном бытии-в-себе
этого субъекта и тем самым он действительно как бы дает от-
вет на вопрос, поставленный перед ним неким трансцендент-
ным субъектом.
Теодицея строится на почве таких некритических догмати-
зируемых непосредственных представлений повседневной жиз-
ни. Поэтому в ней отсутствует всякий реальный выход за гори-
зонты этой жизни; то новое, что в ней содержится, есть не что
иное, как фиксирование этой непосредственности с помощью
«мировоззренческого углубления», необходимо лишенного вся-
кого объективного обоснования. Субъективное стремление к
мыслительному и эмоционально-доступному объяснению этой
непосредственности обыденной жизни и составляет ту религиоз-
ную потребность, которая должна удовлетворяться теодицеей
страдания. Если страдание предстает как указующий перст
бога, как ниспосланное свыше испытание, даже как знак из-
бранности, то частная судьба тем самым включается в великую
космическую связь, претендующую на то, чтобы быть более су-
щей, чем земное бытие, объективно более истинной, нежели
данная объективная истина, и именно благодаря этому вклю-
чать частную жизнь партикулярного индивида во всеобъемлю-
щий план спасения. Стоит вспомнить книгу Иова, чтобы убе-
диться, что это стремление видеть мир как теодицею страдания
глубоко укоренено в душах людей. Но подобное влияние было
бы невозможно, если бы возникающие при этом эмоции не
оказывались в состоянии пробуждать в человеке глубокие и
весомые явления морального порядка, что, однако, никоим об-
разом не снимает их объективной необоснованности; речь идет
лишь о сложной, неравномерно и противоречиво развивающейся
истории типов морального поведения человека. Здесь мы так-
же вынуждены привлекать к рассмотрению лишь те стороны
обширного комплекса проблем, которые непосредственно связа-
ны с нашей гораздо более узкой постановкой вопроса, а имен-
но отношение возникающих таким путем моральных эмоций,
решений, действий и т. д. к частной сфере того или иного лица.
История религий показывает, что ведущей является тенденция
к сохранению партикулярности; так, хотя великие жертвы, ге-
роические усилия и даже самопожертвование и ведут к теоди-
цее страдания, но ее конечной целью всегда является спасение
души человека, сохранение на более высоком уровне его пар-
тикулярности, хотя путем к этому и будет умерщвление твар-
ного начала и связанные с ним глубокие внутренние пережива-
ния, предмет которых — соизбавление, спасение других.
Эта фиксация на частном соотнесена с полярной привязан-
431
ностью к конечному избавлению в ином мире. Эта ориентация
на потусторонность снижает земную жизнь до уровня простого
подготовительного этапа, испытательного «полигона», причем
те жизненные коллизии и силы, которые в этой жизни выводят
людей за пределы их партикулярности, рассматриваются как не
обладающие самостоятельной ценностью, хотя они, разумеется,
нередко наличествуют и подчас даже достигают высокого уров-
ня развития. Но если эти «промежуточные слои», развиваясь,
обретают самостоятельную жизнь, то неизбежным становится
их конфликт с трансцендентной конечной целью. Выше мы
лишь бегло и предварительно отождествили тварное и частное
[с. 418]. Соединенность частного с посюсторонним, одновре-
менно непосредственная и конечная, сохраняется, но тварность
в религиозном смысле охватывает и те формы человеческой
деятельности, которые требуют преодоления чистой партику-
лярности собственными силами человека и осуществляют его.
Будучи безусловно подчиненными религиозному поведению, эти
силы проявляются как простые выражения тварности; но, пре-
тендуя на самостоятельную значимость, они, как превознесение
тварного начала, решительно отвергаются. Такое противопостав-
ление по необходимости всегда наличествует в любой религи-
озно организованной жизни, колеблясь — сообразно социаль-
ным условиям — между глубокой латентностью и открытым
столкновением. Это со всей очевидностью обнаруживается при
рассмотрении экстремистских религиозных течений, в которых,
по сути дела, решающую роль играет преобразование земной
жизни, начиная от альбигойцев, гуситов и Томаса Мюнцера до
зарождения революционного пуританства. Здесь забота о поту-
стороннем просветлении частного человека как бы временно
оттесняется на второй план, и освобожденные тем самым эти-
ческие силы стремятся к выходу за пределы партикулярности.
Не зря при этом чаще всего речь идет о еретических направле-
ниях в рамках религиозности. Социальный консерватизм обла-
дает глубоким внутренним родством с религиозной трансцен-
дентностью: в свете ее конечной цели религиозная защита су-
ществующего как такового выступает именно в качестве чисто
земной промежуточной стадии самой по себе, в то время как
революционное преобразование общественного бытия вольно
или невольно должно вступить в состязание с трансцендентно-
стью, добиваясь наибольшего влияния на людей. Разумеется,
систематически разработанная этика у Фомы Аквинского или
иезуитов более систематична и упорядочена, нежели у ради-
кальных гуситов или Томаса Мюнцера, но причина этого кро-
ется главным образом в том, что первая пытается более или
менее теоретически замаскировать внутреннее противоречие
тварного, в то время как во второй, хотя это редко высказыва-
ется и никогда подлинно не осознается, оно на деле выступает
в открытом виде. Решение его, которое может предоставить тео-
логия, — это, с одной стороны, нивелирующее сведение всех
имманентно человеческих сил, выступающих за пределы част-
ного, до уровня тварности, с указанием, что эти различия нич-
тожны перед богом; с другой стороны, резкое подчеркивание
связи частного с потусторонним избавлением, со смиренным
признанием тварной природы всего «только» человеческого в
человеке в свете грядущего воздаяния или кары в мире ином.
Против этой концепции награды или наказания направлены
упреки многих просветителей, в том числе и Готфрида Келлера:
«Наверняка нет более гнусно утилитарной теории, чем та, кото-
рую проповедует христианство»117. Келлер справедливо крити-
кует здесь в аспекте этики нравственную сущность всякого
объединения тварности и потусторонности.
Последнее замечание вводит нас уже в круг идей, принад-
лежащих к противоположному полюсу проблематики частного
в религиях, нежели тот, которым мы занимались. Уже из этого
контраста видно, что речь идет об интенсивно и экстенсивно
универсальной сфере, охватывающей человеческую жизнь в це-
лом; о сфере, в которой сохранение частной личности образует
центральный момент, то связующее звено, которое необходимо
соединяет самое патетически высшее и самое практически-по-
вседневно ограниченное. Ибо повседневность никоим образом
не означает простых подмостков для непосредственно-практиче-
ской деятельности; это одновременно и сцена, на которой ра-
зыгрываются великие драмы человеческой жизни. Достаточно
вспомнить о феномене смерти, и не только собственной, но и о
смерти близких людей. Здесь, перед лицом неизбежного унич-
тожения именно партикулярности человека, решающие опреде-
ления религиозной жизни не могут не предстать во всей своей
отчетливости. При этом наиболее существен фундамент рели-
гиозной потребности в обыденной жизни, желание, чтобы функ-
ционирующая абсолютно независимо от человеческого сознания
причинная связь событий получила телеологическое освещение,
соответствующее самым элементарным и подлинным жизнен-
ным потребностям любого частного индивида. В такой ситуа-
ции молитва приобретает отчетливую форму магического опре-
деления, хотя и с тем мировоззренчески существенным разли-
чием, что магия — весьма наивным и примитивным способом —
пытается непосредственно воздействовать на «силы», по ее
представлениям независимые от человека, то есть желает под-
чинить их таким же образом, как человек в обычном трудовом
процессе воздействует на окружающую его природу, в то время
как религиозная молитва обращена к божественному милосер-
дию в надежде добиться свершения чуда, то есть отмены в дан-
ном особом случае нормального функционирования законов
природы, которые, как правило, религией признаются. Таким
образом, то структурное совпадение, которое мы рассматривали
как основополагающее, здесь предстает в крайне заостренном
28—805
433
виде. Например, Понтоппидан в своем романе «Обетованная
земля» показывает глубоко верующего священника Эмануэ-
ля, который из слепого доверия к богу долго не позволял ле-
чить своего больного любимого сына, но, когда смертельный
исход очевиден, он разражается отчаянным зовом: «Бог!.; О, Бог
мой!.. Где ты?» Подобную же ситуацию, хотя и с противо-
положным знаком, с позиции убежденного атеиста, изображает
йене Петер Якобсен. Причем ее категориальная структура от-
нюдь не меняется оттого, что преклонение перед творящим чу-
деса всемогуществом бога у фанатического атеиста Нильса
Люне содержит и кощунственный оттенок, что и в отчаянном
крушении мировоззрения всей своей жизни он высказывает не-
нависть к богу, «который держит царство земное в страхе ка-
рами и испытаниями... который, когда желает, чтобы всякая
тварь трепетала перед ним... который, когда ему заблагорас-
судится, топчет самое родное тебе существо, мучит и обращает
в прах»; здесь потерпевший поражение в жизни атеист надеет-
ся, подобно верующему христианину, что трансцендентная сила
может, вняв его молитве, изменить нормальное причинное тече-
ние событий в согласии с его желанием, которое возникает у
него именно как у частного лица и из его частных жизненных
обстоятельств.
Смерть как экстремальная ситуация человеческой жизни тем
самым весьма способствует выявлению ее подлинных определе-
ний в их реальной взаимосвязи. При этом выясняется, что и
отношение смерти к религиозной потребности по своей подлин-
ной сути выступает как проблема жизни, человеческого образа
жизни, даже если, по вполне понятным причинам, ее подлинные
связи и опосредования в большинстве случаев не выступают от-
крыто. Среди великих писателей нового времени прежде всего
и наиболее страстно интересовался этой проблемой Лев Тол-
стой. На относительно раннем этапе своего творческого разви-
тия, когда вопросы религиозного мировоззрения представали пе-
ред ним еще менее проблематичными, нежели позднее, когда
его чудесный дар наблюдения еще ничем не сковывался, он ка-
сается этой проблемы в письме по поводу своего рассказа «Три
смерти»: «Напрасно вы смотрите на нее с христианской точки
зрения. Моя мысль была: три существа умерли — барыня, му-
жик и дерево. — Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю
жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его пони-
мает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем уми-
рать, когда хочется жить? В обещания будущие христианства
она верит воображением и умом, а все существо ее становится
на дыбы, и другого успокоенья (кроме ложно-христианского)
нету, — а место занято. — Она гадка и жалка. Мужик умирает
спокойно, именно потому что он не христианин. Его религия
другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды;
его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил де-
434
ревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у нега
бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твер-
до этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как
барыня, а прямо, просто смотрел ему в глаза. Une brute, вы
говорите, да и чем же дурно une brute [животное]? Une brute
есть счастье и красота, гармония со всем миром, а не такой
разлад, как у барыни. Дерево умирает спокойно, честно и кра-
сиво. Красиво, — потому что не лжет, не ломается, не боится,.
не жалеет»118.
Полемический акцент против христианства здесь не случаен
и не второстепенен. Толстой рисует внешнюю религиозность
крестьян, которая, по всей вероятности, обладает преимущест-
венно свойствами магизма и внутренне мало общего имеет с
христианством как религией. С другой стороны, барыня — хри-
стианка, но такая, у которой религиозная принадлежность не-
глубока, так что для нее не существует той патетической воз-
вышенности молитвы, которой мы только что коснулись. Тем
важнее для Толстого то, что сама она прожила бесполезную,
бессмысленную жизнь, в то время как жизнь крестьянина в
пределах данных ему обстоятельств прошла осмысленно, в гар-
монии с его человеческим, общественным и природным окруже-
нием. Здесь писатель умышленно раскрывает глубокое соответ-
ствие между образом жизни и смертью. Поэтому субъективный
аспект смерти как завершения всякой жизни точно соответст-
вует характеру образа жизни каждого персонажа: со смыслом
прожитая жизнь завершается спокойно воспринимаемой
смертью, бессмысленная — мучительной и безнадежной борьбой
с бессмыслицей конца. Толстой пластически выразил по отно-
шению к крестьянину, тот самый общий факт, который и ранее
и позднее наблюдался на множестве примеров. Приведу по
этому поводу лишь одно замечание (также взятое из письма)
Гуго фон Гофмансталя, в плане мировоззренческом и литера-
турном резко контрастирующее со взглядами Толстого; Гоф-
мансталь, характеризуя народ, пишет в этой связи о признаках
принадлежности к народу следующее: это люди, «которые спо-
койно принимают самое гнусное и не затрудняют себя преуве-
личенными размышлениями о смерти...»119.
Противоположному типу умирания, смерти как концентра-
ции бессмысленности прожитой жизни, Толстой посвящает и
знаменитый шедевр своего позднего периода, рассказ «Смерть
Ивана Ильича». Разумеется, эта проблема постоянно ставится
в литературе, то в непосредственной связи со смертью индиви-
да, то опосредованно; достаточно вспомнить сцену с пугович-
ником в «Пер Гюнте» Ибсена, где объявляется, что каждый,
кто не жил последовательно своей собственной жизнью, пере-
мешивается в котле с другими, отличающимися сходным свой-
ством, и отливается заново, отсюда нервозно-лихорадочный
страх смерти заглавного героя, отсюда возвращение душевного
28*
435
покоя, после того как новая встреча с Сольвейг дарует ему уве-
ренность в том, что он все же прожил жизнь, исполненную
смысла. Примеры можно приводить сколь угодно долго, одна-
ко вполне очевидно, что этот тип заостренного проявления ре-
лигиозной потребности проистекает из несовершенства, неустой-
чивости и бесцельности индивидуальной жизни. Там, где эта
проблема отсутствует, такая потребность не проявляется вовсе.
Чисто интеллектуальное теоретически-мировоззренческое пре-
одоление религиозности при этом, как мы могли убедиться на
примере Нильса Люне, никоим образом не имеет преимущест-
венного значения. Литературная заслуга Якобсена состоит в
том, что он образно раскрыл эту слабость. Так как его герой
ведет крайне беспорядочную, кочевую жизнь, он воспринимает
свое освобождение от религии не первично, не как таковое, но
как моральный груз, так сказать, религиозное испытание выс-
шего типа; собеседник говорит ему однажды:* «Вы, кажется,
свято верите в человечество, атеизм ведь предъявит к нему куда
большие требования, нежели христианство», и Нильс Люне
полностью согласен с такой интерпретацией своих воззрений.
Перед Французской революцией положение было иным, и это
не случайно, так как тогда атеизм был более содержательным,
включая преобразование общества и с ним — жизни отдельного
человека. Примечательно, что цитированные нами слова Кел-
лера [с. 433] — для которого, заметим кстати, освобождение от
религии внутренне связано с его демократическими политиче-
скими устремлениями — были написаны в защиту этики Голь-
баха.
Тем самым перед нами со все возрастающей ясностью пред-
стает связь индивидуального образа жизни, осмысленности
личностного бытия с определенным состоянием общества, со
способом осуществления в нем личной активности людей. Сама
по себе эта констатация — почти общее место, но им настолько
систематически пренебрегают при рассмотрении именно такого
рода проблем, что представляется необходимым по меньшей
мере вкратце коснуться имеющихся здесь совокупностей фак-
тов. Очевидно, что гармоническая завершенность, посюсторон-
нее совершенство в жизни индивида возможны только на осно-
ве согласования его деятельности — вызывающих ее или вы-
званных ею эмоций и мыслей — с его жизненным окружением,
само собой разумеется, что это согласование всегда лишь от-
носительно, оно может осуществляться и в форме борьбы с кон-
кретным состоянием общества, причем даже поражение частной
личности в такой борьбе может вызвать к жизни ту гармонию,
о которой здесь говорится. Вспомним хотя бы тот длинный ряд,
который идет от Сократа до последних писем жертв фашизма.
Но именно здесь становится очевидным, что в такой исполнен-
ной смысла и осмысленно закончившейся жизни действуют си-
лы, которые выводят соответствующего человека — более или
436
менее сознательно, с большей или меньшей степенью решимо-
сти— за пределы партикулярности его непосредственно данно-
го бытия. Однако и здесь мы не можем даже бегло охаракте-
ризовать эту проблему во всем ее экстенсивном богатстве,
вследствие универсальности общественной жизни, бесконечного
многообразия как ее исторических вариаций, так и возможных
субъективных — религиозных или антирелигиозных — реакций
на этот конкретный общий комплекс, реакций, при всей своей
общественно-исторической, классовой типичности индивиду-
ально весьма различных даже в пределах одного и того же со-
циального слоя в одно и то же время.
В соответствии с нашей постановкой вопроса укажем лишь
на несколько типичных случаев, когда земное самозавершение
индивидуальной жизни — имманентная ей тенденция — ведет к
попытке пресечения религиозной потребности посредством эти-
чески-посюстороннего отношения к решающим вопросам бытия.
Мы уже говорили о подобном отношении к смерти крестьян в
связи с наблюдениями Толстого. Само собой разумеется, у про-
летариата антирелигиозное решение жизненных проблем фор-
мируется совершенно по-иному. По поводу отношения к теоди-
цее страдания Макс Вебер упоминает опрос 1906 года, когда
значительное число рабочих обосновали свое неверие по боль-
шей части «несправедливостью посюстороннего миропорядка»,
и лишь меньшинство — аргументами из области естествозна-
ния; вот как комментирует Вебер точку зрения большинства:
«...Вероятно, в значительной степени потому, что они верили в
революционное достижение равенства в пределах этого ми-
ра»120. Не детализируя здесь проблему внутренней тенденции к
конвергированию революционных настроений и безрелигиозно-
сти пролетариата, следует все же заметить, что здесь речь идет
о типичном столкновении посюстороннего и потустороннего ре-
шения основных жизненных вопросов, и в целом скорее практи-
ческая революционная позиция определяет религиозную, неже-
ли наоборот. Во всяком случае, допустимо обобщенное предпо-
ложение, что растущему влиянию реформизма в рабочем
движении обычно соответствует рост влияния религиозных воз-
зрений.
Тем самым становление или отмирание религиозной потреб-
ности предстает прежде всего как проблема жизненной прак-
тики. Бесспорно, интенсивность теоретического овладения фе-
номенами— важнейший фактор, но у большинства людей тем
не менее выбор между земным и потусторонним миром зависит
от того, в какой мере удается им удовлетворить свои глубо-
чайшие жизненные потребности на этом свете или же по мень-
шей мере вести борьбу за их удовлетворение в будущем, борь-
бу, сообщающую внутренний смысл их собственной жизни.
С этой точки зрения представляют несомненный интерес неко-
торые исторические констатации Макса Вебера. Вот что он пи-
437
шет о древнем воинском сословии: «Образ жизни воина лишен
избирательного сродства как с идеей благого провидения, так
и с идеей о систематических этических требованиях надмирного
бога. Такие понятия, как «грех», «искупление», «религиозное
смирение», не только далеко отстоят от чувства собственного
достоинства всех политически господствующих сословий, и в
первую очередь военной знати, но и прямо уязвляют его. При-
нять религиозность, оперирующую подобными построениями,
и склониться перед пророками или священниками показалось
бы недостойным и бесчестящим участнику героических сраже-
ний или знатному римлянину еще эпохи Тацита, равно как и
конфуцианскому мандарину. Повседневное дело воина — внут-
ренне противостоять смерти и иррациональности человеческой
судьбы...» Мы видим, что Вебер и китайских мандаринов вклю-
чает в этот ряд, относительно которого утверждает «абсолют-
ное отсутствие какой бы то ни было «потребности в искупле-
нии» и вообще всех выходящих за пределы земного бытия
обоснований этики, вытесненных сословно-бюрократическим,
конвенциональным учением об искусстве, в содержательном от-
ношении чисто оппортунистски-утилитарным, но эстетически
представительным». Здесь в первую очередь интересно то, что
именно успешная общественная деятельность высвобождает и
развивает в человеке силы, которые направлены на достижение
посюсторонних целей, воспринимают эти последние именно как
достижимые в земной жизни и поэтому уводят от мыслей об ином
мире (достаточно указать на потусторонний мир у Гомера в
сравнении с земной жизнью). Конечно, — и здесь выступает
вся важность познания — возникающие таким образом идеоло-
гии, слабо подкрепленные в теоретическом отношении, могут
снова и снова включаться в религиозные системы; Вебер пока-
зывает, как это произошло, например, с мусульманскими воина-
ми, со средневековыми крестоносцами, он не упускает случая
указать на то, что при этом важную роль сыграли материаль-
ные интересы (приходы и т. д.)121.
Здесь снова налицо различие между мировой религией и
сектой. Любая религиозная община должна провозгласить, ка-
кое социальное положение она считает гармонирующим с ве-
рой, а какое — ей противоречащим. Даже когда религиозные
заповеди кажутся направленными на чисто личностное поведе-
ние, невозможно пройти мимо этого вопроса, ибо каждая запо-
ведь или запрет имплицирует для своего применения в челове-
ческой практике некоторое социальное положение. Как прави-
ло, секты подходят к подобным вопросам уравнительно: обычно
их религиозная потребность относительно гомогенна, а предпи-
сываемое ими поведение однозначно. Поэтому в обществе, где
они функционируют, они почти всегда держатся обособленно от
целого, от центральных движущих сил. Решающее отличие их
от мировых религий состоит в том, что последние исходят из
438
определенного общества как оно есть и в соответствии со всей
универсальной концепцией сферы воздействия ориентированы
на самые широко расходящиеся различия религиозных потреб-
ностей. Выше мы могли видеть, как религии достигали успеха с
помощью подобных концепций и их осуществления, как им уда-
валось даже вводить течения, внутренняя изначальная диалек-
тика которых очевидно далека от любой религии, в русло соб-
ственно религиозное. Итак, если здесь объективно наличеству-
ющие и действующие общественные отношения исходно высво-
бождают активность, то они делают это лишь в самых редких
случаях полностью непосредственно и поэтому не выступают в
качестве единственно действенного мотива. Именно здесь укреп-
ляется власть идеологии, которая, исходя из действительности,
придает ей интерпретацию в духе религиозных догм. Эта сила
воздействия религиозной идеологии простирается далеко и
длится долго, однако у нее есть столь же четко очерченные гра-
ницы. С одной стороны, она должна ради конкретного влияния
на людей в значительной степени совпадать с фактами общест-
венной жизни. Рассматривая великие религиозные кризисы ре-
формации и контрреформации, мы убедились, что даже рестав-
рационное движение должно было исходить из новых фактов,
из радикальных изменений общественной формации, чтобы до-
стичь эффективности в рамках новых форм социального бытия.
Внутреннее сопротивление, которое обычно служит камнем
преткновения для такого реставрационного возрождения старо-
го, можно изучать по полемике Паскаля против иезуитов.
С другой стороны, любое конкретное состояние науки, познания
объективной действительности является реальной идеологиче-
ской школой, которую религиозная интерпретация фактов и
построение религиозной картины мира не могут полностью от-
вергнуть без риска утратить свое влияние на важные для них
слои населения.
Итак, хотя религиозная потребность в своей первоначаль-
ной форме представляет собой нечто индивидуальное — поиски
частным человеком избавления, спасения, которых данная и
неснимаемая как таковая действительность в данных конкрет-
ных объективных и субъективных обстоятельствах в иной фор-
ме ему предложить не может, — но способ ее формирования,
раскрытия или отмирания в весьма существенной степени об-
условлен уже отмеченным общественным и мировоззренческим
развитием. Конечно, человек, исходя из религиозной потребно-
сти, может решительно отвергнуть как общественную форма-
цию своего времени, так и ее научные достижения и придать
этому отрицанию религиозную окраску, включая отвергнутое в
религиозную систематику в качестве дьявольского воздействия.
Но возможности такого последовательного радикализма огра-
ниченны, так как в неограниченном виде они существуют толь-
ко для частного индивида, который — правда, лишь с абстракт -
439
ной точки зрения — может позволить себе быть экстравагант-
ным одиночкой в глазах общества в котором он живет. Рели-
гия (а в определенных пределах и религиозная секта) всегда
обращена в конечном итоге к частному индивиду, но так как ее
призыв принципиально направлен на множество, на возможна
большее число потенциальных приверженцев, то под угрозой
гибели она вынуждена идеологически учитывать в известной
степени усредненную позицию массы. Следствием этого фунда-
ментального положения вещей является то, что в этой области
на протяжении последних столетий религиозное мировоззрение
вынуждено постоянно отступать, однако оно отступает в борь-
бе, никоим образом не лишенной удачных контратак. С точки
зрения исторической перспективы уступки, на которые религии
вынужденно идут перед лицом научного познания, неизбежны,
и рафинированно изощренные мировоззренческие «уточне-
ния»— от «двойственной истины» средневековья до неопозити-
визма наших дней, позицией которого мы еще займемся
[с. 453 и ел.], — не могут решающим образом изменить основ-
ную линию. Если вспомнить времена Фомы Аквинского и срав-
нить их с подъемом познания действительности, начавшимся в
XVI веке, и его последствиями для религиозной картины мира,
то можно увидеть здесь качественное различие. В данном кон-
тексте неуместно вдаваться в детали. В области науки копер-
никанская астрономия, теория развития жизни и т. д. вынуди-
ли религии уступить им некоторые из территорий, всегда счи-
тавшихся неоспоримой их собственностью; но и философское
разъяснение соотношения причинности и телеологии, концепция
закономерностей и т. д. действуют в том же направлении. Ре-
лигиозные представления, бывшие некогда значимыми опорны-
ми пунктами религиозной концепции мира, сегодня с шокиру-
ющим проворством выводятся из игры.
В центре таких поколебленных представлений стоит пред-
ставление об откровении, тот элемент религиозной картины ми-
ра, на котором она по самой своей сути держится. Открове-
ние— это фундамент каждой религии, которая функционирует
как общественная сила, не желая оставаться частной верой
частного индивида. В этом отношении не существует принци-
пиальных различий между мировой религией и сектой; коль
скоро откровение, полученное одним человеком, способствует
вере другого, то этим описывается вся его проблематика. Ибо
откровение — это вообще единственная гарантия действитель-
ности религиозных представлений и конкретных свойств
утверждаемой таким образом трансцендентности. Все интел-
лектуальные возможности обоснования его существования,
предоставляемые идеалистически или теологически ориентиро-
ванными философиями (так называемые доказательства бытия
божия), по своей сути лишь дополнения, идеологическая опора
для тех, кто так или иначе верует в откровение, не говоря уже
440
о том, что, например, онтологическое доказательство божьего
бытия (если допустить, что оно обладает доказательной силой)
может подтвердить лишь существование абстрактного бога во-
обще, но не конкретного бога определенной религии. Для этого
последнего откровение — единственная возможная гарантия
его существования, и прежде всего конкретно-данного бытия
той трансцендентности, на конкретном существовании которой
основана религиозная вера. В ходе общего организованного
отступления религиозного мировоззрения были сделаны попыт-
ки смягчить уникальную парадоксальность откровения в ряду
человеческих реакций на действительность рассмотрением форм
интуиции различного рода — от интеллектуального созерцания
до выявления сути — как промежуточных форм, как переход-
ных стадий между обычным познанием и откровением. (Олдос
Хаксли пытается включить в это «промежуточное царство» да-
же действие определенных препаратов, якобы «научно» соеди-
няющее видения и откровения с нормальной жизнью людей.)
Эти тенденции к наведению мостов лишены, однако, какого бы
то ни было реального основания. Здесь неуместно подвергать
интуитивистские теории подробной критике, удовлетворимся
лишь двумя замечаниями. Во-первых, всякая научная и фило-
софская интуиция связана с посюсторонностью, во всяком слу-
чае она может быть — лучше, чем любой другой метод мышле-
ния,— истолкована таким образом, как если бы она полнее
всего вскрывала эту ее сущность; но она не соотносится с
трансцендентностью в собственно-конкретном религиозном
смысле. Во-вторых, интуиция предусматривает верифицируе-
мость результатов. Хотя многократно возникала тенденция
видеть в интуиции более высокий уровень познания (Шеллинг,
Бергсон), нежели возможный в «дискурсивном мышлении», но
сами эти исследователи пытались органически вводить резуль-
таты в общие рамки человеческого познания, соединять их с
ним в единую непротиворечивую систему. Подлинно критиче-
ская точка зрения не станет отрицать мыслительно-психологи-
ческий аспект интуиции, но установит, что критерии истинности
интуитивно или неинтуитивно полученных знаний о действи-
тельности должны быть абсолютно равнозначны122. Учение об
интуиции тем самым никак не в состоянии навести мост между
научным познанием этого мира и откровением о мире ином.
Пока религиозное отношение действительно владело челове-
ческой концепцией мира, в наличии такого опосредования не
было потребности. В Первом Послании к коринфянам апостол
Павел еще с гордостью говорит о том, что откровение сына бо-
жия («Христа распятого») «для иудеев соблазн, а для эллинов
безумие». Непоколебимая уверенность в откровении теряет в
эпоху средневековья даже этот вынужденно полемический ак-
цент; очевидность его истинность кажется настолько само
собой разумеющейся, что философия делает его содержание ис-
44 1
ходным пунктом любой систематизации и таким образом уве-
личивает его парадоксальную заостренность. Но не следует
смешивать такого рода сотрудничество опосредовании с тем со-
временным его вариантом, о котором уже говорилось; это его
резкая противоположность. В средние века считалось, что мож-
но исходить из абсолютной данности откровения и таким обра-
зом строить — сверху вниз — систему опосредовании, чтобы
она, упорядочивая и направляя, проникала в практическую обы-
денную жизнь частных лиц и конкретизировала изначальную
соотнесенность откровения с партикулярностью с учетом всех
данностей этой сферы. Современные стремления к опосредова-
нию, напротив, направлены снизу вверх; прочной базой для них
являются человеческие душевные феномены, а опосредова-
ния призваны снимать или по меньшей мере смягчать возник-
шую благодаря потрясениям сомнительность ставшего пробле-
матичным откровения. Следовательно, острота проблематики
откровения зависит от уровня развития человеческого познания.
Пока оно создает картину мира, кажущуюся в общих чертах
совпадающей с содержанием откровения, с одной стороны, воз-
можно превращение веры в некий органон, стоящий выше на-
учного познания, которое тем самым предстает предназна-
ченным для того, чтобы дополнять создаваемую им картину
мира религиозной трансцендентностью, заполнять лакуны, до-
водить ее до совершенства и т. д.; с другой стороны, кажется,
что из сравнения научного познания и конкретной содержа-
тельности откровения не вырастает проблемы, которая не была
бы изначально несовместимой с познанием. Поэтому учение
Коперника, а позднее теория эволюции пробили глубокую
брешь в этом созданном средневековьем единстве.
Основной момент, в полной мере выявляющий неразреши-
мость проблематики веры и откровения, — это ее крайне субъ-
ективный основополагающий характер; однако вместе с тем
именно на этой основе должна осуществляться передача объ-
ективной истины и отображение действительности. Во всяком
случае, в любом человеческом акте восприятия и мысленного
воспроизведения действительности путь ведет через субъект,
и решающая проблема объективности в любой области состоит
в том, чтобы при постижении предмета субъектом (а с непосред-
ственной точки зрения иного пути не существует) определить
критерии объективности постигаемого таким образом объекта.
Эти проблемы могут рассматриваться как вполне выясненные
и в науке, и в искусстве. Для откровения, с одной стороны,
субъект — это абсолютно конечная инстанция, так как к истин-
ностному содержанию откровения относится также и то, кто
был им удостоен; с другой стороны, возвещаемое им должно
быть истиной в последней инстанции, безапелляционной, окон-
чательной, не требующей и не терпящей никаких исправлений.
Возникающее благодаря этому напряжение играет значитель-
442
ную роль в истории религий именно в те времена, когда еще не
могло быть высказано никакое принципиальное сомнение отно-
сительно откровения. Ибо почти всегда принимается, что весть
из иного мира как таковая может исходить и от духа истины,
и от духа лжи, лица, несущие откровение, могут быть и порож-
дением сатаны, то есть искушением для верующих. Это создает
необходимость определения критериев и в имманентной области
религии; в данном случае безразлично, какими свойствами они
обладают и как используются, передоверяются ли они опреде-
ленным инстанциям, основываются ли на традициях и т. д.;
важно лишь, что конкретный критерий может быть инстанцией,
выносящей решение, лишь в пределах соответствующей рели-
гии, может быть найден лишь в рамках соответствующей церк-
ви. Это чревато конфликтами (по меньшей мере пока культур-
ная сфера безгранично подчиняется религии), поскольку возни-
кает борьба между ортодоксальностью и ересью и каждый
победитель в этой борьбе получает право определять, что мо-
жет считаться подлинным откровением. Положение осложняет-
ся, когда эти области приходят в соприкосновение и ни одной
из претендующих на универсальность религий не удается завое-
вать решающее превосходство, то есть искоренить другую ре-
лигию, как это удавалось (на поверхности средневековой жиз-
ни) католической церкви по отношению к еретикам (западная
и восточная церковь, христианство и ислам). Так это было,
когда кризисная эпоха реформации и религиозных войн в силу
политической необходимости завершилась параллельным суще-
ствованием различных христианских вероисповеданий.
Так как для нас в этом комплексе проблем имеет значение
только противоречивость откровения, мы можем удовлетворить-
ся замечанием, что уже задолго до кризиса мыслящие люди за-
давались вопросом, не влечет ли за собой множество различных
религий, возникающая отсюда борьба уничтожения религии во-
обще. От Николая Кузанского до Эразма Роттердамского снова
и снова появляются попытки решения, теоретическое содержа-
ние которых по большей части концентрируется на том, что глу-
бочайшая суть различных религий в конечном счете одинакова,
что расхождения ограничиваются вторичными моментами. Но
следствием проведения такой мысли необходимо становится
оскудение и ослабление идеи откровения. Так, Николай Кузан-
ский в своих религиозных беседах следующим образом объяс-
няет логос: за различными богами скрывается одно и то же
божество, и каждый, кто говорит о богах, подразумевает эту
первооснову, которую все молчаливо почитают в своих богах.
Признание этого положения должно прекратить спор религий,
хотя различие церемоний может сохраняться, дабы отдать
должное человеческой слабости123. Ясно, что тем самым изна-
чальная религиозная вера переходит в религиозную философию
и божество Николая Кузанского — это, собственно говоря, пло-
443
тиновское Единое, лишенная образа внеличностная трансцен-
дентность вообще, в то время как религиозная вера и религиоз-
ное откровение соединяются с людьми именно благодаря тому,
что частный индивид считает конкретно-данное бытие опреде-
ленного и конкретного бога гарантией определенности своей
судьбы. Если конкретность бога откровения бледнеет и стано-
вится неуловимой, то в отдельном человеке перестает действо-
вать религиозное отношение к трансцендентности. По этому по-
воду Карл Барт остроумно заметил: «Бог Шлейермахера не
может помиловать. Бог Авраама, Исаака и Иакова может —
и делает это»124. Именно благодаря раскрытию такого рода
эмоций и аффектов в людях возникает и воспроизводится рели-
гиозное отношение. Служащие религии мировоззренческие
представления могут поддержать это отношение, отказ от них
может его поколебать, но заменить его они не могут ни при ка-
ких обстоятельствах. Идеологи Просвещения уже начиная с
Локка отдавали себе отчет в том, что каждая церковь право-
верна для себя, еретична для всех других, и полагали, что нет
на земле судьи, который бы мог вынести по этому вопросу об-
щепринятое решение. Для таких интеллектуально глубоких по-
борников единой, построенной на откровении религии, как, на-
пример, Николай Кузанский, также характерно то, что они
инстинктивно берут за основу исключительно собственное откро-
вение и намереваются доброжелательно «исправить заблужде-
ния и недопонимания» других религий исходя из него. Для
религии мышление все еще остается в средневековом положе-
нии служанки. Мышление со своей стороны может углубить
кризис, возникший в результате общественно-исторического
развития, может облегчить путем мыслительных компромиссов
нахождение иллюзорных, наводящих мосты решений, но никак
не может вызвать к жизни религиозный кризис. Реальным фун-
даментом любой религии остается вера ее приверженцев в ее
специфически конкретное откровение.
Итак, с точки зрения религиозного откровения параллельное
существование религий всегда способствует их ослаблению.
С точки зрения социального гуманизма возникающая таким пу-
тем терпимость несомненно прогрессивна, но с точки зрения
самой религии она столь же несомненно ослабляет ее интенсив-
ность. Уже молодой Гегель ясно понял эту тенденцию; он писал
по поводу конфессиональных разногласий и попыток объедине-
ния в религии: «Партия существует тогда, когда внутри нее
происходит дифференциация. Протестантизм, различные на-
правления которого должны теперь слиться в попытках объ-
единения, сам доказывает, что он уже больше партией не яв-
ляется. Ибо именно в распаде внутренняя дифференциация
конституируется как реальность. В момент появления проте-
стантизма прекратились все расколы внутри католицизма. Те-
перь все время доказывают истину христианской религии, не-
444
известно только для кого: ведь мы не имеем дела с турками»125.
И чем интенсивнее вера в специфические свойства откровения у
членов определенной общины, тем затруднительнее объедине-
ние; чем равнодушнее они к этому относятся, тем оно л'егче.
То, что для современного общественного мнения идеи такого
объединения в известной степени носятся в воздухе, очевидно,
происходит в первую очередь по политическим причинам; но
то, что они вообще становятся предметом дискуссии, — это
симптом описанного нами ослабления откровения, а именно как
его конкретного содержания, так и непосредственной замкнуто-
сти его формы, делающей его откровением бога126. Тем самым
вера в откровение (что касается самого фактического ее по-
ложения) все сильнее развивается в направлении простой субъ-
ективности, субъективного суждения; конечно, при этом суще-
ствует противоречивая, парадоксальная возможность того, что
в решающей кризисной точке, затрагивающей жизненные ин-
тересы партикулярно-человеческой сферы, эта вера вновь вы-
ступит с повышенной интенсивностью. При всем этом общей
главенствующей тенденцией является все возрастающая само-
стоятельность религиозно конституируемой субъективности, ее
самообоснованность, ее все более слабая привязанность к тра-
диционному содержанию откровения. Вследствие этого такая
субъективность во все возрастающей мере — сознательно, полу-
сознательно или бессознательно — претендует на то, чтобы стать
единственным, единственно творческим источником религиоз-
ной жизни. В качестве примера того, что такие построения час-
то встречались во времена великого религиозного кризиса,
взорвавшегося реформацией, мы приводили выше [с. 361] сти-
хотворение Гонгоры; сходные настроения можно найти у Анге-
луса Силезиуса, они выражены с такой силой, что Готфрид Кел-
лер подмечает в этом стихотворении художественный вариант
мировоззрения, близкого фейербаховскому [см. т. 2, с. 192].
Здесь мы не имеем возможности описывать становление это-
го эмоционального направления со времен Шлейермахера и
романтизма. Приведем лишь одно место из Кьеркегора, где с
парадоксальной отчетливостью выражаются крайние следствия
такой позиции. Его полемика здесь, как и во многих других
местах, направлена против гегелевского объективного идеализ-
ма. И это не случайно, ибо мы видели [с. 443], что ослаблен-
ность откровения с необходимостью ведет к тому, что религиоз-
ная философия стремится занять место эмоционально пережи-
ваемой религии. Кьеркегор интуитивно верно почувствовал в
этом опасность для религии даже и в том случае, когда эта
философия содержательно с ней совпадает. Он пишет: «Если
объективно ставить вопрос об истине, то тогда объективно воз-
никает и рефлексия об истине как о предмете, к которому от-
носится познающий. Но рефлектируют не об отношении, а о
том, что то, к чему относятся, есть истина, истинное. Если тоу
445
к чему относятся, действительно истина, истинное, то субъект
принадлежит истине. Если ставить вопрос об истине субъектив-
но, то и рефлексия об отношении индивида возникает субъек-
тивно, и если способ этого отношения принадлежит истине, то
и индивид принадлежит истине, даже если он так относится
к не-истине. Возьмем как пример богопознание. Объективно
рефлектируют о том, что это — истинный Бог; субъективно —
о том, что индивид так относится к чему-то, что его отношение
принадлежит истине богопознания». Легко заметить, что субъ-
ективность как единственная носительница истины согласно
этой теории может стимулироваться любым материалом и ее
истинность зависит единственно от ее внутренней позиции.
Кьеркегор отчетливо видит, что благодаря этому безвозвратно
гибнет прежнее содержание религии, подлинное бытие-в-себе
бога; он выражает это с парадоксальной последовательностью:
«Таким образом, правда, бог превращается в постулат, но не в
том праздном значении, в каком обычно воспринимается это
слово. Скорее выясняется, что единственный способ, которым
существующее вступает в отношения с богом, таков, что диа-
лектическое противоречие приводит страсть к отчаянию и по-
могает постичь бога через «категорию отчаяния» (в вере). Та-
ким образом, этот постулат ни в коем случае не произволен,
это самозащита, так что бог — это не постулат, а то, что посту-
лируется существующим богом, — необходимость»127. Неудиви-
тельно, что Ясперс, вообще большой почитатель Кьеркегора,
который, однако, хотел бы спасти и сохранить существующую
религиозность в ее слегка тепловатой, ни к чему не обязываю-
щей форме, говорит об этой религиозности: «Если бы она была
истинной, то это, как мне кажется, было бы концом библейской
религии»128.
Не касаясь всей многосторонности, экстенсивности и широ-
ты этой проблемы, проиллюстрируем это саморастворение от-
кровения в современном мышлении всего лишь несколькими
примечательными высказываниями. Так, Эмиль Бруннер, счи-
тающий, что различные антирелигиозные теории сейчас уже
пересекли высшую точку своего развития, утверждает, что все
больше людей исповедует теперь религиозные убеждения. Но
их ответы на вопрос, что же они понимают под религией, «зву-
чат не только в высшей степени по-разьому, но и удивительно
неопределенно». Если они при их склонности к религиозности
вообще отвергают догматические формы религии, «то можно
отыскать корень этого в отрицании исторического откровения».
Сам Бруннер принимает это последнее и считает его основой
любой подлинной религиозности в противоположность молча-
ливому принятию бога «как идеи». Но он добавляет: «Не дока-
зательно ни то, ни другое, здесь речь идет о вопросе веры», то
есть о чем-то чисто субъективном129. Еще решительнее выра-
жен этот религиозный агностицизм у Ясперса в его полемике
446
против Бультмана, пытающегося демифологизировать религию.
Его предпосылка такова: «Никто не обладает одной истиной
для всех». Человек не имеет права «в борьбе с другими апелли-
ровать к богу, он должен ссылаться на основы мироздания. Ибо
бог в той же степени бог противника, что и мой». Так Ясперс
отвергает любой критерий истинности откровения, так как «то,
что всегда говорилось и делалось как откровение, говорилось и
делалось в мирском обличье, мирским языком, человеческим
действием и с человеческим пониманием». Откровение притяза-
ет на единственность истины, но это притязание никогда не
удовлетворяется в силу «скрытости» бога130. Если ко всему
этому присовокупить еще выводы Тойнби, то мы получаем яс-
ную картину религиозности интеллектуальной элиты в совре-
менном христианстве. Тойнби пишет, что высшие религии не
борются, но дополняют друг друга. «Мы можем быть верующи-
ми в рамках нашей собственной религии, не ощущая ее храни-
тельницей истины»131. Дискуссия между Ясперсом и Бультма-
ном показательна для религиозной ситуации в среде современ-
ной интеллигенции, поскольку один из них явно выступает за
новую разжиженную, ни к чему не обязывающую форму рели-
гиозности, ставшей чисто субъективистской, в то время как дру-
гой — с последовательно теологической точки зрения — пытается
спасти историческое понятие откровения. В этом смысле он го-
ворит: «Понятно ли Ясперсу, что там, где говорит вера в от-
кровение, она всегда утверждает и должна утверждать абсо-
лютность этого откровения, так как эта вера сама понимается
как ответ на призыв: «Я Господь Бог твой. Да не будет у тебя
иных богов, кроме меня!» Каждый волен считать такую веру в
откровение абсурдом. Но при этом он уже не должен говорить
об откровении. Ибо во всяком случае столь же абсурдно же-
лать найти откровение там и сям, окинув беглым взглядом ис-
торию религии или духа. Как историк я могу констатировать
лишь наличие веры в откровение, но не само откровение, так
как откровение является откровением только in actu и pro me;
лишь личным решением его можно понять и принять в этом
качестве»132.
Возникающие здесь противоречия несомненно несоединимы;
их можно лишь затемнить софистикой, и Ясперс, как и другие
современные идеологи того же толка, прилагает в этом направ-
лении все силы, но достигает лишь того, что общественно
обусловленная иллюзия религиозности, исповедания «собствен-
ной» религии получает возможность утвердиться в определен-
ных кругах интеллигенции. Такая позиция, как правильно пока-
зывает Бультман и многие другие, вряд ли имеет что-либо об-
щее с религией в историческом смысле, а с другой стороны, ее
сторонники никогда не извлекают из современной общественной
и духовной ситуации тех следствий и с той склонностью к па-
радоксальности, которая в свое время отличала Кьеркегора,
447
с меткой ироничностью характеризовавшего духовный статус
подобной современной религиозности, причем адекватность его
характеристики нисколько не умаляется тем, что она относится
не к современному субъективизму, а к объективизму, бывшему
духовной модой того времени: «Объективно верующий в объек-
тивной человеческой массе не страшится бога; в громе он его
не слышит, потому что это закон природы, и, вероятно, он прав;
в данных ему обстоятельствах он его не видит, потому что
здесь с необходимостью выступает имманентность причины и
действия, и, вероятно, он прав...»133 Макс Вебер, который, оче-
видно, не был настроен принципиально враждебно по отноше-
нию к религии, в другом, социологически более обширном ас-
пекте дает следующую картину такой религиозности в среде
интеллигенции: для религии совершенно безразлично, пишет
он, «ощущают ли наши современные интеллектуалы потреб-
ность в смаковании наряду со всякого рода иными сенсациями
еще и столь сенсационного «переживания», как «религиозное»
состояние, нужного им в основном ради того, чтобы пополнить
свой духовный интерьер безупречно стильными и гарантирован-
но подлинными старинными предметами»134. Но даже там, где
такое отношение субъективно никоим образом не является сно-
бистским или просто наигранным, объективно оно недалеко от
этого, так как религиозное откровение претендует на репрезен-
тацию обязывающей конкретной целокупности; это значит, что
член религиозной общности занимает эту свою позицию именно
благодаря тому, что он с верой присоединяется к этой общно-
сти как целому; если он исключает важные моменты, то, буду-
чи последовательным, он должен стать откровенным еретиком,
то есть проповедовать исправленное им откровение как единст-
венно правильное и полностью порвать с ложным учением. Это
было правилом в те времена, когда жизненные формы сущест-
венно определялись религией, когда люди еще воспринимали
религию всерьез. Теперь же можно взять из религии откровения
приемлемые догмы, отвергнуть неприемлемые, примерно так,
как заказывают блюдо в ресторане, отклоняя то, что не по вку-
су. Но как раз этим разрушается неделимое единство конкрет-
ного откровения. Гёте справедливо указывал на то, что в обла-
сти эстетики критика, например, аутентичности Гомера не из-
меняет его художественного воздействия, в то время как нечто
подобное в адрес Библии разрушает веру135. Аутентичность
текста, догм и т. д. здесь прямо связана с бытием или небыти-
ем трансцендентных объектов, и эта связь допускает только
жесткий выбор между верой и неверием. Эстетическое отноше-
ние к откровению, таким образом, неизбежно получает оттенок
фривольности. Даже величайший талант и самая искренняя
субъективная убежденность не могут в этой ситуации воспрепят-
ствовать тому, чтобы подобное отношение непрерывно соприка-
салось и даже совпадало с тем, которое иронически критикуется
448
Кьеркегором и Вебером136. Так общественное развитие и стиму-
лируемое им духовное развитие вытесняют круг объектов рели-
гии, долгое время безоговорочно принимаемых ими. Это вынуж-
ден признать даже такой писатель, как Т. С. Элиот, хотя со-
гласно его концепции никакая культура без религии невозмож-
на. Ведомый верным эстетическим чувством, он возражает Чес
тертону: «Я мечтаю о литературе, которая была бы христианской,
скорее бессознательно, нежели в результате размышлений и из
духа противоречия». Но он принужден констатировать в той же
работе: «Приходится признать, что вся современная литература
испорчена тем, что я называю светскостью, что она просто не в
состоянии постичь значение приоритета сверхъестественной
жизни по сравнению с естественной...»137 Этот процесс разло-
жения естественным образом, как мы могли убедиться, взаи-
модействует с относящейся к нему субъективной позицией, с од-
ной стороны, разрушая или переплавляя ее, с другой — отбра-
сывая к пустой беспредметной субъективности, где поверхност-
ному взгляду она видится крайне интенсивной, но по сути в
основном успокаивается на нонконформистском нигилизме или
на реставрационном скепсисе, обретая таким образом внутрен-
ний комфорт. С какой бы точностью ни прослеживались все эти
процессы преобразования, как бы ни оценивалось их значение,
ясно лишь одно — религиозная потребность у множества лю-
дей, пусть даже в теоретически непоследовательной, редуциро-
ванной или искаженной форме, продолжает жить. Было бы не-
пониманием этого важного общественного феномена, если бы в
нем видели всего лишь влияние пережитков прошлого; и от су-
ти дела не должны отвлекать ни часто вульгаризируемая анти-
религиозная пропаганда, ни модная приверженность «золотому
веку» религиозного, магического или даже прамагического пе-
риодов. Религиозная потребность наших дней — это (с общест-
венной точки зрения) субъективно необходимо возникающая
потребность, следовательно, нечто неизбежно вызываемое су-
щественными, действенными социальными силами эпохи, неза-
висимо от того, насколько искаженно отражает способ их про-
явления производимую и воспроизводимую ими действитель-
ность и насколько искаженно он на нее реагирует. В предше-
ствующем изложении мы касались универсальной эманации
религии в совокупности человеческой жизни. Теперь, поскольку
наше внимание направлено прежде всего на освещение в рели-
гиозной потребности истинностных, субъективно искренних
моментов, необходимо формирующихся в ходе общественно-ис-
торического развития, мы абстрагируемся от тех крайне важных
в другой связи явлений, которые в массовом масштабе произ-
водятся социальным базисом, но в которых религиозные формы
фигурируют в первую очередь как просто-напросто способ за-
вуалировать конкретные вполне земные социальные устремле-
ния, безразлично, идет ли речь о прямой выгоде (как в приве-
29—805
449
денных Вебером примерах) или о чем-то вроде маскировочных
средств для протеста против социалистического общественного
порядка и т. д. Таким же образом мы оставляем вне рассмотре-
ния те феномены, где речь явно идет о магических пережитках;
они точно так же служат земным практическим целям, как ко-
локольный звон в деревне перед грозой, чудодейственные аму-
леты, религиозные обеты поставить свечу, молитвы и т. д. Гово-
ря в целом, остающийся комплекс проблем определяется тем,
что в частном индивиде, который в данном ему земном бытии
не может достичь исполнения жизненных желаний, возникаю-
щее на этой почве стремление к спасению концентрируется в
религиозную потребность. Уже из этого самого общего опреде-
ления следует чрезвычайное, можно сказать безграничное, мно-
гообразие, широта проявлений современной религиозной по-
требности, различающейся не только в зависимости от форма-
ции и от классового расслоения внутри нее, но и от положения
индивида в рамках любого собственно общественного бытия;
то есть опять-таки не только в зависимости от желаемого со-
держания спасения, но и в теснейшей связи с ним по объему,
структуре, интенсивности и т. п.
Но стремление человека к полной личностной реализации
имеющихся у него возможностей, к совершенствованию своей
личности абсолютно законно, даже при том, что ранее сущест-
вовавшие общественные системы допускали его исполнение
лишь в виде исключения и в отдельных случаях. История и
философия показывают, что для человеческой жизни подлинное
раскрытие достигается только посредством сохраняющегося
снятия партикулярности и что, следовательно, указание на по-
тустороннее разрешение сковывает или даже разрушает имен-
но те формы развития человека, поднимающегося над частным,
которые могли бы привести его к этому самораскрытию. Имен-
но здесь становится важным то, что религиозное понятие твар-
ности хотя и коренится в сфере частного, но и сосредоточивает
в себе все тенденции человека, призванные преодолеть парти-
кулярность средствами этого мира. Эти тенденции самым стро-
гим образом осуждаются религией в любом конфликтном слу-
чае как тварные притязания. Тварь должна смиренно относить-
ся к своему бессилию самостоятельно добиться своего полного
развития. В религии возникает нечто вроде враждебности к та-
ким тенденциям и силам; в иерархии человеческих добродете-
лей они занимают самую низкую ступень. В наших наблюдени-
ях мы постоянно сталкиваемся с этим фундаментальным фак-
том. Во всяком случае, он не может служить препятствием
постоянному возникновению в ходе истории ситуации, когда в
религиозно ориентированную жизнь не проникали бы эти опре-
деления (субъективно — на основе религиозной позиции, объек-
тивно— как ее неосознанная, но полная противоположность) о
Чем сильнее общественная действительность проникнута рели-
450
гиозными категориями, тем легче может развиться подобная
плодотворная диалектическая противоречивость. Вспомним, что
сказано о людях и человеческих судьбах у Данте [с. 400 и ел.].
Жизнь людей была подчинена религиозным формам, и непо-
средственное место исполнения их судьбы строго определено у
Данте богословскими категориями. Однако то, что в самой
поэме многие персонажи смогли достичь имманентно-эстетиче-
ского, человечески-земного внутреннего совершенства, обуслов-
лено в первую очередь, разумеется, поэтической интенсивностью
его видения и его языка. Но они не смогли бы достичь подоб-
ной силы воздействия, если бы в материале, в самой жизни,
в .людях, в их делах и настроениях и т. д. не были бы заложе-
ны вполне определенные предпосылки для этого. Как бы ни
обстояло дело с такого рода отношениями, очевидно, что рели-
гиозная потребность зачастую может быть движима подлинно
человеческим стремлением к самосовершенствованию, бесслед-
ное исчезновение которого обеднило бы человеческую жизнь.
При этом речь идет не о ее непосредственных содержаниях и
интенциях. Они связаны с трансцендентностью, с потусторон-
ним. Великая борьба за человеческое самосовершенствование
состоит именно в секуляризации таких концепций потусторон-
него и в возвращении их на почву человеческого бытия. При
этом, естественно, радикально преобразуется содержание и
форма религиозной потребности, а иногда они и вовсе уничто-
жаются. Однако даже самое радикальное отрицание, которое
при этом осуществляет общественно-историческое развитие, не
предполагает уничтожения тех человеческих импульсов, кото-
рые допускают становление религиозной потребности. Они про-
сто переводятся на посюсторонне-земной путь, благодаря чему
получают более соразмерные возможности осуществления, не-
жели те, что были у них в их изначальном типе данности. Об-
щественное ц мыслительное преодоление религиозного мировоз-
зрения остается лишь переходной стадией в великой борьбе
между земным и потусторонним миром, если оно не в состоя-
нии плодотворно взять на себя руководство этими импульсами
и эмоциями и самой религиозной потребностью, лежащей в их
основе, и придать им более реальные цели, более подлинное
содержание, более значительную интенсивность. В противном
случае за мировоззренческой научной и общественной победой
посюсторонности неотвратимо следует новое пробуждение ре-
лигиозной потребности, которая, правда, в том, что касается ее
господствующей тенденции, выступает на значительно ограни-
ченной мировоззренчески территории, но обретает при этом но-
вое содержание и новые формы. Так, влияние буржуазного ма-
териализма закончилось после Французской революции; таковы
же были последствия догматизирования и вульгаризации диа-
лектического и исторического материализма сталинского пе-
риода.
29*
451
Этим вопросом мы еще займемся вплотную [с. 492 и ел.},
а здесь лишь вкратце упомянем особый диалектический харак-
тер религиозной потребности, чтобы конкретнее, нежели рань-
ше, представить себе способ ее проявления в современном ка-
питалистическом обществе и в связи с этим ее отношение к
современному искусству. Мы уже видели, что религиозная сфе-
ра ограничивается прежде всего развитием науки. Но реальные
условия борьбы здесь гораздо сложнее, чем можно представить
себе при абстрактном противопоставлении научных достижений
и богословских догм. История знает в этой области громадное
многообразие переходных форм и попыток компромисса; такой
попыткой было уже учение о «двойственной истине», которое в
соответствии с условиями того времени призвано было завое-
вать поле действия для возросших в недрах феодализма науки
и философии в мире, где владычествовало богословие. Но уже
изложения теории Коперника Осиандером или Беллармином
были с мировоззренческой точки зрения стратегической само-
обороной религии перед лицом крушения геоцентрической мо-
дели мира, на которую религия до тех пор опиралась. Новой
чертой современности является то, что склонностью к компро-
миссу ныне охвачены как наука и философия, с одной сторо-
ны, так и религия и теология — с другой. С обеих сторон в
действиях участвуют влиятельные силы, пытающиеся отменить
фактическую несовместимость научно-философской картины
мира с богословски-религиозной. В результате этого отнюдь не
предполагается создать новую картину мира, религия и наука
всего лишь должны будут получить возможность мирно сосу-
ществовать, не обращая вообще никакого внимания на эту
«иллюзорную проблему». За этой установкой уже в течение
десятилетий скрывается влиятельное направление естественных
наук капиталистического мира, теоретико-познавательные осно-
вания которого исходят из таких философских течений, как ма-
хизм, прагматизм и неопозитивизм. Что же касается наиболее
обобщенной основной идеи, то все эти направления в конечном
итоге восходят к позиции Беллармина по отношению к системе
Коперника: признается практическое значение новых достиже-
ний естествознания (без которых индустриальное общество не
может ни существовать, ни развиваться), но в то же время пря-
мо отрицается, что сделанные при этом утверждения относятся
к сущей-в-себе действительности. Мы уже указывали, что изве-
стный современный физик Дюгем провозгласил эту позицию
Беллармина более обоснованной в научном и философском от-
ношении, нежели позиция Галилея, который увидел в системе
открытых таким путем законов правильное отображение объек-
тивной действительности.
Эти наблюдения не могут детально останавливаться на воз-
никающей здесь контроверзе, они лишь подводят к констата-
ции того факта, что видные представители науки и философии
452
постоянно отказывают обеим областям в способности давать
хотя бы предварительный очерк картины мира. Ясперс весьма
решительно защищает такую точку зрения, например, в полеми-
ке с Бультманом; он утверждает, что у науки есть «решающий
признак —это то, что она отказывается от картины мира, по-
тому что постигла ее невозможность. Впервые в истории она
освободила нас от картин мира, в то время как все эпохи, так
же как и наша в общем и целом, жили в картинах мира. Она
серьезно относится к принципу: познавать настоятельно, все-
объемлюще и методично, и поэтому всегда знает свои границы,
постигает партикулярность всех своих позиций, понимает, что
никогда не познает бытия, но лишь предметы в мире, который
она методично определяет, каждый раз выявляя его конкретно-
временные особенности, и знает, что не в силах дать руководст-
во к жизни»138. Это объяснение примечательно в том числе и
потому, что Ясперс не удовлетворяется, как многие неопозити-
висты, отрицанием возможности научной картины мира; он от-
крыто признает, что это положение обладает преимуществами:
наука сознательно отказывается от того, чтобы влиять на че-
ловеческие действия, не говоря уже о том, чтобы их направ-
лять. (Понятно, что Ясперс, как и неопозитивисты, говорит
здесь не о технологической стороне дела.)
Повторяем: мы привели высказывание Ясперса лишь как
пример подобных взглядов одного из представителей влиятель-
ного течения. Каждый знает, что такие крупные физики, как
Макс Планк, такие серьезные философы, как Николай Гарт-
ман и т. п., всегда решительно отвергали неопозитивистскую
концепцию. Но это ни в малейшей степени не уменьшает ее
значения для нашей проблемы, потому что мы можем наблю-
дать со стороны теологии мощное встречное движение по от-
ношению к подобному способу рассмотрения. Конечно, и здесь
нельзя говорить о единодушии. Вновь и вновь, раздаются го-
лоса, присваивающие себе те или иные гипотезы отдельных те-
чений естественных наук, например теории индетерминизма в
микроскопически малом мире, «свободной воли» атомных час-
тиц и т. д., и с помощью этого защищающие мнение, согласно
которому конфликт в вопросах картины мира существовал
лишь между «старым» естествознанием и религией, а результа-
ты подлинно современного естествознания в существенной сте-
пени конформны мировоззренческим требованиям религии. При
ярко выраженном идеалистическом характере большинства та-
ких теорий попытка подобного синтеза поднятых до философ-
ского уровня «современных» естественнонаучных воззрений и
религии выглядит очень соблазнительно. Мировоззренческая
трудность состоит в том, что даже спиритуализированное из-
ложение и систематизация научных достижений дают все же
лишь разновидность имманентно замкнутой в себе картины ми-
ра, которая необходимо остается несоединимой со специфиче-
453
ски религиозной идеей откровения. Это со всей резкостью про-
является в попытке известного археолога и иезуита Тейяра де
Шардена, который свел идеалистические тенденции современ-
ной науки в единую систему с намерением создать научно
обоснованную апологию христианства. Не будем тратить слов
на саму систему, на ее основной тезис, согласно которому
«внутреннее начало» природы как «радикальная» сила преодо-
левает «центробежные» материальные силы, благодаря чему
торжествует над энтропией; эта мистически-фантасмагориче-
ская конструкция подобная множеству других, не лучше, чем у
Ницше, не хуже, чем у Шпенглера, Бергсона, Тойнби. Нас ин-
тересует лишь конечный результат: Тейяр де Шарден конструи-
рует «эволюцию», бесследно поглощающую всю библейско-
христианскую картину мира, а «приспосабливание» христианст-
ва к современной науке (даже и при таком мистическом
идеализме) снимает христианское откровение как таковое. По-
этому многие богословы предпочитают присоединиться к агно-
стицизму неопозитивистов. Вероятно, характернее всего то, что
серьезный и последовательный теолог Карл Барт, встреча-
ется на полпути с неопозитивистами: они оспаривают возмож-
ность картины мира, он же поступает так в отношении религии
и теологии. Когда символ веры называет бога «творцом неба и
земли», заявляет Барт, это не имеет ничего общего с тем, «что
мы теперь обычно называем картиной мира... представление
определенной картины мира не может быть предметом ни Свя-
щенного писания, ни христианской веры... Христианская вера не
привязана ни к древней, ни к современной картине мира. Ис-
поведание ее в ходе столетий перешагнуло, более чем одну
картину мира... Христианская вера в своих основаниях свободна
по отношению ко всем картинам мира, то есть по отношению к
любой попытке понимать сущее по меркам и с помощью
средств господствующей в данное время науки». Нас интересует
не внутренняя противоречивость самого понятия картины мира,
содержащаяся в этих высказываниях, и не та, к которой Барт
вынужденно приходит в другом месте, когда он, например, го-
ворит об историческом характере даже бога (так как историч-
ность, внеисторичность или сверхисторичность — это, безуслов-
но, категории, которые прежде всего служат построению такой
картины), но обескураживающее сходство с неопозитивист-
ской концепцией картины мира139. И в том и в другом случае
понятие картины мира теряет всякую объективность, то есть
им оперируют как простой «моделью», которая может в извест-
ной степени с пользой применяться технологически в опреде-
ленных ситуациях и с определенными целями без учета того,
как соотносится ее истинностное содержание с другими обла-
стями или даже с другим аспектом одного и того же феномена.
Тем самым для религиозной субъективности возникает удобный
в применении эрзац объективности: можно спокойно вернуться
454
к крайней — почти кьеркегоровской — субъективности, не буду-
чи принужденным вывести из нее такого же рода крайние, па-
радоксальные следствия, что и великий датчанин.
Если сама по себе возможность, теоретическая и практиче-
ская необходимость единой картины мира отрицается, то тем
самым оказывается «решенной» и проблема мировоззрения.
Специфическая современная проблематика религиозной по-
требности благодаря этому с особой интенсивностью выступа-
ет на первый план. Ее сущность состоит в том, что отдельный
человек тотально и радикально отбрасывается к своей чистой
партикулярное™. Описанная нами борьба за ликвидацию ка-
кой бы то ни было картины мира хотя и является непосредст-
венно компромиссом между наукой и религией, но суть ее ни-
коим образом не исчерпывается подобной непосредственностью.
В конечном итоге она основана на том, что человек в современ-
ном капиталистическом обществе живет в полностью овещест-
вленном мире, динамика которого разрушает все конкретные
посредующие звенья между человеком и обществом и тем са-
мым сводит его конкретные отношения с другими людьми, с че-
ловеческими общностями самого разного рода к прямому соот-
ношению между чистой партикулярностью и социально-эконо-
мически завершенными абстракциями. Этот одновременно абст-
рактный и частный характер человеческих отношений, внешних
и внутренних форм человеческой жизни описывали не так уж
редко и с различных точек зрения — от слепого энтузиазма по
поводу бурного технического развития до самой пессимистиче-
ской культурологической критики, причем в плане приводимых
фактов эти описания зачастую были верными, так что здесь мы
можем отказаться от подробной фактографии; американский
социолог Дэвид Рисмен нашел удачное выражение для ситуа-
ции в целом, назвав свою известную работу «Одинокая тол-
па»140. Ибо, с одной стороны, вся жизнь отдельного человека от
работы на предприятии и в учреждении до сферы отдыха в
свободное время проходит как бы под властью совершенно аб-
страктных сил, а с другой — она никогда не поднимается над
своей частностью. С точки зрения культуры империалистиче-
ская стадия отличается от предшествующих этапов развития
капитализма тем, что последний, как правило, механически пе-
реоформлял в высокой степени — хотя далеко не столь ради-
кально, как впоследствии, — лишь сам труд, однако по большей
части оставлял нетронутыми старые формы жизни вне рабоче-
го времени, в то время как при империализме происходит,
так сказать, всеохватывающее «капитализирование» част-
ной жизни любого отдельного человека. Здесь также излишне
со всей подробностью перечислять факты: общеизвестно, что
частная жизнь, начиная от моды и ширпотреба до радио и те-
левидения, структурируется одинаковым образом. При этом,
согласно столь же общеизвестному принципу, любое подобное
455
соприкосновение отдельного человека с обществом, представ-
ляемым государственными или частнокапиталистическими уч-
реждениями, обладает нерасчленимой двойственностью. При
этом апелляция к самым глубоко частным склонностям и т. п.
адресата производится в полностью обобщенной абстрактной
форме; всякая реклама обращается к широкой массе, но так,
что взывает к партикулярное™ каждого ее отдельного члена;
«искусство» рекламы состоит именно в том, чтобы всегда и по-
всюду соблюдать эту двойственность частного и массового.
И если частные склонности отдельного человека вне его про-
фессии осуществляются в так называемом хобби, то всегда най-
дется магазин, ассортимент которого содержит товары, уже за-
ранее приспособленные для удовлетворения некоторых, пусть
даже самых личностных его потребностей. %
Это гигантское анонимное производство со всей своей ма-
тематически безупречной организацией тем самым не снимает
уже знакомый нам основной феномен обыденной жизни —
устремленную на частное «Я» и фиксирующуюся на нем те-
леологию, а, напротив, скорее усиливает ее полностью иным, но
по меньшей мере столь же эффективным способом; следова-
тельно, здесь она представлена еще более интенсивно, нежели
в предыдущих формациях. Можно даже сказать, что эти абст-
рактно-партикулярные свойства человеческих отношений, ком-
бинируясь с проявлением своих последствий — а именно с ис-
чезновением объединяющей массу, упорядочивающей ее эмоции
и направляющей их картины мира, — интенсивно способствуют
росту влияния спонтанности и непосредственности подобных
эгоцентрических телеологии. Простое технологическое употреб-
ление мыслительного аппарата, обдуманный скепсис по отно-
шению к любой «идеологии» обладают практическим характе-
ром лишь при беглом ознакомлении и лишь на очень тонком
поверхностном слое повседневности. Как только в жизни от-
дельного человека или даже в жизни массы возникает подлин-
ное потрясение, они оказываются буквально vis-â-vis de rien
[лицом к лицу с ничем], на краю духовно-моральной пропасти,
небытия. Рядовое скептически-критическое поведение обыденно-
го человека в таких обстоятельствах очень быстро может обер-
нуться паникой; затем человек судорожно цепляется за любой
якорь спасения, часто появляющийся случайно, часто рекомен-
дуемый умелой рекламой. Само собой разумеется, что верно
охарактеризованная Максом Вебером снобистская «религиоз-
ность» не в состоянии служить отдельному человеку духовно-
моральной опорой при индивидуальных и общественных кри-
зисах. Подобное обращение к религии может быть вызвано
как чисто личными обстоятельствами, так и социальными по-
трясениями. Его психологическую базу образует данная со-
циальная ситуация, ее мировоззренческая пустота: легковерие
(обусловленное постоянной готовностью к суеверию), которое
456
обычно так или иначе сопутствует эгоцентрической телеологии.
Достаточно вспомнить о моде на теософию, астрологию и т. п.,
чтобы увидеть эти связи; быстрое и широкое распространение
гитлеровской эрзац-религии — это наиболее устрашающий при-
мер такого социально-психологического состояния.
За всеми подобными общественными проявлениями кроется
столь настойчиво выводимая Толстым проблема осмысленной
или бессмысленной жизни [с. 434 и ел.]. Мы снова можем убе-
диться, как из бессмысленного существования неизбежно выте-
кает религиозная потребность. Конечно, сейчас она принимает
зачастую совсем иные формы, нежели в периоды идеологическо-
го господства религии. Тем не менее они тождественны в том,
что требуют для восполнения бессмысленности этого мира
осмысленности мира иного и поэтому стремятся увидеть в бес-
смысленной посюсторонней жизни продолжение осмысленной
потусторонней. Парадоксальность современной религиозной по-
требности заостряется вплоть до того, что во многих случаях
эта потусторонность превращается в ничто, безразлично, созна-
ется ли это заинтересованными лицами или не сознается. Мес-
то усовершенствованной таким образом религии нередко зани-
мает религиозный атеизм, в котором содержанием порой чрез-
вычайно интенсивной религиозной потребности становится лишь
отчаяние, не имеющий названия страх. Чем интенсивнее субъ-
ективный аспект этой потребности, тем более трудны напрас-
ные поиски выхода из заколдованного круга, столь же безна-
дежные, как и труд легендарного Сизифа (сравнение с Сизи-
фом вполне аутентично здесь именно в экзистенциалистском
смысле, ибо оно принадлежит Камю)141. Подобно Толстому,
подметившему и изобразившему религиозную потребность, про-
истекающую из ничтожества жизни, Достоевский пророчески
увековечил в различных художественных типах проблематику
религиозного атеизма задолго до того, как его кризисность ста-
ла очевидной.
Но Кьеркегор выступает как прирожденный теоретик этого
состояния религиозной потребности именно в силу парадоксаль-
ности своей позиции, позволяющей ему лицезреть проблемы со-
временной буржуазной жизни со страстной ненавистью провид-
ца и, вооружившись пафосом своего презрения, раскрывать ее
духовные определения и ее типологические особенности во всех
их разветвлениях; вместе с тем, пытаясь найти позитивный,
подлинно религиозный выход, он вынужден прибегать к идеа-
лизации частного. При этом, однако, он верно понимает сущ-
ность религиозного отношения, в особенности современного. Но
он с жесточайшей последовательностью отказывается от всех
прежних определений, например этических, и выставляет рели-
гиозную потребность во всей ее обнаженной частности, которая
в большинстве предшествующих периодов скрывалась под уни-
версалистским, всецело господствующим над жизнью характе-
457
ром всякой религии. Поэтому Кьеркегору не удалось, как он
того хотел, пробудить вытесненную и фальсифицированную
культурой подлинную религию. Скорее он смог осуществить
предварительный синтез современного состояния с его искаже-
ниями, бессодержательностью, близостью к религиозному ате-
изму. В этом синтезе у него с бескомпромиссной парадоксаль-
ностью и жестокой откровенностью представлена связь транс-
цендентности с партикулярностью. В то время как господствую-
щие религии с их универсалистскими притязаниями искали опос-
редования между имманентностью человеческих отношений и их
конечным потусторонним раскрытием и терпели, а иногда даже
стимулировали определенные формы преодоления частности, не
противоречащие догмам, Кьеркегор беспощадно открыл взорам
эту всегда существовавшую зияющую пропасть, разделяющую
их. И если в более ранних религиозных формах жизни пользо-
валось относительным признанием «божественное» происхожде-
ние человеческих дарований и достижений, у Кьеркегора проти-
воположность имманентности и трансцендентности выступает
как непреодолимая антиномия. Так, он пишет: «Гений и апос-
тол качественно различны, каждое из этих определений при-
надлежит к своей качественной сфере: к сфере имманентности и
к сфере трансцендентности. Поэтому гений хотя и может при-
ввести нечто новое, но это новое опять исчезает во всеобщей
ассимиляции рода, точно так же как отличия «гения» исчезают,
стоит лишь подумать о вечности; апостол парадоксальным об-
разом привносит нечто новое, новизна которого, именно 'в силу
его сущностной парадоксальности, не представляя антиципации
в отношении развития рода, остается постоянной, точно так же
как апостол пребывает апостолом и в вечности, и никакая им-
манентность вечности не в силах поставить его в самом суще-
ственном на один уровень с другими людьми, так как он по су-
ти парадоксально от них отличен. Гений — это то, что он есть
благодаря себе самому, то есть благодаря тому, что он пред-
ставляет собой в себе самом, апостол — это то, что он есть
благодаря своему божественному авторитету»142.
Отсюда вытекает известное утверждение Кьеркегора о том,
что «единичный» (религиозный) человек стоит выше любой
общности, всегда имеющей посюсторонне-человеческие корни
(этика, эстетика). С этой его позицией мы ознакомились выше
при анализе его противопоставления жертвоприношений Авра-
ама и Агамемнона [с. 391 и ел.]; теперь представляется необ-
ходимым завершить этот ход мысли, вкратце описав в этой
связи кьеркегоровскую типологию человеческого отказа от
жизни, порождающего отчаяние, а с ним — религиозную пот-
требность. Кьеркегор строит свою типологию, исходя из про-
блем бесконечности — конечности и необходимости — возмож-
ности. Он справедливо считает, что у людей его времени эти
категории, тонко отражающие правильность течения жизни,
458
предстают преимущественно в ложных пропорциях, лишенны-
ми внутреннего равновесия. И сколь бы идеалистически-идео-
логическими ни выступали в той или иной мере методологиче-
ские основы его типологии, его диагноз современных ему со-
циальных недугов трудно не признать точным. Преобладание
бесконечного ведет к фантасмагоричности существования: «Ког-
да чувство, таким образом, становится фантастичным, сама
личность все более улетучивается; в конце концов она стано-
вится разновидностью абстрактной чувственности, которая не-
человечески не относится ни к какому отдельному человеку...»
«Личность ведет тогда фантастическое существование в абст-
рактной бесконечности или абстрактной разобщенности, где са-
мо «Я» всегда отсутствует, и человек все более от него отдаля-
ется». Преобладание конечного, напротив, ведет к «отчаявшей-
ся ограниченности»; человек «забывает... самого себя... считает
рискованным быть самим собой, и гораздо более легким и на-
дежным быть, как другие, подражанием, одним из номеров
множества». Чрезмерное разрастание сферы возможного дела-
ет из человека «воздушное явление»: «В конце концов все пред-
ставляется возможным, но это происходит уже тогда, когда
личность поглощена бездной». В противоположном случае че-
ловек как бы не может «глотнуть воздуха»; он либо становится
фаталистом, либо все для него сводится к тривиальности143.
Мы думаем, что не найдется такого знатока современной жиз-
ни и современного искусства, который бы не смог доказать
справедливость этой типологии Кьеркегора целой серией при-
меров. Следствия, которые Кьеркегор путем остроумных обоб-
щений выводит из подобных правильных наблюдений, к нашей
теме не относятся; нам важно здесь лишь, как он выводит из
современного положения частного человека его внутреннюю
озабоченность и дисгармонию и каким видится ему единствен-
но возможный путь к богу на основе религиозного увековече-
ния в частном человеке возникающего отсюда отчаяния.
Основные художественные тенденции господствующего сей-
час в буржуазном мире авангардистского искусства мы в пре-
дыдущем разделе [с. 401 и ел.] охарактеризовали как вытес-
нение символики, реалистически отражающей действительность,
трансцендентным и потому абстрактным, аллегорическим спо-
собом изображения. Сама по себе такая тенденция формы вы-
ражает подчиненность эстетического отношения религии и ре-
лигиозной потребности. Тем самым возникает парадоксальная
ситуация, когда именно во времена разложения, опустошения
религиозной картины мира возникает более сильная привязан-
ность искусства к религиозной сфере, нежели это имело место
в течение предыдущих столетий. Само собой разумеется, эта
капитуляция своеобразна и не может безоговорочно сравни-
ваться с исторически предшествующими. С одной стороны, рели-
гия, к которой примкнуло, это искусство, давно утратила свои
459
изначальные единство и однозначность. При описании великого
религиозного кризиса нового времени мы упомянули, что в ре-
зультате своего освобождения искусство утратило и нечто край-
не для него плодотворное [с. 369], а именно ту чувственно-со-
держательную, ясную, но допускающую большую свободу дви-
жения тематическую связь, которая была немаловажной под-
держкой для художественной композиции проторенессансного и
ренессансного периодов. Сейчас религиозная потребность и ис-
кусство встречаются именно в своей обоюдной содержательной
несвязанности, в своем субъективистском произволе, в своей
бесформенности. Следовательно, приближение к сфере религи-
озного не идет в направлении усиления чувственной предметно-
сти изображения — как в западноевропейском средневековье,—
но, напротив, проявляется в том, что эта предметная характери-
стика в произведениях искусства всесторонне и во есе увеличи-
вающемся масштабе разлагается или даже уничтожается.
По тем же причинам здесь нет латентного, по большей части
неосознанного состязания между эстетическим и религиозным
типами отображения действительности, в ходе которого и бла-
годаря которому могло бы возникнуть крепнущее становление
самосознания человечества в художественной сфере. Подчине-
ние нового искусства принципам, определяемым новой религи-
озной потребностью, скорее отличается спонтанно ненаправлен-
ным характером. Аморфная, лишенная контуров сущность со-
временной религиозной потребности поддерживает в искусстве
все тенденции к разрушению эстетических форм. Так как она
не обладает никаким организационным единством или органи-
зующей силой, то капитуляция художников никак не задевает
их нонконформистского тщеславия: они могут безусловно, под-
чиняться этим религиозным потребностям и при этом по-преж-
нему следовать линии поведения строптивой, ориентирующейся
только на себя самое личности, хотя объективно такой нонкон-
формизм столь же подвержен всевластию моды, сколь и сверх-
оригинальный туалет модницы. Эта кажущаяся непреодолимой
сила, разумеется, социально обоснована; мы видели, что общая
тенденция общественной структуры и общественного развития
наших дней состоит в исключении всякого опосредования меж-
ду частным и абстрактно-общим и в соединении обоих этих по-
люсов в рамках единой религиозной общности. Возникающая
таким образом абстрактная партикулярность144 уже потому
обладает соблазнительной силой притяжения для художествен-
ной практики, что она пробуждает иллюзию возможности и
плодотворности неограниченного экспериментирования, причем
остается незамеченной и неосознанной кроющаяся за этим дур-
ная бесконечность формально постоянно варьируемой заново
пустоты; и это тем более симптоматично, что именно пустота
особенно почитается современным нонконформизмом как один
из моментов, как психологически-категориальный прообраз
460
Ничто. Именно так следует понимать эту новую капитуляцию
искусства перед ослабевшей, утрачивающей содержание и ори-
ентацию религиозной потребностью в ее социально обусловлен-
ном новом своеобразии. Это вполне отчетливо видно при срав-
нении описываемой нами силы с бессилием все еще крепкой
католической церкви, которая, как мы убедились, абсолютно
неспособна вызвать к жизни согласное с ней церковное искусст-
во, хотя бы отдаленно напоминающее подлинное искусство.
В связи с этим в значительной степени притупляется необ-
ходимым образом подлинно эстетическая восприимчивость как
творцов, так и адресатов художественных произведений. Эта
констатация звучит сегодня крайне еретически, так как, навер-
ное, никогда еще не велось столько разговоров о технической
стороне искусства, в том числе и в кругах совершенно диле-
тантски относящихся к нему потребителей, и никогда еще чис-
то технические приемы, новшества и т. д. не играли столь выда-
ющейся роли в становлении и соревновании направлений;
к примеру, так называемый ташизм — это не что иное, как тех-
нический прием, возведенный в художественный принцип. Но в
истории искусства уже неоднократно подобная почти всеобъем-
лющая направленность на чисто технические проблемы затем-
няла смысл существенных вопросов формы. Так как мы рас-
сматривали этот вопрос в разной связи (в том числе примени-
тельно к аллегории), затронем сейчас лишь один аспект этого
многостороннего комплекса, а именно отношения науки и ис-
кусства. Очевидно, не случайно, что в период острейшей борьбы
за подлинное освобождение науки и искусства от состояния слу-
жанок теологии как раз самые известные поборники новорож-
денной науки (достаточно указать на Галилея и Бэкона)
засвидетельствовали свою живую заинтересованность в под-
линном своеобразии искусства. Это отношение в наши дни ис-
кажается прежде всего влиянием на самих художников позити-
вистского способа рассмотрения. Ослабляемая тем самым спо-
собность художников привлекать из сферы имманентной диа-
лектичное™ воплощения людей и их отношений все определе-
ния, необходимые для формирования их произведений как
продуцированной индивидуальности, приводит искусство на
ложный путь вживления в свои создания научных категорий в
качестве эрзаца, в интересах большей завершенности и т. д.
Эти заимствованные из чуждой сферы и всегда включаемые
неорганично элементы выполняют, как правило, двойную
функцию: во-первых, они призваны придать желаемую солид-
ность самому по себе слабому, неспособному выносить нагруз-
ку композиционному базису; во-вторых, вплетенные (или, что
современнее, вмонтированные) в ткань произведения, якобы
научно подтвержденные в своей истинности фрагменты дейст-
вительности призваны заполнять пустоты там, где художествен-
но вымышленные детали сами по себе неспособны органически
461
поднять единичность и чистую партикулярностЬ феноменов до
мира особенного, до типичности. Эта псевдонаучность искусства
тем самым совпадает с задержкой, застыванием его в мире
частностей. Оба принципа можно наблюдать в действии уже в
творчестве Золя. Хотя его влияние временами было очень силь-
ным, а проповедники так называемой «новой вещественно-
сти» вернулись к подобным же установкам, хотя использование
принципов монтажа иногда угрожало заполонить всю художе-
ственную практику, мы не будем детально останавливаться на
истоках таких тенденций, но охарактеризуем их лишь постоль-
ку, поскольку они сыграли важную роль в повседневной прак-
тике той литературы, которая исторически была призвана стать
реалистическим противовесом авангардизма, — мы имеем в ви-
ду социалистическую литературу.
Конечно, это наблюдение не относится к подлинном худож-
никам, таким, как Шолохов, Макаренко и некоторые другие.
В период утверждения сталинских принципов, однако, принята
было не развивать литературную композицию органически из
поднятых до уровня типического индивидуальных судеб отдель-
ных людей, но исходить из научно (или псевдонаучно) сформу-
лированного тезиса, подбирать образы и судьбы в согласии с
содержанием и тенденциями этого тезиса, соответственно груп-
пировать их, снабжать положительными или отрицательными
свойствами и т. п. Этим подрывалась эстетическая закончен-
ность, цельность произведения, замещаясь — противопоставлен-
ной воплощенному миру — трансцендентностью, которая с со-
держательной стороны не обладала подлинной потусторонно-
стью, но оставалась посюсторонним, сохраняющим вполне зем-
ную ориентацию тезисом, имеющим не иррационально-нигили-
стический, но рационально-практический характер. Поэтому та-
кая литература была сплошь иллюстративна, а не аллегорич-
на; игнорирование ею принципов художественного совершенст-
ва представляло собой позицию, полностью противоположную
авангардистским установкам. Но именно по этой причине по-
добная литература, основанная на иллюстрировании готовых
и с точки зрения искусства абстрактных тезисов, не в состоянии
была реально противостоять столь же абстрактной, но в ином
аспекте, тенденции к аллегоричности. Ибо как ни различны
изобразительные принципы обоих направлений, но абстракт-
ность базиса, так же как и абстрактность кульминации, в обоих
случаях привносит устойчивую партикулярность образов, си-
туаций, предметов. Разумеется, этот способ изображения в рам-
ках социалистической литературы развивает и свою типич-
ность. Но это не художественная, а научно-публицистическая
типичность, при которой личностные положительные и отрица-
тельные черты, приданные тому или иному типу, необходимо
остаются только частными и в лучшем случае способны пере-
дать смутный силуэт частного, человека, призванного — более
462
или менее согласованно с такой своей непосредственностью —
выполнять функцию типажа в априорно заданной системе со-
циально обусловленных установок. Нередко такие положитель-
ные или отрицательные черты выглядят как бы просто прикле-
енными к абстрактному типу. Эти художественные слабости
какой-то части (к сожалению, значительной) социалистической
литературы должны быть подчеркнуты уже потому, что ее ис-
торическая миссия — в противовес аллегорическому уничтоже-
нию человека господствующими течениями буржуазной литера-
туры— состоит в том, чтобы создать истинный, подлинный, ху-
дожественно-реалистический образ современного человека,
сделать его составной частью самосознания человечества. Это
совершили еще до победы социализма Горький и Андерсен-
Нексё, это и сегодня делают выдающиеся представители социа-
листического реализма. Ибо и в отношении к современности
можно и должно решительно подчеркнуть, как мы это подчер-
кивали в историческом аспекте при рассмотрении великого кри-
зиса религии и искусства периода реформации, что то затемне-
ние идеи реализма, которое, как это кажется на первый взгляд,
характерно для обоих периодов, никоим образом не является
их единственной отличительной чертой. Конечно, и в прошлом
«время сомнений» было временем поисков пути к реализму
именно для наиболее превозносимых общественным мнением
художников, однако сегодня раздаются и прямо противополож-
ные призывы. Тем не менее нельзя забывать, что этот период
был и остается периодом Томаса Манна и Бартока, Шолохова
и Макаренко, Роже Мартена дю Тара и Арнольда Цвейга и т. д.
Капитуляция авангардизма перед аморфной и разлагающей
всякую художественную предметность современной религиозной
потребностью предстает во всемирно-исторической перспективе
лишь эпизодом художественного развития.
4. БАЗИС И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Здесь речь может идти не об истории или критике отдельных
более или менее важных моментов, но лишь о принципиальных
эстетических вопросах. Как мы видели, все вопросы, которые
ставятся общественно-историческим развитием в качестве про-
блем искусства, могут быть разрешены только на основе выяс-
нения проблемы категорий. Мы уже говорили о бытии-для-себя
произведений искусства, о структуре произведения как проду-
цированной индивидуальности в системах различных категори-
альных связей и при этом пришли к точке зрения, что здесь мы
имеем особый случай отражения, стоящий особняком в системе
человеческих отношений к объективной действительности. Были
также рассмотрены в свое время такие существенные категори-
альные характеристики произведения искусства, как его оконча-
тельность, на самое себя направленность, имманентная завер-
463
шенность, посюсторонность, всеохватность л т. у£ С точки зре-
ния рассматриваемой здесь проблемы следует: особо подчерк-
нуть определенные стороны посюсторонности, Она не сводится
в искусстве к абстрактному отрицанию трансцендентности, но
выступает как активное, положительное и творческое начало:
включение всякой — неизменно наличествующей так или иначе
в обрабатываемом жизненном материале — трансцендентности в
замкнутый имманентный «мир» произведения как индивидуаль-
ности, полное растворение ее со всеми прочими соприродными
ей посюсторонними жизненными элементами в органическом
единстве той или иной гомогенной посредующей системы. Это
значит, что все компоненты жизни человека, его мышления,
чувств, его, возможно, полностью или полумифологизированных
представлений, фантазий и т. д., — все это в качестве момента
трансцендентности, действующей в человеческом наличном бы-
тии, является для искусства фетишем, который оно должно рас-
творить в чисто человеческом, в человеческих отношениях, в
субъективных эмоциях, страстях или мыслительных операциях.
Именно таким путем — ибо другого не существует — это содер-
жание как внутренняя составная часть земного существования
человека предстает перед ним с полной наглядностью и в своем
истинном значении. Таким образом, смысл для-себя-бытия про-
изведения искусства, значимый для развития человеческого ро-
да, состоит в том, что в этом его бытии обретает весомость, за-
вершенность все происходящее в человеческой жизни, все ее
определения развиваются до возможного в том или ином кон-
кретном случае, совершенства, оставаясь, однако, всегда именно
определениями жизни человека, возникая из его отношения к
своему собственному миру и без остатка растворяясь в нем.
Для того чтобы искусство могло адекватно выполнять эту мис-
сию, в эстетической категории бытия-для-себя должны были
стать действенными его формальные компоненты. Ибо требуе-
мое совершенство исполнения не сводится к простому осуществ-
лению— пусть даже вполне оправданных желаний человека, но
означает «всего лишь», что человеческие стремления в каждом
пункте своего проявления могут привести к завершению данной
конкретной сущности человека. В реальной жизни это происхо-
дит только в исключительных случаях, только при редком, осо-
бо благоприятном стечении субъективных и объективных обстоя-
тельств. Лишь эстетическое отражение, гений художника соз-
дают инструмент, способный наглядно представить смысл жиз-
ни человека, созидаемый им самим, но обычно скрытый от него.
В данном случае не столь уж существенно, будет ли этот смысл
трагическим или комическим, радостным или возвышающим
душу в тяжелых испытаниях, — он всегда есть результат собст-
венных, конкретных усилий человека, и для-себя-бытие произ-
ведения как индивидуальности, отвергая все, что не исходит из
этого источника, а значит, и всякую абсолютную трансцендент-
464
ность, выступает здесь категориальным выражением глубочай-
шей жизнеутверждающей сущности человеческого рода, челове-
ческого родового4 самосознания, осознания человечеством своей
роли в созидании своей собственной судьбы.
Чтобы понять содержательное богатство этой категории,
нужно на время выдвинуть на передний план ее формальную
сторону. Однако и содержание и форма подлинно великих про-
изведений искусства могут служить решительным подтвержде-
нием того, что это человеческое призвание искусства заявляет
о себе с полной содержательной отчетливостью. Миф о Проме-
тее и та форма, которую он получил у Эсхила, а также упомя-
нутый ранее [с. 385] знаменитый хор из «Антигоны» Софокла,
прославляющий могущество человека, не говоря уже о гомеров-
ских сказаниях, являются первыми великими признаниями ан-
тичной Элладой периода расцвета этого имманентного всемогу-
щества человека. (Важным подтверждением правильности все-
го сказанного нами о смысле эстетического для-себя-бытия мож-
но считать и то, что эти взгляды были провозглашены как раа
автором «Эдипа».) В великой борьбе между имманентным воз-
вышением и трансцендентным умалением человеческой жизни
эта героическая мудрость греческого полиса, естественно, не
могла долго сохранять за собой роль идеально-моральной руко-
водительницы; уже у Вергилия и Горация, а также еще до эпо-
хи трагиков у Гесиода прометеевская деятельность человечества
приобретает акцент святотатственного выступления против бо-
гов, и через эллинизм, гностиков и т. д. этот путь с необходи-
мостью ведет к христианскому смирению человека перед все-
могущей трансцендентностью триединого бога. Пробуждение
человека от своего первоначально полуживотного существования
истолковывалось в книге Бытия как дело сатаны, искушающе-
го человека с помощью змея, и лишь как далекий, давний знак
забытого сопротивления сохранилась легенда о прекрасном
падшем ангеле Люцифере, имя которого означает «несущий
свет». Еще в «Божественной комедии» Данте, где, как мы ви-
дели [с. 401], и погибшие, и спасенные, со своими судьбами — в
противоречии с теми декорациями, на фоне которых разыгрыва-
ется действие, — возвращены к земной имманентности, сатана
все же остается принципом трансцендентного зла. Но уже
у Мильтона прославление Люцифера выходит за рамки теоло-
гии, и — неважно, вольно или невольно, — порой человечески-
прометеевский свет прорывает мрачную пелену трансцендент-
ного.
Стихотворение молодого Гёте о Прометее вновь проникнуто
античной устремленностью к полной автономии человека, обога-
щенной опытом двух тысячелетий. «Мне — чтить тебя? За
что?» — обращается Прометей к Зевсу, который выступает здесь-
как олицетворение надмирового бога, всего, что трансцендентно,
что противостоит человеку извне, властвуя над ним; люди, соз-
30-805
465-
давшие такого Прометея, так же мало стали почивать бога, как
и их герой. «Фауст» завершил поэтическое уничтожение транс-
цендентности по отношению и к добру, и ко елу. Сатана при
этом, конечно, утратил последние отблески света, исходившего
от Люцифера, образ которого еще таил в себе намеки на поту-
стороннее происхождение человеческого бунта против бога, он
предстал (в опущенном фрагменте) просто воплощением живот-
ного начала в человеке, неприкрытой алчности и похотливости.
Трактовка Достоевского была как бы промежуточным звеном,
г затем эта борьба за освобождение от трансцендентности доб-
ра и зла получает свою последнюю и наивысшую форму в
«Фаустусе» Томаса Манна. Здесь сатанинское является уже не чем
иным, как попыткой оторвать отдельного индивида от общей
судьбы человеческого рода, которая может проявиться только
ъ той или иной форме социальной активности человека. Земная
имманентность, находящая свое формальное выражение в бы-
тии-для-себя произведения искусства, стала здесь конкретной
судьбой Адриана Леверкюна и тем самым фактом всего совре-
менного художественного опыта; общечеловеческий смысл для-
себя-бытия отныне обнаруживает себя как полная содержатель-
ная завершенность.
Мы уже установили, что в этой борьбе за посюсторонность
мира — во всемирно-историческом масштабе — наука и искусст-
во объективно связаны. Конечно, имманентность дезантропомор-
фирующего отражения действительности не означает ничего
иного, кроме просто объективного отражения бытия-в-себе. Та-
ким образом, во всяком последовательно научном мышлении
любая трансцендентность должна быть изначально чем-то чисто
временным, еще-незнанием, которое тотчас перестает быть даже
относительно трансцендентным, как только человек или общест-
во создают субъективные условия для его познания. Имманент-
ность означает тем самым внутреннюю взаимосвязанность суще-
ствующей независимо от человеческого сознания действительно-
сти, которая принципиально познаваема (конечно, это не для
всех ныне действующих практически-конкретных комплексов) и
мысленно репродуцируема. Имманентность в научном изложении
есть только отражение этого факта. А то, что обыденное созна-
ние или субъективный идеализм называют трансцендентным,
является не чем иным, как временными проблемами либо пре-
градами на пути превращения бытия-в-себе в бытие-для-нас, а
также в сфере самого этого превращенного бытия. Процесс
включения трансцендентности в человеческую имманентность в
эстетическом отражении мы уже проследили так же, как и его
следствия, то есть то, что представления о трансцендентности в
этой сфере, существующие на различных фазах развития чело-
вечества, либо проявляются как ставшие абсолютно субъектив-
ными особенности изображенных людей, либо в крайнем случае
образуют своего рода горизонт, дальнюю границу чисто челове-
466
ческого мира;\подобные представления выступают как резуль-
тат процесса «обмена веществ» между обществом и природой
на той его стадии, которую отражает то или иное произведение
искусства. \
Как бы ни были различны между собой оба вида отражения,,
они имеют одну важную общую черту в своем обратном воздей-
ствии на людей: в них, с их помощью люди выходят за преде-
лы своей чистой партикулярное™. Научная работа приводит в.
действие для своих целей такие силы человека, тесно связанные
с его партикулярностью, как, например, интересы, честолюбие,
даже тщеславие и т. п.; но они могут дать в лучшем случае
лишь стимул для собственно научной деятельности. Сама эта
деятельность властно требует, чтобы человек поднимался над
своей частностью. Все остатки чисто партикулярного становятся
в научной деятельности недопустимыми источниками ошибок.
Движение в искусстве от единичного и от всеобщего к особен-
ному мы уже неоднократно рассматривали; нам известно также,
что всеобщее очищающее и возвышающее действие искусства
(катарсис) побуждает воспринимающего к движению в этом
же направлении. Таким образом, оба вида отражения ведут к
выходу за рамки той чистой партикулярности, которая по сво-
ему характеру тесно связана с тем или иным способом преодо-
ления абстрактной трансцендентности. Напротив, в религиозном
поведении мы можем констатировать симультанность и поляр-
ность в попытке насильственно уничтожить и в то же время
сохранить вплоть до потустороннего спасения партикулярность
(то есть тварное начало, несущее в себе, однако, как мы виде-
ли, в различных религиях и высшие формы деятельности чело-
веческой субъективности). Очевидно, что здесь как в субъектив-
ном, так и в объективном отношении существует в конечном сче-
те непримиримая противоположность. Наука и искусство — каж-
дое своим способом — стремятся к тому, чтобы радикально уст-
ранить из действительности трансцендентное, кажущееся объек-
тивно данным. Одновременно с этим человек должен сам под-
няться над сферой чистой партикулярности, где — как он упор-
но думает — он неизбежно окружен трансцендентностью, и стать
самостоятельно действующим властелином и внешнего мира,
окружающего его, и своего собственного внутреннего мира. При
этом он ничего не теряет из истинного содержания жизни. На-
против, именно вследствие этого освобождения он его завоевы-
вает. «Если ты хочешь ступить в бесконечное, — сказал Гёте,—
иди во все стороны конечного». Движение человечества в этом
направлении лишь в редких случаях имеет характер сознатель-
ной программы; и здесь мы можем сослаться на наш эпиграф:
«Они не сознают этого, но они это делают». Отсюда, однако, не
вытекают ни абсолютная случайность, ни полное отсутствие на-
правления. Стремление к этой высшей форме человеческой сво-
боды часто кристаллизуется как решающее содержание соци-
30*
467
ального задания, четкие формулировки которого/вызывают про-
тиворечивое отношение к нему, как, например/мы это видим в
живописи от Джотто до Микеланджело. В естественных науках
также присутствует эта направленность к единой картине мира,
если рассматривать ее как тенденцию всемирной истории, не
принимая во внимание такие идеологии, как неопозитивизм. Все-
го яснее, однако, это стремление выражается в практической
жизни, опять-таки независимо от того, насколько оно сознатель-
но. Работающий может думать о своем деле все, что угодно;
объективная же диалектика трудового процесса (взятого, ко-
нечно, в широком смысле) такова, что вместе с его предпосыл-
ками и следствиями неизбежно возникает имманентно замкну-
тая, не знающая никакой принципиально окончательной транс-
цендентности, чисто посюсторонняя система отношений людей
друг к другу и одновременно к познаваемому внешнему миру,
а также связь с предметами, опосредованная этими отношения-
ми. Но люди, живущие и действующие в таких системах, обна-
руживают всегда в их высших формах сознания, прежде всего
в этических, стремление выйти за эти взаимосвязанные объек-
тивные и субъективные границы поступательного развития и са-
мосовершенствования человечества, за пределы фантазии абсо-
лютной трансцендентности в объективной действительности, за
границы чистой партикулярности в сфере субъективного, за точ-
ку пересечения обеих, за пределы соотнесенной с человеком те-
леологии.
Мы подробно занимались этими тенденциями в другой свя-
зи; укажем здесь только на «середину» Аристотеля [см. т. 3,
с 192 и ел.], на учение об аффектах Спинозы [см. т. 1, с. 140 и
ел.], на борьбу Спинозы и Гёте против аффектов страха и на-
дежды [см. т. 1, с. 144 и ел.] и т. д. Дополним сказанное
лишь несколькими примерами. Стоик Посидоний сказал: «Ты
никогда не должен думать, что ты защищен оружием судьбы;
наоборот, борись против нее своими собственными силами. Судь-
ба не снабжает никаким оружием»145. Глава совершенно иной
известной школы, Эпикур, занимал в мировоззренческом смыс-
ле подобную же позицию: «Нужно помнить, что будущее — не
совсем наше и не совсем не наше...» Он крайне заостренно,
весьма решительно выражает ход мыслей, ведущий к посюсто-
ронней имманентности в «деликатнейшем» пункте, а именно в
вопросе о смерти: «Стало быть, самое ужасное из зол, смерть,
не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти
еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет»146. Поэтому
не удивительно, что точка зрения Готфрида Келлера, последо-
вателя Фейербаха, близка вышеотмеченной; достаточно вспом-
нить также, что, молодой Толстой приходит к подобным же вы-
водам [с. 434 и ел.]. Келлер подчеркивает в одном из писем:
«Бессмертие пущено с торгов. Так прекрасна и заманчива мысль
о том, что стоит только повернуть дело правильным образом,
468
и нечто противоположное окажется столь же захватывающим и
глубоким. По крайней мере для меня это были торжественные
часы проникновенных раздумий, когда я начал привыкать к
мысли об истинной смерти. Могу тебя заверить, что, взяв себя
таким образом в руки, отнюдь не становишься менее достой-
ным человеком»147. Келлер показал также, прежде всего в об-
разе Доротеи из «Зеленого Генриха», насколько гармоничен об-
раз жизни на основе таких чувств. Уже глубинная близость
между стоиками и Эпикуром в этом вопросе показывает, что
речь здесь никоим образом не идет только о противоположности
религии и материализма. И хотя в этике Канта бог выступает
как «постулат практического разума», конституйрование этого
постулата он относит к проблемам, разрешимым лишь в дале-
кой перспективе; сама по себе его этика исключает всякую по-
тусторонность, выходящую за пределы сферы деятельности лю-
дей, а тем более всякое центрирование реально-телеологическо-
го процесса на человеке как субъекте этики. Никто не назовет
Вильгельма Дильтея мыслителем, мировоззренчески близким к
материализму. Но в своей этике он очень решительно защищает
завершенный, человечески-земной характер этических отношений:
«Если идеал человеческой природы не имманентен, то он не
может быть всеобще опосредован человеческими размышления-
ми, и тогда выбором между полной ночью и миром веры, слу-
чайно свалившимся с неба, управляет игра инстинктов, и реше-
ние в пользу веры принимается только дураками. Таким обра-
зом, или имманентная идеальность мира и науки, или никакой
идеальности»148. Вообще этика является, в сущности, областью
реальной решающей борьбы между посюсторонностью и поту-
сторонностью за реальное преобразование человеческой парти-
кулярное™, сохраняющее ее в самом снятии. Таким образом,
окончательный ответ на встающие здесь вопросы может дать
только этика.
Мы указали на эти крайне дивергирующие и разнородные
тенденции в этике только для того, чтобы обозначить симптомы
тех постоянно и повсеместно действующих сил, которые способ-
ствуют в ходе истории формированию социального задания. Ре-
зультатом их действия был, в числе прочего, и тот блестящий
ряд поэтических выступлений в защиту могущества и величия
человеческого — от Гомера до «Фаустуса» Томаса Манна, — ко-
торые мы кратко перечисляли [с. 462 и ел.]. Все настоящие произ-
ведения искусства являются в подлинном смысле слова анти-
теодицеями. Они ведут — соответственно объективной истине —
именно к тому упорядочению отношений между человеком и
внешним миром, упорядочению человеческой внутренней жизни,
отношения человека к самому себе, благодаря которому эти
объективные взаимоотношения действительности становятся
фундаментом завершенности произведения, отражением содер-
жания, объективно типичного для человеческой жизни и поэтому
469
сохраняющего в рамках индивидуальности произведения свок>
типичную особую форму. Все формальные требрвания эстетики,,
о которых мы подробно здесь говорили, являются не чем иным,
как условиями воплощения спонтанной переживаемости этого
глубочайшего человеческого стремления: узнать себя самого,,
свое собственное отношение к внешнему миру и к себе самому
путем активно-творческого, соответствующего истине самоотра-
жения, то есть освоить собственную действительность, собствен-
ную сущность как отображение мира, ставшее независимым от
него бытием. Это зеркало, употребляя выражение Гамлета^
установлено в художественном творчестве телеологически. Сама
по себе художественная продуктивная деятельность не отлича-
ется этой целенаправленностью ни от какого другого труда, так
как любой труд по существу имеет неуничтожимо телеологиче-
ский характер. Но в то время как всякий реальный труд, прак-
тически воздействующий на внешний мир, может спонтанно осу-
ществлять эту свою сущность без необходимости повторной са-
морефлексии и не нуждается в том, чтобы касаться получаемых
отсюда мировоззренческих выводов относительно телеологии са-
мого трудового процесса, — художественное производство долж-
но порывать с фетишизацией повседневных целей, чтобы достичь
подлинной завершенности произведения. И это означает, как мы
могли видеть, объективный, независимый от желания и замысла
художника разрыв с основами религиозной потребности. Искус-
ство как таковое с помощью узкого круга непосредственных
образов дает, по выражению Лессинга, силуэты целого, поэто-
му из отражаемых объективных взаимосвязей исчезает субъек-
тивистское центрирование событий на отдельных частных лю-
дях, и там, где они появляются как предметы, превращенные в
образы, они представляют лишь субъективное воплощение част-
ного «Я», постоянно противополагаемое истинному ходу собы-
тий.
Так как искусство поднимает свои образы и их судьбы до
уровня типического, достигая тем самым катарсического воздей-
ствия на воспринимающего субъекта, то оно возвышает как
сформированные образы, так и воспринимающего эти образы
субъекта до уровня особенного, принуждая их преодолеть свою
партикулярность по крайней мере в процессе эстетического на-
слаждения. Весьма поучительно с этой точки зрения рассмот-
реть «Эдипа» Софокла как победу объективно необходимого
ряда событий над субъективными и отнесенными к субъекту
предположениями и возникающими отсюда действиями. Если в
«Эдипе в Колоне» весь трагический ряд событий post festum
оказывается полным смысла, то автор не допускает никакого
сомнения в том, что их истолкование действующим субъектом —
ранее выступавшим лишь как объект внешнего мира, казалось
необходимо подавлявшего его, — ориентировано только на него
самого и может быть примером только для самого субъекта; та-
470
кое духовное снятие бессмысленности объективных жизненных
фактов отвергает все попытки выявить в них самих объектив-
ную причинность, теологически нацеленную на людей. Именно
человечество и есть то, что придает смысл собственной жизни
людей: в этом заключается истинная поэзия антитеодицеи. Оче-
видно, что таково же воздействие человечески-духовной сущ-
ности музыки. Так как она в качестве двойного отражения эмо-
ций изначально должна исключать возбуждающие их частные
поводы и чисто частные реакции людей, то, будучи чистой му-
зыкой, она совершенно не в состоянии выражать элементарную
партикулярность; страх и надежда, отчаяние и избавление, про-
буждаемые в человеке миром, движутся с необходимостью в
жизненном кругу человеческой субъективности, которая в сос-
тоянии придать жизни высокий смысл. И если архитектура
создает соразмерное тем или иным людям пространство, то, с
одной стороны, и в осознанном переживании оно является чем-
то, что человек должен понимать применительно к самому себе
как нечто, противостоящее ему в своей нетронутой объективно-
сти; с другой стороны, из переживания пространства должно
исчезнуть все негативное, как и все частное; архитектура, если
юна подлинна, может быть обращена только к общечеловече-
ским сторонам человека. Говоря в общем плане, художествен-
ная интерпретация — а изображать и значит осмысливать —
возможна только тогда, когда она формально поднята до уровня
типического, особенного, когда она содержательно в состоянии
как по волшебству воссоздать предмет, значимый для станов-
ления самосознания человеческого рода.
Последовательное осуществление эстетического отражения,
соразмерное полагание эстетических форм и создает ту пропор-
циональность, которая поддерживает верное соотношение между
внутренним и внешним, субъективным и объективным; отсюда
возникает изначальная и основополагающая имманентность и
посюсторонность отдельного произведения как продуцированной
индивидуальности. Сколь важным является этот вид объектив-
ности, показывает так называемая жестокость величайших ху-
дожников; у Шекспира она ужасала молодого Шиллера, в то
время как зрелый Гёте восхищался именно этой чертой у Моль-
ера. Современные историки и теоретики искусства часто непра-
вильно принимают за искажение действительности, например
у Брейгеля, Гойи или Домье, то, что является просто верно вос-
принимаемой ими определенной искаженностью некоторых ти-
пов людей или человеческих ситуаций в границах истинной об-
щей взаимосвязи и соответственным отражением их на верном
месте в той или иной целостной системе феноменов; при этом
они отождествляют такие изображения с теми универсальными
деформациями в человеке вообще, которые происходят от иска-
жения художественной субъективности и являются прежде все-
го продуктами новейшего искусства. Мы должны подчеркнуть
471
здесь два момента: во-первых, все формы предметности и отно-
шений, о которых мы говорим, являются объективным катего-
риальным аппаратом произведения, а не просто обобщенными
психологическими особенностями творящего или воспринимаю-
щего субъекта. Они могут, таким образом, в соответствующих
условиях обрести значимость в границах индивидуальности про-
изведения даже при условии совершенно ложного сознания у
причастного к искусству субъекта; в плане философско-эстети-
ческом речь при этом может идти исключительно об отдельном
произведении. Во-вторых, сформированная таким образом струк-
тура произведения является собственным, в глубочайшем смысле
общим содержанием социального задания в искусстве. Только
завершенность структуры произведения ведет к его осуществле-
нию в истинном смысле. Структура произведения являстся под-
линной сутью, raison d'être эстетического для-себя-бытия. О со-
временной интенции социального задания на общечеловеческое
содержание мы уже говорили [с. 469 и ел.]. Мы видели, что это
содержание не имеет чисто психологического или социально-пси-
хологического характера, хотя, конечно, общечеловеческое не-
посредственно выступает в социальном заказе крайне редко,,
действуя чаще всего скрытно, анонимно, путем опосредования
национальным, классовым и т. п.
И здесь человек ищет непосредственные ориентиры в жизни„
но такие, которые не могут быть найдены в самой реально дан-
ной жизненной непосредственности, а только в новой непосред-
ственности, созданной человеком специально для этой цели.
В этой связи вполне понятно, что реализм, как мы видели, — это
не особый стиль среди многих других, а художественная основа
всякого подлинно значительного творчества. Бытие-для-себя про-
изведения искусства как диалектическое единство бытия-для-
нас и бытия-в-себе — как бытие-в-себе, сущность которого осно-
вана исключительно на возможности действия, как отражение,
которое соединяется во вновь созданное самодовлеющее бытие,—
может осуществиться только тогда, когда его содержание будет
воспроизведением правды жизни независимо от того, верифици-
руема или нет эта правда как отражение отдельных деталей;
всякий критерий такого рода соответствия действительности дол-
жен быть заранее решительно отклонен. Так как непосредствен-
ной формой проявления всех феноменов выступает частное, та
отражение, сопоставимое в деталях, следует ориентировать в
этом направлении. Настоящее же искусство как отражение су-
щественных моментов действительности, интенционированных на
общечеловеческое, напротив, должно быть — не только в целом,
но и во всех деталях — выше уровня всякой партикулярное™.
Даже там, где предмет в его конкретной данности кажется точ-
но соответствующим отражаемому, это соответствие только ви-
димость; на самом деле и тут акценты, пропорции, прилажива-
ния, взаимоподключения и т. д. в рамках более широких и бо-
472
лее глубоких связей создают формы предметности, решительно
освобожденные от всякой партикулярности. Таким образом,
если всякое искусство реалистично в самом общем смысле, то
нет ничего столь радикально варьирующегося, как те средства
выражения, те системы соотношений и т. п., которые историче-
ски делают возможным каждый нынешний реалистический стиль.
Сфера действия этих изменений к вариаций в посредующей
системе отражения иногда так широка, что какое-то время
выразительные средства другой эпохи могут рассматриваться
как препятствие для собственно реалистического отражения, и
часто требуется значительная временная дистанция, чтобы вновь
ло достоинству оценить реалистичность такого искусства (дос-
таточно сослаться здесь на понимание Лессингом и Готфридом
Келлером классической трагедии). С другой стороны, всякая
тенденция к разложению формы, к разрушению для-себя-бытия
произведения — даже если при этом провозглашается радикаль-
ный отказ от действительности — ведет к сближению с натура-
лизмом и включению в эстетически интенционированный комп-
лекс произведения искусства художественно не переработанных
частных элементов действительности. На первое место при этом
выдвигаются проблемы монтажа, причем это в равной мере мо-
жет быть отнесено как к роману, в ткань которого внедряются
неорганичные для нее статистические данные, так и к картине,
на которую наклеиваются куски материи, осколки стекла и
т. п.; точно так же и геометризм, если он не выполняет, как мы
это видим в науке (или, как мы показали это в свое время на
примере древнего орнамента), свою функцию в деле освоения
мира, сводится к пустой и, конечно, абстрактной частности.
О связи абстрактной партикулярности с авангардистской- пустой
трансцендентностью мы уже говорили [с. 457 и ел.]. То, что и в
том и в другом случае происходит разрушение бытия-для-себя
произведения, не вызывает сомнений.
Здесь мы лишь обобщаем то, что ранее было сказано о фор-
мальном характере бытия-для-себя отдельного произведения как
индивидуальности: эстетическое существование произведения
искусства не может быть априори констатировано в позитивном
или негативном смысле посредством каких бы то ни было чисто
содержательных определений, эти последние могут преобразо-
вать в принципе любое содержание, как угодно оформленное в
составную часть человеческого самосознания. Но этот формаль-
ный характер эстетического для-себя-бытия имеет — необходи-
мо и принципиально — в каждом отдельном случае специфиче-
ское содержание, единственно возможное в рамках данного фор-
мообразования; здесь лишний раз подтверждается то, что эсте-
тическая форма всегда должна быть и определенным конкрет-
ным содержанием. Всеобщий основной принцип, утверждающий,
что любая форма эстетического для-себя-бытия должна опреде-
ляться своей необходимой связью с конкретным содержанием,
473
отсылает нас как раз к обсуждаемому здесь всеобщему поня-
тию реализма. Абсолютно несостоятельны иллюзии многих ху-
дожников и эксцентричных ценителей искусства, полагающих,,
что произведение искусства тем прочнее покоится на себе самом
(выступая как некое для-себя-сущее образование), чем меньше
отношения имеют его элементы и способ их опосредования к
объективной реальности. Самообман состоит здесь в том, что от-
ражению действительности — тем более в высшей «абстракции»,
где явно и резко обращенная внутрь субъективность в конечном
счете содержит такую интенцию, — пытаются приписать не свя-
занное с самой этой действительностью, независимое от нее су-
ществование; зависимость «абстракции» от ее непосредственно-
го восприятия оказывается в таких случаях гораздо более
высокой, чем при подлинно реалистическом отражении действи-
тельности, ибо это последнее всегда содержит в себе отнесен-
ность к своему собственному предмету, к внутренней правде
своей собственной имманентной завершенности, исходящей толь-
ко из интересов этой правды, в то время как абстракция не
фиксирует ничего, кроме состояния души субъекта, которое мо-
жет быть безапелляционно принято или отвергнуто другими
субъектами из-за отсутствия объективной инстанции для реше-
ния. И то, что высший и самый справедливый приговор выносит
здесь только история, опять-таки следует из элементарной струк-
туры эстетического для-себя-бытия, которое представляет лишь
данный конкретный этап в развертывании самосознания челове-
чества. Попытки достичь на основе чистой субъективности, ко-
торая именно как таковая всегда является чистой партикуляр-
ностью, завершенности произведения всегда оказываются, таким
образом, иллюзорными, так как исходят из трансцендентности,
которая, конечно, ныне пуста и имеет своим содержанием ничто;
поэтому в таком изображении все отдано во власть произвола;
его претензия быть для-себя-сущим неизбежно приводит к раст-
ворению в полной ничтожности.
Описанный здесь ряд взаимосвязанных необходимостей соз-
дает основы эстетического для-себя-бытия, его в высшей степе-
ни своеобразной — в комплексе отражений действительности —
структуры как соединения бытия-для-нас и бытия-в-себе в не-
разрывное единство. Подобный характер произведений искусства
был до недавнего времени основной причиной их непризнания,
осуждения со стороны религиозно настроенных людей. Не выхо-
дя за рамки тривиальности, можно говорить о том, что образ-
ное отражение в искусстве смешивается с таковым же в рели-
гии или с определенной моралью, которая считается единствен-
но адекватной, или даже с самой объективной реальностью. Но
за таким, непосредственно видимым, банальным, даже комиче-
ским обстоятельством часто скрывается более чем нечто чисто
тривиальное. Возьмем известную сцену из «Дон Кихота», где он
прерывает кукольный спектакль, бросаясь на помощь рыцарю
474
(И своим мечом разрубая на куски марионеток, изображающих
мавров. Непосредственно здесь, конечно, представлен комиче-
ский эффект следования Рыцаря Печального Образа своим на-
вязчивым идеям. Но как почти везде в этой героически-юмори-
стической сказке, обращенной ко всему человечеству, непосред-
ственно смешное имеет существенный второй план. Смешение
эстетической «игры» и действительности, конечно, должно и
здесь в своей непосредственности разоблачать обывательство и
поэтому быть грубовато смешным. (Шекспир часто прибегает
к такого рода комизму.) Но, как и всегда в этом повествова-
нии, передний план смешного служит лишь тому, чтобы сделать
явной нравственную готовность героя прийти на помощь страж-
дущим, его бескомпромиссность, его неизменное стремление к
подвигу. И нераздельность комического и возвышенного в его
поведении образует здесь как бы гуманистический скрытый план
этой великой поэмы: глубоко нормальную сущность ее создате-
ля, прекрасно знающего, каким путем должен идти человече-
ский род, и хорошо понимающего поэтому, что всякое противо-
стояние силам развития, закономерно устремленным вперед —
1пусть даже мотивы его субъективно честны и чисты, — достойно
осмеяния. Таким образом, когда Унамуно, комментируя эту сце-
ну, отстаивает правоту Дон Кихота, он оставляет без внимания
глубокий объективный смысл, заложенный здесь Сервантесом.
Он говорит при этом об искусстве как о «лжи, которая всеми
признана и одобрена», и завершает свою диатрибу так: «Смерть
надувательству! Покончим со всякими кукольными спектаклями
и со всеми этими освященными и санкционированными фикция-
ми. Если Дон Кихот принимает эту комедию всерьез, то это мо-
жет казаться смешным только тем, кто серьезное находит ко-
мичным и делает из жизни театр». В «Тирании эстетики» он от
имени этики объявляет войну «столь проблематичной вещи, как
так называемый хороший вкус»149. Тем самым возникает внут-
ренне субъективный — и в своей изолированности ставший аб-
страктным— нраЕственный момент ситуации, как единственное
решающее ее содержание, в то время как у Сервантеса, будучи
неотделимым от нравственного величия человека, оно, однако,
в описываемой ситуации выступает и потрясающе комичным;
герой фактически должен опуститься в бездну обывательской
тривиальности именно потому, что он — при всей чистоте своего
образа мыслей — противостоит здесь способу выражения чело-
вечности, необходимому для прогресса всего человеческого рода.
Не подчеркивая ни в чем существенном качественных отличий
этого эпизода от сцены борьбы с ветряными мельницами и т. п.,
Сервантес выступает как защитник всемирно-исторической мис-
сии искусства против всех ее «критиков», и Унамуно, думая
в своей интерпретации защитой Дон Кихота углубить Сер-
вантеса, в действительности делает его только более по-
верхностным.
4 75
Этой сценой Сервантес создает прообраз для всех^ обвине-
ний против искусства кас лжи, обмана, увлекательной, легко-
мысленной игры. Сам по себе этот вопрос был уже затронут
нами ранее. Теперь речь идет только о том, чтобы кратко осве-
тить связь этого специфического способа понимания искусства
с его для-себя-бытием и его философским и моральным скры-
тым планом. Серьезные обвинения в адрес искусства возникают
всегда там, где есть мало-мальски серьезное его восприятие, а
не плоское филистерство (к которому имели обыкновение сво-
дить всякое мировоззренческое отклонение в искусстве прежде
всего романтики), и возникают они из абсолютизации прежде
всего религиозного отношения к действительности как единст-
венно возможного, единственно адекватного при одновременном
отрицании всякого другого отношения как ошибочного, еретиче-
ского, безнравственного и т. д. Уже из этого видно, что все ус-
тановки такого рода обнаруживают в основе принятие той са-
мой «модели», которую мы могли выявить еще у Сервантеса,
конечно с тем различием, что в описанном эпизоде раскрывает-
ся только фигура героя романа, а не собственная всеохватываю-
щая установка автора. Поясним наше понимание проблемы од-
ним-единственным примером: в начале знаменитого произведе-
ния Боэция представительница истинного утешения, посетив-
шая его и заставшая его за поэтическими занятиями, так гово-
рит о силах поэзии: «Кто... позволил сим сквернавицам прибли-
зиться к сему недужному, кои не только не исцеляют его, но
еще сладким упоевают ядом? Не они ли бесплодным тернием
пожеланий обильную для плодов разума жатву подавляют, при-
учая людей закосневать в своих немощах, а не освобождаться
от оных?»150 Здесь затронут существенный мотив этой контро-
верзы, ее обращенной к религии стороны: посюсторонность пред-
мета искусства и тесно связанные с этим косвенность и много-
значность его необходимого воздействия. Ибо в то время как
религия и мораль — каждая своим способом — приступают к че-
ловеку с прямыми требованиями, в сравнении с ними потрясаю-
щее воздействие искусства, как мы в свое время видели, явля-
ется в высшей степени сложным. Даже катарсис может иметь
негативный характер, и там, где этого не случается, последей-
ствие художественного произведения имеет значение просто
возвращения в жизнь с более интенсивной и углубленной готов-
ностью к высшему, но вовсе не обязательно с твердым реше-
нием достичь самого этого высшего. Это означает, что возни-
кающий здесь конфликт между искусством и моралью — рас-
смотренный в перспективе всемирной истории — по существу
является эпизодическим и отнюдь не следует из сущности обоих
видов отношений; даже столь строгий этик, как Кант, не видел
здесь никакой неустранимой противоположности151.
Тем непримиримее оказывается столкновение с религией.
Боэций видит, со своей точки зрения справедливо, что занятие
476
искусствами оставляет человека в границах имманентности его*
страстей, коренящихся в его жизни и обращенных к ней, и, рез-
ко отвергая всякий подобный путь к совершенствованию чело-
вечности, он совсем не рассматривает того, идет ли речь о даль-
нейшем погружении в эти страсти или о своеобразном самопро-
буждающемся освобождении от них, так как самосовершенство-
вание человека собственными силами им отбрасывается. Здесь
перед нами уже известная нам точка зрения Дионисия Ареопа-
гита [с. 396 и ел.], который видел опасность художественного
изображения, в противоположность аллегорически-трансцендент-
ному изображению, в том, что первое может прикреплять, при-
ковывать человека к земному, в то время как второе пробуж-
дает у него приверженность к религии; это является также ос-
новой точки зрения Тертуллиана [с. 343 и ел.], когда он откло-
няет всякий катарсис; и об этом же идет речь при отбрасыва-
нии поэтического существования у Кьеркегора: «Рассмотренное
с точки зрения христианства '(вопреки всей эстетике) всякое
поэтическое существование есть грех, грех в том, что грезят,
вместо того чтобы быть, что занимаются добрым и истинным
только в фантазии, вместо того чтобы стать таковыми, то есть
экзистенциально стремиться к тому, чтобы быть таковыми»152.
И здесь обвинение направлено непосредственно против отсутст-
вия в искусстве прямого «экзистенциального» осуществления,,
против переживаемого предвосхищения совершенствования, ко-
торое не вытекает непосредственно из поступков человека и не
стремится к таким поступкам. Особый нюанс, который здесь об-
наруживается у Кьеркегора, является следствием того, что он
отвергает труд человека сам по себе — конечно, усложненный,,
опосредованный и обобщенный — в развитии человеческого ро-
да. Так как для него в настоящем имеется только единичное
(частный индивид), то все, что делает искусство в этом отно-
шении, представляется ему несерьезной игрой, которая не
в состоянии ничего дать уединенным отношениям отдельно-
го человека к богу, да и по существу, своему уклоняется от
этого.
Различные варианты осуждения искусства как обольщения^,
лжи и т. п. обусловлены, таким образом, конкретно данной исто-
рической ситуацией, и прежде всего положением религии в той
или иной общественной системе. Характеризовать этот процесс,
хотя бы в общих чертах, было бы выходом за рамки наших за-
дач. Мы должны указать лишь его общие —при всех разли-
чиях— черты, чтобы еще раз увидеть под новым углом зрения,
что эти нападки всегда направлены на бытие-для-себя произве-
дения искусства, на его предпосЁыки и следствия и, таким об-
разом, на основополагающую сущность эстетического отражения1
и эстетического полагания. Поэтому в случае религии и искусст-
ва речь идет о принципиально противоположных видениях мира,.
которые в фундаментальной объективной; интенции, своего спо-
4.7?
соба полагания принципиально и всесторонне отрицают друг
друга. Конечно, как мы не раз убеждались в ходе нашего ис-
следования, всегда может возникнуть такая общественно-исто-
рическая ситуация, при которой эта противоположность притуп-
ляется почти до неощутимости, и, таким образом, на поверхно-
сти исторических событий возникает даже видимость своего ро-
да тесного сотрудничества между религией и искусством. На то,
что при этом противоположности подспудно продолжают сохра-
нять свою действенность, тоже уже указывали, как и на то, что
сотрудничество, борьбу и разделение нельзя изображать в упро-
щенной черно-белой манере и что столь решительное расхожде-
ние в новое время, при всей его необходимости, также выдвигает
ряд проблем; правда, нам кажется, что система истинных взаи-
мосвязей ставится с ног на голову, когда в этом разделении ис-
кусства и религии видят не симптом противоречивости законо-
мерного движения, а конечную причину современной проблема-
тики в искусстве.
Принципиально иным является отношение науки и этики к
искусству. Здесь по существу преобладают именно конвергирую-
щие, общественно-человечески дополняющие друг друга тенден-
ции; и это опять-таки, конечно, не исключает того, что при опре-
деленных общественно-исторических условиях конкретные про-
тивоположности проступают вполне отчетливо и иногда даже
затвердевают до принципиального отрицания. (Вспомним об от-
ношении многих досократиков к искусству.) Связующим звеном
.для всех трех областей является сфера посюсторонности. Как
наука, так и искусство являются инструментами человечества,
созданными им для достижения своих целей и постоянно функ-
ционирующими, завоевывая для человечества сферу посюсто-
ронности; при этом многие их постоянные проявления, долгое
время понимавшиеся не как посюсторонние, подтверждаются
•теперь именно как таковые. Поэтому трансцендентность, как мы
•видим, и в том и в другом случае оказывается лишь види-
мостью. В науке этот процесс происходит путем признания
трансцендентного всего лишь релятивным, как временное еще-
не-знание. В искусстве, как мы уже видели, трансцендентное
объективно выступает всегда в качестве обозначения той или
иной исторической ситуации, как составная часть детерминиро-
ванных им психологии, мировоззрения и т. п. прямо или косвен-
но изображенного человека, в силу чего оно также становится
релятивным, хотя и совершенно по-иному, чем это происходит
:в науке: выступая в конечном счете составной частью имманент-
но-замкнутой картины мира, трансцендентность оказывается
здесь исторически релятивированной. Таким образом, наука и
искусство — исторически рассмотренные — являются инструмен-
тами человечества, созданными им для завоевания действитель-
ности, для подчинения ее, для преобразования в-себе-сущего в
ятрочное, постоянное владение человеческого рода, в сущее-для-
478
нас в широчайшем смысле. Выполнение этой задачи, конеч-
но, передано непосредственно отдельным индивидам. Но они*
могут здесь плодотворно сотрудничать только тогда, когда им
удается в их произведениях по крайней мере приблизиться к
тому уровню общечеловеческого (через все его отмеченные нами
опосредования), на котором только и могут быть восприняты и
поняты подлинные проблемы науки и искусства; когда они в>
состоянии внутренне подняться над своей собственной непосред-
ственно данной им партикулярностью.
Во всех этих вопросах противоположности между наукой и
искусством, с одной стороны, и религией, с другой, неустрани-
мы. Эта теоретическая констатация ни в малейшей степени не
смягчается тем, что нам известны длительные периоды их сосу-
ществования, полные непрерывной партизанской войны, основан-
ные на молчаливых компромиссах. Уже специфический характер
той абсолютности и безусловности, на которую притязает рели-
гиозное откровение, приводит к тому, что наука и искусство
могут быть признаны на его основе только служанками религии,
но не ее равноправными партнерами; теперешнее ослабление ду-
ховной и социальной власти религии обрекает, правда, этог
принцип в значительной степени на практическую бездеятель-
ность, но ничего не меняет в этом принципиальном соотношении«.
Этот процесс уменьшения радиуса духовного воздействия рели-
гии происходит как объективно, так и субъективно. Объектив-
ная сторона этого процесса есть факт его давнего историческо-
го развития: существовали области действительности, где рели-
гиозное откровение до известной степени совмещалось со всеоб-
щим опытом людей, включалось в научную картину мира, обре-
тая вполне имманентное ей, посюстороннее объяснение и тем^
самым исключающе противопоставляясь картине мира, давае-
мой религией. И даже если сегодня известное число буржуаз-
ных ученых и философов отвергают возможность единой собст-
венно-научной, а значит, имманентно-посюсторонней картины
мира, — мы тем не менее не можем отрицать наличие сквозной'
линии, ведущей от астрономии Коперника через Дарвина, через
учение Гегеля, Маркса и Энгельса о самосозидании человека
с помощью труда, через понимание Морганом и Марксом воз-
никновения общества к современным, все более перспективным
попыткам открыть происхождение жизни из неорганической ма-
терии. Агностицистски-позитивистская борьба может замедлить,
общемировоззренческое действие этого процесса, придать ему
на какое-то время регрессивный характер, но окончательно ос-
тановить его она, конечно, не может.
В этом, однако, проявляется лишь объективная компонента-
мировоззренческого развития, и опыт тысячелетних теоретиче-
ских битв, которым столь богата человеческая цивилизация, с*
большой ясностью показывает, что тем самым были заложены*
важнейшие, неустранимые основы посюстороннего мировоззре-
47&
ния; но они должны были быть переработаны и субъективно
усвоены человеком, чтобы они могли способствовать повороту
мировоззрения к жизнеутверждающей посюсторонности. С^этой
точки зрения современное положение оказывается в высшей сте-
пени парадоксальным. В древности, когда существовали еще
весьма скромные подходы к единому посюстороннему понима-
нию явлений внешнего мира, греческие философы уже выдвига-
ли это всеобъемлющее требование. Относительно мышления
XVII—XVIII веков Энгельс утверждал: «Нужно признать вели-
чайшей заслугой тогдашней философии, что, несмотря на огра-
ниченность современных ей естественнонаучных знаний, она не
сбилась с толку, что она, начиная от Спинозы и кончая велики-
ми французскими материалистами, настойчиво пыталась объяс-
нить мир из него самого, предоставив детальное оправдание
этого естествознанию будущего»153. Речь здесь идет не о том,
что философия имеет обязанность или право излагать явления
природы в своем собственном смысле, как ей угодно, без точно-
го естественнонаучного обоснования; отказ от таких философ-
ских притязаний в XIX веке был вполне закономерным, хотя
беспристрастный исторический анализ уже показал, сколь важ-
ную роль играли такие философские «конструкции», например,
в возникновении теории развития. Не имея возможности охарак-
теризовать эту проблему со всеми ее ответвлениями, крайне
актуальными, мы можем, однако, весьма обобщенно утверж-
дать, что философия, с одной стороны, достаточно успешно мо-
жет защищать идею имманентного единства, ориентированного
на самое себя и подчиняющегося только внутренним законам
своего бытия, от сиюминутных результатов и модных гипотез
частных наук и именно благодаря этому может способствовать
формированию подлинно научного духа.
С другой стороны, однако, эта проблема, сравнительно с
тем, как она представлена первоначально у греков, является
гораздо более широкой и глубокой, чем чисто гносеологическое
соображение или натурфилософская интерпретация. Расширяю-
щим и в то же время связующим новым отношением является
лрежде всего этическое: картина, которую создают себе люди
.об окружающем их и о своем внутреннем мире, зависит, конеч-
но, в первую очередь от их знаний, от того, насколько они в
состоянии охватить эту действительность, предвидеть ее дви-
жение, изменение и т. д. или даже повлиять на нее. Весь этот
опыт, реакции, удачные или неудачные попытки воздействуют,
однако, в свою очередь :на чувства и мысли человека, разреша-
ются в его аффектах различного рода — от страха до вооду-
шевления. (Понятно, вся эта сфера в конечном счете обуслов-
лена^характером общественно-экономической формации, при ко-
торой живут люди, классовым положением, которое они в ней
занимают. Но здесь мы можем остановиться на этом лишь в
самом общем плане и .поэтому .не будем более глубоко вникать
480
в эти различия.) Таким образом, картина мира, добытая нау-
кой, становится органической составной частью жизни человека,
его практики, его осмысления их. Рефлексия занимает важное
место в системе человеческих реакций на жизнь в целом, так
как прежде всего в ней и с ее помощью объясняются непосред-
ственные, аффективные, спонтанные отношения человека к миру,
теоретически она получает характер мировоззрения, а практи-
чески— характер долженствования, обязанностей, предписанно-
сти или отвергаемое™ того или иного образа действий. В этом
смысле можно сказать, что этические характеристики, усваивае-
мые научной картиной мира для формирования на их основе
важнейших мотивов поведения, отнюдь не безразличны для нее
в плане ее социального воздействия и никогда не могут быть
лишь второстепенным вопросом. Это обстоятельство, основопо-
лагающее для взаимосвязи мировоззрения с искусством, позна-
ния— с человеческой практикой, нашло свое наиболее четкое
выражение прежде всего в греческой этике. Приведем высказы-
вание Эпикура: «нельзя рассеивать страх о самом главном, не
постигнув природы Вселенной и подозревая, будто в баснях
что-то все-таки есть. Поэтому чистого наслаждения нельзя по-
лучить без изучения природы»154. Эпикур здесь показывает,
следуя истинным античным традициям, что освобождение от та-
кого аффекта, как страх, возможно только на основе познания,
что, таким образом, этическое отношение, которое ставит своей
целью преодоление таких аффектов в интересах господства че-
ловека над своей собственной жизнью при самых неблагопри-
ятных и сложных обстоятельствах, возможно только на основе
познания явлений действительности такими, какими они на са-
мом деле созданы.
Не так уж трудно проследить здесь связанный с этим, но
двойной ход мысли и его значение для современной этики. Во-
первых, для Эпикура господство человека над его собственной
жизнью является высшей этической ценностью. Аффекты полу-
чают свое положительное или отрицательное иерархическое мес-
то в микрокосме человеческой личности, в соответствии с тем,
свойственно ли им способствовать самообладанию человека
или препятствовать ему. (Достаточно вспомнить о приведенных
ранее пониманиях аффекта страха и надежды у Спинозы и у
Гёте [см. т. 1, с. 144 и ел.].) Так, страх относится к ряду тех
аффектов, которые играли очень важную роль в возникновении
и усилении религиозной потребности. Если же этика пытается
изобрести для этого аффекта абстрактное оправдание, то он
тотчас и неизбежно получает совершенно противоположную
оценку, позитивный ценностный акцент, поскольку он выража-
ется в том, что человек, переживающий его, ищет защиты от
него, от того предмета, который его возбуждает, в трансцен-
дентном (как в еще неограниченно господствующих религиях),
либо, отдаваясь во власть этого аффекта, устремляется к лю-
31—805
481
бой, пусть даже пустой трансцендентности (как во многих со-
временных религиозно ориентированных мировоззрениях); мы
не можем здесь углубляться в возникающие при этом разнооб-
разные нюансы поведения, например когда преувеличенный
страх может быть истолкован так же, как искушение дьявола
и т. п.
Так как этика нового времени, особенно начиная с Канта, ори-
ентирована на уважение по меньшей мере религиозных потребно-
стей при отсутствии уважения, как это наблюдается во многих слу-
чаях, самой религии, то у нее неизбежно отсутствует философ-
ская последовательность Эпикура при определении органиче-
ской взаимосвязи познания и этики. Это выражено уже у самога
Канта в реально недопустимом четком методологическом разде-
лении знания и этической практики. Тем самым этика сводится
им, по существу, к субъективному акту единичного индивида,
неизбежно становится формалистичной, чистое убеждение полу-
чает в ней абсолютное главенство перед следствиями, а также
перед предпосылками, на основе которых принимаются этиче-
ские решения. Вследствие всего этого современная этика теряет
тот всеохватывающий, миросозидающий характер, миропричаст-
ность, отличавшую ее в античности; нередко солипсически при-
влекательное сведение всего этического к сиюминутным прояв-
лениям его в жизни отдельного человека, характерное для экзи-
стенциализма, представляет собой один из полюсов современно-
го развития, который с необходимостью возникает на основе
вышеизложенного вида отношений. Субъективно понятое этиче-
ское поведение тесно смыкается здесь с религиозной потреб-
ностью. Поскольку это поведение вообще еще остается этиче-
ским, между ними сохраняется, конечно, диалектическое проти-
воречие; как бы ни сближал экзистенциализм этический акт,
например, с преходящей партикулярностью, как бы ни проти-
вопоставлял приводящего его в исполнение индивида трансцен-
дентному ничто, — субъект решения остается все же всегда зем-
ным, посюсторонним, и его действия могут быть связаны или
не связаны с религиозным содержанием. Конечно, при этом
мировоззренчески широкий горизонт, присущий этике Аристо-
теля, Эпикура или Спинозы, растворяется в пустоте, с необхо-
димостью обнимающей индивида, замкнутого в своей единично-
сти; эта посюсторонность остается здесь совершенно абстракт-
ной и может быть очень легко обращена в столь же абстракт-
ную пустую трансцендентность сегодняшней религиозной по-
требности.
Мы намеренно выбрали как контрпример современной этике
Эпикура, у которого конкретный общественно-исторический фун-
дамент, конкретный общественно-исторический результат (Те-
los) этики по сравнению с аристотелевским уже значительно
ослаблен. Миросозидающий характер этики, теоретическим ба-
зисом которого является посюсторонность — ведь в универсали-
482
стекой религиозной системе самостоятельность этики необходи-
мо снимается, —мировоззренчески связан с убеждением, что
все человеческие общности, вплоть до государства, являются
имманентно управляемыми образованиями, точнее говоря, по-
скольку они определяются закономерностями, действующими
вне их самих, то и регулирующий их принцип должен иметь об-
щественный характер. Так думали античные греки, в период
Возрождения — Макиавелли, позже — Гоббс, Мандевиль и мно-
гие другие. Парадоксальная форма, в которой иногда выступа-
ли такие теории, сводилась к тому, что была сделана попытка
определить добро и зло, добродетель и порок не абстрактно из
самих себя, то есть не с точки зрения субъективной нравствен-
ности и не по отношению к трансцендентности божественного
мирового порядка; при этом неизбежно возникала проблема
диалектической противоречивости общественной практики чело-
века. Каким образрм может быть включен этот комплекс в
систему этики, нас здесь не должно занимать; для нас важно
лишь то, чтобы тем самым, с одной стороны, была заложена
основа общественной науки, исследующей объективное бытие-в-
себе социальных явлений, их закономерность и т. д. также иск-
лючительно в его имманентности, как и естественные науки изу-
чают свой предмет, и поэтому, подобно последним, не сводимой
к чему-то трансцендентному. Но такое знание означает, с дру-
гой стороны, крах того учения, вытекающего из сущности рели-
гии, согласно которому божественный принцип, трансцендент-
ная сила, решающая для развития человечества, будто бы явля-
ется неотъемлемой предпосылкой длительного и успешного функ-
ционирования общества. Временами достаточно острые дискус-
сии по поводу того, может ли существовать общество, состоя-
щее из одних атеистов, разрешаются тем, что социально актив-
ные представители классовых обществ на практике по существу
являются атеистами, независимо от того, исповедуют ли они
христианство или любую другую религию. Это утверждает в на-
ши дни, например, Бердяев: «Подавляющее большинство лю-
дей, христиан, являются материалистами, включая и то, что они
не верят в силу духа; они верят только в материальную силу,
военную или экономическую. И они не имеют никакого права
возмущаться марксистами»155. Хотя эти замечания весьма «вуль-
гарно-материалистичны», поскольку в них метафизически жест-
ко противопоставляются материальные и духовные силы, но они
прибавляют к нашей общей характеристике ситуации следую-
щий штрих: посюсторонность пронизывает все области челове-
ческой теории и практики. То, что несмотря на это религиозная
потребность не снимается, может удивить только тех, кто счи-
тает вопрос мировоззренческих убеждений чисто теоретическим,
кто не признает его жизненной важности и оставляет без вни-
мания закономерную бессмысленность преобладающего числа
живых жизней при капитализме. Описанные нами — весьма
31*
483
кратко — взаимосвязи активных жизненных позиций человека
однозначно приводят к бессодержательности религиозной по-
требности, в особенности в сравнении с прошлым, однако это
никоим образом не означает, что ее следует исключить из внут-
ренней жизни современного человека. Для этого необходим та-
кой переворот в условиях и образе жизни, такое их преобразо-
вание, которое капиталистическое общество, как мы убедились*
осуществить не в состоянии.
Если эту борьбу вокруг религии, интересующую нас прежде
всего как момент освобождения, завершенного самостановления
искусства, рассматривать в аспекте современности, то в ней
речь идет явно меньше о самой религии как о системе, направ-
ляющей и всесторонне регулирующей всю жизнь человека, по-
добно той, что существовала в средневековье и на его исходе —
но в первую очередь говорится о сохранении или отмирании ре-
лигиозной потребности, ставшей совершенно абстрактной, пол-
ностью растворившейся в субъекте. Поэтому для тех научных
направлений, которые — с различной степенью осознанности —
выступают за сохранение религиозной потребности в определен-
ных рамках, вполне достаточно отрицания того, что наука мо-
жет дать объективную картину мира. Ибо если объективная
действительность распадается на бесконечное в принципе число
по существу субъективных, абсолютно частных или абстрактных
по содержанию типовых представлений, связь которых друг с
другом носит в высшей степени практический характер, то уход
от решения жизненно важного конфликта между религиозным
откровением и объективной действительностью можно считать
успешно совершившимся и поле деятельности для религиозной
потребности теоретически освобожденным. И если современные
теории познания лишают этической ценности научные резуль-
таты, то подобным же образом может быть вполне достаточно
имеющего ту же цель сведения абстрактных умонастроений до
уровня абсолютно частной субъективности, так как положенная
тем самым завершенная и законченно абстрактная внемирность
морального индивида — образно представленная в хайдеггеров-
ском понятии заброшенности, радикально удаляющей из мира
человека все и всякие «откуда» и «куда» — также снижает эти-
ческую ценность познания мира, делает его незначимым по от-
ношению к тому, что считается этическим. Реально остающееся
поле этических решений оказывается при этом в столь непосред-
ственной близости к религиозной потребности, что границы ста-
новятся едва воспринимаемыми: этика, как и религиозное пове-
дение, сводится к элементарному отношению партикулярности
и трансцендентности.
В связи с этим стремление современного искусства к алле-
гории выявляет его социальную роль. Самые различные тенден-
ции к разложению реальной жизненной предметности и тем бо-
лее ее соотнесенности с посюсторонне-земными судьбами челове-
484
ческого рода отражают именно внутренний и внешний мир чело-
века, как бы ни пытались представить эти отражения полностью
внемирными. Абстрактная партикулярность и пустая трансцен-
дентность становятся единственной действительностью для се-
годняшнего человека, так что фундаментом и венцом его сущ-
ности оказывается не что иное, как религиозная потребность,
В одном ряду с теми художниками, которые, пренебрегая по-
добными веяниями времени, утверждают земной миросозидаю-
щий характер эстетического отражения, мы видим Томаса Ман-
на, который преследует противника в его же собственном лаге-
ре, чтобы бороться с ним наиболее действенным способом. Се-
годня много говорят о параллелях между Томасом Манном и
авангардизмом. И действительно, со времени создания «Вол-
шебной горы» (даже, собственно, со «Смерти в Венеции») То-
мас Манн все вновь и вновь возвращается к тем темам, ситуа-
циям, образам, душевным движениям, которые ведут у его со-
временников к прямому контакту с абстрактной партикуляр-
ностью и пустой трансцендентностью. Он делает это для того,
чтобы вновь и вновь показывать в конкретно-человеческом во-
площении реальную основу этих последних, действительное воз-
никновение посюсторонне-земной взаимосвязи таких отражений
и переживаний мира, чтобы вскрывать их реальное место, их
подлинную ценность в совместной жизни людей. Так, интерпре-
тация мифологической тематики в романе об Иосифе и в «Из-
браннике», выбор пограничных ситуаций в «Обманутой» служат
у него лишь тому, чтобы все человеческие страсти, мысли, чув-
ства, возбуждаемые такой реальностью, непосредственно отме-
ченные «современными» чертами таких ситуаций, — свести с по-
мощью изображения истинно человеческого мира к нормальной,
посюсторонней, земной действительности, чтобы создать из их
ансамбля «мир» сегодняшнего человека; но не тот мир, где со-
временный человек непосредственно предстает в его спонтанном
страхе и отчаянии — как это сегодня чаще всего изображается^-
он показывает этот мир как этап в развитии человечества, от-
раженный его самосознанием во всем своем величии и в своих
границах. То, что современные ему писатели превращают в по-
этическую софистику для защиты религиозной потребности, вы-
растает у Томаса Манна в художественное опровержение этой
последней, так как он дает возможность понять и эти чувства
и мысли, и эти ситуации и судьбы как элементы единой посю-
сторонней жизни, завершенной в своей посюсторонности. Веро-
ятно, отчетливей всего это стремление проявляется в развитии
действия «Обманутой»: возникающие из резких поворотов собы-
тий, из случайного стечения обстоятельств ситуации и связи,
непосредственной формой проявления которых предстает именно
телеология, соотнесенная с партикулярным субъектом, создают
как раз ту видимость, которая обычно активизирует в реакциях
людей религиозную потребность. Однако у Томаса Манна ком-
485
-позиция всегда с большой энергией и очевидностью ведет в про-
тивоположном направлении: случай остается случаем, а с
!жизнью людей происходит то, что они сами создают из нее при
сложившихся обстоятельствах; для выхода за границы земной
жизни человека не дают возможности ни объективная логика
конкретных событий, ни субъективная логика реакций на них
человека. В этом Томас Манн был и остается — при всей своей
современности — последователем Гёте и поэтов его времени. Так,
Гёльдерлин заключает свое стихотворение «Единственный», ко-
торое по своей непосредственной тематике тоже кажется выхо-
дящим за пределы земного, такими словами:
Подобает поэтам, даже духовным,
Быть мирскими.
(Перев. В. Микушевича)
Из всего этого ясно, что развязкой мировоззренческого
столкновения мирского и потустороннего должно стать оконча-
тельное и полное освобождение искусства (и науки). Объектив-
ные условия для этого были созданы общественным развитием
более или менее спонтанно. Хотя исчерпывающее познание за-
конов объективной действительности, углубленное представление
о них достижимо только в бесконечном приближении, но пони-
мание имманентно замкнутой, исключающей всякую потусторон-
ность связи первоначально сформировалось исходя из потреб-
ности людей в самосохранении. Переработка этого понимания в
замкнутую мыслительную систему, обретение этой системой
мировоззренческого характера, ее воздействие на людей — все
это является в конечном счете продуктом современной экономи-
ческой формации, результатом борьбы классов, разыгрываю-
щейся в ней. Тем самым, как мы видели, субъективный момент
вступает в диалектическое взаимодействие с объективным. В ря-
ду объективных моментов посюсторонней картины мира один
играет, однако, особую, качественно своеобразную роль: откры-
тие, что человек с помощью своего собственного труда (и вслед-
ствие труда закономерно появившейся речи) создал сам себя,
то есть, что он совершил свое преобразование из животного в
человека собственным трудом, без вмешательства потусторон-
них сил. Это знание, которое было подготовлено определенными
теориями языка эпохи Просвещения, которое Гегель смело вы-
сказал в «Феноменологии духа», тут же запутав его идеалисти-
ческими абстракциями, получило подобающее ему центральное
место только в марксистском мировоззрении. С помощью этого
центрального звена объективные и субъективные моменты посю-
сторонней картины мира объединились в диалектическом един-
стве. Старый материализм —даже и после того, как был обога-
щен и дополнен учением Дарвина, —смог лишь созерцательно
понять имманентность законосообразного построения мира: и
486
хотя человек полностью оказался объектом сущих-в-себе зако-
номерных связей, но его собственное существование и актив-
ность также получили характер чистого объекта, который мог
быть разрушен лишь произвольно, посредством создания субъек-
тивистской и потому остающейся абстрактной этики. Учение о
самосозидании человека с помощью труда стало для марксизма
основой понимания его социальной деятельности, основой пони-
мания развития самого общества156. Тем самым был создан ба-
зис для формирования плодотворного, взаимно обогащающего
отношения между объективными и субъективными компонента-
ми последовательно посюстороннего мировоззрения. Только на
этой основе человек может стать действительным субъектом че-
ловеческой жизни, — конечно, без снятия закономерной детер-
минированности своего существования. И хотя труд сделал че-
ловека властелином природных сил — пусть даже долгое время
его власть была крайне проблематичной и чисто потенциаль-
ной,— однако орудие, которое человек при этом, не зная и не
желая того, создал, то есть общество, подчинило его своему
господству. Только с развитием социализма настал конец этому
господству, и для человека стало доступным нормально сбалан-
сированное, здоровое субъектно-объектное отношение внеш-
него и внутреннего мира.
Только в этих условиях возникла действительно непримири-
мая противодействующая религии сила. Ибо, как показывает
история, имманентность, уже вполне завершенная, но остаю-
щаяся чисто объективной, может получать полностью или напо-
ловину религиозную интерпретацию. Хотя остроумное замеча-
ние Шопенгауэра, что пантеизм — это просто вежливый атеизм,
верно характеризует ситуацию, тем не менее возможности воз-
никновения религиозной потребности (хотя бы и весьма рас-
плывчатой, бессодержательной) в подобной ситуации духовно
еще не уничтожены. Приведем здесь лишь два примера того,
как эмоциональные формы внутренней человеческой жизни, вы-
текающие из религиозных отношений, прорываются наружу, ког-
да переживающий такого рода эмоции субъект совершенно не
осознает их происхождения. Прежде всего примечателен тот
факт, что пока у самого человека живы остатки трансцендент-'
ного миропонимания, ценностная линия человеческих способно-
стей ориентирована все еще сверху вниз. Мы подразумеваем
здесь отнюдь не те вполне определенные выражения, которые
неустранимы из мышления и речи — когда при формировании
психологической иерархии человек неизбежно обозначает пози-
тивно оцениваемое термином «выше» и наоборот, — а само по
себе генетическое и ценностное перемещение. Истина, благо и
красота предстают при этом в своей подлинно прирожденной
чистоте как происходящие из сферы трансцендентного, откуда
они — возможно, многократно опосредованно — опускаются в
земную действительность, где они никогда не могут воплотиться
487
с той безупречностью, которая была присуща им в трансцен-
дентной сфере их происхождения. Не следует забывать того,
сколь нелегким было освобождение научной философии, логики,
этики, эстетики и т. д. от подобных представлений, а также того,
что этот процесс еще и сегодня далеко не завершен. Трудность
состоит здесь в преодолении глубоко укоренившейся привычки
изображать эти представления именно в такой расстановке, на-
чиная с первобытных мифов, где поколения людей — от прави-
телей и дальше по нисходящей линии — получали свои звания
на основе их божественного или полубожественного происхож-
дения, и кончая простейшими жизненными явлениями, где врож-
денное, как правило, оценивается выше, чем добытое собствен-
ным трудом. Даже при точном анализе таких чувств выясняет-
ся, что все благоприобретаемое, самосозидаемое инстинктивно
характеризуется уничижительно, получает ярлык «^парвеню».
Резкий эмоциональный протест, который вызвала у очень мно-
гих теория происхождения человека из животного мира, гор-
дость человека как божьего творения, сошедшего «сверху» — в
противоположность постепенному его восхождению «снизу»,—
конечно, коренится именно в подобных представлениях. Мы до-
полним эту картину лишь попутным замечанием, что общая
эмоциональная установка XIX и XX столетий на то, что опти-
мизм— это вульгарность и плебейство, а пессимизм — признак
духовного аристократизма, что только он соответствует мировоз-
зренческой позиции нонконформиста-интеллигента, — также
сводится к этой спонтанной системе ценностей. И даже столь
распространенное в философии мнение, что бытие только тогда
является истинным и неискаженным, когда оно совершенно от-
рицает становление, также коренится в подобной эмоциональной
установке. Общее всем людям, овладевшее повседневной жизнью
чувство гордости человека за свою созданную им самим сущ-
ность с большим трудом проступает из-под толщи эмоциональ-
ных напластований, спрессованных веками в привычку, ставшую
совершенно бессознательной. Действительное преодоление рели-
гиозной потребности предполагает разрыв с этим кругом пред-
ставлений, так как пока человек спонтанно чувствует себя в
нем как дома, все научные аргументы в пользу замкнутой посю-
сторонней имманентности действительной жизни вынужденно
наталкиваются на его — порой скрытое — эмоциональное сопро-
тивление, в то время как у него пробуждается к жизни — может
быть, столь же скрытая — готовность к усвоению противополож-
ного воззрения.
Этому комплексу проблем родствен другой. Многие религии,
и прежде всего христианские, очень резко выступают против
признания заслуг самого человека в формировании у него чув-
ства собственного достоинства, собственной значимости на ос-
нове его собственных способностей, развитых им самим. Для
религии все это — ниспосланная «свыше» милость, которую че-
488
ловеку остается только смиренно принять. В гордом сознаний
собственных способностей или заслуг они видят нечто мятеж-
ное, кощунственное, нечто такое, что идет от дьявола. (Совер-
шенно излишне, разумеется, разъяснять, что эта гордость не
имеет ничего общего с самоупоением, самодовольством и тще-
славием.) Проблема родства религии и партикулярности чело-
века, часто затрагиваемая нами, воспринимается здесь в новом
аспекте. Мы знаем, что все методы, используемые человеком!
для достижения господства над объективной действительностью;
с необходимостью вызывают изменения в нем самом. Научное
познание, этическое действие, эстетическое творчество и вос-
приятие— это своеобразное преодоление тем или иным спосо-
бом чистой, непосредственной партикулярности; все эти виды че-
ловеческой активности неотделимы, таким образом, от их объек-
тивных результатов, то есть от своеобразного, преобразующего*
воздействия на субъекта, носителя этой активности. Своеобразие
состоит здесь прежде всего в том, что субъект достигает с по-
мощью своей собственной деятельности уровня, который при
его непосредственной партикулярности должен был бы оста-
ваться для него принципиально недоступным, и что при таком
качественном изменении не происходит полного разрыва с пар-
тикулярностью, она лишь «перемоделируется» в той мере, в ка-
кой это необходимо для достижения поставленной цели. При.
некоторых обстоятельствах изменение может быть очень значи-
тельным, оставаясь, однако, всегда чистым продуктом собствен-
ной деятельности человека. Против этой его способности подни-
маться с помощью своих собственных сил над своим непосред-
ственно данным бытием и выступает религия. Описанное нами
движение превращается в ее глазах в надменность твари, в
блистательный порок. Конечно, сама сущность универсального
учения господствующей церкви требует включения в теологиче-
скую систему и таких отношений; они получают затем современ-
ную— хотя иногда теологически опосредованную — форму как
продукт божьей милости; конечно, предполагается, что ее ре-
зультаты не противоречат догматам церкви, в противном случае
они расцениваются как святотатство, гордыня и т. п. Это каче-
ственное самовозвышение человека, возникающее из его собст-
венной деятельности, противоречит, таким образом, собственно
религиозному поведению, которое необходимо сконцентрировано
на частном и позволяет выйти за его пределы только с помощью
божественной милости; субъект, к которому апеллирует религия,
является частным по самому своему существу.
Преобразование субъективности, конечно, будет совершаться
день ото дня все в более массовом масштабе. Однако чтобы
смягчить остроту мировоззренческой дилеммы посюсторонности
и потусторонности, они должны достигнуть известной степени
осознанности, которая со своей стороны зависит в первую оче-
редь от объективных условий и образа жизни человека, от его
489
перспектив. Неудивительно, что в те периоды, когда стремление
к решительным изменениям реального фундамента жизни было
особенно сильным, проблема посюсторонности и потусторонно-
сти приобретала наибольшую остроту. То, что в течение столе-
тий и эта борьба разыгрывалась в рамках религиозных миро-
воззрений, никоим образом не противоречит данному утвержде-
нию, так как это было время всеобщего идеологического гос-
подства христианства, и внимательный наблюдатель может за-
метить постоянный рост напряженности внутреннего конфликта
между посюсторонними целеполаганиями и их потусторонним
мыслительным и эмоциональным обоснованием; особенно это
сказалось у Мюнцера; а к «верховному существу» Ро-
беспьера подходит остроумное замечание Барта о Шлейермахе-
ре [с. 444]. Движение к радикальной и последовательной посю-
сторонности достигает своей высшей точки —в сиду изложен-
ных причин — в научном социализме. Для классиков марксизма,
у которых антирелигиозность достигает исторической кульмина-
ции, характерно, что они никогда не рассматривали религию в
качестве чисто идеологического явления, как это делали в свое
время великие просветители (а среди их современников, напри-
мер, Бакунин), но всегда в тесной связи с развитием общества,
с развитием реальных жизненных обстоятельств, реального об-
раза жизни людей. Поэтому у Маркса существование и отмира-
ние религии оказываются в его общесоциальной, всемирно-исто-
рической взаимосвязи важным моментом человеческого отноше-
ния ко всей совокупности действительного развития классового
общества по пути к социализму: «Религиозное отражение дей-
ствительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, когда
отношения практической повседневной жизни людей будут вы-
ражаться в прозрачных и разумных связях их между собой и с
природой. Строй общественного жизненного процесса, т. е. ма-
териального процесса производства, сбросит с себя мистическое
туманное покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом
свободного общественного союза людей и будет находиться под
их сознательным планомерным контролем. Но для этого необ-
ходима определенная основа общества или ряд определенных
материальных условий существования, которые представляют
собой естественно выросший продукт долгого и мучительного
процесса развития»157. Ленин нисколько не противоречит этому
определению Маркса, хотя он и подходит к данной проблеме
непосредственно совсем по-другому, так как и для него религия
является общественным явлением, порожденным общественным
бытием, его необходимым отражением в человеческом мышле-
нии и чувствах, борьба против которого возможна лишь с уни-
версальной общественной точки зрения. Главным феноменом,
определяющим корень сегодняшней религиозности, является
для него неустойчивость жизни в капиталистическом обществе,
в силу чего он предрекает религии ту же перспективу отмира-
490
ния, что и Маркс, а ее абсолютное и одностороннее пропаганди-
стское опровержение также считает безнадежным158. В таких,
замечаниях Ленина уже обнаруживается понимание того, что
при современном положении центральная проблема заключает-
ся не столько в том, чтобы противопоставлять религии свиде-
тельство действительности, сколько в том, как преодолевают
люди потребность в религии в результате изменения обществен-
ного базиса своего существования и возникающей вследствие
этого по-иному направленной активности, а также духовной
оценки этого нового существования и т. д.
В тесной связи с этими мотивами здесь выступает и тот,
действенность которого неоднократно подчеркивалась нами, а
именно: осмысленное или бессмысленное состояние индивиду-
альной жизни отдельного человека. Не подлежит никакому сом-
нению, что и этот момент человеческой жизни тесно связан с
тем, который подчеркивали Маркс и. Ленин. Ибо совершенно
очевидно, что как непонимание основы жизни, так и беззащит-
ность против тех сил, которые создают неуверенность, сущест-
венно способствуют отношению к жизни как к бессмыслице.
И нетрудно понять, что смысл или бессмысленность той деятель-
ности, которую человек осуществляет для поддержания своей
жизни, должны иметь для этой проблемы решающий вес. С дру-
гой стороны, Маркс указывал, особенно для периода освобож-
дения человека, которое приносит с собой социализм, на важ-
ность использования энергии в какой-то другой деятельности,,
на осмысленное использование свободного времени. Он исходит*
при этом из труда: «Свобода в этой области может заключаться
лишь в том, что коллективный человек, ассоциированные произ-
водители рационально регулируют этот свой обмен веществ с
природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того что-
бы он господствовал над ними как слепая сила; совершают его
с наименьшей затратой сил и при условиях, наиболее достой-
ных их человеческой природы и адекватных ей. Но тем не ме-
нее это все же остается царством необходимости. По ту сторо-
ну его начинается развитие человеческих сил, которое является
самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может
расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем
базисе. Сокращение рабочего дня —основное условие»159. С этим
царством свободы для человечества может начаться новая эпо-
ха культуры. Общеизвестно, что досуг образует основу для
дальнейшего развития всякой культуры, что объективно те вели-
кие задачи, которые человеческий род ставит перед собой в
своем производстве, могут быть воплощены лишь в свободном
времени, ставшем доступным с его помощью, что субъективно
человек только в свободное время может развивать свои способ-
ности так широко, многосторонне и углубленно, чтобы это сде-
лало его истинным обладателем культуры, созданной им самим.
Каждый знает, что докапиталистическое общество могло предо-
491
ставить это свободное время только относительному меньшинст-
ву, и если во всех многовековых революционных мифах всегда
упоминается золотой век как потерянный и обретенный рай, то
в них одновременно с требованием равенства содержится тре-
бование свободного времени, порождающего новые, высшие
ценности и наполняющего жизнь новым смыслом.
Капитализм как последнее классовое общество занимает в
этом отношении особое место. Энгельс отмечал уже в 80-х годах
предыдущего столетия, что воздействие капиталистического
разделения труда, искажающего и уродующего человека, ска-
зывается и в жизни господствующего класса как враждебная
культуре сила, что досуг в рамках капиталистического произ-
водства и разделения труда имеет крайне проблематичный ха-
рактер по сравнению с прежними формациями160. Длинный ра-
бочий день и ничтожный досуг пролетариата иногда делают
неощутимой всеобщность этого положения. Лишь после того,
как классовая борьба привела к увеличению свободного време-
ни трудящихся, лишь после того, как капитализм — об этом
мы говорили ранее — подчинил себе и организовал также и сфе-
ру производства средств потребления, и сферу так называемых
услуг, отмеченная Энгельсом ничтожность и пустота досуга ста-
ла характеристикой всей общественной действительности. Из-
лишне еще раз перечислять здесь симптомы этого положения,
описанного в литературе и публицистике более чем подробно.
Большое число людей — от подростков до стариков — охвачено
этой пустой, шумной и бесцельной суетой, и любой анализ по-
казывает, что бессмысленность профессиональной деятельности
поднимается здесь до бессмысленности бытия, освобожденного
от этой деятельности. Георг Кайзер правильно вскрыл уже де-
сятки лет назад в своей драме «С утра до полуночи» социально
обусловленную психологическую подоплеку такого положения,
заставив своего казначея, пытавшегося спастись с помощью ра-
страты от утомительной бессмысленности своего чиновничьего
существования, провести свой преступно добытый досуг зрите-
лем шестидневной велосипедной гонки в столь же бессмысленно
пустой суете. Это безграничное господство бессмысленности в
жизни человека при капитализме, конечно, является важнейшим
духовным источником, питающим специфические силы сегод-
няшней религиозной потребности. И из него же проистекает та
опустошенность содержания, которая характеризует в равной
степени повседневную жизнь, труд и досуг. Огромный прогресс
в познании привел к утрате их соответствия — ранее, видимо,
существовавшего — мнимо объективной картине мира; даже ос-
лепительно остроумная и страстная полемика Просвещения
сталкивается сегодня в своей атаке на объективно-религиозную
картину мира с пустотой, с полным отсутствием таковой. Все
еще действенное религиозное содержание может противостоять
всякому объективному познанию только благодаря всеобщему
492
скепсису. Но так как духовный базис религии —нигилизм, ирра-
ционализм, страх-и отчаяние—социально-психологически поко-
лебать очень трудно, то ее преодоление может идти только тем пу-
тем, который указали Маркс и Ленин, путем преобразования
тех форм жизни, которые ее производят и воспроизводят. Если
ныне этот систематически взаимосвязанный комплекс симптомов
хотят сопоставить с положением вещей при социализме приме-
нительно к исследуемой проблематике, то здесь возникает нес-
сколько запутанная ситуация, поскольку современная его кар-
тина не выявляет должного — и несмотря ни на что реального —
контраста ни непосредственно ощутимым образом, ни в плане
соответствия теоретической и всемирно-исторической истине. Мы
имеем в виду те искажения, которые были допущены в течение
нескольких десятилетий господства сталинских методов в фор-
мах осуществления социализма. При обсуждении этого вопроса
возникает двойная трудность. Во-первых, когда речь идет об
одной, хотя и столь важной частной проблеме, то по существу
невозможно даже только затронуть всю совокупность всплы-
вающих здесь вопросов, а неполное обсуждение легко создает
видимость ухода от проблем, даже их запутывания. Но мы
здесь пренебрежем этой опасностью. Во-вторых, сталинская тра-
диция проявляется в сегодняшнем марксизме почти повсеместно
в искаженном освещении существа дела, когда свет как бы пада-
ет на предмет или только слева, или только справа. С одной сто-
роны, сегодняшние догматики и сектанты в марксистском лагере
просто отождествляют Сталина, хотя иногда и стыдливо, с клас-
сиками марксизма, обходя при этом отдельные ошибки и оже-
сточенно отрицая тот факт, что Сталин защищал систему взгля-
дов, которая многократно отклонялась от истинных традиций
классиков. По видимости, парадоксальным образом эта точка
зрения методологически сближается с подходом теоретиков
буржуазной реакции; они также пытаются полностью отождест-
вить Сталина с Марксом, Энгельсом и Лениным, чтобы истол-
ковать то, что оказалось несостоятельным и неприемлемым в
его взглядах, как необходимое следствие классического маркси-
стского учения. С другой стороны, ревизионисты точно так же
не в состоянии провести отчетливую границу между Сталиным
и классиками марксизма. Они критикуют его высказывания,
действия и методы, и многое отвергая здесь, полагают, что эта
критика относится и к марксизму-ленинизму в целом; тем са-
мым они, естественно, теряют принципиально важные ориентиры
и попадают под влияние самых различных буржуазных теорий.
В этой путанице фальшивых подходов и ложных позиций нелег-
ко безошибочно указать единственно правильную линию: ведь
Сталин был крупным и одаренным теоретиком-марксистом и
политическим деятелем социализма, который, однако, в ряде
важных вопросов придерживался неправильных или по край-
ней мере преувеличенных взглядов и эту свою теоретическую и
493
практическую установку превращал в самостоятельный метод.
Действительно плодотворная критика, правильная оценка пози-
тивных и негативных моментов его произведений и его лично-
сти, возможна лишь с позиций марксизма-ленинизма.
Исследуемый здесь круг проблем делает невозможным такое
всеохватывающее критическое изложение. Нам необходима
вернуться от намеченных констатации к нашей специальной
проблеме. При этом прежде всего необходимо четко различать
реальное положение самого развитого социализма, его принци-
пиально и практически осуществленные характеристики и те„
хотя и необходимые этапы, которые конкретно определяются
историческими условиями (и часто обнаруживают определения^,
непосредственно следующие только из данных обстоятельств,.
а не из принципов, или только косвенно — из принципов). Ленин,
например, никогда не рассматривал военный коммунизм как.
принципиально необходимый путь к социализму, а только как.
систему мероприятий, к которой диктатуру пролетариата выну-
дили внешние события, такие, как саботаж со стороны части:
интеллигенции, гражданская война, интервенция и т. п. С этой
точки зрения необходимо прежде всего рассмотреть проблему
пролетарской демократии. Тот факт, что социализм первона-
чально— а именно в течение десятилетий — существовал толька
в изолированном государстве; что он в любое время мог под-
вергнуться иностранной вооруженной интервенции и тем самым
опасности реставрации; что единственная социалистическая
страна была хозяйственно отсталой и т. д., — имел важные со-
циальные последствия для его развития в первые десятилетия.
Прежде всего необходимость усиленного развития производства,.
в первую очередь тяжелой индустрии, ставило перед народом
столь трудные задачи, что их объективно невозможно было осу-
ществить без отступлений от пролетарской демократии. Здесь,,
конечно, мы не можем даже бегло останавливаться на возни-
кающей при этом борьбе, на проведенных мероприятиях и т. д..
Нужно только подчеркнуть, что после смерти Ленина Сталин
был единственным, кто правильно понял и оценил указанное
положение, кто был способен сделать все необходимые выводы
из факта существования социализма в одной стране. Установить,,
в чем и как далеко он выходил в применении недемократиче-
ских методов за границы, диктуемые объективными обстоятель-
ствами,— дело истории. Мы упомянем только — как крайний
пример — утверждение Хрущева о том, что известные процессы;
30-х годов не только закончились по существу необоснованными,,
несправедливыми приговорами, но в своей совокупности были
политически излишними, потому что были направлены против
уже бессильного противника, не имеющего влияния *. Дополняя
высказанные критические замечания, задачей которых была
дать исторически обоснованную характеристику этого периода,,
следует в заключение заметить, что это развитие, рассматривав-
494
мое в целом, было социалистическим и вело к преодолению
первоначальных трудностей. Мы имеем здесь в виду исчезнове-
ние неграмотности, формирование многочисленной и высокораз-
витой социалистической интеллигенции, высокий уровень разви-
тия производительных сил, превращение Советского Союза в
высокоиндустриальную державу мира; и в первую очередь сле-
дует всегда помнить о том, что именно могущество и решитель-
ность Советского Союза в борьбе спасли мир от гитлеризма.
Только на основе такого общего подхода можно справедливо и
разумно говорить о тех тяжких последствиях сталинского пе-
риода, учитывать которые необходимо при исследовании нашей
частной проблемы — последней битвы искусства против влияния
религии. В противоположность Ленину, который никогда не
.признавал вынужденные мероприятия военного коммунизма те-
оретически необходимым путем к социализму, не говоря уже
о том, как это многие тогда делали, — чтобы видеть в нем во-
площение социализма, Сталин не делал никакого различия меж-
ду такими тактическими шагами и подлинно приближающими
к социализму движениями, объективно и субъективно ведущими
к его осуществлению. То, что сегодня характеризуется как
культ личности, есть, таким образом, намного более широкое,
всеохватывающее явление, чем обычно принято считать. Речь
идет о своеобразной, новой форме сектантства. Ленин право-
мерно усматривал важные черты сектантов в том, что они прое-
цировали на объективную действительность, признавали само
собой разумеющимся все, что -было теоретически разработано
ими самими, что они считали правильным. Так, они, например,
были убеждены в том, что для масс является желаемым или
ненужным то, что они считали таковым. Абсолютная власть над
великим народом, даже над значительными интернациональны-
ми течениями накладывала на этот тип сектантства свой особый
отпечаток. Это выражалось теоретически, даже методологически
:прежде всего в осуждении всякой философской и исторической
объективности как «объективизма», в метафизически резком
противопоставлении ее партийности. Несомненно, Ленин проти-
вопоставлял апологетическому объективизму марксистскую пар-
тийность. Однако в его понимании марксистский материалист
«глубже, полнее проводит свой объективизм»161, в отличие от
мнимого объективизма буржуазных теоретиков. Партийность
науки (и искусства), таким образом, возникает у Ленина из
перерастания диалектической напряженности между объектив-
ностью и партийностью в плодотворное движущее противоречие;
у Сталина же, напротив, она возникает из осуждения всякого
непредвзятого рассмотрения объективной действительности в
науке (и искусстве).
У Сталина, в его теоретической и практической деятельности
исчезают вследствие этого различия между перспективой и ре-
альностью, между принципом и практикой, между адлеполага-
495
нием, задачами и их осуществлением. Устанавливая неограни-
ченную власть sui generis, культ личности требует не только,
чтобы каждое его проявление было признано как данная завер-
шенная реализация, развитие и т. п. социалистической теории,
но также чтобы оно было изображено тотчас же как с вооду-
шевлением выполненное, воплощенное в жизнь. Теория, наука
марксизма, должна ограничиваться комментированием декретов,
агитацией и пропагандой их неодолимого победного шествия.
Конечно, при всех этих качествах Сталин был все-таки умным
человеком, который нередко задним числом видел нереальность
некоторых своих проектов и иногда правильно их корректиро-
вал. Но и это должно было считаться его монополией, и при
каждом таком повороте следовало или самый этот поворот тео-
ретически исключить из действительности, или возложить вину
за неудачу на другого. Понятно, что при таких обстоятельствах
чрезвычайно усложнялось и сдерживалось дальнейшее разви-
тие марксистской науки, прежде всего в области теории обще-
ства, политической экономии и философии, а сама теория все
больше утрачивала способность адекватно понимать новые яв-
ления в базисе и надстройке. Одновременное бурное развитие
производительных сил влекло за собой в противоположность
этому значительный взлет в области естествознания, особенна
там, где исследование находилось в более или менее прямом
отношении к технологии производства.
Вернемся от этих по необходимости весьма общих констата-
ции к нашей собственной проблематике. Очевидно, что конкрет-
ное теоретическое разьяснение и критика в этом вопросе должны
быть проблемой истории. Однако даже на основе такого вынуж-
денно широкого обобщения можно утверждать следующее:
утрачен или по крайней мере в значительной степени ослаблен
был как раз тот момент профессиональной деятельности при
социализме, который способствовал его превосходству над капи-
тализмом в субъективном плане, — живое осознание связи сво-
его труда с достижением всеобщего блага, с поступательным1
развитием общества, человечества, понимание роли этого труда
для разностороннего и углубленного развития собственной лич-
ности. Речь идет при этом не просто о сдерживании необходи-
мого для труда при социализме движения к поставленной цели^
но о том, что это сдерживание получает специфический оттенок::
так как теория и пропаганда были ориентированы в духе социа-
лизма, так как они соответственно этому были облечены в марк-
систско-ленинскую терминологию и даже очень часто — если-
подходить абстрактно — обладали подлинно социалистическим,
содержанием и выражались в истинно социалистических катего-
риях,—то несоответствие между официальной теорией и факти-
ческой практикой должно было проявиться в виде сопротивле-
ния самой теории в мыслях и чувствах многих людей. Конечно,,
некоторые и здесь могли отличить социалистическое ядро ог
496
сталинистской скорлупы. У многих, однако, это несоответствие
сказывалось — наряду с главным, то есть с неприемлемым для
социализма угасанием социальной активности, — и в отчуждении;
от теории, даже в неверии, равнодушии по- отношению к ней.
(Реальную, общественную основу современного ревизионизма;
следует искать прежде всего в этих последних проявлениях.) То,
что речь идет здесь об общественных фактах, имеющих общече-
ловеческую основу, а не только о настроениях группы интеллек-
туалов, обнаруживается в том, что почти все те симптомы ощу-
щения бессмысленности жизни, которые мы наблюдаем при ка-
питализме— от пустого спортивного фанатизма зрителей до*
роста преступности среди молодежи, — можно обнаружить в-
той или иной форме и в социалистических обществах, и одна;
лишь официальная пропаганда здесь так же бессильна в борь-
бе против подобной конкретной, социально обусловленной де-
градации, как и вообще в борьбе против религиозной потреб-
ности.
В этом исследовании нам неоднократно представлялся повода
для высказывания своего мнения относительно литературы, воз-
никшей на этой почве; так, ранее мы критиковали, например,,
иллюстративный характер посредственной литературы социали-
стического реализма [с. 461 и ел.]. Теперь наши выводы могут
быть дополнены с точки зрения рассматриваемой здесь пробле-
мы. Под влиянием сталинской теории и практики литература-,
вынуждена была в борьбе против религиозной потребности, за
окончательное освобождение от религиозной скованности чело-
века отказаться от своего сильнейшего оружия, а именно — or
воздействия катарсиса. В плане исследуемой проблематики
можно обобщить сущность катарсиса так: в границах произве-
дения как индивидуальности воспринимающему субъекту пред-
лагается картина мира, которая видится ему как его собствен-
ная, однако одновременно в его сознании молниеносно возникает
мысль, что его представления об этом мире не достигли, или по*
крайней мере еще не достигли, его сущности. Катарсис, таким
образом, производит потрясение повседневной картины мира,,
привычных мыслей и чувств, относящихся к человеку, его судь-
бе, к мотивам, которые им движут, однако это такое потрясе-
ние, которое ведет к лучшему пониманию мира, к более верному
и глубокому постижению посюсторонней действительности. По-
этому катарсис так тесно связан с этическими категориями пре-
образования и поступательного развития человека и человечест-
ва, и на этой же основе он выступает как исключающая проти-
воположность всем и всяким религиозным озарениям,
обращениям и т. п., которые всегда противопоставляют друг-
другу не видимость и сущность земного человека, а его тварные
характеристики (со всеми их блистательными пороками) и по-
тусторонность, хотя она всегда — как и сегодня — была только*
пустым ничто.
32—805
497
Таким образом, катарсис обращен к сущности человека.
Именно поэтому он может стать действенным только в своей
социально-исторической конкретности. Великая литература про-
изводила катарсическое воздействие, потому что она вскрывала
основные противоречия определенного этапа развития челове-
чества как типические конфликты человека, поднятого до уров-
ня художественной типичности. История создается самим чело-
веком, и он наиболее убедительно соотносит ее со своим само-
сознанием тогда, когда он может переживать ее как борьбу
человеческого могущества и слабости, добродетелей и пороков.
Поэтому посюсторонность катарсиса вполне универсальна: в
судьбе отдельного человека, выступающего конкретным и ти-
пичным представителем человеческого рода, сущность общества
и истории видится прозрачной, исторические коллизии обнару-
живают— в диалектике добра и зла — те человеческие типы, ко-
торые способствуют ходу истории или сдерживают его. Именно
поэтому от Гомера до Горького писатель всегда исходит из кон-
кретного человека, из конкретных человеческих отношений. Для
читателя это выливается в катарсическое самопознание, и в этом
■микрокосмическом зеркале ему открывается — в перспективе
тысячелетий макрокосмической истории — историческая значи-
мость того или иного современного ее этапа. Теория и прак-
тика писателя как «инженера человеческих душ» порывала с
этой традицией; в соответствии с этой точкой зрения литература
признавалась лишь необходимым инструментом для выполнения
конкретных задач. Ее исходным пунктом выступал поэтому не
конкретный человек со всеми его противоречиями, но актуаль-
ная общественная проблема, ориентированная на определенные
pro et contra и встраивающая изображаемых людей в эти рам-
ки в качестве носителей положительных или отрицательных сил,
приспосабливая их характерные особенности к поставленным
практическим задачам. Конечно, трудно было не ощутить, что
это черно-белое изображение слишком упрощенно, чтобы глубо-
ко затронуть читателя; так возник схоластический вопрос о
том, в какой мере положительный герой может обладать также
и отрицательными чертами (например, быть иногда вспыльчи-
вым или забывчивым). Эта тенденция была столь глубока, что
даже такая искренне социалистическая книга, признанная, одна-
ко, оппозиционной, как «Не хлебом единым» Дудинцева, была
отвергнута на основании того же принципа; то, что его выводы
не поддерживали отдельных мероприятий, а призывали к их ре-
форме, ничего не меняло в художественной оценке книги.
Однако подобное положение в социалистической литературе
не было всегда абсолютно четко фиксированным. Везде, где
речь шла об истинной литературе, схоластическая псевдопробле-
ма абстрактной положительности и софистического дополнения
этой последней второстепенными отрицательными чертами ото-
двигалась в сторону как мешающая подлинному творчеству и
498
не имеющая значения для него. Брехт писал в эмиграции в
прекрасном стихотворении, посвященном современному чело-
веку:
И ведь при этом мы знаем,
Что даже ненависть к низости
Искажает черты.
И что гнев, порожденный несправедливостью,
Делает хриплыми голоса. Ах, ведь мы,
Готовившие почву радушию,
Сами не могли быть радушными.
(Перев. К. Богатырева)
Неизбежный при таком понимании разрыв с механическим:
противопоставлением положительного и отрицательного основан:
на знании того, что каждый отдельный этап развития ставит
перед людьми особые задачи. Они пробуждают в человеке раз-
личные силы — в каждом отдельном случае по-разному, однако»
в типичных формах. Они могут — соответственно конкретной
сущности исторической ситуации — при известных условиях пре-
вращать добродетели в пороки и пороки в добродетели, так как
люди, чтобы правильно действовать при данных отношениях,,
должны были сформировать или, соответственно, подавить в се-
бе те качества, которые сами по себе вызывают у них опреде-
ленные деформации, но являются совершенно необходимыми:
для выполнения их исторических задач, а поэтому — при данном:
понимании этического поведения — также и нравственными.
Лишь посредством такой диалектики художественно воплощен-
ный человек может истинно представлять свою эпоху, только-
при этих условиях художественные образы могут вызывать в.
воспринимающем субъекте плодотворный катарсис и тем самым
воспитывать у него самосознание подлинного гражданина своего-
общества. Так писали еще до завоевания власти пролетариатом
Горький и Андерсен-Нексё; такова была творческая установка
самых значительных советских писателей Шолохова и Макарен-
ко и лучших представителей социалистического реализма совре-
менности— Бертольта Брехта, Арнольда Цвейга и Тибора Де-
ри162. Там же, где персонажи конструируются применительно к.
той или иной проблеме, их воздействие никогда не может ока-
зать на воспринимающего конкретного эффекта сопричастности,,
tua res agitur. Поэтому сегодня сложилось такое парадоксаль-
ное положение, когда господствующее направление буржуазной
литературы помогает укоренению религиозной потребности в ее
сегодняшней форме, в то время как социалистическая литера-
тура, исторически призванная быть настоящей противодействую-
щей силой, по большей части просто проходит мимо этой цент-
ральной проблемы борьбы искусства за освобождение.
32*
499
Здесь таится отмеченная нами трудность: выявить в социа-
лизме, в социалистической культуре ту силу, которая в состоя-
вши победоносно довести до конца эту борьбу искусства за свое
освобождение. Однако мы считаем эту трудность временной,
приметой непосредственно данного исторического момента и по-
этому носящей лишь трансисторический характер, если рассмат-
ривать ее с позиций всемирно-исторических. Вопросом, состав-
ляющим кульминацию нашего исследования, является вопрос
всемирно-исторической перспективы. Философия обязана выявить
теоретические основы этой проблемы, но не должна предвосхи-
щать— пророчески или утопически — конкретные формы, этапы
и т. д. ее осуществления. Исходя из этой точки зрения, наши
предыдущие замечания следует дополнить тем общеизвестным
положением, что при исторических переворотах такого рода
годы, даже десятилетия являются слишком коротким промежут-
ком. Для нас это общее место важно лишь постольку, посколь-
ку и противники социализма и те, кто изучает историю и точно
знает, что означает тот или иной временной отрезок в развитии
всех возможностей одной формации, ставят социализму пока
лишь весьма краткосрочные ультиматумы; и если действитель-
ное развитие не соответствует таким субъективно определяемым
срокам, то оно — тоже субъективно — оценивается как потерпев-
шее неудачу, как ошибочное. (Следует заметить, что традиции
сталинского периода облегчают противникам социализма неис-
торический способ рассмотрения, оправданный такого рода ос-
нованием.) Для нас речь идет о перспективе всеобщего разви-
тия, и исходя из этого, десятилетия объективного и субъектив-
ного застоя при Сталине не решают дела, так как, несмотря ни
на что, главной линией развития всегда было и остается усиле-
ние и укрепление социализма.
Необходимая критика сталинских методов тем в меньшей
степени может существенно изменить эту перспективу, что со
^времени его смерти и особенно после XX съезда КПСС произош-
ли решительные перемены. Годы, прошедшие с тех пор, во все-
мирно-историческом масштабе — не более, чем минута, и тем не
менее в главном общественно-историческом вопросе этого пе-
риода уже произошел знаменательный поворот. Последние годы
•при Сталине были отмечены и той непреодолимой трудностью,
что его метод исторически был уже устаревшим. Ибо хотя его
ранние преувеличения, искажения и т. д. также заслуживают
осуждения, первоначально он исходил, как мы видели, из дейст-
вительных фактов, из построения социализма в одной-единствен-
ной, отсталой стране. Война качественно изменила расстановку
сил в пользу социализма. Но Сталин не \4 состоянии был сде-
лать правильные выводы из изменившегося положения. Говоря
о результатах XX съезда, нужно подчеркнуть только один цент-
ральный вопрос: признание того, что мировая война в этом но-
*вом положении не является больше неизбежной, потоку что
500
социализм так укрепил свои позиции, что он в состоянии навя-
зать империализму свою волю в этом вопросе и положить конец
мировым войнам. За истекший период данная проблема не
только была отчетливо познана, но были также сделаны значи-
тельные шаги к ее решению. Главная общественно-историческая
основа, порождающая настроения отчаяния и страха в наши
дни, может быть ликвидирована сознательными усилиями чело-
вечества, сознательно руководимого его социалистическим лаге-
рем. Мы полагаем, что в философском плане мы имеем полное
право без колебаний утверждать нашу перспективу, не заботясь
о времени, необходимом для ее адекватного осуществления и о
том, как велик может быть обходной путь к достижению цели.
Тем более, что реальность рассматриваемого нами пути под-
тверждается законами исторического материализма: изменение
надстройки всегда следует — более или менее неравномерным
образом — за переворотом в базисе. В этом отношении сталин-
ский период объективно не только принадлежит прошлому, но
его осознанием начинается процесс образования у человека со-
циальной активности, мышления и чувств, отвечающих новому
всемирно-историческому положению.
Теперь мы можем вернуться к основному вопросу нашего
исследования. Прогресс человечества в классовых обществах
был способен разрушить притязания религии на истолкование
объективной действительности, на подчинение искусства, на
превращение его художественно-образной миросозидающей сим-
волики в декоративную аллегорию, на обоснование человеческой
нравственности потусторонними ожиданиями. Однако этот прог-
ресс не в состоянии был разорвать последнюю связь человека с
потусторонностью, уже столь бессодержательной, с религиозной
потребностью, ставшей полностью абстрактной. Это способен
осуществить только социалистический общественный порядок.
Как и во всякой другой области, социализм воплощает здесь в
себе стремления, которые тысячелетиями двигали высочайшими
умами человечества и которые часто позволяли им достигать в
науке и философии, в искусстве и этике небывалых высот. Вре-
мя Гёте было в определенном смысле увертюрой к этому пред-
последнему этапу в процессе отмирания религии, превращения
ее объективно ориентированной универсальности в замкнутую на
субъекте религиозную потребность. И хотя романтики всесто-
ронне подготовили — в идейном и художественном плане — си-
туацию, полностью развернувшуюся ныне в буржуазном мире;
хотя классической философией была предпринята попытка вер-
нуть объективно всеобщее значение религиозной потребности
[(путем спекулятивных абстракций, усовершенствования и обез-
личивания религиозной формы), — но сам Гёте всегда старался
искоренить всякую трансцендентную ориентированность из мыш-
ления, поэзии и деятельности, сформировать их как действен-
ные инструменты осуществления последовательной и всеохва-
501
тывающей человеческой посюсторонности. Он знал, что религи-
озная потребность может отмереть лишь тогда, когда человеку
удастся преобразовать всю свою умственную и душевную энер-
гию— которая до сих пор могла проявляться только в религи-
озных формах, — как осмысленную составную часть осмысленна
осуществляемой посюсторонней жизни. Именно так он понимал
религиозную потребность, когда говорил о религии, и так нужна
понимать его строки, которые могут служить, как нам кажется^
достойным завершением нашего исследования:
Знаток науки и искусств
В душе имеет веру,
А тот, кто им обоим чужд,
Навек во власти веры.
(Перев. А. Айхенвальд)
ПРИМЕЧАНИЯ
Глава 14. Пограничные вопросы эстетического мимесиса
1 GeorgiadesT. Musik und Rhythmus bei den Griechen. Zum Ursprung
der abendländischen Musik. Hamburg, 1958, S. 21.
2 Аристотель. Соч. в четырех томах, т. 4, М., 1984, с. 636—637.
3 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление, т. I, М., 1900,
с. 266.
4 См. там же, с. 266—268.
ъ Herder J. G. Kalligone. 2. Bd. — In: Herder J. G. Sämtliche Werke.
Zur Philosophie und Geschichte. Teil 19. Stuttgart — Tübingen, 1830, S. 8.
6 Аристотель. Соч., т. 1,M., 1976, с. 89.
7 Гегель Г. В. Ф. Наука логики в трех томах, т. 1, М., 1970, с. 421, 425,
8 Там же, с. 426.
9 Там же, с. 433, ^
10 Р 1 а п с k М. Das Weltbild der modernen Physik (Vortrag, gehalten
am 18. Februar 1929 im Physikalischen Institut der Universität Leiden). — In:
P 1 a n с к M. Vorträge und Erinnerungen. Stuttgart, 1949, S. 213.
11 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 1, с. 449.
12 См.: Gehlen A. Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse
und Aussagen. Bonn, 1956, S. 127.
13 КантИ., Соч. в шести томах, т. 3, М., 1964, с. 138.
54 К а н т И., Соч. т. 5, М., 1966, с. 342, 233.
15 Гартман Н. Эстетика. М., 1958, с. 289. Особая форма разрешения
дилеммы у Гартмана, его теория «слоев заднего плана» музыки (там же,
с. 294) нас здесь не интересует.
16 Гегель Г. В. Ф. Эстетика в четырех томах, т. 3, М., 1971, с. 292, 293.
17 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук, т. 2, М., 1975,
с. '64.
18 См. там же, с. 56.
19 Там же, с. 59.
20 M а н н Т. История «Доктора Фаустуса». — В: Манн Т. Собр. соч. в де-
сяти томах, т. 9, М., 1960, с. 254—255.
21 См.: Протоколы и стенограммы физиологических бесед, т. 1: Протоколы
1929—1933 г., с. 214—215, 221—222.
22-23 Adorno Th. Philosophie der neuen Musik. Frankfurt am Main, 1958,
'S. 36 f.
24 См.: Bruyne de E. L'Esthétique du Moyen Age. Louvain, 1947, p. 193—
195.
25 Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965, с. 40—
41.
26 См.: Р о л л а н Р. Музыканты прошлых дней. — В: Роллан Р. Собр.
*соч. в двадцати томах, т. XVI, Л., 1935, с. 40.
27 GeorgiadesT. Musik und Rhythmus, S. 37.
28 Ibid., S. 49.
29 Маркс К- иЭнгельсФ. Соч., т. 13, с. 7.
503
30 Р о л л а н Р. Музыкальное путешествие в страну прошлого. — В: Р о л -
л а н Р. Собр. соч., т. XVII, Л., 1935, с. 279.
31 Цит. по: Adolf von Hildebrand und seine Welt. München, 1962, S. 454.
32 [Kierkegaard S.] Entweder — Oder. Ein Lebensfragment. Hrsg. von
Viktor Eremita (Sören Kierkegaard). Dresden — Leipzig, o. J., S. 104.
33 W i d m a n n J. V. Johannes Brahms in Erinnerungen. Basel, 1947, S. 29. —
Цит. по: Musiker über Musik. Aus Briefen, Tagebüchern und Aufzeichnungen.
Darmstadt, 1956, S. 135 f.
34 При рассмотрении поэтического языка мы цитировали этот монолог [см*
т. 3, с. 167].
35 См.: Adorno Th. Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt. Göttin-
gen, 1956, S. 105.
36 M а н н T. Германия и немцы. — В: Манн Т. Собр. соч., т. 10, М., 1961*
с. 308—309.
37 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 1, с. 400.
38 См.: Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966, с. 277.
39 См. там же, с. 296, 300, 302.
40 См. там же, с. 277.
41 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление, т. I, с* 220—22 L
42 Г е г е л ь Г. В. Ф. Эстетика, т. 3, с. 25, 26.
43 Г е г е л ь Г. В. Ф. Эстетика, т. 1, с. 89.
44 Г е г е л ь Г. В. Ф. Эстетика, т. 3, с. 28.
45 См. там же, с. 54—55.
46 См.: С h i 1 d е G. Man Makes Himself. London, 1937, p. 125.
47 См.: В о a s F. Primitive Art. New York, 1951, p. 25—27.
48 См.: С h i 1 d e G. Man Makes Himself, p. 157 ff.
49 См.: Worringer W. Ägyptische Kunst. Probleme ihrer Wertung. Mün-
chen, 1927, S. 52, 76.
50 См.: С h i 1 d e G. Man Makes Himself, p. 162.
51 См.: A d a m a van Scheltema F. Die Kunst der Vorzeit. Stuttgart^
1950, S. 54.
52 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление, т. I, с. 221.
53 См. там же, с. 220—222.
54 См.: Rie gl A. Spätrömische Kunstindustrie. Wien, 1927, S. 40, 39.
55 Ibid., s. 26 f., 34, 406 f., Anm. 43 b 45 b.
56 Ibid., S. 36.
57 Z i e g 1 e r L. Florentinische Introduktion zu einer Philosophie der Archi»
tektur und der bildenden Künste. Leipzig, 1912, S. 18—19.
68 См.: Кант И. Соч. в шести томах, т. 5, М., 1964, с. 205.
59 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук, т. 2, с. 47.
60 Там же/ с. 64.
61 Там же, с. 56.
62 Там же, с. 64.
63 См.: ГартманН. Эстетика, с. 186.
64 См.: Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрож-
дения, т. 2, М., 1978, с. 103—104.
65 Там же, с. 115.
66 Rie gl А. Die Entstehung der Barockkunst in Rom. Wien, 1923, S. 101,
105.
67 Ibid., S. 56.
68 Маркс К. иЭнгельсФ., Соч., т. 3, с. 77.
69 Ortega у Gasset J. Die Aufgabe unserer Zeit.— In: Ortega у
G a s s e t J. Gesammelte Werke, Bd. 2. Stuttgart, 1955, S. 245, 240.
70 Sedlmayr H. Die Revolution in der modernen Kunst. Hamburg, 1955,.
S. 19 f., 66; ср. также высказывания Ле Корбюзье о машинах и геометрии:.
Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М., 1977, с. 32 и ел.
71 См.: Шеллинг Ф. В. Философия искусства, с. 279.
72 См.: Шопенгауэр А. Мир как воля и представление, т. II, с. 421
и 425.
504
73 Достаточно вспомнить здесь нашу прежнюю ссылку на анализ архитек-
туры храма в Пестуме, принадлежащий Якобу Буркхардту [см. т. 1, с. 251 и
ел.]. Разумеется, этот храм спланирован не геометрически, но даже его архи-
тектурная симметрия очеловечена за счет незначительных отклонений. Такие
тенденции можно обнаружить в любой подлинной архитектуре. Современный
геометризм исключает их принципиально; он из принципа античеловечен.
74 R i е g 1 A. Möbel und Innendekoration des Empire. — In: R i e g 1 A.
•Gesammelte Aufsätze. Augsburg — Wien, 1929, S. 12.
75 Ibid., S. 12 f.
76 Разумеется, эта одинаковость не исключает далеко идущие различия
между ремесленными традициями и модой. Однако обсуждение таких разли-
чий слишком далеко увело бы нас от данной темы.
77 R i е g 1 A. Möbel und Innendekoration des Empire. — In: R i e g 1 A.
Gesammelte Aufsätze, S. 13, 15.
78 Эккер m ан И. П. Разговоры с Гёте. М., 1981, с. 298, 427.
79 См.: Бэкон Ф. Соч., т. 2. М., 1978, с. 453—454.
80 См.: Simmel G. Philosophische Kultur. Leipzig, 1911, S. 140 f.
81 См.: Gothein M. L. Geschichte der Gartenbaukunst, Bd. 2, Jena, 1914,
S. 407.
82 Цит. по: Gothein M. L. Geschichte der Gartenbaukunst, Bd. 1, S. 264.
83 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. Спб., 1913, с. 155.
84 См.: Руссо Ж. Ж. Избр. соч., т. 2. М., 1961, с. 404—416.
85 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко, с. 151—152.
86 Там же, с. 154.
87 См.: Gothein M. L. Geschichte der Gartenbaukunst, Bd. 2, S. 192.
88 См.: Gothein M. L. Geschichte der Gartenbaukunst, Bd. 1, S. 366;
Bd. 2, S. 10.
89 См.: Home H. Grundsätze der Kritik, Bd. 2. Leipzig, 1772, S. 487 f.
90 Ibid., S. 493.
91 Бэкон Ф. Соч., т. 2, с. 449. Руссо повторяет это требование почти до-
словно: «Теперь это уже дом, предназначенный не для любования им, а для
постоянной жизни» (Р у ее о Ж. Ж. Избр. соч., т. 2, с. 376).
92 Goethe J. W. Über den Dilettantismus. — In: Goethes Werke, I 47, Wei-
mar, 1887—1919, S. 300, 310.
93 Hofmannsthal v. H. Die Berühruig der Sphären. Berlin, 1931, S. 29,
94 Ibid., S. 31.
95 Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Repro-
duzierbarkeit.— In: Benjamin W. Schriften, Bd. 1. Frankfurt am Main, 1955,
S. 371, 368 f.
96 См.: Б а л а ж Б. Культура кино. Л. — М., 1925, с. 23—24.
97 См.: Benjamin W. Das Kunstwerk... — In: Benjamin W. Schriften,
Bd. 1, S. 379 f.
98 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 3, с. 3.
99 См.: J h е г i n g H. «Othello» als Film. — In: J h e r i n g H. Von Reinhardt
bis Brecht. Vier Jahrzehnte Theater und Film, Bd. 1: 1909—1923. Berlin, 1958,
S. 423 f.
100 См.: Б а л а ж Б. Культура кино, с. 22—23 и 30—31.
101 На примере немецкой кинематографии в период между окончанием пер-
вой мировой войны и приходом к власти Гитлера этот вопрос хорошо осветил
Кракауэр (см.: Кракауэр 3. Психологическая история немецкого кино. От
Калигари до Гитлера. М., 1977).
102 См.: Aristarko G. Devant le dernier film de Fellini.— In: Les Lettres
Français, I960, № 814. Ср.: Lukâcs G. Erzählen oder Beschreiben (1936).—
ïn: Lukâcs G. Probleme des Realismus. Berlin, 1955, S. 103—145.
103 4 e p h ы ш e в с к и й H. Г. Эстетика. М., 1958, с. 159.
104 См.: К а н т И. Соч., т. 5, с. 203 и ел.
105 См.: В r u у n e de E. L'Estétique du Moyen Age, p. 145 f.
106 См.: Аристотель. Риторика, Спб., 1894, с. 26—37.
107 3 о л ь г е р К. В. Ф. Эрвин. М., 1978, с. 196.
1,08 Гегель Г. В. Ф. Эстетика, т. 2, М., 1969, с. 211—212.
505
109 Гёте И. В. Собр. соч., т. 1, М. —Л., 1932, с. 648 (комментарий к «Ор-
фическим первоглаголам»).
110 Гегель Г. В.Ф. Политические произведения. М., 1978, с. 290.
111 Горький М. Литературные портреты. М., 1963, с. 48.
112 См.: Lukâcs G. Wider den mißverstandenen Realismus, S. 45.
113 На примере Фонтане я попытался дать подробный анализ этих взаимо-
связей (см.: Lukâcs G. Der alte Fontane. — In: Lukâcs G. Werke, Bd. 7:
Zwei Jahrhunderte deutscher Literatur).
114 См.: К а н т И. Соч., т. 5, с. 213 и ел.
115 Goethe J. W. Über den Dilettantismus. — In: Goethes Werke, I 47..
Weimar, 1887—1919, S. 302.
116 Ibid., S. 304.
117 Ibid., S. 312.
118 См.: Гёте и Шиллер. Переписка (1794—1805). M., 1937, с. 162—
166.
Глава 15. Проблемы природной красоты
1 Г е г е л ь Г. В. Ф. Работы разных лет., т. 2, М., 1971, с. 121.
2 Чернышевский Н. Г. Эстетика, с. 161.
3 ШефтсбериА. Э. К. Эстетические опыты. М., 1975, с. 213.
4 Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист. М. — Л. I960,,
с. 256.
5 Quincey de Т. The English Mail-coach and other Essays. London, 1961,
p. 50—52.
6 ГартманН. Эстетика, с. 206.
7 Платон. Соч. в трех томах, т. 2. М., 1970, с. 135.
8 Гегель Г. В. Ф. Соч., т. IV. М., 1959, с. 354, 359.
9 Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980,.
с. 103. Аналогично и высказывание Шлегеля о «Странствованиях Франца
Штернбальда» Тика (см.: H aym R. Die romantische Schule. Ein Beitrag zur
Geschichte der deutschen Geistes. Berlin, S. 310. Русск. перев.: Г а й м Р. Роман-
тическая школа. М., 1891, с. 221—222).
10 См.: [Kierkegaards.] Entweder — Oder, S. 224.
11 Kierkegaard S. Stadien auf dem Lebensweg. Studien von Verschie-
denen.—In: Kierkegaard S. Gesammelte Werke, Bd. 4. Jena, 1922, S. 30«
12 В первой моей работе, эссе о Новалисе и Кьеркегоре, я уже критиковал1
этот принцип эстетизации жизни (см.: Lukâcs G. Die Seele und die Formen.
Berlin, 1911, S. 91 ff., 61 ff.). Какой бы наивной и беспомощной ни казалась
эта критика с сегодняшней точки зрения, она имеет то преимущество по отно-
шению к современникам, что в обоих случаях неизбежный крах этой тенден-
ции она ставила в центр внимания, в то время как Рудольф Касснер, очень-
уважаемый мною тогда, в своих эссе о Кьеркегоре, с которыми была связана,
моя работа, мог еще писать: «Кьеркегор опоэтизировал свою жизнь». (См.:
Kassner R. Sören Kierkegaard. Aphoristisch. — In: К a s s n e r R. Motive.
Essays. Berlin (1905), S. 16 f.)
13 Плутарх. Соч. M., 1983, с. 547. Если в «Соблазнителе» Кьеркегора
звучат подобные же мотивы, то это уже не отзвук такого варварски наивного
мировоззрения (при изменившихся в корне исторических условиях), а попытка
одухотворить, спиритуализировать сексуальные отношения, которые былиг
изображены у Лакло.
14 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 29, с. 435, 432.
15 Г е й н е Г. Собр. соч., т. 4, М., 1982, с. 392.
16 См.: Vi seh er F. T. Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen. 2. Tl.„
1. Abt.: Die Lehre vom Naturschönen. Reutlingen — Leipzig, 1847, S. 10 f.
17 Э к к e p м а н И. П. Разговоры с Гёте, с 208.
18 См.: Чернышевский Н. Г. Эстетика, с. 95—118.
19 См. там же, с. 173—176.
20 См. там же, с. 174.
506
21 Herder J. G. Kalligone, 1. Bd., 2. Teil: Von Kunst und Kunstrichterei. —
In: Herder J. G. Sämtliche Werke. Zur Philosophie und Geschichte, Teil 18.
Stuttgart — Tübingen, 1830, S. 153.
22 Чернышевский H. Г. Эстетика, с. 96.
23 См.: Weisse Chr. System der Ästhetik, Bd. 2. Leipzig, 1830, S. 418 ff.
24 Г ё т e И. В. Собр. соч. в десяти томах, т. 10, М., 1980, с. 118.
25 К а н т И. Соч., т. 5, с. 251—252.
26 Там же, с. 315.
27 ГартманН. Эстетика, с. 225.
28 См. там же, с. 224.
29 Там же, с. 235.
30 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч. т. 23, с. 51.
31 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 6, с. 441.
32 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 26, ч. III, с. 307.
33 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 3, с. 37.
34 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 13, с. 136—137.
35 Современный релятивизм, конечно, слишком часто пытается втиснуть
описанную нами повседневную действительность в жесткие рамки псевдообъек-
тивного понятия «окружающий мир». Гротескным примером этого является
известная теория Икскюля, где априорность, по-шопенгауэровски заложенная
в каждом данном субъекте, ведет к такому выводу: «Если бы солнце не воспри-
нималось глазом, то ни на одном небе оно не сияло бы». Поэтому вполне ло-
гично Икскюль заключает: «Небо... есть продукт глаза...» (см.: Uexkull J.,
К г i s z a t G. Streifzüge durch die Umwelt von Tieren und Menschen. Bedeu-
tungslehre. Hamburg, 1956, S. 145).
36 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 13, с. 136.
37 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 225.
38 Чернышевский Н. Г. Эстетика, с. 59.
39 См.: Фридлендер Л. Картины из истории римских нравов от Авгу-
ста до последнего из Антонинов, т. II, Спб., 1876, с. 351—387.
40 Goethes Briefwechsel mit dem Gebrüdern von Humboldt. Leipzig, 1876,
S. 99.
41 См.: Фридлендер Л. Картины из истории римских нравов... т. II,
с. 369.
42 См. там же, с. 371.
43 Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения, т. 2. Спб.,
1906, с. 18—19.
44 G о e t h е J. W. Maximen und Reflexionen. — In: Goethe J. W. Sämt-
liche Werke. Jubiläums-Ausgabe in 40. Bänden, Bd. 4. Stuttgart: Cotta, 1902—
1907, S. 208.
45 R i e g 1 A. Die Stimmung als Inhalt der modernen Kunst. — In: R i e g 1 A.
Gesammelte Aufsätze, S. 29.
46 То, что отдельные строфы первоначально были разрозненными песенны-
ми текстами оставшегося незавершенным зингшпиля «Несравненные домочад-
цы», не мешает нашей интерпретации, так как в 1800 году Гёте объединил их
в единое стихотворение; совпадают ли его соображения с приведенными
здесь, — об этом, разумеется, нам ничего неизвестно, если исключить заглавие;
во всяком случае нет и ничего, что свидетельствовало бы против этого.
47 Cézanne Р. Über die Kunst. Gespräche mit Gasquet und Briefe. Ham-
burg, 1957, S. 10 f.
48 Ibid., S. 21.
49 Платон. Соч., т. 2, M., 1970, с. 162.
50 См.: Гартман H. Эстетика, с. 233—235. В некотором отношении та-
кая витальность нашего восприятия близка партикулярности целостного чело-
века как субъекта. Однако следует считать сужением проблемы то, что Гарт-
ман пренебрегает социально-историческими компонентами, которые всегда при-
сутствуют во всяком характеризуемом как витальное переживании природы.
51 Гёте И. В. Избр. филос. произв. М., 1964, с. 101.
52 Мы поставили термин «преддействие» в кавычки, с одной стороны, что-
бы подчеркнуть, что мы говорим о явлении, аналогичном эстетическому пред-
507
действию, а, с другой стороны, мы указываем тем самым на предварительность
этого обозначения. Только систематическое изложение этики, для которого
здесь нет никакой возможности, позволило бы точно определить подлинное
содержание и подлинную форму, истинную структуру этического «преддей-
ствия». Кавычки должны подчеркивать этот предварительный характер терми-
нологии.
53 См.: Кант И. Соч., т. 5, с. 312 и ел. Кант не замечает, что тем самым
он отказывается от своего решающего критерия эстетического: в том, что
касается субъекта, — от незаинтересованности воспринимающего в реальности
эстетического предмета (см. там же, с. 204), в том же, что касается объекта,—
от «свободной красоты» (см. там же, с. 232), которую он признает у цветов и
т. п. Таким образом, не осознавая этого, Кант отрицает эстетический характер
переживания природы.
54 Гёте И. В. Собр., соч., т. 10, с. 428.
Глава 16. Борьба искусства за свое освобождение
*
I Baudelaire Ch. Oeuvre. Bibliothèque de la Pléiade, vol. 2, p. 416 f.,
423
'2 Г e г e л ь Г. В. Ф. Соч., т. IV, с. 395—396, 396—397, 398.
3 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов, М., 1979, с. 338.
4 Там же, с. 81, 359.
5 Античные мыслители об искусстве. М., 1938, с. 13.
6 Античные мыслители об искусстве, с. 16; см. также: Материалисты древ-
ней Греции. М., 1955, с. 175.
7 Материалисты древней Греции, с. 201, 209.
8 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 40, с. 174.
9 Die Fragmente der Vorsokratiker, Bd. 2. •Berlin, 1954, S. 290, 30.5.
10 См.: Платон. Соч., т. 3, ч. 2. M., 1972, с. 121.
II См.: Платон. Соч., т. 3, ч. 1, М., 1971, с. 425—436.
12 См.: Schwarzlose К. Der Bilderstreit. Gotha, 1890, S. 158. О даль-
нейшем развитии этого принципа вплоть до XIII века см.: A n t а 1 F. Florentine
Painting and its Social Background. The bourgeois Republic before Cosimo de
Medici's advent to power: XIV and early XV centuries. London, 1947, p. 276.
13 Л и x т e н б e p г Г. К. Афоризмы. M., 1964, с. 79.
14 См.: Dvorak M. Kunstgeschichte als Geistesgeschichte Studien zur
abendländischen Kunstentwicklung. München, 1924, S. 27; см. также:
Buonaiuti E. Geschichte des Christentums, Bd. 2, Bern, 1957, S. 54 f.
15 Творения Тертуллиана, ч. 1, с. 118; ч. 2, с. 145, 153. Спб., 1847—1850l
16 См.: S с h w а г z 1 о s е К. Der Bilderstreit, S. 174, 202.
17 Ibid., S. 17.
18 См.: Bréhier L. La Querelle des Images. Paris, 1902, p. 9 f., 46—49.
19 S с h w a r z 1 о s e К. Der Bilderstreit, S. 190, 197, 202.
20 См.: Bréhier L. La Querelle des Images, p. 54 f. См. также:
Schweinfurth P. Die byzantinische Form, ihr Wesen und ihre Wirkung.
Berlin, 1943, S. 31. •
21 См.: Calvin J. Institution de la Religion Chrétienne. Genève, 1965,.
vol. I, cap. XI, § 5, 1.
22 Ibid., § 9, 5.
23 Ibid., § 12.
24 См.: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe^
Bd. 10/3. Weimar, 1905, S. 26 und 26—30.
25 См.: F a r n e г О. Huldrych Zwingli. [Bd. 3:1 Seine Verkündigung und ihre
ersten Früchte. 1520—1525. Zürich, 1954, S. 448 f., 456.
26 Детальное исследование этого развития во Флоренции XIV—XV веков
является заслугой Антала. То, что некоторые указанные им взаимосвязи и вы-
воды слишком прямолинейны, не столь уж существенно уменьшает его заслуги.
27 Wo г ringer W. Die Anfänge der Tafelmalerei. Leipzig, 1924, S. 32—34.
508
28 См.: Hausenstein W. Giotto. Berlin (1923), S. 52. Антал правильна
видит в канцоне Джотто решительное выступление против радикального крыла
францисканцев. К сожалению, он делает и из этого слишком прямолинейные
выводы и оставляет в стороне очень сложную диалектику живописных изобра-
жений св. Франциска у Джотто. Он указывает также, что Падуя был цита-
делью аверроизма именно в то время, когда там работал Джотто (см.:
Ant al F. Florentine Painting, p. 161 f.). Можно лишь попутно заметить, что>
религиозные убеждения Джотто уже Румору казались крайне сомнительными,,
и он поэтому противопоставлял ему Чимабуэ и Дуччо (см.: Vi scher R. Stu-
dien zur Kunstgeschichte. Stuttgart, 1886, S. 60 f.).
29 Дворжак M. История итальянского искусства в эпоху Возрождения,,
т. 1, М., 1978, с. 81.
30 Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения, с. 70, 83.
31 См.: Buonaiuti Е. Geschichte des Christentums, Bd. 2, S. 358.
32 T о 1 n a y de Ch. Werk und Weltbild des Michelangelo. Zürich — Stuttgart,.
1949, S. 63.
33 Б e p h с о н Б. Живописцы итальянского Возрождения, с. 94.
34 Зиммель Г. Микель Анджело. К метафизике культуры. М., 1911,,
с. 157—158, 165.
35 Brockmöller К. Christentum am Morgen des Atomzeitalters. Frank-
furt am Main, 1954, S. 80.
36 В u r g e 1 i n P. Das Ende des konstantinischen Zeitalters? — In: Die
europäische Christenheit in der heutigen säkularisierten Welt. Konferenz europäi-
scher Kirchen. Nyborg/Dänemark. — 6. bis 9. Januar 1959. Zürich —Frankfurt
am Main, 1960, S. 71, 74—78.
37 Цит. по: G о t h e i n E. Ignatius von Loyola und die Gegenreformation.
Halle, 1895, S. 96.
38 См.: Farner О. Huldrych Zwingli [Bd. 2:] Seine Entwicklung zurra
Reformator. 1506—1520, Zürich, 1946, S. 192.
39 Sedlmayr H. Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des 19. und 20..
Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit. Salzburg, 1953, S. 172, 179.
40 См.: DvofâkM. Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, S. 271.
41 См.: Brockmöller K. Christentum... S. 81.
42 См.: Hocke G. R. Die Welt als Labyrinth. Manier und Manie in der
europäischen Kunst. Von 1520 bis 1650 und in der Gegenwart. Hamburg, 1973,.
S. 215.
43 См.: BurckhardtJ. Der Cicerone. Leipzig, o. J., S. 931.
44 Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения, с. 51.
45 Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения,,
т. 2, с. 143.
46 См. там же, с. 145—146.
47 Таким образом, вполне последовательно, что Якоб Буркхардт в конце-
своей жизни обнаруживал горячий интерес к Рубенсу; в связи с этим он оста-
вил наброски «эстетики живописи барокко», в которых он «ради одного Рубен-
са готов был простить грехи многим другим» (см.: Wätzold W. Deutsche-
Kunsthistoriker, Bd. 2. Leipzig, 1924, S. 202). «Грехи» здесь, как мы видели,
относятся к духовно-художественной проблеме кризиса. То, что Буркхардг
признает полноценным только придворно-монархическое разрешение кризиса,,
проявляется в его антипатии к Рембрандту, у которого он — как ранее у Тин-
торетто — отвергал плебейское начало (ibid., S. 203 f.).
48 Simm el G. Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch. Leipzig, 1916;.
При этом, возможно, небезынтересно сказанное Зиммелем о личной религиоз-
ности Рембрандта: «...Множество косвенных признаков свидетельствуют, как.
мне кажется, скорее против, чем за его позитивную религиозность» (ibid'.,.
S. 171).
49 Ibid., S. 148.
50 P о л л a н P. Гендель. M., 1984, с. 108.
51 R i e g 1 A. Das holländische Gruppenporträt, Textband, S. 185.
52 См.: Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения, с. 40—41.
509*
53 В a r t h R. Dogmatik im Grundriß im Anschluß an das apostolische Glau-
bensbekenntnis, 11. —20. Tsd. Berlin, 1948, S. 42. И так же решительно в дру-
гом месте: «...Нет никакой теологической живописи» (см.: Barth К. Die
.Menschlichkeit Gottes. Vortrag, gehalten an der Tagung des Schweiz. — Ref.
•Pfarrvereins in Aarau am 25. September 1956. Zollikon — Zürich, 1956, S. 20).
54 Denis M. Nouvelles Théories sur l'Art moderne, sur l'Art sacré. Paris,
.1922, p. 244 f.
55 См.: Maritain J. Art et scolastique. Paris, 1927, p. 134—141.
56 Цит. no: «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 25. März 1960.
57 Цит. по: M а г i t a i n J. Art et scolastique, p. 314.
58 В loy L. Die heilsame Verfolgung. Tagebücher des Verfassers 1896—1900,
: Nürnberg, 1958, S. 269.
59 Pave se С. Das Handwerk des Lebens. Tagebuch 1935—1950. Frankfurt
...am Main, 1974, S. 122, 97.
60 Goethe an F. W. Schelling, 29. November 1803. —In: Goethes Werke.
IV 16, Weimar, 1887—1919, S. 367.
61 См.: Justi С Winckelmann und seine Zeitgenossen, Bd. 3. Leipzig,
1898, S. 236.
62 G о e t h e J. W. Maximen und Reflexionen. — In: G о e t h e J. W. Sämtliche
Werke, Bd. 38, S. 261.
63 Ibid., S. 266.
64 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen. — In: Goethe J. W. Sämt-
liche Werke, Bd. 35, S. 325 f.
65 К а и т И. Соч., т. 5, с. 330.
66 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen. — In: Goethe J. W. Sämtli-
che Werke, Bd. 35, S. 319. (См. также: Гёте И. В., Собр. соч., т. 10, с. 428.)
67 Kierkegaard S. Furcht und Zittern. Dialektische Lyrik von Johan-
nes de Silentio. — In: Kierkegaard S. Gesammelte Werke, Bd. 3. Jena, 1909,
S. 53, 54, 53, 60.
68 Г e г e л ь Г. В. Ф. Эстетика, т. 3, с. 541—542.
69 Kierkegaard S. Furcht und Zittern. — In: Kierkegaard S. Gesam-
melte Werke, Bd. 3, S. 54, 53, 49.
70 Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. M. — Л., 1936, с. 12.
71 Die Nachsokratiker, Bd. 2. Jena, 1923, S. 151.
72 Heraclitus Stoicus. Alleg. Horn., V. — Цит. по: Simon H., S i -
tn о n M. Die alte Stoa und ihr Naturbegriff. Ein Beitrag zur Philosophiege-
schichte des Hellenismus. Berlin, 1956, S. 114.
73 Цит. по: В а 11 H. Byzantinische Christentum, S. 69 f.
73a Joachim von F i о r e. Das Reich des Heiligen Geistes. München —
'Planegg, 1955, S. 82 ff.
74 Dionysios Areopagita. Die Hierarchien der Engel und der Kirche.
München —Planegg, 1955, S. 102 f., 105 f., 107.
75 См.: В arth К. Die Menschlichkeit Gottes, S. 9, 16.
76 Joachim von Fiore. Das Reich des Heiligen Geistes, S. 80.
77 См.: В r u y n e de E. L'Esthétique du Moyen Age, p. 93—99.
78 АуэрбахЭ. Мимесис. M., 1976, с. 207—209.
79 См.: Шеллинг Ф. В. Философия искусства, с. 447—448.
80 3 о л ь г е р К. В. Ф. Эрвин, с. 302 и ел.
81 Schlegel F. Gespräch über die Poesie.— In: Schlegel F. 1794—
1802. Seine prosaischen Jugendschriften, Bd. 2: Zur deutschen Literatur und
^Philosophie. Wien, 1906, S. 361, 364, 383.
82 N о v а 1 i s. Schriften, Bd. 2. Leipzig, [19291, S. 308.
83 Benjamin W. Ursprung des deutschen Trauerspiels. — In: Benja-
min W. Schriften, Bd. 1, S. 300.
84 Ibid., S. 289 f., 301.
85 Ibid., S. 311.
86 Ibid., S. 298.
87 Ibid., S. 358.
88 Ibid., S. 310.
510
89 F r i e d r i с h H. Die Struktur der modernen Lyrik. Von der Mitte des
neunzehnten bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Hamburg, 1970, S. 61 f.
90 H о с к e G. R. Manierismus in der Literatur. Sprach-Alchimie und esoteri-
sche Kombinationskunst. Beiträge zur vergleichenden europäischen Literatur»
geschichte. Hamburg, 1959, S. 52.
91 Haftmann W. Malerei im 20, Jahrhundert. München, 1954, S. 320.
92 Ibid., S. 357 f.
93 В г о с h H. James Joyce und die Gegenwart. — In: В г о с h H. Dichten
und Erkennen. Essays, Bd. 1. Zürich, 1955, S. 193.
94-95 ßenn G. Lebensweg eines Intellektualisten (1934). —In: Benn G..
Gesammelte Werke, Bd. 4. Wiesbaden, 1961, S. 30, 68.
96 Benn G. Doppelleben (1950). —Ibid., Bd. 4, S. 136.
97 Ibid. Не случайно, что теория двойной жизни, инкогнито, в разных ас*
пектах возникает в Германии во времена гитлеризма и позже, цель этого —
добиться для поведения при Гитлере не только юридической, но и мировоз-
зренчески-моральной амнистии. Я анализировал случаи Хайдеггера, Карла<
Шмитта, Эрнста Юнгера и лишенный подобного ложного глубокомыслия про-
стой и циничный случай Эрнста фон Заломона (см.: L u к а с s G. Die Zerstö-
rung der Vernunft. — In: Lukäcs G. Werke, Bd. 9. Neuwied, 1962, с 720 ff.).
98 Заметим, кстати, чтобы избежать недоразумений, что такая игровая
аранжировка не имеет ничего общего с тем глубоко реалистическим отраже-
нием объективной действительности, которое для наглядного представления-
определенных ее аспектов употребляет в числе своих изобразительных средств
и те, которые кажутся игровыми; для такого — реалистического — способа;
изображения существует бесчисленное множество примеров от Аристофана до>
«Феликса Круля» Томаса Манна, и то же самое можно видеть в изобразитель-
ном искусстве, а также и в музыке. Когда теоретики авангардистского«
искусства перечисляют своих предшественников и единомышленников, они
произвольно искажают основополагающие эстетические факты (см.: L и -
к а с s G. Das Spielerische und seine Hintergrunde. — In: Lukäcs G. Werke,..
Bd. 7: Deutsche Liteeratur in zwei Jahrhunderten).
99 ГегельГ.В.Ф. Соч., т. VIII. M. — Л., 1935, с. 12.
loo-ioi H a f t m a n n W. Malerei in 20. Jahrhundert, S. 176, 249.
102 Можно вспомнить, как были омрачены последние годы жизни Карла-
Хофера из-за того, что он эпизодически отваживался высказать некоторые?
недостаточно почтительные замечания по этому вопросу.
103 H а r t m a n n N. Teleologischen Denken. Berlin, 1951, S. 13.
104 Ibid., S. 15 f.
105 Ibid., S. 109 f.
106 В e r d i a e f f N. Dialectique existencielle du divin et de l'humain. Paris,.
1947, p. 22.
107 См.: Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1980, с. 70.
108 См.: Malinowski В. Magie, Science and Religion. New York, 1955,.
p. 240, 273.
109 С о m m a g e r H. S. Der Geist Amerikas. Zürich — Wien — Konstanz,.
1952, p. 219.
110 Weber M. Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalis-
mus.— In: Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd L
Tübingen, 1922, S. 209, 210.
111 Kierkegaard S. Der Augenblick. Nr. 5 (27 Juli 1855), 1: Wir sind'
alle Christen/ohne auch nur eine Ahnung davon zu haben, was Christentum ist. —
In: Kierkegaard S. Gesammelte Werke, Bd. 12. Jena, 1909, S. 54.
112 Для правильного рассмотрения этого феномена было бы, конечно, важ-
но узнать, насколько велики эти различные слои верующих. Оценка проф.
Фридриха Хеера, согласно которой число «практикующих христиан» составля-
ет 8—12%, кажется достаточно убедительной; при этом, разумеется, нельзя-
выяснить, каково число подлинно убежденных верующих и внутри этого слоя
(см.: Heer F., Szczesny G. Glaube und Unglaube. Ein Briefwechsel. Mün-
chen, 1959, с 30).
51 II
113 Цит. по: Christliche Dichter der Gegenwart. Beiträge zur europäischen
aLiteratur. Heidelberg, 1955, S.'68.
113a Kassner R. Charles Baudelaire (Poeta christianissimus). — In: Käs-
tner R. Motive, S. 139^-160.
114 См.: Heer F. Europäische Geistesgeschichte. Stuttgart, 1965, S. 334;
см. также: Thibaudet A. Les Idées de Charles Maurras. — In: T h i b a u -
»det A. Trente ans de vie française, vol. 1. Paris, 1931, p. 171 f., 177 f.
115 Weber M. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.—
In: Weber M. Religionssoziologie, Bd. 1, S. 95, 104 f. (Anm. 3), 110, 123 f.
116 Weber M. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Vergleichende
Teligionssoziologische Versuche. — Ibid., S. 242.
117 Keller G. Gesammelte Briefe, Bd. 1. Bern, 1950, S. 432.
118 T о л ст о й Л. H. Поли. собр. соч., т. 60, с. 265—266.
119 Цит. по: Burckhardt С. J. Erinnerungen an Hofmannsthal. Basel,
1943, S. 32.
120 Weber M. Die Wirt seh aftsethik der Weltreligionen. — In: Weber M.
Religionssoziologie, Bd. 1, S. 247.
121 [Weber M.] Grundriß der Sozialökonomik. 3. Abt.: Wirtschaft und
Gesellschaft. Tübingen, 1922, S. 270—272.
122 См.: LukâcsG. Die Zerstörung der Vernunft. — In: L u k а с s G. Werke,
.Bd. 9. Neuwied, 1922, S. 372 f.
123 См.: Nicolaus Cusanus. Über den Frieden im Glauben. Leipzig,
•1943, S. 102 f., 154.
124 В a r t h К. Die Menschlichkeit Gottes, S. 15.
125 Г e г e л ь Г. В. Ф. Работы разных лет, т. 2, М., 1973, с. 530.
126 Разумеется, невозможно хотя бы обзорно рассмотреть разнообразную
.литературу по этому вопросу; автор сознает, кроме того, что в этой области он
дилетант. Укажем лишь на работу Шютте (См.: Schütte H. Um die Wieder-
vereinigung im Glauben. Essen, 1958, S. 81), где собран большой материал,
касающийся высказываний католиков и евангелистов, у которых наблюдается
существенная тенденция возводить разделение церквей к несчастным истори-
ческим случайностям, к закрепившимся недоразумениям. Приведем хотя бы
слова Адольфа фон Харнака: «Если бы тридентская декреталия об оправдании
существовала уже в 1515 году и имела бы время войти в плоть и кровь церкви,
то реформация не смогла бы распространиться» (см.: Dogmengeschichte, Bd. 3,
S. 635. — Цит. по: Schütte H. Um die Wiedervereinigung im Glauben, S. 81).
127 К i e r k e g a a r d S. Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu
-den philosophischen Brocken. Mimisch-pathetisch-dialektische Zusammenschrift,
existentielle Einsprache von Johannes Climacus. — In: Kierkegaard S.
Gesammelte Werke, Bd. 6. Jena, 1910, S. 274, 275 (Anm. 1).
128 Jaspers K. Wahrheit und Unheil der Bultmannschen Entmythologisie-
rung. — In: Jaspers K., Bultmann R. Die Frage der Entmythologisierung.
München, 1954, S. 36.
129 Brunner E. Das Ärgernis des Christentums. Zürich, 1957, S. 10, 27.
130 См.: Jaspers K. Erwiderung auf Rudolf Bultmanns Antwort. — In:
Jaspers K, Bultmann R. Die Frage der Entmythologisierung, S. 87; J a s -
p e r s К. Wahrheit und Unheil... — Ibid., S. 48, 42 f.
131 Toynbee A. An Historian's Approach to Religion, based on Gifford
lectures delivered in the University of Edinburgh in the years 1952 and 1953.
London—-New York — Toronto, 1957, p. 296.
132 Bultmann R. Zur Frage der Entmythologisierung. Antwort an Karl
.Jaspers. — In: Jaspers K., Bultmann R. Die Frage der Entmythologisie-
rung, S. 69.
133 Kierkegaard S. Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift... —
In: Kierkegaard S. Gesammelte Werke, Bd. 7. Jena, 1910, S. 251 f.
134 Weber M. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. — In: Weber M.
'Religionssoziologie, Bd. 1, S. 251 f.
135 См.: Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. М.— Л., 1934, с. 355.
136 Достаточно вспомнить об отношении Пеги к католицизму (см.: H a le-
vy D. Charles Péguy. Paris, 1941, p. 240, 246).
«12
137 Eliot T. S. Essays Ancient and Modem. London, 1936, p. 99, 108.
138 Jaspers К. Wahrheit und Unheil... — In: Jaspers K., Bult-
m a n n R. Die Frage der Entmythologisierung, S. 10.
139 См.: В arth К. Dogmatik... S. 62, 23.
140 См.: RiesmanD., Denney R., GlazerN. Die einsame Masse. Eine
Untersuchung der Wandlungen des amerikanischen Charakters. Hamburg, 1958.
141 См.: Camus A. Le mythe de Sisyphe. Essai sur l'absurde. (Paris), 1942
(Les Essais XII).
142 Kierkegaard S. Über den Unterschied zwischen einem Genie und
einem Apostel. — In: Kierkegaard S. Einübung in Christentum. Köln — Öl-
ten, 1951, S. 374 f.
143 [Kierkegaard S.] Die Krankheit zum Tode. Eine christlich-psycho-
logische Entwicklung zur Erbauung und Erweckung von Anti-Climacus. — In:
Kierkegaard S. Gesammelte Werke, Bd. 8. Jena, 1911, S. 28, 29, 30 f.,
33, 36.
144 См.: Lukâcs G. Gegen den mißverstandenen Realismus, S. 44 f.
145 Цит. по: Die Nachsokratiker, Bd. 2. Jena, 1923, S. 141.
146 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов, с. 434, 433.
147 К е 11 е г G. Gesammelte Briefe, Bd. 1, S. 274.
148 D i 11 h ey W. System der Ethik. — In: D i 11 h e y W. Gesammelte Schrif-
ten. Bd. 10, Stuttgart, 1958, S. 16.
149 U n a m u n о de M. Das Leben Don Quijotes und Sanchos, Bd. 2. Mün-
chen, 1926, S. 82—84.
150 Боэций A. M. Т. С. Утешение философское. Спб., 1794, с. 3—4.
151 См.: К а н т И. Соч., т. 5, с. 373—377.
152 Kierkegaard S. Die Krankheit zum Tode. --In: Kierkegaard S.
Gesammelte Werke, Bd. 8, S. 74.
153 M а p к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 20, с. 350.
154 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов, с. 438.
155 В e r d i а e f f N. Dialectique existentielle..., p. 133.
156 Попытка противопоставить формулировки молодого Маркса в «Эконо-
мическо-философских рукописях» его взглядам и методу в «Капитале», так же
как и вообще поздним работам Маркса и Энгельса, является ошибочной. Речь
здесь может идти только о растущей конкретизации, о структуре и применении
к новой группе явлений. Подобные попытки не прекращаются и после смерти
Маркса до настоящего времени; достаточно указать в этой связи на исследова-
ния Гордона Чайлда, часто используемые в ходе нашего изложения.
157 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 90.
158 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 415—420.
159 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. II, с. 387.
160 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 20, с. 303—304.
* Взгляды Лукача в этом вопросе расходятся с оценкой, данной культу
личности на XX съезде КПСС (см.: Материалы XX съезда КПСС. М., 1956). —►
Прим. ред.
161 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 418.
162 См. мои статьи о, Макаренко, Шолохове, Фадееве, Платонове (L u -
kâcs G. Der russische Realismus in der Weltliteratur. Berlin, 1953), а также
об Арнольде Цвейге и о «Прощании» И. Р. Бехера (Lukâcs G. Schicksals-
wende. Berlin, 1955).
33-805
ДИАЛЕКТИКА ЭСТЕТИЧЕСКОГО
(Послесловие)
Как мы уже отмечали в послесловии к первому тому, Д. Лу-
кач задумал осуществить замысел своей юности — построить
собственную систематическую эстетику, которая отличалась бы
глубоко научным, философско-материалистическим* диалекти-
ческим и историческим характером. Однако выполнить задуман-
ное он смог лишь в конце жизни, да и то не полностью: из трех
предполагаемых частей книги написана была только первая —
«Своеобразие эстетического», — представляющая собой фило-
софское обоснование эстетического подхода к действительности.
Автор ведет исследование эстетического и связанных с ним
категорий с диалектико-материалистических позиций, демонст-
рируя верность марксизму и следование великим традициям
прошлого. Диалектико-материалистический подход в решении
поставленных проблем, историзм их исследования характери-
зуют работу от начала до конца: «Своеобразие эстетического»
можно было бы с полным правом назвать «Диалектикой эсте-
тического».
Чтобы определить место эстетической деятельности в жизни
человека, соотношение эстетических представлений и их катего-
риального строения с неэстетическими реакциями человека на
окружающий мир, Лукач исходит из его поведения в повседнев-
ной жизни, которую он считает началом и концом всякой чело-
веческой деятельности. При этом своеобразие эстетического
раскрывается в сравнении с другими формами общественного
сознания — наукой, этикой, религией.
Работа полностью основывается на ленинской теории отра-
жения: генезис эстетического и связанных с ним категорий
предстает одновременно как генезис различных видов, форм и
типов отражения. При этом все типы отражения — в обыденной
жизни, в науке, в искусстве — отображают одну и ту же объ-
ективную действительность. Что же касается собственно эстети-
ческого отражения, то оно исходит из жизни человека и возвра-
щается к ней, сохраняя в своей объективности все типические
соотнесенности с человеческой жизнью.
Хотя «Эстетика» Гегеля представляется Лукачу своеобраз-
ным образцом построения эстетической системы, тем не менее
514
он отказывается не только от гегелевского идеализма и метафи-
зики, но и от гегелевского гносеологизма и панлогизма, от его
тождества бытия и мышления, от его идеалистического гипоста-
зирования и иерархизации. Порывая с формальными средствами
изложения, построенными на дефинициях и механических раз-
граничениях, Лукач обращается к методу диалектических опре-
делений, а не формально-логических дефиниций, что позволяет
ему использовать в своем исследовании бесконечное богатство
диалектических взаимосязей и взаимоотношений.
Труд Лукача отличается также глубоким историзмом, орга-
нической взаимосвязью истории и теории. Историзм объектив-
ной реальности обретает свой субъективный, равно как и объек-
тивный, образ в произведениях искусства. Вместе с тем исто-
ризм объективной действительности влечет за собой определен-
ный историзм и в учении о категориях. Проблема исторической
сущности действительности перерастает у Лукача из методоло-
гической в мировоззренческую — отрицание трансценденции с
неизбежностью приводит к подчеркиванию посюстороннего, зем-
ного характера искусства, его глубоко человеческого, гумани-
стического содержания.
Особо следует отметить оригинальность структуры исследо-
вания, которая, на наш взгляд, не имеет аналогов. Нередко под
«оригинальностью» такого рода скрывается попытка отхода от
марксизма или ревизии тех или иных его положений. В данном
случае своеобразие структуры исследования диктовалось стрем-
лением как можно точнее и адекватнее применить марксистский
метод, метод материалистической диалектики, диалектического
и исторического материализма к изучению эстетических проб-
лем.
Уникален этот труд и по постановке проблем и по их реше-
нию. Естественно, с этим связана и уникальность категориаль-
ной системы, вводимой и исследуемой автором, — она совершен-
но не похожа на общепринятые эстетические категориальные
системы прошлого и настоящего как в идеалистических эстети-
ческих концепциях, так и в концепциях материалистических и
представляет собой результат их критической переработки, кри-
тического переосмысления с точки зрения ленинской теории от-
ражения, с позиций материалистической диалектики, логики и
теории познания.
Следует заметить, что «Своеобразие эстетического» — не ис-
тория эстетики и не история искусства, а теория эстетики и
искусства, логика их истории и история их логики. И в этом,
может быть, самое главное отличие труда Лукача от всех дру-
гих эстетических работ, в этом же его теоретическая и практи-
ческая ценность.
Глубоко продуманная структура работы вычленяет фунда-
ментальные проблемы эстетического (истоки и генезис отраже-
ния вплоть до мимесиса, возникновение эстетического отраже-
33*
515
ния и путь субъекта к этому отражению, общие особенности
субъектно-объектного отношения в эстетике, собственный «мир»
художественного произведения, сущность категории особеннога
в плане ее онтологического обоснования и ее роли в эстетике
и т. д.), в ходе исследования которых осуществляется глубокий
категориальный синтез, формируется категориальная система,,
лишенная какой бы то ни было метафизической иерархичности,
догматической жесткости. Благодаря диалектико-материалисти-
ческой методологии, примененной к анализу эстетического, era
генезису и синтезу, раскрывается имманентное движение эсте-
тического в истории, его взаимосвязи с повседневной жизнью, с
окружающим миром, с объективной действительностью, с нау-
кой, этикой и религией, показывается зарождение, формирова-
ние и функционирование важнейших эстетических^категорий,
исторические этапы становления и развития эстетического ми-
месиса, его логическое значение и социальный смысл. Интеллек-
туальному взору читателя эстетическое предстает во всей своей
глубине, живом единстве и многообразии, во- всей своей диа-
лектической подвижности, отрицающей примитивные схемы
рассмотрения и истолкования эстетики как произвольного набо-
ра эстетических категорий (прекрасного, возвышенного, траги-
ческого, комического и т. д.) и их различных модификаций (гар-
монии, грации, иронии, гротеска и т. д.).
В свете диалектики эстетического4 становится очевидной тео-
ретическая и практическая несостоятельность идеалистического
отвержения и вульгарно-материалистического толкования теории
отражения, представляющей собой необходимую основу возник-
новения и развития эстетического (естественно, на базе и в тес-
ной связи с практической деятельностью человека), как, впро-
чем, и основу всего человеческого познания.
Наконец, хотя диалектика эстетического и направлена на
философское обоснование эстетического подхода к действитель-
ности, на выведение категорий эстетики и отграничение ее от
других областей, тем не менее она не только не замыкает эсте-
тическое в присущей ему сфере, а, наоборот, раскрывает широ-
чайшие горизонты его взаимосвязей и взаимоотношений со все-
ми формами общественного сознания и, следовательно, с соот-
ветствующими сторонами общественного бытия. Таким образом,
эстетическое становится центром пересечения теории и прак-
тики, логического и исторического, абстрактного и конкретного,
субъективного и объективного, словом, средоточием всей чело-
веческой жизнедеятельности и человеческого познания.
I
Разработке этих проблем Лукач посвятил по существу боль-
шую часть своих произведений, начиная с самых ранних и кон-
чая «Своеобразием эстетического». Если бросить ретроспектив-
ой
ный взгляд на эстетические воззрения Лукача в процессе их
становления, то мы убедимся, насколько он последователен в
их отстаивании и вместе с тем увидим, что его понимание эсте-
тического становится все более глубоким, все более ясным, чет-
ким и богатым по содержанию.
В последнее время стало модным противопоставлять Лукача
молодого — Лукачу старому, то есть Лукача как автора первых
эстетических работ — «Философии искусства» (1912—1914) и
«Гейдельбергской эстетики» (1916—1918), — Лукачу как автору
«Своеобразия эстетического» (1963). Этому не приходится
удивляться, поскольку Лукача наши идейные противники всегда
стремились превратить то в заурядного буржуазного философа-
идеалиста, то в ренегата, то в ревизиониста, то в основополож-
ника «западного марксизма». Делалось все это с одной целью —
противопоставить одного из крупнейших современных филосо-
фов-марксистов марксизму и ленинизму. Подобные попытки
предпринимались много раз, но всегда терпели крах, главным
образом потому, что самые серьезные и фундаментальные рабо-
ты Лукача, написанные после 1930 года были глубоко маркси-
стскими и сам Лукач твердо стоял на позициях марксизма-ле-
нинизма и мужественно отстаивал их до конца своей жизни.
Что касается его первых эстетических работ, то они дейст-
вительно носили идеалистический характер, о чем писал сам
Лукач, и были отмечены печатью воздействия самых различ-
ных философских течений: неокантианства, философии жизни,
феноменологии, негативной теологии и т. д., следами влияния
таких философов, как Гегель, Кант, Фихте, Шеллинг, Кьерке-
гор, Дильтей, Зиммель, Макс Вебер, Виндельбанд, Риккерт,
Гуссерль и других.
Однако главными идейными опорами в ранних литературно-
эстетических исследованиях Лукача были, безусловно, Кант
и Гегель. Естественно, в «Философии искусства» и в «Гейдель-
бергской эстетике» нашли свое отражение многие слабости
этих гениальных мыслителей. Не случайно Лукач говорит о
том, что его попытка написать самостоятельную систематиче-
скую работу по эстетике потерпела полную неудачу. Иначе и
не могло быть. Ведь в те годы Лукач читал Маркса через ме-
тодологические очки Зиммеля и Макса Вебера1. И то, что было
написано им до эстетических сочинений («К истории развития
современной драмы», 1908—1909; «Душа и форма», 19102) и са-
ми эстетические сочинения выражали скорее оппозиционную
настроенность Лукача, были своеобразным анархическим бунтом
против разлагавшейся буржуазной культуры и цивилизации.
1 См.: Lukâcs G. Geschichte und Klassenbewußtsein. Luchterhand, 1975,
S. 6.
2 См.: LukâcsG. Utam Marxhos. I, Magvetö, 1971, p. 10, 11; L u k а с s G,
Die Seele und die Formen. Berlin, 1911.
517
Разумеется, ранние сочинения Лукача сыграли важную роль в
его духовной эволюции: в зародыше они содержали основные
интересы и направления его будущей творческой деятельности.
) В этих работах Лукач формулирует почти все основные
Проблемы, которыми он так или иначе будет заниматься всю
жизнь: проблемы трагического и эстетизма (под сильным
влиянием философии Кьеркегора), проблема кризиса буржуаз-
ного общества и его культуры (влияние Гегеля и Гуссерля),
кризиса всех ценностей буржуазной цивилизации, искусства как
самосознания человека, его философско-эстетического категори-
ального анализа, искусства как утопической перспективы,
а затем и как отражения мира и человека, проблемы мировоз-
зрения, объективного и субъективного, формы и содержания,
метода, реализма, историзма и т. д. Однако большую часть
этих проблем Лукач рассматривает еще абстрактно-гуманисти-
чески, с идеалистических позиций. Даже в «Истории и классо-
вом сознании» (1923) он стоит еще на идеалистических пози-
циях: отрицание диалектики природы, абстрактно-идеалистиче-
ская концепция практики (полемика Лукача против Энгельса),
абсолютизация категории тотальности («Господство категории
тотальности есть носитель революционных принципов в науке»),
тождество субъекта и объекта в истории как кульминационный
пункт развития классового сознания пролетариата, ошибочное
понимание категории отчуждения и отождествление ее с катего-
рией опредмечивания и т. д.
От своих заблуждений и ошибок Лукач освобождался мед-
ленно и постепенно. Так, в «Теории романа» еще давал себя
знать утопический характер его понимания действительности.
И, как признается сам Лукач, только Октябрьская революция
раскрыла ему действительные перспективы будущего. Основа-
тельное знакомство с Лениным как теоретиком у Лукача сос-
тоялось лишь в венской эмиграции, где он впервые стал серьез-
но изучать труды вождя революции. Только после этого Лукач
окончательно переходит на позиции ленинизма.
В работах, написанных после 1930 года, Лукач предстает
перед нами уже зрелым марксистом-ленинцем. Исходя из тру-
дов Маркса, Энгельса, Ленина, Лукач в своей книге «Литера-
турные теории XIX века и марксизм» формулирует эстетические
принципы на базе социально-экономического и политического
анализа эволюции буржуазного общества, его идеологии и куль-
туры.
Великолепный пример конкретно-исторического анализа мы
находим в работе Лукача: «Маркс и Энгельс в полемике с Лас-
салем по поводу „Зикингена"»1. Вопросы реализма Лукач связы-
вает здесь самым тесным образом с вопросами экономического,
1 См.: Лукач Г. Литературные теории XIX века и марксизм. М., 1938,
с. 151—201.
518
политического и социально-культурного развития буржуазного
общества Германии того времени. В этой работе благодаря за-
мечательному конкретно-историческому анализу классовый под-
ход к оценке исторических событий соединяется с реалистиче-
ским методом их отражения и категориальной системой марк-
систско-ленинской эстетики. В этом исследовании он отвергает
левый революционаризм и правый оппортунизм, занимая единст-
венно правильную позицию, соответствующую учению Маркса,
Энгельса и Ленина о социалистической революции.
Дальнейшее развитие и конкретизацию проблемы реализма
получили в книге Лукача «К истории реализма»1, в которой он
выступил с резкой критикой вульгарно-социологических теорий,
стиравших различия между подлинной классикой и натуралисти-
ческим эпигонством, а также реакционных тенденций новейшей
буржуазной литературы и попыток фашиствующих идеологов
фальсифицировать историю литературы.
Уже в статье о Гёте Лукач защищает прогрессивных пред-
ставителей эпохи Просвещения от нападок, искажений и фаль-
сификаций буржуазной историографии, эстетики и литературо-
ведения.
Лукач очень высоко оценивал творческие способности Гёте
как художника-реалиста и призывал учиться у него решать ряд
идейно-художественных задач, которые остаются актуальными
и в наше время. «Высокая творческая культура Гёте покоится
на его обычном, действительном понимании жизни. Изображе-
ние может быть таким нежным и мягким, таким пластическим и
ясным только потому, что понимание человека и взаимоотноше-
ний людей друг с другом в самой жизни отличается у Гёте глу-
боко продуманной, действительной культурой чувства... Мастерст-
во Гёте — в глубоком охвате самых существенных особенностей
людей, в выработке типических общих и индивидуально раз-
личных черт отдельных персонажей, в продуманной системати-
зации родства, контрастов и различных оттенков их взаимоот-
ношения, в способности претворить все эти черты отдельных
людей в живое, характерное действие»2.
Лукач тесно связывает художественное творчество с соци-
альной действительностью и с тем, как относится к этой дейст-
вительности сам художник. Он раскрывает в этой связи бес-
перспективность декадентской литературы, ее беспомощность в
осмыслении и освоении проблем человека, общества и эпохи.
«Кризис всякого социального строя, — пишет он, — всегда со-
провождается тяжелым кризисом мировоззрения — вспомним хо-
тя бы закат Рима или распад феодального общества. Именно
в своем распаде экономические категории показывают, в какой
мере они действительно являются «формами бытия, условиями
1 См.: Л у к а ч Г. К истории реализма. М., 1939.
2 Там же, с. 38—39.
519
существования»: когда поколеблена почва, на которой строится
материальная общественная жизнь широких масс, неизбежно
возникает мировоззрение, проникнутое настроением беспочвен-
ности и отчаяния, пессимизма и мистицизма»1. Свидетельст-
вом этому является творчество многих буржуазных писателей,
художников, деятелей культуры. Одновременно формируется тип
писателей и художников, противостоящих всеобщему декадан-
су, кризису и разложению, пытающихся в своем творчестве
преодолеть этот кризис или указать какие-то выходы из него.
Особое внимание Лукач уделяет творчеству Бальзака, ана-
лиз произведений которого позволил ему решить ряд серьезных
эстетических проблем: тип художника, соотношение метода и
мировоззрения, творчества и революции и т. д.
Лукач сопоставляет содержание романов Бальзака с поли-
тико-экономическими сочинениями Маркса и Энгельса, приводя
слова Маркса о том, что величие писателя основывается на
«глубоком понимании реальных отношений». Реализм Бальзака
вскрывает как специфические черты классов и классовой борь-
бы, так и единство диалектики классовой борьбы. Основа реа-
лизма Бальзака, подчеркивает Лукач, это «постоянное раскры-
тие общественного бытия как основы всякого общественного
сознания»2.
Насколько глубоко Лукач овладел ленинской теорией отра-
жения свидетельствует его работа «Толстой и развитие реализ-
ма», где он, основываясь на статьях В. И. Ленина о Толстом,
раскрывает значение великого русского писателя для мировой
литературы и культуры. Конкретно-исторический анализ позво-
ляет Лукачу установить как родство реализма Толстого с реа-
лизмом прошлых эпох, так и своеобразие художественного та-
ланта писателя, его художественные достижения и открытия.
Специфику художественного метода Толстого Лукач связывает
с отношением писателя к основному вопросу русской буржуаз-
ной революции — крестьянскому вопросу и его отражению в
жизни господствующих классов. Сцла толстовского реализма,
показывает Лукач, состояла также в том, что единство челове-
ческих судеб и многообразного мира определялось общественно-
историческим фоном, связью человеческих характеров с разви-
тием общества. Исключительная конкретность изображения на
фоне широкого исторического действия — важнейшая особен-
ность реализма Толстого. Столь же важен для специфики его
реализма и метод предельных возможностей — развитие чело-
века через преодоление постоянно возникающих противоречий.
Чрезвычайная подвижность и гибкость в развитии сюжета и ха-
рактеристике персонажей — существенный момент реализма
1 Л у к а ч Г. К истории реализма, с. 114.
2 Там же, с, 197.
520
Толстого. Лукач отмечает и превосходный психологический ана-
лиз Толстого, которым он владел с беспредельной свободой.
Произведения Горького Лукач характеризует как «Челове-
ческую комедию» предреволюционной России, охватывающую
эпоху созревания предреволюционного кризиса, эпоху непосред-
ственной подготовки Октябрьской социалистической революции.
Горький отображает диалектику классовой борьбы и личных
судеб, процесс разложения старых жизненных форм и сфер че-
ловеческой деятельности, внутреннее и внешнее разложение
человеческой личности. Горький, полагает Лукач, единственный
писатель своей эпохи, изобразивший фетишизацию человеческих
отношений при капитализме, не поддаваясь ее влиянию и созна-
тельно раскрывая ее сущность.
Лукач никогда не писал «академических» произведений, на-
против, каждое из них создавалось в силу тех или иных социаль-
ных потребностей, в силу того, что надо было дать ответ на те
или иные острые и актуальные теоретические и практические
вопросы. Достаточно напомнить только об одном из этих вопро-
сов— проблеме реализма. Сколько было исписано бумаги,
сколько было сказано пустых и выспренних слов, сколько бы-
ло выдвинуто обвинений в адрес реализма, реалистического ис-
кусства, реалистической эстетики и вообще в адрес марксистско-
ленинской философии и эстетики, которые, как известно, после-
довательно и решительно защищали реалистическое искусство и
теорию реализма от самых разных нападок, искажений и извра-
щений. Как свидетельствует история литературы и искусства,
дискуссии о реализме не прекращались никогда: они то затиха-
ли, то разгорались вновь.
Одной из самых острых и продолжительных дискуссий о реар
лизме была дискуссия тридцатых годов, получившая междуна-
родный характер и резонанс. Начало этим дискуссиям положи-
ли статьи Д. Лукача: «„Величие и падение" экспрессионизма»1
(1934) и «Рассказывать или описывать? К дискуссии о натура-
лизме и формализме»2 (1936) и ряд других его статей. Здесь не
место пересказывать ход этих дискуссий. Важно лишь отметить,
что позиция Лукача оказалась более правильной, чем позиция
его оппонентов. Его анализ показывал, что вместе с разложе-
нием и деградацией буржуазного общества неизбежно разла-
гается и деградирует и его культура. Лукач убедительно демон-
стрировал это на примере разложения классического буржуаз-
ного романа: распад содержания с неизбежностью приводил к
распаду техники романа.
У Лукача было немало оппонентов, которые обвиняли его
в отрыве от действительности, в догматизме, в утопичности, ме-
тафизичности, отказе от классовой борьбы, непонимании ново-
1 Lukacs G. Probleme des Realismus. Berlin, 1955, S. 146—183.
2 Ibid., S. 103—145.
521
го, узости взглядов и т. д. и т. п. Приведем в связи с этим лишь
некоторые высказывания такого выдающегося деятеля культуры
XX века, как Бертольт Брехт: «Я иной раз удивлялся, почему
некоторые статьи Георга Лукача, хотя они содержат так много
достойного изучения, все же чем-то не удовлетворяют... нельзя
избавиться от впечатления, что он несколько далек от действи-
тельности. Он исследует падение буржуазного романа с той вы«
соты, которой тот достиг, когда буржуазия была еще прогрес-
сивной... Налицо-де также распад техники романа... техника
обретает нечто своеобразно техническое, если угодно — само-
цельное. Даже в реалистическую конструкцию по классическо-
му образцу пролезает что-то формалистическое... Можно согла-
ситься с Лукачем во всех этих наблюдениях и подписаться под
его протестом. Но вот мы доходим до позитивной, к<}нструктив-
ной, постулирующей части концепции Лукача. Одним-единст-
венным движением руки он смахивает со стола «нечеловеческую»
технику. Он возвращается к отцам, заклинает испорченных от-
прысков равняться на них. Писатели обнаруживают обесчелове-
ченного человека? Его внутренняя жизнь опустошена? Его в бе-
шеном темпе гонят через жизнь? Его логические способности
ослабели, он не понимает, что явления уже не связаны так, как
они были связаны прежде? Ну что ж, значит, писатели должны
держаться примера старых мастеров, создавать богатую душев-
ную жизнь, сдерживать темп событий медленным их описанием,
насильственно при помощи своего искусства превращать снова
отдельного человека в центр событий, и т. д. и т. п. Когда же
дело доходит до практического руководства к действию, тогда
начинается бормотание. То, что предложения эти непригодны, —
это очевидно. И никто из тех, кто считает основную концепцию
Лукача правильной, не должен удивляться этому. Стало быть,
выхода нет? Есть один выход. Новый поднимающийся класс
указывает его. Это не путь назад. Следует опираться не на доб-
рое старое, а на скверное новое. Речь идет не об отказе от тех-
ники, а о совершенствовании техники. Человек становится снова
человеком не в том случае, если он отрывается от массы, а в
том, если он сливается с массой. Масса освобождается от обес-
человеченности, и благодаря этому человек снова становится
человеком (не таким, каким он был прежде). Этим путем должна
идти литература в наш век, когда массы начинают привлекать
к себе все, что есть ценного и человеческого, когда массы моби-
лизуют этих людей против обесчеловечивания, к которому ведет
капитализм в его фашистской фазе»1.
Мы привели этот большой отрывок потому, что возражения
Брехта Лукачу были, пожалуй, самыми серьезными и самыми
умеренными. В чем-то был прав Лукач — в отстаивании и защи-
те реализма, а в чем-то был прав Брехт — в творческом разви-
1 Брехт Б. О литературе. М., 1977, с, 158—160.
522
тии искусства социалистического реализма и в видении его
перспектив.
Брехт ставил в упрек теории реализма то, что она основыва-
ется «исключительно на форме немногих буржуазных романов
прошлого века (более новые романы привлекаются лишь по-
стольку, поскольку им присуща эта форма), но и только на оп-
ределенной форме романа»1. Затем, он «обижался» на теорию
реализма за то, что она трактовала его творчество «очень одно-
сторонне», за то, что он не мог получить от теоретиков «ни ма-
лейшего совета», за то, что «примитивен словарь» эстетики реа-
лизма2.
Нетрудно понять «обиды» Брехта, если вспомнить обиды
современных писателей и художников на современную литера-
турно-художественную критику. Но дело не только, а, может
быть, и не столько в этом, а в том, что Брехт ревностно отстаи-
вал творчество таких писателей, как Джойс, Дос Пассос, Дёб-
лин и других, полагая, что они дают современному человеку
гораздо больше, чем Бальзак, Толстой и другие. При этом Брехт
подчеркивал особое значение такого открытия Джойса, как
внутренний монолог, который, по его мнению, вполне может
передавать действительность как совокупность мыслей и ассо-
циаций, и который вовсе не относится к формальным приемам.
Брехт призывал учиться не столько у классиков, сколько у со-
временников.
Наследие классиков казалось Брехту во многом, особенно
в области техники, устаревшим: «Для описания процессов
в которые включен человек периода позднего капитализма, фор-
мы руссоистского романа воспитания или технические средства,
которыми Стендаль и Бальзак описывали карьеру молодого
буржуа, уже давно устарели. Техника Джойса и Дёблина —
это не просто продукты распада... Книги Джойса и Дёблина по-
казывают, притом в большей степени, всемирно-историческое
противоречие, в котором находятся средства производства и
производственные отношения»3. В примечании Брехт перечисляет
виды этой новой техники: «Внутренний монолог (Джойс), соче-
тание разных стилей (Джойс), диссоциация элементов (Дёблин,
Дос Пассос), ассоциативная манера (Джойс, Дёблин), хрони-
кальный монтаж (Дос Пассос), очуждение (Кафка)»4.
Видимо, нельзя отрицать, что эта «ценная, высокоразвитая
техника» должна быть использована в разумной мере самыми
современными писателями. Однако Лукач говорил и писал о
другом. Кризис капиталистического общества неизбежно захва-
тывал сферу культуры и, естественно, оказывал очень серьез-
1 Там же, с. 160.
2 Там же, с. 161.
3 Там же, с. 208.
4 Там же.
523
ное воздействие на умонастроение писателей, художников, ком-
позиторов — на всех деятелей культуры, на их мировоззрение и,
безусловно, на их «технику», ибо без «техники» нет и не может
быть художника. «Во всем этом, в «монтаже», во «внутреннем
монологе», в критическом отношении «неаристотелевской драма-
тургии» к сопереживанию растворились великое гармоническое
буржуазное повествовательное искусство и драматургия, худо-
жественные формы перемешались. В театр ворвался фильм,
в роман—репортаж. Читателю и зрителю не представлялось боль-
ше то удобное место в центре событий, тот герой, с которым он
мог, сопереживая ему, отождествлять себя»1. Брехт призывал
принять эту новую технику, считая, что она способна обогатить
мастерство писателей реалистов. Лукач же и его сторонники
видели здесь свидетельство распада буржуазного художествен-
но-эстетического сознания, полагая, что подобная «техника» не
столько «обогащает», сколько, напротив, обедняет как писате-
ля, так и читателя, что учиться следует не у декадентов, а у пи-
сателей-реалистов, писателей-классиков, художественные откры-
тия которых, как в области содержания, так и в области формы,
способны оказывать серьезное воздействие на развитие совре-
менной литературы и искусства, да и всей культуры в целом.
С этой точки зрения очень интересна переписка Лукача с
Анной Зегерс (1938—1939)2, в которой дискутировались принци-
пиальные вопросы реализма как творческого метода. Анна Зе-
герс обращала внимание Лукача на его слишком жесткие,
а порою и слишком резкие формулировки, оценки, сравнения, ко-
торые представлялись ей узкими и односторонними. Она стре-
милась убедить Лукача в необходимости более широкого и сов-
ременного понимания, позволяющего относить к художникам-
реалистам и тех писателей, которые не укладывались в рамки
классической реалистической литературы (например, возражая
против резкого противопоставления Ромена Роллана и Томаса
Манна как настоящих писателей Дос Пассосу как авангардисту)
и т. д. Лукач отвечал ей, обосновывая свои взгляды и свои по-
зиции по всем принципиальным вопросам, связанным с реа-
лизмом.
Конечно, у Лукача встречаются формулировки, с которыми
можно спорить, которые следовало бы уточнять, расширять,
смягчать и т. д. Но в главном и основном, в том, что касается
существа реализма — он был совершенно прав: Лукач рассмат-
ривал реализм как такой художественный метод, который поз-
воляет самым глубоким и совершенным образом отражать объ-
ективную реальность во всей ее полноте и противоречивости,
в частности, в тесной связи с исторической действительностью,
с историческими событиями, отражающимися в творчестве худож-
1 Б р е х т Б. О литературе, с. 178.
2 См.: L u к а с s G. Probleme des Realismus, S. 240—270.
524
ника, или писателя. В этих вопросах он требовал полной ясно-
сти неопределенности, так как вопросы творческого метода тесно
связывал с вопросами мировоззрения. И в своем требовании
такой ясности Лукач был всегда принципиален и бескомпро-
миссен .\
Что касается обвинений Лукача в том, что он якобы требо-
вал от реалистического метода абсолютно зеркального отра-
жения действительности — это неверно. Как справедливо пишет
Т. Л. Мотылева, на протяжении многих лет встречавшаяся с
Лукачем и сотрудничавшая с ним: «Он (вопреки распространен-
ному мнению) вовсе не обязательно требовал от реалистическо-
го искусства полного жизнеподобия и «тотальности объектов».
Примечательно, что еще в статье об «Утраченных иллюзиях»
(в середине 30-х годов) он писал: «Фантастика Бальзака — это
решительное доведение до логического конца наблюденных авто-
ром общественных тенденций, выход за узкие пределы повсе-
дневности и поверхностного правдоподобия». Иначе говоря, фан-
тастика в иных случаях — законный и даже необходимый ком-
понент реализма! В поздних интервью Лукача... уже нет того
жесткого ригоризма, которым отличались многие его давние ха-
рактеристики писателей и книг. Он высоко ценил, например,
некоторые выдающиеся книги новейшей западной прозы, совсем
непохожие на классические «модели», — например, романы
Л. Арагона, Т. Вулфа, У. Стайрона. В нем жила, и осталась до
конца, резкая и вполне оправданная неприязнь к литературному
снобизму, элитарности, к эксперименту, возведенному в само-
цель, короче говоря — к проявлениям дегуманизации искусства.
Но он признавал выдающийся талант М. Пруста, считал, что
Ф. Кафка заслуживает «быть принятым всерьез». Иначе говоря,
он не отождествлял больших писателей, затронутых влиянием
модернизма, с теми философскими «разрушителями разума»,
-с которыми он вел полемику»1.
Одной из лучших работ Лукача в этой области было, несом-
ненно, исследование об историческом романе2, в котором он
разрабатывает марксистскую концепцию романа как самого уни-
версального художественного изучения жизни во всей ее проти-
воречивости и многообразии и развивает все основные проблемы
и категории реализма. Различные формы исторического романа
Лукач связывал с самораскрытием конкретно-исторических форм
реальной действительности. Лукач тесно связывает развитие
исторических форм романа с историческим развитием буржуаз-
ного общества. При этом история понимается им не просто как
то, что творится современниками, но как то, что предшествует
современной истории, то есть как предыстория. Он совершенно
1 L u к а с s G. A humanismus es a barbârsâg harca (1943). Lukâcs archîvum
es könyvtar, p. 224.
2 L u к a с s G. Der historische Roman. Berlin, 1955.
525
по-новому рассматривает традиционные категории, реализма, их
взаимосвязь друг с другом и с объективной реальностью. Для
этого Лукач вводит в действие новые методы критического ана-
лиза: литературно-эстетический анализ он связывает с/полити-
ко-экономическим анализом. В связи с этим сама лукачевская
критика обретает фундаментальность, глубину и конкретность.
Т. Л. Мотылева пишет об «Историческом романе» Лукача:
«В этой работе проявились те качества трудов Лукача, которые
делали их привлекательными для многих современников — мас-
штабность мышления, широта интернационального кругозора,
глубокий историзм анализа. Тут было, вместе с тем, и нечто,
новое для Лукача: в качестве одного из критериев, оценки худо-
жественных произведений у него выдвинулась наряду с катего-
рией реализма и в тесной связи с ней категория народности..,.
Книга Лукача об историческом романе, на мой взгляд, одна иа
тех его историко-литературных работ, которые в наибольшей
степени выдержали проверку временем»1.
Большой заслугой Лукача следует признать то, что разра-
ботку эстетических проблем он вел на широком фоне исследо-
вания социально-экономических, политических, этических, науч-
ных и религиозных проблем. Это как раз то, чего недостает
многим современным исследованиям по эстетике, литературове-
дению, искусствознанию, литературно-художественной критике..
А без основательной политико-экономической, социально-фило-
софской, нравственно-правовой оснащенности эстетические ис-
следования становятся худосочными, формальными, схоластиче-
скими, оторванными от практически-теоретических интересов,,
в разрешении которых заинтересовано современное общество.
Блестящим примером такого комплексного исследования
фундаментальных проблем философии и культуры или филосо-
фии культуры является работа Лукача «Молодой Гегель»2,
в которой он мастерски применяет ленинское учение о социали-
стической революции в конкретно-историческом анализе узло-
вых моментов истории. Лукач показывает, что философия Геге-
ля— отражение трагического движения человеческой истории,,
ради достижения цели уничтожающей на своем пути страны и
народы, миллионы и миллионы людей. Жестокой бесстрастно-
сти идеалистической диалектики истории Гегеля Лукач противо-
поставляет материалистическое понимание истории, диалектку
истории Маркса, Энгельса, Ленина, которая носит подлинно де-
мократический характер, ибо вовлекает в борьбу за коммуни-
стические идеалы самые широкие народные массы как творцов-
истории.
Борьба Лукача против всякого рода модернизма и авангар-
дизма была по существу борьбой против мифологии XX века.
1 Lukâcs G. A humanismus es a barbârsâg harca (1943), p. 226.
2 См.: Lukâcs G. Der junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen*
Gesellschaft. Berlin, 1954.
526
Однако Лукач чувствовал необходимость подвергнуть глубокой
и основательной критике всю идеологию империализма, восстав-
шую прЬтив разума, идеологию «разрушения разума», питав-
шую своими .идеями литературу и искусство декаданса. Не ме-
нее важней причиной создания «Разрушения разума» была и
опасность фашизма: надо было вскрыть социальные, идейные,
духовные корни фашизма и его человеконенавистнической идео-
логии. Лукач создает свою блестящую работу по критике бур-
жуазной иррационалистической философии «Разрушение разу-
ма. Путь иррационализма от Шеллинга к Гитлеру»1, в которой
дает всесторонний анализ и всестороннюю критику буржуазной
философии и идеологии империалистического периода. Эта глу-
боко критическая работа пронизана социальным и историческим
оптимизмом, верой в победу человеческого разума, в победу
гуманизма над фашистским варварством, верой в победу социа-
листического строя над строем капиталистическим. Лукач верил
в победу народов, восставших против «разрушителей разума»,
в «восстание масс за разум»2, в победу человечества над фашиз-
мом.
II
Исследуя возникновение эстетического отражения, которое
он считает одним из важнейших источников искусства и чело-
веческого познания вообще, Лукач замечает, что великие мысли-
тели прошлого безоговорочно признавали стихийный факт под-
ражания и отражения фундаментом жизни, мышления и худо-
жественной деятельности. «Академическое табу на учение об от-
ражении было наложено лишь тогда, когда философский идеа-
лизм новейшего времени был оттеснен на оборонительные пози-
ции материализмом и был вынужден — чтобы спасти приоритет
сознания, признанного производным от бытия, — отбросить тео-
рию отражения вообще» (т. 2, с. 6 наст. изд.).
Лукач показывает, что философский идеализм нового и но-
вейшего времени также полностью отказывается от теории от-
ражения на основании неправомерного и бездоказательного
отождествления ее с механической фотокопией действительно-
сти, хотя, как известно, теория механического копирования соз-
нанием объективной реальности была провозглашена старым
метафизическим и механистическим материализмом. Что каса-
ется диалектического материализма, то она не имеет к нему ни-
какого отношения. Наоборот, именно диалектическому материа-
лизму принадлежит заслуга в том, что он показал исключитель-
1 L u к а с s G. Die Zerstörung der Vernunft. Der Weg des Irrationalismus
von Schelling zu Hitler. Berlin, 1955.
2 Ibid., S. 674.
527
но сложный, диалектический характер отражения. «Познание
есть отражение человеком природы, — писал Ленин. --/Но это
не простое, не непосредственное, не цельное отражение!, а про-
цесс ряда абстракций, формирования, образования понятий, за-
конов etc., каковые понятия, законы etc. (мышление, наука = «ло-
гическая идея») и охватывают условно, приблизительно универ-
сальную закономерность вечно движущейся и развивающейся
природы... Человек не может охватить = отразить = отобразить
природы всей, полностью, ее «непосредственной цельности», он
может лишь вечно приближаться к этому, создавая абстракции,
понятия, законы, научную картину мира и т. д., и т. п.»1
С самого начала Лукач стремится раскрыть генезис эстети-
ческого, созревающие в недрах магии общие принципы «магии
подражания» и художественного отражения дейстрительности.
Отмечая общий принцип, лежащий в основе искусства и магив
(религии), — их антропоморфный характер, он указывает и на
существенные различия между ними: «В природе эстетическо-
го— понимать изображение действительности как ее отражение,,
тогда как магия и религия приписывают системе своих отраже-
ний действительное существование и принуждают верить в это.
Здесь кроется противоположность между ними, в ходе дальней-
шего исторического развития выступающая все более отчетли-
во: эстетическое отражение конституируется как замкнутая в
себе система (художественное произведение), а любое отраже-
ние магического или религиозного рода соотносится с трансцен-
дентной действительностью» (т. 2, с. 31). Самым общим отличи-
тельным признаком эстетического отражения Лукач считает его-
мирской, земной характер и противоположность магическим илк
религиозным образам, ориентированным на потусторонность, на-
тр ансцендентную действительность.
Лукач признает несостоятельной концепцию «врожденности»
эстетического отношения к действительности. Эстетическое —
продукт достаточно развитых социальных отношений. Такова,
например,* коллизия — фундаментальная категория отражения
действительности в литературе, выделяющая ее из первоначаль-
ного единства с танцем и пением, такова категория типического,
несущая в себе зачатки различения магии и искусства. Тенден-
ция к подобному их разъединению проявляется тогда, когда об-
щественное развитие создает коллизии между индивидом и кол-
лективом, а они становятся типическими лишь с разложением
первобытного коммунизма и возникновением первых классовых
различий. Так же спонтанно возникают и формируются и другие
эстетические категории. «Итак, мы видим, — пишет Лукач,—
как из миметической целенаправленности периода магизма,
в своей первоначальной устремленности не имеющей еще ничего
1 Л е н и н В. И. Поли, собр: C04i, т. 29, с; 1631—164-.
528
общего с искусством... возникают важнейшие фундаментальные*
категории эстетического... Художественное воспроизведение мира*
берет начало в магическом мимесисе, развертывается в его рам-
ках и лшпь на более высокой ступени развития отделяется от
него» (т.\2, с. 70—71). При этом основополагающей деятель-
ностью для эстетического отражения действительности является
деятельность, осуществляющая истинное отражение объектив-
ной действительности, внутреннего мира человека и чувственных
способов его проявления и в своей неотделимости от достовер-
ности отражения характеризуемая максимальной эвокатив-
ностью, максимальным воздействием на человека.
Вопрос о соотношении магии, науки, религии и искусства
достаточно труден и сложен. Заслуга наиболее четкого опреде-
ления как их сущности, так и их взаимоотношений принадле-
жит Фрэзеру, который считал, что «магия является искаженной-
системой природных законов и ложным руководящим принци-
пом поведения; это одновременно и ложная наука, и бесплодное
искусство»1. Он доказывает, что магия «близкая родственница^
науки». Магия неправильно применяет один из двух фундамен-
тальных законов мышления — ассоциации идей по сходству и
ассоциации идей по смежности в пространстве и во времени.
«Гомеопатическую, или имитативную, магию вызывает к жизни
ошибочное ассоциирование идей сходных, а магию контагиоз-
ную— ошибочное ассоциирование идей смежных. Сами по себе
эти принципы ассоциации безупречны и абсолютно необходимы
для функционирования человеческого интеллекта. Их правильное
применение дает науку; их неправильное применение дает неза-
коннорожденную сестру науки — магию... Истинные принципы,
входят в состав прикладных наук, которые мы называем «искус-
ствами»; магия же состоит из ложных принципов»2. Если под
религией понимать умилостивление и умиротворение сил, стоя-
щих выше человека, сил, которые якобы направляют и контро-
лируют ход природных явлений человеческой жизни, если пред-
положить, что миром управляют сознательные существа, кото-
рых можно отвратить от их намерения путем убеждения, то та-
кая религия, полагает Фрэзер, «фундаментально противополож-
на магии и науке»3. Точно так же прямо противоречит принци-
пам магии и науки предположение об эластичности и изменяе-
мости природы. Главная задача Лукача состояла в том, чтобы,
опираясь на исследования Фрэзера и других ученых, выделить*
искусство и эстетическое отражение из мира магии, из магиче-
ского мимесиса, что он последовательно осуществил в своей ра-
боте, и именно с диалектико-материалистических позиций.
1 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М. 1980, с. 21,
2 Там же, с. 62.
3 Там же, с. 64.
34-805 529*
Серьезное теоретическое, идеологическое и практическое зна-
чение имеют проблемы, рассматриваемые в главе шестой, где
.исследуются пути обращения искусства к миру, его собственной
миросозидающей деятельности. /
Как известно, в XX столетии получили широкое /хождение
взгляды, согласно которым «пещерная живопись» является выс-
шим достижением изобразительного искусства человечества, по-
этому дальнейшее развитие современной живописи должно яко-
<бы быть возвратом к ее истокам, в частности, к пещерной живо-
писи.
Лукач убедительно доказывает, что сущность этого своеоб-
разного искусства состоит в реалистическом способе отражения,
верном объективной действительности, правильно выделяющем
существенное, но остающемся еще «внемирным». «Но с эстети-
ческой точки зрения реализм и «внемирность» — эТо взаимоис-
ключающие противоположности: всякое отражение действитель-
ности, которое... направлено на воспроизведение интенсивной
целостности, целокупности существенных, чувственно проявляю-
щихся определений предметов, создает — намеренно или нена-
меренно— особый мир. Парадоксальность достижений пещерной
живописи палеолита в том, что изображенные животные, если
их рассматривать как отдельные объекты, как будто бы облада-
ют ... внутренней интенцией к миросозиданию, но вместе с тем
изображаются они совершенно изолированно, в своем абстракт-
ном для-себя-бытии, как если бы их существование не было ни-
как связано с непосредственно окружающим их пространст-
вом, не говоря уже о естественной окружающей среде. Таким
образом, с художественной точки зрения они находятся вне вся-
кого мира...» (т. 2, с. 101—102).
Лукач отмечает характерную для пещерной живописи острую
наблюдательность, изощренность при восприятии отдельного яв-
ления, предполагающего наличие непосредственно-чувственного
понятия, совпадение индивидуального и типического. Однако
превращение этих качеств в подлинно художественные происхо-
дит лишь в результате разделения труда, «возникновения про-
фессиональных художников». Здесь же, согласно Лукачу, под-
ражание действительности имеет чисто магический смысл —
оказание благоприятного для общества воздействия на силы,
стоящие «за ней». Именно это и создает, считает он, кажущуюся
нам столь парадоксальной высокую реалистичность отдельных
изображений при полном пренебрежении к каким бы то ни было
отношениям и связям их с окружающим миром и даже прост-
ранством. Разумеется, этот эстетический парадокс обусловлен со-
циально-исторически. «Здесь речь идет не о нормальном периоде
детства в развитии человечества, о чем Маркс говорит приме-
нительно к Гомеру, а о преждевременном, изолированном «из-
вержении» способностей к реалистическому подражанию и воз-
можностей человека, которые не получают продолжения, допол-
530
нения, развертывания в ходе исторического развития... Одна.:
стороар мимесиса, созидание мира, по перечисленным: выше при-
чинам здесь не представлена, а другая — реалистическое воссоз-
дание предметов — представлена в совершенстве» (т. 2, с. 108).
Из сравнения этого древнейшего искусства с искусством ан-
тичной Греции Лукач выводит другой источник происхождения
эстетического, играющий важную роль в ходе его дальнейшего
развития: «преодоление границ, поставленных природой, доми-
нирование взаимосвязей, рожденных социальным объединением
людей, существование которого основано на отношениях между
ними и на все более многообразном, также социально обуслов-
ленном «обмене веществ» с природой» (т. 2, с. 109). Неподра-
жаемость гомеровского эпоса он объясняет тем, что в это вре-
мя начинается отступление природных границ, но вместе с тем-
развивающаяся общественная жизнь еще предстает как некая
новая «природа», создаваемая человеком для человека. Этот ис-
торический процесс обогащения «обмена веществ» между обще-
ством и природой определяет становление собственного мира
художественного произведения, богатство и всеобъемлющий ха-
рактер его связей с окружающим миром.
В трудовой деятельности человека возникает первое действи-
тельное отношение между субъектом и объектом. Человек ста-
новится самим собою лишь тогда, когда он, отражая объектив-
ный мир, создает одновременно свой собственный мир и осваи-
вает его. Этот мир в процессе отражения поднимает все-
взаимосвязи до уровня необходимого в самом себе мира, худо-
жественного мира, в котором содержания и определения объек-
тивной действительности эвоцируются миметически, пробужда-
ются к эстетическому существованию.
Эстетическое существование художественного произведения
как самостоятельного мира имеет чисто антропоморфный харак-
тер: оно существует независимо от человека, являясь в то же-
время продуктом его деятельности, следовательно, всегда так
или иначе связано с человеком, ориентировано на человека
и взаимодействует с ним. Собственный мир искусства, как глу-
бочайшее раскрытие наиболее существенного в субъекте, весьма
точно выражает эту основополагающую, плодотворную и движу-
щую противоречивость эстетического. Но человек может познать
самого себя лишь тогда, когда он познает окружающий мир,
в котором он живет и действует: человеческое самопознание-
теснейшим образом связано с познанием объективного мира,,
общества и других людей. Искусство и повседневная жизнь мо-
гут сближаться только на основе углубления и упрочения этого-
познания.
Лукач подвергает резкой критике различного рода буржуаз-
ные теории, извращающие действительные связи между чело-
веком и обществом (теория вчувствования, ницшеанская теория
дионисийского духа, основанная во многом на шопенгауэровско-
34*
53 К
шагнеровском учении, трансцендентно-мистические теории и
т. д.). Судьба человека, подчеркивает Лукач, неразрывно свя-
зана с судьбой человечества. Человек все больше осознает и ощу-
щает себя не только членом племени, рода, нации, класса, но
и представителем великого сообщества людей — человечества.
Несмотря на усиление противодействия прогрессивной мысли
(провозглашение онтологического одиночества индивида, бес-
смысленности хода истории, раздувание национального чувства,
искажение самого понятия человечества и т. д.), наступил, пи-
шет Лукач, исторический момент великого поворота, когда че-
ловек преобразует себя на уровне более высокой и более ши-
рокой субъективности, подтверждая слова Маркса о том, что
«освобождение каждого отдельного индивида совершается в той
же самой мере, в какой история полностью превратится во все-
мирную историю». При этом осознание человеком его принад-
лежности к человеческому роду не только не сводит на нет его
общественные связи с классом, нацией, напротив, оно придает
этим связям более богатое и более глубокое содержание. Самым
наглядным подтверждением этому является осознание пролета-
риатом своей миссии — уничтожения эксплуатации и угнетения
в мировом масштабе. Искусство играет в этой борьбе свою роль,
а эстетическое выступает как самосознание человечества на оп-
ределенной исторической ступени его развития.
Рассматривая путь субъекта к эстетическому отражению,
Лукач исследует эстетическую субъективность, отчуждение и воз-
вращение в субъект, движение сознания частного индивида
к самосознанию человеческого рода.
Показывая несостоятельность понимания субъективности раз-
личными идеалистическими школами, Лукач дает диалектико-
материалистическое истолкование этой категории и подчеркива-
ет ее значение во всех видах человеческой жизнедеятельности.
Развитая и правильно понятая субъективность ведет к осозна-
нию ответственности, а «в ответственности утверждается конти-
нуальность личности, ее самосохранение в смене времен»
(т. 2, с. 174). И напротив, извращенная субъективность приво-
дит к разрушению личности. В искусстве субъективность играет
особо важную роль, поскольку оно призвано создавать мир, со-
размерный и отдельному человеку, и человечеству в целом.
Вслед за Гегелем Лукач настаивает на диалектике субъек-
тивности и объективности, формирующейся в трудовом процес-
се. Реальное значение целей, которые ставит субъект, полностью
зависит от того, насколько правильно отражается сознанием
лредмет и орудие труда. Эстетическая потребность обусловлена
стремлением приблизиться к пониманию мира во всей его реаль-
ности и объективности через его личное переживание.
Эстетическое отражение отличает от научного превращение
«предмета сознания в предмет самосознания», ибо произведение
искусства во многом определяется образом мыслей художника.
332
Художник, как показывает Лукач, не может быть «беспри-
страстным». «Партийность художника — это нередко явление
очень сложное и внутренне противоречивое, и все же, чем глуб-
же она ^пронизывает произведение, каждую из частностей обра-
за, тем ерлее имманентной его миметической предметности она
становится, тем более четко выступает установка художника
в своем воздействии на творческий процесс» (т. 2, с. 200).
Утверждение, что такое влияние установки художника якобы
субъективирует партийность художественного произведения, Лу-
кач считает предрассудком.
В эстетике первичным феноменом эстетической субъектив-
ности является мимесис. Произведения искусства непосредствен-
но отражают те взаимосвязи и качества людей, которые оказы-
вают прямое влияние на их судьбу в условиях современного им
общества. Лукач справедливо замечает, что художественное
изображение, основанное на субъективности, сохраняет струк-
туру объективной социально-исторической действительности ее
истинных внутренних пропорций. Мышление и строй чувств —
это отражение того, что реально совершается в объективной дей-
ствительности. Новое значительное содержание ведет к подлин-
ному обновлению формы и к выработке новых форм. Однако
только художественно выявленное содержание создает основу
для эстетического мимесиса, для отражения действительности, не
зависимой от сознания. А самосознание человечества выступает
источником и основой своеобразия эстетического отражения.
Вычленяя гомогенную систему опосредования, Лукач показы-
вает, что она возникает из потребности людей постичь сущест-
вующий мир как мир их радостей и печалей, как мир их дея-
тельности, созидания своей внутренней жизни и овладения внеш-
ней действительностью. И если в науке эта система связана
с объективностью, то в искусстве — с субъективностью. Целост-
ность и полнота художественного произведения содержательны,
и посредством эстетического бытия такое содержание обретает
формы, эвоцирующие данный мир; вне этих своих эвокативных
свойств подлинно художественное произведение немыслимо.
В искусстве, как и в жизни, богатство и глубина субъектив-
ности достижимы лишь через овладение внешним миром. В свя-
зи с этим Лукач показывает художественную несостоятельность
модернистских методов искусства. Только отражение объектив-
ного мира как такового и субъективного мира человека в его
объективности дает возможность переживать мир как нечто це-
лое, только при этом условии завершенность эстетического об-
раза становится носителем миропонимания с позиций человечест-
ва, носителем самосознания человеческого рода. И только в этом
случае искусство дает человеку величайшую радость пережива-
ния мира как его собственного, соизмеримого с ним мира.
533
Ill
Рассматривая дефетишизирующую функцию искусства, Лу-
кач исходит из того, что позиция, занимаемая по отношению к
фетишизму, оказывается водоразделом между прогрессивной
и реакционной художественной практикой. И несмотря на то что
искусству по самой его природе присуща дефетишизация, от то-
го направлено ли отражение на фетишизацию или дефетишиза-
цию зависит ориентация и содержание самого искусства.
Универсальный характер носит исследование фетишизации
у Маркса. За господством вещей Маркс вскрывает отношения
между людьми, доказывая, что люди способны регулировать и.
контролировать эти отношения, воздействовать на их изменение
и развитие. Поскольку искусство представляет «естественную»
среду человека в ее «естественных» связях, оно всегда отражает
только реально существующий мир и носит стихийно диалекти-
ческий и материалистический характер.
Разумеется, в искусстве, в отличие от науки, речь идет не
о том, чтобы превратить объективную диалектику действитель-
ности в субъективную диалектику понятий, суждений, умозаклю-
чений, а о том, чтобы отобразить ее по возможности верно и пол-
но, поэтому диалектика выступает здесь скорее не как метод,,
но как результат стремления к правдивому отражению действи-
тельности. В силу этого, полагает Лукач, искусство с его наив-
ной самоочевидностью способно гораздо глубже и решительней
бороться против косных, фетишизированных данностей жизни,,
чем современные ему наука и философия.
Лукач настоятельно подчеркивает дефетишизирующую функ-
цию эстетического. Отраженный искусством мир становится в
художественном произведении его собственным, завершенным
в себе «миром», дефетишизирующим внешний, окружающий че-
ловека мир, формирующим его как мир человека на определен-
ном этапе его внутреннего развития, достигающим в ходе диалек-
тического синтеза внешнего и внутреннего подлинной универ-
сальности отображения соразмерного с человеком мира.
Последовательно выступая против фетишизации искусства
и художественного творчества, Лукач подвергает резкой критике
подобного рода модернистские концепции, предлагающие соз-
давать вместо эстетической определенности — ее иллюзию.
Идеологический упадок какого-либо класса — декаданс — обыч-
но нагляднее всего проявляется в нарушении субьектно-объект-
ных отношений: в ложном субъективизме и ложном объективиз-
ме, обесчеловечивании действительности и человека.
Лукач обращает внимание на то, что подлинное развитие че-
ловеческой личности возможно лишь в неразрывной связи с ми-
ром. Если человек замыкается в себе или капитулирует перед
окружением и приспосабливается к нему, он неизбежно оказы-
вается духовно искалеченным. Человек, утверждает Лукач, воз-
534
вышается до этической субстанциальности только тогда, когда
ему удается реализовать в своей деятельности подлинное соот-
ношение внутреннего и внешнего, объективного и субъективного,
необходимости и свободы. При этом этическое и эстетическое
поведение человека находятся в сложной, противоречивой вза-
имосвязи: этика ориентирована на самое человеческую
действительность, эстетика же стремится верно отобразить зна-
чимый для человека мир. Диалектика эстетического отражения
исходит прежде всего из взаимоотношения объективности и субъ-
ективности. Их диалектический синтез, подчеркивает Лукач, воз-
никает здесь лишь тогда, когда творческий субъект способен по-
нять соотнесенность объектов с человеком или человечеством
как их собственное определение, органически вывести реакции
человека на окружающий мир из некоторой целостно действую-
щей субстанции, объемлющей и человека и его среду.
Цитируя стихотворение Гёте: «Ультиматум», Лукач подчер-
кивает всю важность поставленного им вопроса: ядром или обо-
лочкой является человек?1 Ядро человека, то есть его сущ-
ность,— важнейшее опосредующее звено между личностными
и общечеловеческими, внутренними и внешними его проявления-
ми, в то время как оболочка — это частность ич> абстрактность.
Смысл гётевского стихотворения Лукач подытоживает в выводе,
что «бытие человека как ядра полагается дефетишизирующим
воззрением на мир, и в то же время бытие человека как оболоч-
ки полагается его капитуляцией перед фетишизирующими пред-
рассудками» (т. 2, с. 403). Из этого следует, что эстетическое
отражение может постигать и воспроизводить мир человека, сво-
бодным от фетишистских предрассудков.
Особое значение Лукач придает единству внутреннего и внеш-
него, их неразрывной взаимосвязи, которая рождается, уста-
навливается и развивается только в деятельности человека. Раз-
рыв между внутренним и внешним ведет к утрате связи между
человеком и человечеством. На уровне частного единство внут-
реннего и внешнего действует как тенденция. «Чем заметнее в
соответствующем обществе выступает воздействие утверждаю-
щих себя как всеобщие существенных форм (класса, нации и
т. д.), тем яснее и эта тенденция. Рост значения индивидуаль-
ности не снимает этого соотношения, хотя благодаря этому рос-
ту оно все более усложняется. Необходимо наличие особых об-
щественных условий, чтобы индивидуальная жизнь стала устой-
чиво развиваться в направлении исключительности, чтобы связь
человека со всеобщими силами жизни оказалась затемненной
и чтобы тем самым возникла видимость, будто партикулярность
есть всеопределяющая потенция любого человеческого сущест-
вования. Так, в мышлении нового времени данная тенденция
1 Гегель, рассматривая категории внутреннего и внешнего, также ссылает-
ся на Гёте (см.: Гегель Г. В. Ф. Соч., т. I, М. — Л., 1929, с. 233).
535
проявилась как кьеркегоровское учение о неизбежном инкогнито*
человека, базирующееся на софистической полемике с приве-
денной нами концепцией Гегеля. Эстетическое значение этого-
учения, противоречащего всем объективным фактам- человечес-
кой жизни и потому объективно и философски неприемлемого,
заключается в том, что впервые предвозвещенное кьеркегоров-
ской философией социальное бытие стало затем все шире и глуб-
же превращаться в мировоззренческую основу художественной*,
практики одаренных личностей и влиятельных течений. Фетиши-
зирование человеческой среды в виде иррациональной «системы»*
бессмысленно-антигуманных сил, а равно и фетишизирование-
человеческой души в виде герметически закрытой, замкнутой в<
себе монады, проявления которой неизбежно будут неправильно
поняты другими людьми и которая со своей стороны не может
понять каких-либо проявлений других людей, — все^это обедняет
содержание и искажает форму в такой мере, что невозможным
становится даже отразить оригинал: художественно выразить,
враждебность современного капитализма человеку и полную-
бессмыслицу человеческой жизни в этих условиях. Ибо как
в объективной общественной действительности уединиться чело-
век может только в обществе, таким же образом сама конкрет-
ная невыразимость душевного состояния предполагает нормаль-
ную, хотя в данном случае и нарушенную, связь между внутрен-
ним и внешним. Это отличает, например, «Моллой» Беккета от
«Процесса» Кафки: в романе Кафки абсолютное инкогнито част-
ного человека проявляется как бунтующая и эвоцирующая бунт
ненормальность человеческого существования, следовательно, на
основе — хотя и негативно — судьбы человека как представителя
рода, в то время как герой Беккета самодовольно погружается в
фетишизированно-абсолютизированную обособленность. По-
скольку при спонтанном признании тождества внутреннего и
внешнего оно выступает как элементарная предпосылка челове-
ческой жизни и совместной жизни людей вообще, данное проти-
вопоставление вновь подтверждает гётевскую концепцию ядра и
скорлупы. Кажущаяся глубина писателей типа Беккета есть не
более как цепляние за определенные симптомы капитализма на-
ших дней, лежащие непосредственно на поверхности. А что же
это такое, если не то, что Гёте называл скорлупой?» (т. 2У
с. 405—406).
В этом отрывке по существу представлена в концентрирован-
ном виде история становления, формирования и развития бур-
жуазного философско-эстетического сознания от Кьеркегора до
Беккета и Кафки. Структура этого отчужденного сознания —
своеобразный, поверхностный и искаженный слепок, копия от-
чужденной буржуазной действительности.
536
Особое внимание Лукач уделяет катарсису как всеобщей эс-
тетической категории. Любое художественное произведение пре-
следует цель максимального воздействия на человека, воспри-
нимающего искусство, поэтому таким путем, подчеркивает он,
прогрессивные течения в эстетике пытались влиять на индиви-
дуальную и социальную жизнь человека, формируя его чувства,
настроения, взгляды, вкусы, в конечном счете мировоззрение,
выдвигая на первый план великую общественную роль искусства.
Уже античная эстетика признает значительное влияние эсте-
тических переживаний на человека. Аристотелевский катарсис
обычно связывают с трагедией, с чувствами страха и сострада-
ния. Лукач, исходя именно из аристотелевского понимания ка-
тарсиса и его роли в жизни человека и общества, признает его
универсальный характер. «Катарсис был и остается непреходя-
щим моментом общественной жизни, поэтому его отражение
должно стать не только вновь и вновь воспринимаемым мотивом
художественного воплощения, но и одной из сил, формирующих
эстетическое отображение действительности» (т. 2, с. 420). По
своему содержанию эта категория охватывает очень. широкий
круг явлений, выходящий далеко за пределы трагедии и связан-
ных с нею переживаний.
Катарсис правильнее связывать не с трагическим, а с эсте-
тическим в целом, ибо по существу любое подлинно глубокое
воздействие истинного искусства вызывает катарсис. Во всех
своих проявлениях эстетический катарсис — сознательно совер-
шаемое, концентрированное отражение потрясения, пережитого
человеком в реальной жизни. Следовательно, речь всегда идет
об этической проблеме, составляющей суть эстетического пере-
живания. Поэтому Лукач считает катарсис предельным случа-
ем в системе возможных моральных решений, регулирующих
человеческую жизнь.
Катарсис может иметь самые различные формы и проявле-
ния. Например, Гоголь в «Ревизоре» воплотил негативное воз-
действие катарсиса в смехе. Вообще связь эстетического катар-
сиса с этическим поведением все более усложняется.
Характерно, что Лукач делает катарсис своеобразным крите-
рием художественного совершенства произведения искусства,
разрешающим все противоречия его содержания и определяю-
щим его социальную функцию, его воздействие на жизнь чело-
века, испытывающего это очищающее потрясение. «Подлинно
великих художников отличает от второстепенных умение уверен-
но и безошибочно находить в жизненном материале самобытное
содержание и, сливая его с определенной формой, а если это
необходимо, обновляя ее, давать ему новую жизнь... Если тако-
го совпадения содержания и формы не происходит... появляется
537
на свет такого рода произведение, которое принято называть
беллетристикой...» (т. 2, с. 436). Подобная «беллетристика» мо-
жет быть достоянием любого искусства, причем в техническом
отношении достаточно изощренным, но в своем воздействии ос-
тающимся на уровне развлечений, приятных ощущений, никогда
не расширяющим и не углубляющим кругозора человека, как
это происходит при переживании катарсиса.
Разновидностями беллетристики Лукач считает «массовое»
искусство, в котором нуждается и которое потребляет «массо-
вый» человек, отличающийся чаще всего не вполне осознанным,
ложным, основанным на иллюзиях представлением об отноше-
нии к своему классу, об особенностях собственной личности
и своей индивидуальной судьбы. К отклонениям от эстетического
принципа Лукач причисляет также вторжение риторики и пуб-
лицистики в искусство, применение такого «творческого метода»,
как монтаж, то есть включение в ткань произведения статисти-
ческих материалов, документальных подробностей и т. д., пре-
вращающее специфически-эстетический вид отражения в некое
вспомогательное средство.
Лукач постоянно подчеркивает, что искусство — это самосо-
знание человеческого развития, а эстетическое отражение всегда
выражает некую жизненную истину, связывая эту истину и ее
предметную структуру с человеком. Чем глубже и универсаль-
нее произведение, тем богаче его связи с действительностью, тем
обширнее и сложнее они опосредованы. Социальная роль искус-
ства, отмечает Лукач, состоит в психологической подготовке
«новых форм жизни, с тем побочным действием, что оно накап-
ливает и сохраняет все человеческие ценности прошлого в их
доступном для переживания виде и что поэтому оно в состоянии
наиболее отчетливо показать все возникающие и полностью пре-
образующиеся на исторической сцене формы жизни в их челове-
ческой целокупности; тем самым оно может свидетельствовать
о том, какие человеческие ценности заслуживают освоения, ка-
кие— сохранения и, возможно, дальнейшего развития, а каким
по праву подобает кануть в Лету» (т. 2, с. 454).
Настоящее искусство всегда исходит из соотнесенности исто-
рии с человеком и человека с историей. Однако эстетическое от-
ражение, искусство — это не просто осознание объективно су-
ществующей действительности; «специфически эстетическое в
этом отражении заключается в том, что оно есть самосознание
человечества. Такое самосознание подготавливается предхудо-
жественными переживаниями творческой личности вплоть до воз-
никновения художественного произведения, завершается в его
оформленной индивидуальности, приобретает свою социальную
законченность в эстетическом переживании воспринимающего
субъекта и в последействии этого переживания. Только в этом
самосознании безгласный сам по себе для человека мир, соб-
ственная безгласность человека перед этим миром и перед са-
538
мим собой расторгаются и превращаются в новую способность
к выражению» (т. 2, с. 457).
Таким образом, анализ мимесиса, осуществленный Лукачем,
отличается необычностью логической структуры, универсаль-
ностью, диалектическим введением категорий и динамичностью
лх взаимоотношений и взаимодействий, тесной связью с повсед-
невной жизнью человека и человечества, прослеживанием исто-
рического движения искусства от простейших форм отражения
до самых сложных и самых глубоких, признанием функциональ-
ного многообразия и многозначности искусства и эстетического
отражения как самосознания человечества, выявлением диалек-
тической взаимосвязи его «горизонтальных» и «вертикальных»
координат, соотнесенностью логики исследования, логики изло-
жения и логики отражения с историей человека и человеческого
общества, утверждением единства диалектических, логических
и гносеологических аспектов, определяющих универсальность и
своеобразие эстетического как важнейшей категории эстетики,
•основополагающей для ее категориальной системы и находящей-
ся в постоянном изменении, движении и развитии.
* *
*
Для полного раскрытия сущности эстетического Лукач счи-
тает необходимым не только провести границу между эстети-
ческим отражением действительности, отражением в повседнев-
ной жизни и научным отражением и вскрыть материальную ба-
зу существования и изменения этого отражения, но и выявить,
каким образом специфически эстетическое выступает на уровне
отдельных индивидов, как оно противостоит здесь формам отра-
жения в повседневной жизни и формам научного отражения.
При этом Лукач опирается на материалистическое учение
И. П. Павлова о рефлексах, которое, по его мнению, открывает
•перспективы для решения сложнейших проблем познания и от-
ражения. Признавая, что открытие Павловым второй сигнальной
системы дает ключ к материалистически-психологическому ана-
лизу человека, Лукач считает, однако, что невозможно основы-
вать типологизацию и психологию художественного творчества
и эстетического восприятия на одних только условных рефлек-
сах. В связи с этим он вводит понятие сигнальной системы I':
«...В трудовом процессе должны вырабатываться рефлексы, ко-
торые... не являются простыми условными рефлексами, хотя они
в отличие от языка не возвышаются как абстракция над непос-
редственной чувственностью; в этом отношении они, подобно
языку, становятся сигналами сигналов. Эти рефлексы мы пред-
лагаем обозначить как «сигнальную систему Г», чтобы отразить
их промежуточное положение между условными рефлексами и
языком» (т. 3, с. 28).
539
Действие этой сигнальной системы в жизни проявляется там,
где нужна молниеносная ориентация в сложных отношениях
посредством воображения. Естественно, вторая сигнальная си-
стема и сигнальная система Г связаны с решением проблем че-
ловеческого познания и вообще с проблемой человека. Вся ис-
тория человеческой культуры свидетельствует о постановке соб-
ственно человеческих проблем и о попытках их решения. Боль-
шую роль, согласно Лукачу, здесь играет сигнальная система
Г, так как люди глубоко переживают то или иное состояние
прежде, чем им станет ясен источник и содержание этих пережи-
ваний. Первичное содержание такого переживания — молниенос-
ное понимание сути целостного человека как такового через*
посредство другого целостного человека. Познание ориентирова-
но на его истинную сущность, но эта истинность проявляется в
ее соотнесенности с собственным «Я».
Таким образом, как отмечает Лукач, «сигнальная система
Г работает как система контроля и коррекции, препятствующая
окостенению в виде условных рефлексов тех принципов, которые
изначально были выработаны в ходе рациональных рассужде-
ний» (т. 3, с. 52). Она сохраняет и интенсифицирует связь с не-
посредственными чувственными впечатлениями. Вместе с тем,,
поскольку она служит прежде всего целям познания человека,,
она имеет общественно-исторический характер и отличается ди-
намизмом, то есть постоянно переходит в другие сигнальные
системы.
Лукач подчеркивает, что искусство является средством объ-
ективации сигнальной системы Г, но по своей сущности оно не
может иметь столь универсального характера, как язык. Искус-
ство выступает как высшая и наиболее адекватная форма про-
явления этих сигналов, хотя сами они исходят от повседневной
жизни и независимы от искусства. Поскольку искусство ориен-
тируется на эвокативное воздействие, то все средства отобра-
жения и передачи действительности организуются сигнальной
системой Г, сознательно управляющей воздействием искусства.
Заслуживают внимания выделяемые Лукачем три основных
признака, позволяющие отличать сферу действия сигнальной
системы Г от областей первой и второй сигнальной систем:
1) действительность переживается как конкретная целостность,
ее сущность как бы противопоставляется ей самой, а пережива-
ние этой действительности получает оттенок чего-то окончатель-
ного, завершенного; 2) объективация не снимает ориентации
изображаемого мира на субъект, напротив, всякое эстетическое
изображение именно в своей объективной верности действитель-
ности соотносится с воспринимающим субъектом; существование
изображаемого мира как эстетического образа связано с воз-
можностью эвокативного воздействия на субъекта, который вос-
принимает предложенный ему «снимок» с действительности как
свой собственный мир, как мир, который противостоит ему, не-
540
зависим от него, но с которым он неразрывно связан как суб.~
ект восприятия; 3) этот субъект имеет общественный характера
а эстетическая рецепция выносит глубинную социальность чело-
века на поверхность, делая ее предпосылкой переживания (см.
т. 3, с. 91—92).
Объектом отражения сигнальной системы Y Лукач считает
людей в их отношении к человеческому роду (см. т. 3, с. 102).
Это позволяет вводить прошлое в настоящее, а настоящее в бу-
дущее, и наоборот, словом, реконструировать историю, весь че-
левеческий опыт, делать его достоянием современного человека,
а современного человека делать активным участником прошлого-
и будущего.
Конечно, для этого следует изучать и знать язык искусства,
а освоение художественного «языка» — дело длительное, труд-
ное и противоречивое. Когда, например, французские импрессио-
нисты отказались от локального цвета, поставив себе целью пе-
редать средствами живописи световоздушную среду, публика
выступила с резким протестом.
Рассматривая взаимосвязь поэтического языка и сигнальной
системы I7, Лукач задается вопросом: «Но не состоит ли великая
миссия искусства как раз в том, чтобы преобразовывать мир
познанной и освоенной человеком в-себе-сущей объективности
в мир, существующий для людей, для человеческого в человеке..
Это превращение проявляется естественнее всего (и вместе с тем-
наиболее очевидным образом) там, где в качестве миметическо-
го посредника выступает язык... Мир человека как отображение
действительности предполагает, следовательно, в качестве гомо-
генной посредующей системы слово, тяготеющее к образованию^
чувственно данных представлений. Эта двойственность: снятие
дезантропоморфированной абстракции и одновременное сохра-
нение истинного отражения объективной действительности —
и создает сущность поэтического языка» (т. 3, с. 146—147).
Лукач считает ошибочными концепции, согласно которым
поэтический язык выступает «родным языком» человечества. По-
этический язык тяготеет к единственности, неповторимости. Он-
представляет собой качественный скачок по сравнению с языком;
повседневности. Однако лишь соединение единичности и обоб-
щенности создает его специфику, его способность отражать внут-
ренний и внешний мир человека «таким образом, чтобы сохра-
нялась однозначность понятийной определенности, полученная
благодаря использованию языка, второй сигнальной системы, но
при этом единичное и его связь с судьбой человеческого рода
получали чувственно-очевидное выражение. Это смысл транс-
формации, которой сигнальная система V подвергает язык...
Поэтический язык находит свое место в ряду человеческих по-
требностей не благодаря своей «красоте», а за счет того, что он
позволяет высказать и выразить невыразимое иными средствами?
в его своеобразной однозначности» (т. 3, с. 168—169).
54 t
* *
*
Важную,роль в эстетике Лукача играет категория особенно-
то как адекватного выражения сущности эстетического.1 В ана-
лизе этой категории он, как и всегда, опирается на класси-
ков философии, начиная с Аристотеля и кончая Гегелем.
Однако, : по мнению Лукача, ни один из этих мыслителей не
смог правильно и до конца выявить роль, место и значение ка-
тегории особенного как эстетической категории. «Специфика
^эстетической сферы состоит в том, — пишет Лукач, — что особен-
ное не просто оказывается между всеобщим и единичным — как
их опосредование, — но и образует организующую среду, середи-
ну ... Особенное является здесь — будучи серединой — исходной
и конечной точкой соответствующих движений...» (т. 3, с. 182).
Применительно к человеку и человеческому обществу Лукач
характеризует особенное как жизненно важную категорию, от-
ражающую сложившееся положение вещей: не боги и не поту-
сторонние силы, а «судьба человека сознательно ставится в цент-
ре мировых событий, образует ту среднюю точку, вокруг которой
все — и природа, и общество — должно группироваться» (т. 3
с. 186—187).
При рассмотрении особенного как эстетической категория
Лукач вновь подчеркивает, что мир искусства всегда выступает
как мир человека, мир людей, представляющий собой в высшее
степени развитую, наиболее полную субъективность, реализаци*
которой возможна лишь на уровне столь же полной объектив
ности; произведение искусства в своем качестве эстетическогс
формообразования становится воплощением органического един
ства внутреннего мира человека с внешним миром, человеческое
личности с ее судьбой в мире, осуществляя, таким образом, пу
тем отображения снятие обеих крайних точек в мире человек;
как мире человечества. Только человечество в целом может ра
зумным образом объективно стремиться к реализации этого
^единства, и только оно одно призвано осуществить ее хотя 6i
.приближенно. Произведение искусства имеет глубоко историчес
кий характер, оно остается неразрывно связанным с историчес
ким моментом своего возникновения. Вместе с тем, эстетическо<
всегда соотнесено с человеком и с общечеловеческим посредст
вом верного отображения объективной действительности и чело
веческих переживаний. Чем точнее, вернее и глубже это отра
,-жение, тем совершеннее и значительнее художественное произ
ведение.
Генезис произведения искусства в процессе творчества, ег
свечное обновление в актах восприятия, происходит именно в сфе
^Всесторонний анализ этой категории Лукач дал в книге: Lukâcs С
A különösseg mint esztétikai kategôria. Budapest, 1957.
342
ре особенного как специфического определения типичного, сос^
тавляющего основу той субстанциальности, которая присуща
всеобщему. Особенное, согласно Лукачу, — это главная, опреде-
ляющая категория эстетического.
Следует заметить, однако, что Лукачу не вполне удается кон-
кретно определить особенное как эстетическую категорию. Пола-
гая, например, что именно выбор средней точки, центра сферы
особенного решает вопрос идейного содержания, а также подлин-
но художественного изображения, он не разъясняет, как и каким
образом осуществляется этот выбор. Указывая, что движение-
в эстетическом отражении имеет своим исходным и конечным;
пунктом особенное и идет от особенного к всеобщему и назад.,
к особенному, а также от особенного к единичному и потом:
опять к средней точке, Лукач говорит о больших трудностях ее
определения. И если все-таки удастся найти эту среднюю точку,
то будет ли решен тем самым вопрос об идейно-художественном,
уровне и ценности того или иного произведения искусства? Спо-
собствуют ли этому указания самого Лукача на то, что «у Ра-
сина точка централизации находится гораздо ближе ко всеоб-
щему, чем у Шекспира, в современной буржуазной драме, напро-
тив, она решительно смещена в сторону единичного» (т. 3,.
с. 230)? Или, например, когда Лукач выстраивает такой ряд:
«...Общая закономерность эстетики вообще, конкретные особен-
ные законы жанра, историческая дифференциация в развитии:
отдельных жанров, индивидуализированная система изобрази-
тельных средств отдельных произведений, и лишь на последней-
стадии может быть дано конкретное определение центра, сере-
дины» (т. 3, с. 230). На каком основании, с помощью каких кри-
териев может быть определен этот центр или середина, и можно
ли это сделать вообще, а если и удастся, то что это даст? Не*
более убедительна попытка определить применительно к катего-
рии особенного различия между научным и эстетическим отра-
жением, которую предпринимает Лукач, когда он утверждает,
что «то особенное, которое в первом случае выступает как пос-
редующее «поле», во втором случае должно стать серединой,
центром, организующей срединной точкой» (т. 3, с. 233). Боль-
шие сомнения вызывают и следующие утверждения Лукача:.
«...Задачей всякого анализа искусства является в каждом кон-
кретном случае конкретное исследование того, соответствует ли
выбор такой точки в границах особенного, осуществляемый ху-
дожником, идейному содержанию, материалу, теме и т. д. про-
изведения, либо в плане адекватности изображения она выбрана
слишком высоко или слишком низко» (т. 3, с. 236).
Серьезная неудача постигла Лукача и в исследовании катего-
рий бытия-в-себе, бытия-для-нас и бытия-для-себя, относимых:,
им к изначальным элементам любой картины мира. В простран-
ном историко-философском экскурсе Лукач описывает метамор-
фозы истолкования этих категорий в различных философских.
543
«системах: превращение первоначально истинного познания, на-
учной картины мира в мировой миф в пифагореизме; религиоз-
ную мистификацию подлинной действительности в схоластичес-
кой философии («негативная теология»); бурное развитие наук
в эпоху Возрождения, положившее конец безграничному господ-
ству теологии и приведшее к разрыву философии и теологии;
далее — методические сомнения Декарта, критику «идолов» Бэ-
коном, геометрический метод Гоббса и Спинозы, ведущие к диа-
лектическому определению подлинной объективности. Он указы-
вает также на отрицание познаваемости вещи в себе у Канта,
на попытку Фихте растворить вещь в себе в «Я», на объектив-
ность и познаваемость бытия-в-себе у Шеллинга и, наконец, на
диалектику категорий бытия-в-себе, бытия-для-нас и бытия-в-
себе-и-для-себя у Гегеля.
Исходя из гегелевского учения об этих категориях, Лукач
пытается «вложить» в них материалистическое содержание и по-
казать значение этих категорий для марксистской философии,
эстетики и искусства. Однако сделать это ему не удается, ибо
гегелевскую терминологию с ее идеалистическим содержанием
весьма трудно, а порою просто невозможно перевести на мате-
риалистическую основу. Не случайно сам Лукач говорит о вели-
кой проблеме, которую развитие человечества поставило перед
философией — строгое разделение мышления и действительности,
сознания и бытия, — проблеме, которую идеализм, даже в лице
Гегеля, оказался не в состоянии ни правильно поставить, ни ре-
шить.
Во всем этом разделе наибольший интерес представляет кри-
тика разного рода идеалистических концепций бытия, что же
касается конструктивного развития онтологических проблем, то
следует признать, что осуществить его Лукачу не удалось.
Это относится и к его постулированию бытия, как оно пред-
стает в сфере эстетического («Бытие, подразумеваемое любой
эстетической концепцией, — это всегда мир человека»), а также
объекта эстетического отражения («развитие человечества»);
-и к соотношению субъективности и объективности с индивидуаль-
ностью произведения («Произведение искусства противопостав-
лено всем другим видам отражения и объективации тем, что его
'самая общая форма — это бытие-для-себя. Отсюда и вытекает
непосредственное воздействие субъективности как на все эле-
менты, так и на произведение в целом... Итак, перед нами как
лбы тождественный субъект-объект, точнее говоря, формообразо-
вание, в котором субъективность и объективность приведены к
органическому единству. ...Сущность индивидуальности произ-
ведения состоит как раз не только в эвокации субъективности,
vho и в придании ей широты, глубины, интенсивности, которых
юна никогда не смогла бы достичь в жизни»); и к совершенству
произведения искусства как воплощению жизненной правды
(«Произведение искусства как для-себя-сущее как раз и вопло-
$44
щает эту жизненную правду: в любом предмете, в любой ситуа-
ции и т. д. может быть открыто их совершенство как их собст-
венное совершенство»); и к универсальности бытия-для-себя
(«Универсальность бытия-для-себя оказывается: «1) формаль-
ной... 2) преобразующей... 3) рецептивной»); и т. д. (см. т. 3,
с. 264, 273, 291—292, 290, 293—294).
Вопросы онтологического обоснования эстетического, худо-
жественного творчества и художественной деятельности, видимо,
следует ставить и решать с позиций единства диалектики, логи-
ки и теории познания с учетом, естественно, специфики эстети-
ческой сферы. Во всяком случае, вряд ли следует пытаться ста-
вить и решать эти вопросы на том пути, по которому пошел Лу-
кач, — использовать категориальную систему Гегеля без соответ-
ствующего кардинального ее переосмысления и преобразования1.
Что же касается критической стороны, то здесь Лукач с боль-
шим знанием дела, основательно и аргументированно анализи-
рует различные идеалистические онтологические концепции. Так,
отмечая механическое разделение теоретической и практической
сфер у Канта, он показывает, что это разделение было сохра-
нено и углублено неокантианцами, а его пафос снизился до ме-
лочного мещанского исполнения обязанностей по отношению к
государству. «...Теперь отрицается не только познаваемость ве-
щей в себе, но и любое разумное познание вообще; напротив,
принимается последовательный агностицизм философских на-
следников Канта (а также Беркли и Юма). На месте постиже-
ния бытия-в-себе через этическое деяние, фигурировавшего у
Канта, выступают ... различные формы интуиции у Дильтея,
Бергсона или Зиммеля, а также онтология экзистенциализма
(хотя она в остальном строится на других принципах). Чем ши-
ре распространяется это направление, тем яснее в нем вырисо-
вывается сущностно-субъективный характер всякого вводимого
посредством эмфазы бытия-в-себе. В дальнейшем станет очевид-
ным, что оно основывается исключительно на определенных иде-
ологических потребностях дня. И в конечном итоге оказывается,
что это эмфатическое бытие-в-себе зависимо от бытия-для-нас,
в то время как их реальное взаимоотношение прямо противопо-
ложно. В решающем философском вопросе, в полярной взаимо-
связи проецируемого субъектом на объективность антропомор-
фирующего псевдобытия-в-себе и полурелигиозного, полуэтиче-
ского (при этом притязающего на познание сущности) субъек-
тивно эмфатического поведения не происходит никаких измене-
ний от того, что содержание эмфатического действия — это не ос-
лепительный свет плотиновского «Единого», а непролазная тьма
хайдеггеровского „ничтожащего Ничто"» (т. 3, с. 263). Это очень
1 Поэтому не случайно Лукач возвращается к исследованию онтологиче-
ских проблем в своем, оставшемся незавершенным фундаментальном труде
«Онтология общественного бытия» (см.: L u к а с s G. Prolegomena. Zur Onto-
logie des gesellschaftlichen Seins, 1. Halbband. Darmstadt und Neuwied, 1984).
35—805
545
точная, серьезная и глубокая критика не только указанных здесь
идеалистических направлений, но и всех антинаучных онтологи-
ческих концепций вообще.
IV
С позиций материалистической диалектики первостепенное
значение следует придавать, полагает Лукач, не попыткам клас-
сификации и упорядочивания видов и родов искусства, но иссле-
дованию их исторического генезиса и логической, общетеорети-
ческой основы. Всю систему искусств и их категориальное един-
ство необходимо исследовать как результат сложного и проти-
воречивого исторического процесса, в ходе которого происходит
размежевание отдельных видов искусства и одновременно скла-
дывается своего рода эстетический медиум, общий для всех ви-
дов искусства при их полной самостоятельности и независимости
друг от друга (хотя и при тесном взаимодействии).
Особенно резко Лукач выступает против идеалистических
и метафизических утверждений о наличии некоей изначальной
художественной способности человека, которая якобы диффе-
ренцируется сама по себе в системе искусств вне всякой связи
с объективной действительностью. Столь же решительно он кри-
тикует идеалистические и вульгарно-материалистические кон-
цепции, придающие исключительное значение чувствам человека
в разграничении отдельных видов искусства, каждый из которых
связан будто бы только с одним определяющим этот вид искус-
ства чувством человека. Неприемлемым считает Лукач и деле-
ние искусств на «временные» и «пространственные», или на ауди-
тивно-временные и визуально-пространственные, поскольку «вре-
менные» виды искусства необходимым образом включают в себя
пространственные параметры, а «пространственные» виды ис-
кусства, разумеется, обладают и временными параметрами.
Исследуя соотношение видов искусства, Лукач, как нам ка-
жется, стремится не столько решить проблему нового «Лаоко-
она», то есть новой классификации искусств, сколько показать
глубоко диалектический характер каждого искусства как отра-
жения объективной действительности и внутреннего мира челове-
ка, а также глубоко диалектическую взаимосвязь между вида-
ми искусства. Именно это Лукач справедливо считает общим
для всех видов и жанров искусства. Мимесис всегда составляет
основу всех видов искусства, основой же мимесиса является ди-
алектика субъекта и объекта, практически-теоретическая дея-
тельность человека, взаимодействие человека и природы, челове-
ка и общества, человека и окружающего его мира.
Отрицание миметического характера искусства появилось
лишь в наше время, когда некоторые философы и теоретики ис-
кусства стали выступать против теории отражения, говорить о
546
взаимоисключающем антагонизме выражения и отражения, сом-
неваться в объективности внешнего мира, отрицать его матери-
альность как основу человеческих ощущений.
Например, музыку, которую традиционно считали «времен-
ным» искусством, стали рассматривать в отрыве как от объек-
тивной реальности, так и от объективного времени, истолковывая
ее чисто субъективистски. Уже Кант признавал время «чистой»
формой чувственного созерцания, или априорной формой внут-
реннего чувства. Не случайно он видит в музыке «прекрасную
игру чувств».
Опираясь на диалектическое учение Гегеля о материи, време-
ни и пространстве, Лукач вскрывает несостоятельность субъек-
тивно-идеалистических концепций. Он показывает, что движение
есть процесс, переход из времени в пространство, и наоборот,
а материя есть связь пространства и времени, что время и про-
странство немыслимы без материи, как материя немыслима без
времени и пространства. Каждое конкретное течение времени
имеет исторический характер. Историчность пронизывает музы-
ку, как, впрочем, и любой другой вид искусства. То, что счита-
лось «вечным», оказывается возникшим исторически, а истори-
ческое выражение и отражение сущности своего времени, ста-
новится вечным.
Однако Лукач отвергает идеалистическую конструкцию Геге-
ля, напрямую связывавшего развитие отдельных искусств с оп-
ределенными ступенями исторического развития. Другое дело,
что некоторые виды искусства получают преимущественное раз-
витие в те или иные исторические периоды, когда общественно-
историческая роль искусств способствует более полному раскры-
тию заложенных в них возможностей.
Так, музыка как вид искусства постоянно развивается и со-
вершенствуется, ее мир все время расширяется и углубляется.
Создаваемый ею космос эмоций охватывает все, что существует
и действует в духовном мире человека. Своеобразие этого кос-
моса состоит в том, что он образует свой «мир» постольку, пос-
кольку «ликвидирует» мир предметный. Музыка находит себя
как мимесис мимесиса, возрождая обычно вытесняемую и подав-
ляемую логику эмоций, которая развивается до полной ее завер-
шенности; она полностью реализует себя только как опосредо-
ванное отражение объективной действительности и как прямой
ответ на эту действительность. Такая реализация проявляется
не столько в виде антагонизма между субъективностью и объек-
тивностью, сколько преимущественно в виде имманентных про-
тиворечий самого внутреннего мира.
Лукач ставит серьезную проблему реализма в музыке. Под-
черкивая близость музыки с родственными ей искусствами, он
полагает, что мы можем с полным основанием говорить о реа-
лизме в музыке, то есть о том, в какой мере то или иное произ-
ведение отражает действительность своего времени.
35*
547
Лукач отводит музыке исключительно важное место в жизни
человека, признавая особую глубину ее воздействия на него, ее
способность погружать человека в свой «мир», заставлять его
жить в нем и переживать его. Собственный «мир» музыки в под-
линно художественном смысле возникает только в том случае,
если выражаемые и отражаемые ею эмоции существенны с об-
щечеловеческой точки зрения и если музыка способна до конца
раскрыть эти приведенные ею в движение эмоции. Там же, где
«модель» музыкально отображенных эмоций замыкается на част-
ных, повседневных проявлениях человека, музыка просто сводит
их внутреннюю скудость к внешней, формальной сглаженности;
в этом случае, подчеркивает Лукач, она никогда не создаст свой
«мир» и потому никогда не сможет воплотиться в подлинно ху-
дожественной форме. И какова бы ни была принтом основа
формотворчества — будь то устоявшиеся традиции или рискован-
нейшие новшества, — в узких рамках чисто частного все прояв-
ления его будут низведены к пошлости или низкопробной ба-
нальности.
*
При рассмотрении архитектуры Лукач критикует различного
рода натурфилософские концепции, приводящие к полному или
частичному отрицанию ее связи с человеком и человеческой
жизнью: так, Шеллинг подразделял искусства на реальные (му-
зыка, живопись, пластика) и идеальные (поэзия: лирика, эпос,
драма), определяя архитектуру как часть пластики; Шопенгау-
эр усматривал в архитектуре «объективацию» идей, являющихся
низшими ступенями объективации воли, тем самым отводя ей
в иерархии искусств одно из последних мест; Гегель же призна-
вал архитектуру первым из искусств, сформировавшимся ранее
скульптуры, живописи и музыки. Все эти идеалистические кон-
цепции, в том числе и концепцию Гегеля, Лукач подвергает рез-
кой критике. Он доказывает, что архитектура относится к срав-
нительно поздно возникшим искусствам, поскольку ее эстетичес-
кому генезису предшествовал довольно длительный период
развития технически полезного строительства, а также форми-
рования эмоций, связанных с пространственными представления-
ми. Ошибочную позицию Гегеля в определении архитектуры как
«неорганической скульптуры», как начальной стадии искусства,
непонимание им исторической диалектики ее развития, эстети-
ческой связи ее сущности с социальным запросом и отношения
последнего к собственно эстетическим проблемам — все это Лу-
кач объясняет недооценкой основной эстетической проблемы ар-
хитектуры, созидания пространства. Развитие архитектуры он
связывает не с вопросами истории искусства, а с философией
генезиса архитектурного пространства, то есть с философским
определением его характера как эстетического мимесиса.
548
Он полагает, что представление об архитектурном простран-
стве развивается из первоначально относительно абстрактных
и общих отношений людей с тем пространством, которое они
эмоционально-спонтанно принимают как свое собственное, про-
странством, все более обогащающимся и формирующимся под
воздействием общественного назначения.
Реальность архитектурного произведения и реальность архи-
тектурного пространства обусловливают качественные особеннос-
ти двойного мимесиса в архитектуре (по сравнению, например,
с музыкой). Человек уже не противостоит специально созданно-
му пространству, а существует в этом пространстве.
Своеобразие архитектуры, согласно Лукачу, состоит в отри-
цании всякой негативности. Поэтому из всех искусств только она
одна в состоянии выявить общественное бытие на той или иной
стадии его развития во всей его совокупности, сделать социаль-
ные установки, претворяющиеся в жизнь деятельностью отдель-
ных людей, непосредственно эвокативными. Общественный па-
фос выступает здесь в чистой форме.
Лукач подчеркивает историчность архитектуры как искусст-
ва и проистекающую из этого восприимчивость ее к обществен-
но-историческим переменам. Так, развитие капитализма привело
к дегуманизации искусства, в том числе и архитектуры: дегра-
дация социального заказа, его растворение в полной абстракт-
ности, его подверженность субъективным требованиям и произ-
волу моды имели следствием упадок архитектуры как искусства.
Социалистическое общество, по мнению Лукача, тоже до сих
пор было не в состоянии поставить перед архитектурой конкрет-
ное социальное задание и вывести ее из тупика. Причину этого
он усматривает в том, что за столь короткое время своего раз-
вития социализм не мог обеспечить условия для формирования
нового социального заказа, хотя работа в этом направлении ве-
лась и ведется довольно напряженная.
При рассмотрении архитектуры как искусства Лукач не из-
бежал ошибок своей молодости: он вновь вернулся к категории
тотальности, состоящей из пространства, времени, движения и
материи, возводя ее в степень универсальной эстетической кате-
гории.1. Понятно, что архитектура как вид искусства ориентиро-
вана на всеобщее и детали играют здесь роль, отведенную им
единым целым. Но как быть тогда с категорией особенного, ко-
торой сам же Лукач придает универсальное значение и в искус-
стве, и в сфере эстетического вообще? Каково тогда взаимоот-
ношение между тотальным и особенным, если не принимать во
внимание единичное, как бы элиминируемое в архитектуре? Как
1 В своей книге: «История и классовое сознание» Лукач писал: «Господ-
ство категории тотальности есть носитель революционных принципов в науке»
(Lukâcs G. Geschichte und Klassenbewußtsein. Berlin, 1923, S. 39).
549
понимать отрицание категории тотальности в живописи, которую
Лукач считает наиболее индивидуализирующим из всех видов
искусства?
Анализ архитектуры, проведенный Лукачем, затронул также
ряд проблем прикладного искусства. Здесь Лукач исходит из
различия между общим и частным как фундаментом идеологи-
ческих и эмоциональных факторов, обусловливающих производ-
ство предметов декоративно-прикладного искусства. Прежде
всего он отмечает в этой связи различие в использовании чело-
веком официального и частного зданий: в первом случае наблю-
дается тесная связь общих всем эмоций с присутствием и дея-
тельностью человека именно в данном помещении, связь с
архитектурным воплощением пространства; во втором — све-
дение функций пространства к непосредственно-практической
полезности, где эта зависимость остается вынужденно слу-
чайной.
В декоративно-прикладном искусстве речь идет не о создании
пространства, как в архитектуре, а о производстве отдельных
предметов, которые размещаются в нем. Поэтому универсаль-
ность социального заказа здесь значительно ослаблена и сме-
щена в сторону партикулярное™. Эмоции, вызываемые произве-
дениями этого искусства, остаются составной частью повседнев-
ной жизни.
Познание объективной действительности и его технологичес-
кое использование не поднимаются здесь над уровнем обыден-
ного мышления. Цель, конкретно организующий принцип произ-
водства такой продукции всегда состоит в использовании его
отдельным человеком в его частной сфере. Не случайно, что ор-
наментика и другие подобные моменты выступают на п.ервый
план в прикладном искусстве, причем орнаментика все больше
лишается эстетической плодотворности.
Еще одну группу важных эстетических феноменов, в которых
выявляются сходные формы мимесиса, Лукач находит в садово-
парковом искусстве. Первые принципы организации природы,
подчеркивает он, возникли на основе оптимальной полезности,
постепенно формируясь как принципы построения эстетического
объекта. Диалектика двойного мимесиса действует и здесь: от-
ражение объективных законов оптимального развития растений
служит социально обусловленным целям, а затем в преобразо-
ванном виде воспроизводится в эстетических категориях. Прав-
да, как замечает Лукач, эстетическая точка зрения применима
лишь к относительно небольшой части садов. Задача, которую
он ставит перед собой, состоит в том, чтобы показать, как об-
щественные потребности, вызвавшие к жизни утилитарное садо-
водство, превращаются в социально-эстетические требавания к
садово-парковому искусству.
Это искусство, как и архитектура, обладает позитивным, ут-
верждающим содержанием, исключающим негативность. Вместе
550
с тем Лукач указывает на принципиальную антиномичность са-
мой сущности садового искусства. Если сады Египта и Передней
Азии предстают как часть архитектуры, а сады эпохи Возрож-
дения полностью подчинены духу архитектоники, то барочные
парки отличаются единством композиции, не следуя рельефу
местности, но подчиняя его. В переходный период от феодализма
к капитализму Лукач отмечает два мотива, определяющие эсте-
тическую сущность садово-паркового искусства: пафос утверж-
дения природы, близости к природе в мировоззрении буржуазии,,
решительное неприятие ее противоположности, искусственности
и столь же страстное утверждение прав человека, ценности лич-
ности в ее естественности и ее неограниченном развитии. Идеоло-
гам зарождающегося класса буржуазии важно было сформули-
ровать свою универсальную концепцию на основе противопостав-
ления «естественного» и «искусственного», утвердить позитивные
и оптимистические идеи и идеалы, в том числе и применительно
к садово-парковому искусству. Садовое строительство демонст-
рировало победу принципа приватности как социального запроса
во всей его противоречивости: революционность борьбы буржуа-
зии выступала в такой форме, которая лишала радикальные пре-
образования их завершенной радикальности.
Двойное отражение Лукач находит и в кинематографе. Если
в архитектуре постоянно присутствует удвоенность отражения,
отмечает он, то в кино в результате двойного мимесиса возни-
кает простое и единое отражение действительности. В связи с
этим и процесс преобразования в эстетическое носит здесь суще-
ственно иной характер.
Лукач считает кино и духовно, и технически продуктом ка-
питализма, подчиняющего своим интересам всю кинопродукцию;
он настаивает на специфически капиталистическом его генезисе.
Поскольку техника киноискусства формируется на почве высо-
коразвитого капитализма, то воздействие технического развития
на художественное проявляется здесь гораздо резче, кризиснее,
чем в любом другом искусстве. Так, появление звукового кино
привело к глубокому эстетическому кризису, серьезному спаду
мастерства.
Критикуя расхожие мнения о мнимой утрате киноактером
личного контакта с публикой и о нивелировании его труда ан-
самблевостью актерской игры, Лукач показывает, что кино —
это не фоторепродукция драматического представления, а свое-
образное претворение действительности (отражение действитель-
ности, отраженной актером), новое миметическое формирование
и фиксирование тех моментов, которые способны сделать кон-
кретное содержание фильма оптимально воспринимаемым. На
этой основе возникают совершенно новые отношения актера с
публикой: киноисполнитель представлен не непосредственно как
таковой, но в виде художественного отражения производящего
ряд определенных действий человека. Так же обстоит дело в жи-
551
вописи и в скульптуре. Там, где речь идет о подлинном искус-
стве, отсутствие личного контакта вовсе не означает скудости
эстетической эвокации.
Лукач настаивает на неизменной подлинности, аутентичности
киноизображения, источником которой является сама действи-
тельность. В этом кинематограф противостоит всем другим ви-
зуальным искусствам (сохраняя родство с повседневностью),
где аутентичность возникает только как конечный результат ми-
метически-художественного преобразования действительности.
Кино, согласно Лукачу, — это единственное искусство, где визу-
альность и реальный ход времени связаны общей категориаль-
ной основой, где любой момент настоящего (подобно тому, что
мы видим в каждом фактически текущем времени) выступает
как реальный момент перехода от прошлого к будущему.
Предметом художественного мимесиса в кино выступает без-
граничное многообразие повседневной жизни, что позволяет ему
стать массовым искусством. При капитализме кинематограф
может приспосабливаться к самым низменным потребностям
масс, создавая бесчисленные псевдохудожественные картины,
имитирующие грезы повседневной жизни. Вместе с тем киноис-
кусство способно стать подлинно народным искусством, выра-
жением глубоких и всеобщих чувств народа, понятным широким
массам. В качестве примеров Лукач отмечает фильмы Эйзен-
штейна и Пудовкина, полные глубокого юмора картины Чапли-
на, которого он считает одной из самых значительных актерских
индивидуальностей всех времен. «...Созданный им персонаж сво-
им физическим обликом, жестами и мимикой в неисчерпаемых
вариациях символически олицетворял типичное отношение
«маленького человека», человека толпы, к современному капи-
тализму. Тем самым он поднимается в выражении общественно-
исторической ситуации до таких типических высот, каких в дру-
гих искусствах достигали лишь очень немногие актеры его вре-
мени. Не следует забывать, насколько эмоциональная сфера
воплощенных Чаплином образов и их социальных прототипов
близка миру Кафки. Однако страх и беспомощность у Чаплина
ощутимо представлены не только изнутри, но и в неразрывном
единстве внешнего и внутреннего. Так рождается его знамени-
тый, всепобеждающий юмор, глубина которого — объективиро-
ванное углубление кафкианской проблематики — выражается
как раз в том, что эзотеричность, обретая популярность, стано-
вится экзотерически действенной» (т. 4, с. 174).
Однако эта же многосторонность, близость к жизни, универ-
сальность кинематографа устанавливает и границы его вырази-
тельных возможностей. По убеждению Лукача, киноискусство
не в состоянии, например, выразить высшие сферы духовной
жизни человека, доступные литературе, изобразительным искус-
ствам и музыке.
Центральным движущим принципом кинематографического
552
воздействия Лукач признает единство настроения1. Все техни-
ческие средства обретают здесь эстетический смысл только как
способ выражения эмоционального единства, только как способ
перехода от одного настроения к другому в рамках единой на-
строенности целого. Настроение раскрывается Лукачем как уни-
версальная и господствующая категория воздействия кинемато-
графа, как эстетическое руководство сферой восприятия. Высо-
кая идеологическая действенность кинематографа в значитель-
ной степени основывается на том, что формируемое им настрое-
ние охватывает все мировоззренческие проблемы, все отношения
к социальным явлениям, более того, только так они находят
путь к сердцу зрителя. Именно эта неразрывность настроения и
идеологического содержания в переживании зрителя, подчерки-
вает Лукач, делает кино популярнейшим искусством нашего
времени: идеология как бы вырастает из самого происходящего,
из действительности как таковой, обретая тем самым непосред-
ственность воздействия. Таким образом, кинематограф характе-
ризуется как один из вернейших индикаторов того, что внутрен-
не движет в какой-то исторический момент народными массами,
того, какую позицию они спонтанно занимают по отношению к
возникающим при этом общественным проблемам.
Лукачевский анализ кинематографа наряду с несомненными
достоинствами: признанием его социальной природы, специфики
кинематографического мимесиса во всех его видах и формах,
социальной диалектики этого вида искусства, подчеркивания
особой значимости актерского труда —имеет и определенные
недостатки. Прежде всего может вызвать возражение утвержде-
ние Лукача о том, что кино является продуктом капитализма и
что образование некапиталистических «островков» в этой сфере
весьма проблематично. Как известно, практика мирового кино
показывает, что оно достигло значительных успехов в социали-
стических и развивающихся странах. Революционный кинема-
тограф в Советской России создал такие шедевры, как «Броне-
носец „Потемкин,,>> Эйзенштейна, «Мать» Пудовкина, «Чапаев»
братьев Васильевых и т. д. Что касается технических достиже-
ний, то они выступают не только на почве высокоразвитого ка-
питализма, но в такой же мере и на почве высокоразвитого со-
циализма. Спорным представляется и утверждение Лукача о
1 О «единстве настроения» Лукач писал еще в своих исследованиях твор-
чества Бальзака и Стендаля: «В большей части романов Бальзака фабула за-
кончена гораздо больше, чем в романах Стендаля и романах XVIII в., много
сильнее у Бальзака и единство настроения. Исключений из этого в творчестве.
Бальзака мы найдем немного. Он изображает какую-либо катастрофу или ряд
катастроф, сильно сконцентрированных во времени и в пространстве. Вся кар-
тина в целом окрашена у него единым и чрезвычайно интенсивным настроением.
Таким образом, используя для формы романа некоторые композиционные эле-
менты шекспировских драм и классической новеллы, он ищет в них художест-
венного оружия против бесформенности и текучести современной буржуазной
жизни» (Л у к а ч Г. К истории реализма. М., 1939, с. 229).
553
том, что кино в отличие от других видов искусства не в состоя-
нии выразить высшие сферы духовной жизни человека. Призна-
ние же единства настроения центральным движущим принципом
кинематографического воздействия — при всей его важности —
вызывает возражения хотя бы потому, что воздействие кинема-
тографа не исчерпывается сферой человеческих чувств, но, по-
жалуй, в не меньшей степени относится к сфере человеческого
сознания.
При всех недостатках, присущих анализу видов искусства
у Лукача, нельзя не заметить, что этот анализ направлен про-
тив идеалистически-метафизических концепций. Диалектико-ма-
териалистический метод, которым он достаточно умело пользу-
ется, позволил ему в определенной мере раскрыть генезис эсте-
тической категориальной системы, проследить историю
становления и логику эстетического.
Критикуя различные идеалистические концепции прекрасного
и искусства (Платона, Плотина, Канта, Зольгера и др.), Лукач
опирается на Чернышевского, признавая справедливость его
слов: «Сфера искусства... обнимает собою все, что ... интересует
человека... просто как человека; общеинтересное в жизни — вот
содержание искусства» (т. 4, с. 185). При этом он признает гра-
ницу между приятным и эстетическим достаточно расплывча-
той: то, что приятно для одного человека, неприятно для друго-
го. Необходимо поэтому, подчеркивает Лукач, тщательно отде-
лять приятное от эстетического, поскольку истинного понимания
последнего можно достичь лишь тогда, когда постигается одно-
временно как связь, так и противоположность между созданны-
ми данной культурой значительными произведениями искусства
и наиболее типическими для нее переживаниями приятного.
Хотя в жизни границы между приятным и эстетическим раз-
мыты, именно миросозидающий характер подлинных произведе-
ний искусства служит единственным критерием, позволяющим
точно определить границы между эстетическим и приятным,
обычно достаточно трудно определимые в силу универсальности
характера приятного как факта и самой жизни и ее отражения.
При этом доставляющая элементарное удовольствие, а не высо-
кое эстетическое наслаждение продукция псевдоискусства тех-
нически может быть выполнена нисколько не хуже подлинно ху-
дожественных произведений. Однако, как показывает Лукач,
мечта о существовании только подлинных, только великих про-
изведений искусства — утопическая фантазия далеких от жизни
художников. Любой путь к совершенству необходимо предпо-
лагает сомнительные ходы, фрагментарные опыты, провалы и
неудачи.
Раскрытая связь эстетического формального совершенства
с глубиной и однозначностью социального задания, Лукач пока-
зывает, что в истории искусств величайшие творения как бы вен-
чают собой массу средней продукции, вызванной к жизни тем
554
же социальным заданием. Культ гениев, утверждающий только
непреодолимую пропасть между тем и другим, отрицающий их
глубинную связь, порождаемую общим социальным заказом,
также искажает, считает Лукач, реальное положение вещей, как
это делает история литературы, стремясь обнаружить «влияния»
или опровергнуть их там, где объективно существуют лишь об-
щие и всеми испытываемые потребности эпохи, качественно раз-
лично выступающие на качественно различных уровнях миро-
ощущения.
В эстетически совершенном отражении развертываются и про-
являются родовые и общечеловеческие моменты данной общест-
венно-исторической ситуации. «Именно здесь находим мы ре-
шающий критерий истинности отображения объективной дейст-
вительности. Его философским обоснованием является тот факт,
что человек также и в самой действительности достигает родо-
вого лишь в постоянном взаимодействии с объективной реаль-
ностью и что определенное состояние, определенные тенденции и
перспективы развития образуют необходимые предпосылки и ус-
ловия для подлинной реализации родового самосознания чело-
вечества, а также создают само «пространство», в котором эта
реализация происходит. Поскольку искусство — в каждом своем
роде с конкретно различным выбором компонентов этого взаи-
модействия— творит некий «мир», создающий возможность наи-
более напряженного и адекватного раскрытия решающих как по-
зитивных, так и негативных моментов этого взаимодействия,—
постольку в нем складывается высочайшая объективированная
форма самосознания человеческого рода» (т. 4, с. 232—233).
Касаясь проблемы природной красоты, Лукач констатирует,
что она сводилась к признанию ее существования независимым
от искусства. Поэтому традиционный подход состоял в том, что
эстетика пыталась анализировать единство и противоположность
красоты в природе и красоты в искусстве. Лукач отказывается
от подобного подхода и рассматривает проблему природной кра-
соты в тесной связи с проблемой человека и с проблемой эти-
ческого и эстетического.
Он указывает на проникновение эстетических принципов в
сферу этического, то есть на эстетизацию этики, причем эстети-
ческие категории чаще всего проникают в те системы мысли —
этические, метафизические, религиозные, — которые недоверчиво
относятся к эстетике вообще. Так, в этических системах одним
из серьезных факторов, способствующих эстетизации, является
известное раздвоение личности: моральное требование, ставшее
внутренним, должно быть осуществлено собственным волевым
усилием данного человека, усилием, преодолевающим сопротив-
ление аффектов, предрассудков и т. д. этого человека. Подобная
же двойственность может возникнуть и в отношении прав и обы-
чаев, однако противоречие здесь существует между поступками
частного лица и определенной объективной системой предписа-
Обычно человек стремится к тому, чтобы этическое требова-
ние было выражением самой личности и служило ее наиболее
полному раскрытию. Это стремление вытекает из самого сущест-
ва нравственности. Когда оно пытается найти себе адекватное
понятийное выражение, особенно в те эпохи, где этические идеа-
лы уже или еще социально проблематичны, оно так или иначе
приходит к самовыражению в эстетических категориях, посколь-
ку именно эстетическое отражение конституирует чувственно-
наглядное единство внутреннего и внешнего, содержания и фор-
мы, характера и судьбы и т. д.
Только во времена общественных кризисов, замечает Лукач,
которые делают проблематичной нравственную жизнь человека,
начинает отрицаться всякая связь эстетической образности с его
нравственным бытием, искусство «освобождается» от всех со-
держательных условий, определяющих его формы, и эстетичес-
кое истолковывается как вполне самостоятельный принцип,
а колебание и разрушение этических ценностей выражается в
форме непосредственно «эстетического» отношения к нравствен-
ным феноменам жизни. Подобное кризисное проявление «эсте-
тизирующих» тенденций в морали показал, как отмечает Лу-
кач, еще Дидро в «Племяннике Рамо».
Лукач настоятельно подчеркивает необходимость для чело-
века занимать по отношению к тем или иным событиям опреде-
ленную этическую позицию, недопустимость эстетизации обще-
ства и истории.
V
Говоря об освободительной борьбе искусства, Лукач уделяет
внимание основным этапам этой борьбы за освобождение чело-
века, человеческого сознания и культуры от угнетения, эксплуа-
тации, фетишизма, отчуждения. Умело применяя метод материа-
листической диалектики, он воспроизводит пути осуществления
этой великой освободительной миссии реалистического искусст-
ва: от античности через средневековье, новое время до современ-
ности. Особой остроты эта борьба достигает в капиталистичес-
ком обществе, которое производит и воспроизводит отношения,
враждебные искусству и художественному творчеству, человеку
и всему человечеству вообще. Лукач показывает, как подлинные
произведения искусства рождались в борьбе против всех форм
и видов фетишизма, отчуждения и религиозности. Великое ис-
кусство прошлого и настоящего, подчеркивает он, всегда было
реалистическим, светским, гуманистическим, всегда отстаивало
и защищало жизненные интересы человека. На конкретном ана-
лизе творчества выдающихся художников прошлого и современ-
ности Лукач вскрывает основные категориальные этапы освобо-
дительной борьбы искусства, логику художественной мысли,
556
развивающейся наряду с мыслью научной. Эти высшие формы
объективации помогают человеку освободиться от тысячелетнего
религиозного дурмана, фетишизированного и отчужденного соз-
нания, подняться из царства необходимости в царство подлин-
ной свободы, стать хозяином своей собственной судьбы.
Рассмотрим основную аргументацию и основные положения
лукачевского анализа борьбы искусства за свое собственное ос-
вобождение и за освобождение человека. Если основным источ-
ником античного искусства был Гомер, то мифологической ос-
новой средневекового искусства стали Библия и священные ле-
генды. И тот и другой источники охватывают весь возможный
круг жизни человека.
Лукач признает главным искусством античности литературу,
несмотря на исключительное художественное совершенство плас-
тики. Гомер, Гесиод, Пиндар, трагики общедоступным языком
передавали изменения в общественном бытии и общественном
сознании с помощью художественной трансформации мифов;
в средневековье же только Данте, по мнению Лукача, можно
считать великим поэтом, после него литература и изобразитель-
ные искусства все больше отказывались от широкой массовой
основы. Важнейшее различие между античностью и средневе-
ковьем состояло в ведущей и направляющей роли церкви: в то
время как в Греции искусство на основе социального задания
само определяло свое содержание и форму, в средневековье эту
роль в основном выполняла церковь. Именно в средневековье
появляются возможности для борьбы за освобождение и само-
определение искусства. Правда, как отмечает Лукач, в сфере
влияния восточной церкви, где установления иконографии жест-
ко предписывали характер и формы конкретного художествен-
ного изображения, основным путем развития искусства стала
аллегоризация, в то время как на Западе из этой освободитель-
ной борьбы против религиозно-церковного регулирования вырос
реализм символического способа изображения при сохранении
иконографической связанности.
Религия во имя спасения души активно выступала против
всего земного, посюстороннего, в том числе и против искусства.
Эта спиритуалистическая тенденция намечается еще у Тертул-
лиана, отрицавшего катарсис — центральную категорию мораль-
ного воздействия искусства на человека, художественного воз-
действия вообще.
Аскетически-спиритуалистический характер приобрела идео-
логия иконоборчества, изгонявшая все посюсторонне-человечес-
кое. Правда, иконоборцы не выступали против светского искус-
ства как такового, но стремились лишь очистить христианство
от остатков магии. Поражение иконоборцев привело в Византии
к возникновению искусства, строго регламентируемого теологи-
ей, иконографические предписания которой не оставляли ника-
кого простора для развития реалистической образности. На За-
557
паде своеобразие положения феодального искусства выражалось
в том, что со времен Григория Великого рел/гиозно-церковная
значимость изобразительных искусств связьдеалась с их риту-
ально обоснованным магическим действием, и это в значитель-
ной мере освобождало путь для эстетического развития.
Новую попытку очистить религию от ее магических элемен-
тов Лукач относит к периоду реформации, отмечая, правда, что
эти тенденции никогда не усиливались здесь до ее официального,
господствующего направления. Наиболее радикальную точку
зрения защищал Кальвин, решительно отвергавший социальную
заданность религиозного искусства, обоснованную Григорием
Великим, а также его педагогическое воздействие. Однако по-
добные взгляды Кальвина касались только отношения изобрази-
тельных искусств к сфере религиозной жизни. В целом же жи-
вопись и скульптуру, то есть все изобразительное искусство, он
объявлял безразличным религии.
Точки зрения Лютера и Цвингли в этом вопросе близки по-
зиции Кальвина. Таким образом, как считает Лукач, можно ут-
верждать, что враждебность к иконам в период реформации
была направлена не против искусства вообще, но лишь против
магических элементов в христианстве. Кризис феодальной си-
стемы приводит к полному упразднению средневековой зависи-
мости искусства, к признанию его светскости.
Между этими двумя периодами иконоборчества Лукач видит
время расцвета средневекового искусства. Однако этот расцвет
отнюдь не свидетельствует, замечает он, о том, что освобожде-
ние искусства от служения религии не было необходимым. Ос-
новой для столь грандиозного взлета была, по мнению Лукача,
не сама по себе связанность средневекового искусства с рели-
гией, но именно реальная проблематичность этой связи: социаль-
ное задание искусству при всей своей четкости и конкретности,
невозможной в более позднее время, вместе с тем обладало до-
статочной гибкостью, которая сделала возможным плодотворное
и практически свободное развитие искусства. Лукач проводит
здесь аналогию с классической античностью: фольклорная осно-
ва античной и христианской мифологии со свойственным ей ла-
конизмом не только допускала, но и делала необходимыми раз-
личные истолкования, доступные широким массам только в та-
ких изображениях. Подобный материал в силу популярности,
общеизвестности своей тематики удобен для художественной об-
работки. Мир форм, сфера собственно художественного отделена
при этом от формируемого материала. Лукач утверждает поэто-
му, что своеобразие развития средневекового искусства основано
именно на специфичности его социальной заданности, и отверга-
ет вывод теоретиков и историков искусства романтического на-
правления о постоянном позитивном влиянии религии на искус-
ство. Напротив, здесь можно говорить о воздействии только в
плане постоянных и вынужденных уступок церкви, предостав-
558
ляющей все больше свободы эстетическому самостоятельному
движению искусства. Таким образом, благоприятность этих об-
стоятельств основанане на власти религии, а на силе освободи-
тельной борьбы искусства против нее. Социальную основу этой
борьбы Лукач видит в\постоянно растущем влиянии буржуазии
внутри феодального общества.
Революционность нового видения в искусстве утверждается,
по Лукачу, изображением человека, человеческих групп только
с помощью его собственных предметных средств, путем переноса
христианской мифологии в земную сферу, выявления ее обще-
человеческой сути. Подобные тенденции выступали еще во вре-
мена господства романского стиля, эта борьба не прекращается
в период готики, даже становится более решительной. Однако
не случайно, что решающий поворот здесь связан с именем
Джотто, делающего эстетическое отражение человеческой жизни
исключительным предметом искусства: реальные, земные люди
живут и действуют у него в ощутимо реальном, конкретно-инди-
видуализированном мире, не имеющем ничего общего с религи-
озно-аллегорической формой декоративно-репрезентативного
пространства традиционной религиозной живописи.
Лукач подчеркивает, что человек рассматривается все реши-
тельнее не как грешное создание бога, а как центр, средоточие
земной жизни. Религиозная тематика становится внешним по-
водом для выражения принципиально иного духовного содержа-
ния (Рафаэль, Тициан). Свидетельством нового понимания ис-
тории человечества, выхода за пределы христианской концепции
стало растущее проникновение античной тематики в материал
искусства. В «Станцах» Рафаэля, где сопоставляются «Диспут»,
«Афинская школа» и «Парнас» как символические изображения
важнейших моментов духовной жизни человечества, религия с
очевидностью лишь формально присутствует рядом с искусством
и философией.
Исследуя творчество Микеланджело, Лукач замечает, что
Микеланджело наиболее последовательно ставит в центр всех
человеческих интересов самого человека, превращая эстетически
новый подход в мировоззренческие установки.
Великий кризис западной культуры (реформация и контрре-
формация) носил отпечаток бесперспективности. Основы могу-
щества христианской церкви были расшатаны. Открытия естест-
вознания нанесли сокрушительный удар геоцентрической кар-
тине мира, отстаиваемой церковью. Политическая практика так-
же способствовала потрясению христианской картины мира.
На интеллигенцию позднего Возрождения кризис подейство-
вал, отмечает Лукач, как потрясение всех основ жизни и миро-
воззрения, и это отчетливо ощущается в поздних творениях Ми-
келанджело.
Новая картина мира, выработанная естествознанием, опре-
делила и специфику новой религиозности: христианский миф ут-
559
ратил всемирно-историческое значение, приписываемое ему цер-
ковью, став лишь эпизодом в истории ра^стей и страданий,
в истории развития человеческого рода. Чтдбы правильно понять
этот кризис, его конкретный общественно-исторический характер
применительно к сфере искусства и проблем эстетики, необходи-
мо, указывает Лукач, поставить в центр рассмотрения реализм,
последовательно формирующийся в хо'де этого процесса.
Возникновение и временное укрепление абсолютной монар-
хии, создавшее преходящее равновесие феодальных и капитали-
стических классов и слоев, подготовило конец острого кризиса.
В истории искусства эта перемена отражается наиболее отчет-
ливо в творчестве Рубенса. У Веласкеса религиозная тематика
появляется еще более эпизодично, чем у Рубенса и ее изображе-
ние имеет по меньшей мере столь же посюсторонне-земной ха-
рактер. По ту сторону кризиса стоит также голландская живо-
пись. Новые формы буржуазной жизни определяли социальную
заданность этого искусства.
И в наше время, замечает Лукач, освободительная борьба
искусства не закончена. Авангардистское искусство возникло по
существу в связи с религиозными потребностями, хотя оно и име-
ет с религией мало общего.
Рассматривая основные художественные тенденции современ-
ного авангардистского искусства, Лукач подчеркивает, что вы-
теснение символики, реалистически отражающей действитель-
ность, трансцендентной и потому абстрактной аллегоричностью
свидетельствует о подчиненности эстетического отношения ре-
лигии и религиозной потребности, о своеобразной капитуляции
искусства перед религией.
Выявляя основы и перспективы освобождения искусства,
Лукач обсуждает лишь принципиальные эстетические вопросы.
Он считает, что все, что поднимается общественно-историческим
развитием в качестве проблемы искусства, может быть разреше-
но только на основе выяснения проблемы эстетических катего-
рий. Эстетическое отражение определяет соразмерность эстети-
ческой формы и создает пропорциональность, которая удержи-
вает правильно оцененное отношение между внутренним и
внешним, субъективным и объективным; из этого возникает им-
манентность и посюсторонность — фундаментальные качества
произведения искусства. Структура произведения является по-
этому собственным, в глубочайшем смысле общим содержанием
социального заказа в искусстве. Художественное произведение
представляет определенный этап в развертывании самосознания
человечества. Вот почему реализм Лукач признает не особым
стилем среди многих других, но художественной основой всякого
действительного творчества. Если всякое искусство реалистично,
то нет ничего столь радикально варьирующегося, как те средст-
ва выражения, те системы отношений и т. п., которые историчес-
ки делают возможным любой современный реалистический стиль.
560
Наоборот, абстрактная партикулярность разрушает произведе-
ние как таковое. \
Лукач подчеркивает, что только социалистический обществен-
ный строй может разорвать последнюю связь человека с поту-
сторонностью, с бессодержательной, абстрактной религиозной
потребностью. Он завершает свой фундаментальный труд сло-
вами великого Гёте:
Знаток науки и искусств
В душе имеет веру,
А тот, кто им обоим чужд,
Навек во власти веры.
* *
*
Подводя итоги рассмотрению «Своеобразия эстетического»,
следует еще раз отметить, что это исследование является самым
зрелым и самым цельным из всего того, что было написано Лу-
качем по вопросам эстетики, литературы и искусства. В нем
Лукач, как мы видели, не только ставит основные эстетические
проблемы, но и пытается разрешить их на основе достижений
современных естественных и общественных наук с позиций ма-
териалистической диалектики, логики и теории познания и ле-
нинской теории отражения. К сожалению, Лукачу удалось за-
вершить лишь первую диалектико-материалистическую часть ра-
боты, а две другие части, рассматривающие структуру произве-
дения и генезис искусств, остались неосуществленными. Тем не
менее, главный замысел или главная задача — всестороннее
обоснование реализма — была выполнена.
Завершая характеристику эстетических воззрений Д. Лукача,
нельзя не отметить, что не было ни одной сколько-нибудь важ-
ной проблемы — философской, этической, эстетической, обще-
культурной и т. д., которую он бы так или иначе не пытался ре-
шить, решить с позиций рабочего класса и его партии, с позиций
марксизма-ленинизма, с позиций социализма и коммунизма.
Если его путь к авангарду современного революционного дви-
жения, рабочему классу и его партии был относительно недол-
гим (1919), то путь Лукача к Марксу и Ленину1 занял гораздо
большее время (1930), ибо теоретическая и политическая борь-
ба за дело партии и рабочего класса, причем борьба на протя-
жении многих десятилетий — борьба чрезвычайно сложная и
трудная. Однако Лукач, выбрав однажды свой жизненный
и творческий путь, шел по нему последовательно и неуклонно.
1 См. глубокие работы Лукача о Марксе и Ленине, составившие отдель-
ную книгу: L u к а с s G. Marx es Lenin Budapest, 1985.
36—805
561
Известно, что у Лукача — и он сам признавался в этом —
были теоретические, творческие, политические ошибки, заблуж-
дения (не ошибается только тот, кто ничего не делает), ко-
торые лишний раз подтверждают неимоверные трудности пере-
хода буржуазного интеллигента к марксизму. Насколько труден
этот переход, можно судить хотя бы по тому, что из всей плеяды
революционно настроенных интеллигентов, близких к Лукачу во
времена его молодости, может быть, наберется всего несколько
человек, которые выбрали этот же путь, да и то не все из них
пришли к марксизму.
Сама по себе фигура Лукача, сама система его взглядов в их
становлении предстают как бы связующим звеном между клас-
сической и современной философией и культурой, а также меж-
ду классическими и современными прогрессивными течениями
буржуазной философии, искусства и культуры. Его теоретическая
и политическая деятельность, сама его многогранно одаренная
и универсально развитая личность, его необычайно богатая эру-
диция, глубокое знание мировой культуры притягивали к нему
творчески мыслящую интеллигенцию: философов, художников,
писателей, композиторов и других деятелей науки и культуры,
с которыми его связывала многолетняя дружба, с которыми он
вел постоянные споры и дискуссии по важнейшим проблемам
социально-политической, научно-теоретической, практической и
культурной жизни1.
Жизненный и творческий путь Лукача2 характеризуется .не-
устанным, напряженным, титаническим трудом над решением
сложнейших проблем современной эпохи, поскольку он хорошо
понимал, что настоящий философ, чтобы оказывать идейное и по-
литическое воздействие на судьбы и исход борьбы двух социаль-
но-экономических формаций — капитализма и социализма, на
судьбы миллионов людей, должен находиться в гуще народной
жизни, в центре идеологических сражений. Воздействие теорети-
ческих исследований Лукача на европейскую философскую
мысль и идеологическую борьбу ощущалось и ощущается посто-
янно и во все возрастающей степени, ибо Лукач ставил такие
вопросы и пытался решить их таким образом, что диалектичес-
кая мысль — «живая душа марксизма» — активно пульсировала
в его трудах, охватывая круг все новых проблем и все новых
решений новой эпохи. Именно этим объясняется необычайная
актуальность философско-эстетического наследства Лукача, нас-
ледства, стимулирующего теоретическую мысль на новые поис-
ки, исследования и открытия.
К. М. Долгов,
доктор философских наук, профессор
1 См. переписку Лукача: Lukâcs G. Levelezése (1902—1917). Magvetö,
1981.
2 См.: Hermann I. Lukâcs György eleté. Corvina, 1985.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Августин Аврелий 2 — 374; 4 — 208
Аверроэс 3 — 249
Агриппа Неттесгеймский 4—331
Адама ван Шелтема Ф. 1 — 208, 263,
264, 266, 276; 2 — 91, 99, 131, 132;
4 — 84, 85, 339
Адорно Т. 2 — 334, 354; 4 — 42, 64,
65
Алкивиад 4 — 250, 264
Альфьери В. 2 — 339
Амманати Б. 4— 140
Анаксагор 1 —115
Андерсен X. К. 1 — 60, 61; 2 — 320
Андерсен-Нексё М. 2 — 222; 4 —
463, 499
Анджелико 2—178, 318, 354, 357
Ансельм Кентерберийский 1 — 98;
3 — 247
Аретино П. 4 — 47
Ариосто Л. 4 — 48, 350
Аристарко Г. 4—179
Аристипп 4 — 258
Аристотель 1 — 11, 12, 20, 114, 121—
124, 130, 143, 172, 175, 178, 225,
253, 254, 2 — 6, 41—43, 74, 182,
223, 255, 300, 306—308, 311, 312,
318, 352, 360, 362, 363, 370, 398,
420, 427, 431, 432, 439; 3 — 32, 33,
35, 36, 41, 54, 179, 188, 192—198,
223, 228, 236, 243, 244, 247; 4 — 7,
9, 10, 43, 44, 53, 66, 68, 138, 190,
204, 209, 229, 246, 335, 338, 339,
468, 482
Аристофан 2 — 201, 439, 3—109;
4 — 259, 333
Арманд И. 2 — 310
Арнольд М. 2 — 315, 316
Архилох 4 — 334
Архимед 1 — 116
Арчимбольди Дж. 4 — 362
Астерий Амасийский 4 — 345
Ауэрбах Э. 4 — 400
Баадер Ф. К. фон 2— 177
Байрон Дж. Н. Г. 4 — 289, 302
Бакунин М. А. 4 — 490
Балаж Б. 3 — 109; 4—155, 172, 180
Бальзак О. де 2 — 204, 205, 214,
238, 315; 3—122, 125, 133, 143,
234, 282; 4 — 251, 252, 290
Барт К. 4 — 357, 370, 398, 444, 454,
490
Барток Б. 3—104; 4 — 54, 55, 65,
122, 298, 463
Бассерман А. 4— 174
Баумайстер Б. 4—174
Бах И. С. 4 — 42, 57, 62
Бейль П. 1—48
Беккет С. 2 — 406; 3 — 27, 4 — 218
Бекман М. 4 — 409
Белинский В. Г. 2 — 306
Беллармин Р. 1 — 134; 3 — 250; 4 —
452
Бенн Г. 3—120; 4 — 410—412
Беньямин В. 4—152, 155—157, 178,
402, 404—408, 410
Беньян Дж. 2 — 439
Берг А. 4 — 54, 55
Бергсон А. 1 — 136; 2 — 320; 3 — 35,
263, 4—10, 24, 25, 441, 454
Бердяев Н. А. 4 — 422, 483
563
Беркли Дж. 1 — 19; 2—192; 3 —
249—252, 263; 4 —87, 410
Берн-Джонс Э, 3 — 77
Бернанос Ж. 4 — 426, 427
Бернал Дж. Д. 1 — 31, 62, 103
Бернар Э. 3 — 79
Бернсон Б. 2—140, 199; 3 — 75, 76;
4 — 46, 354, 356, 362, 369
Бернштейн Э. 2 — 221
Бетховен Л. ван 1 — 279; 2 — 216,
236, 298, 334, 354, 418, 432, 433;
3—141; 4 — 42, 52, 62
Бичер-Стоу Г. 2 — 276
Блейк У. 2 — 216
Блуа Л. 4 — 371, 372, 401, 426
Боас Ф. 1—78, 168, 214, 215, 236,
265, 276; 2 — 108; 4 — 81
Бодлер Ш. 4 — 329, 408, 427
Бойто А. 4 — 59, 174
Боккаччо Дж. 4 — 343, 350
Болингброк Г. С.-Дж. 1 — 183
Бомарше П. 2 — 417
Боттичелли С. 2 — 139; 3 — 77
Боэций 4 — 476
Брам О. 4—156
Браманте Д. 4 — 114
Брамс И. 4 — 56, 59, 119, 183
Браунинг Р. 3 — 124
Браунинг Э. 3— 124
Брейгель П. Старший 2—142, 200,
293, 296, 311; 3 — 234; 4 — 47, 359,
360, 362, 471
Бретон А. 3 — 77
Брехт Б. 2 — 250, 299, 417, 432, 440;
3—163—166; 4—156, 413, 499
Брие Э. 2 — 440
Брокмёллер К- 4 — 357, 360
Брох Г. 2 — 321, 332, 437, 438; 4 —
410
Брунеллески Ф. 4 — 91, 94, 97
Бруннер Э. 4 — 446
Бруно Дж. 1 — 115, 157
Бультман Р. К. 4 — 447, 453
Буонаюти Э. 3 — 247; 4 — 355
Буржелен П. 4 — 358
Буркхардт Я. 1 — 114, 11-6, 159, 174,
250, 251; 4 — 288, 289, 359, 362
Бэкон Ф. 1 — 12, 119, 151—157, 250;
2—180, 181, 434; 3 — 249; 4 —
139, 150, 461/
Бюффон Ж. Д. Л. 2 — 204
Бюхер К. 1—207, 209, 210, 215—
217, 224/3 — 95; 4 — 13, 16
Вагнер К. 4 — 58
Вагнер Р. 2 — 354, 432; 4 — 54, 57,
119
Вайблингер В. 3 — 81
Валери П. 2 — 412
Ван Гог В. 2 — 245; 3 — 71, 72, 78,
79, 133; 4 — 299, 369, 413
Ванини Л. 1 — 157
Вебер М. 1—22, 163; 4 — 211, 425,
42*8—430, 437, 438, 448—450, 456
Ведекинд Ф. 3 — 109; 4 — 430
Вейль Г. 1 — 236, 238, 273, 284
Вейсе X. 4 — 244, 270
Веласкес Д. 4 — 365
Вёльфлин Г. 1 — 224, 236, 238, 250;
2—139, 144, 329; 4 — 140, 143
Вергилий Марон Публий 2 — 238,
239; 4 — 465
Верди Дж. 4 — 59, 119, 172
Верлен П. 3 — 157, 158
Верманн К. 1 —251
Вермеер Дельфтский Я. 2 — 350; 4 —
299, 301, 366
Вестфален Ж. фон 4 — 260
Вивальди А. 2 — 443
Видман И. В. 4 — 59
Вико Дж. 1 — 12, 86, 88, 109, 164,
182, 183, 185, 266
Викхоф Ф. 2 — 111—113, 118; 3 —
107
Вильгельм II 4—119
Вингерт П. С. 1 — 87
Виндельбанд В. 2 — 248
Винкельман И. П. 4 — 373, 374, 403
Виньола Дж. да 4 — 114, 117
Витгенштейн Л. 1—219, 220; 4 —
409
Вольтер 2 — 373
Вордсворт У. 4 — 140
Воррингер В. 1 — 227, 240, 286—291;
2 — 99, 132, 259; 3 — 165; 4 — 84,
339, 351, 352, 405, 408
564
Вюйяр Э. 2 — 348
Галилей Г. 1 — 115, 119, 150—152,
157, 272; 2 — 299, 399; 3 — 250;
4—11, 358, 452, 461
Гаман Р. 1 — 181—183'
Гандель-Мазетти Э. фон 4 — 348, 371
Ганслик Э. 2 — 351, 352; 4 — 25, 26
Гарбо Г. 4—174
Гартман Н. 1—99; 2 — 302—304,
331; 3 — 94, 146; 4 — 24, 26, 113,
248, 250, 274, 275, "308, 419—422,
430, 453
Гартман Э. фон 3 — 244
Гассенди П. 1 — 118, 157
Гаске И. 3 — 224; 4 — 300
Гаттамелата Э. 4 — 355
Гауптман Г. 4—170, 218, 426, 427
Гварди Фр. 4 — 299
Геббель К. Ф. 1 — 280; 2 — 342, 343;
3—164; 4—19, 226, 262
Гегель Г. В. Ф. 1— в, 9, 11, 12, 14,
20, 21, 29, 39, 40, 49, 50, 72, 96,
100, 120, 121, 124, 125, 130, 141,
151, 153, 169, 180, 183, 202, 205,
235, 270—272, 279, 283; 2 — 12—
14, 22, 25, 40, 48, 50, 58, 61, 116,
117, 127, 153, 167, 181—186, 190,
193—195, 200, 201, 209, 219—225,
230, 231, 234, 235, 243, 251, 255—
257, 262, 271, 289, 290, 292, 293,
295, 306, 309, 321—323, '325, 333,
341, 342, 344, 349, 361, '367, 372,
373, 378—380, 385, 386, 396, 404—
407, 426, 454; 3—в, в, 9, 14, 22,
23, 62, 72, 89, 126, 131, 168, 172—
176, 179—181, 183—185, 188, 191,
192, 220, 221, 237, 252, 253, 255—
257, 268, 269, 283—287; 4—10, 12,
24—29, 45, 46, 72—77, 79, 82, 87,
96, 103—105, 1:90, 204, 205;
217, 222, 243, 252, 265, 333, 376,
391, 392, 411, 420, 422, 444, 479,
486
Гейбель Э. 2 — 300; 4 — 218
Гейзенберг В. 1 — 136
Гейне Г. 2 — 211, 231, 402; 4 — 56,
263, 295, 427
Гелен А. 1—53, 66, 73, 83, 141,
169—171, 173, 174, 214, 215, 220;
2 — 23, 24, 36, 93—96; 3 — 16—19,
37, 66, 94, 95; 4 — 14
Геллинграт Н. фон 3 — 81
Гёльдерлин Ф. 3 — 78—82; 4 — 486
Гельмгольц Г. фон 4 — 21
Гендель Г. Ф. 3 — 278; 4 — 42, 50,
57, 367, 368
Георге Ст. 1 — 259, 278; 3 — 158;
4 — 293
Георгиадес Т. 4 — 6, 52, 53
Гераклит Эфесский 1 — 120, 173; 2 —
227, 292, 320, 330; 4 — 334
Гераклит (стоик) 4 — 395
Гер дер И. Г. 1—44, 243; 3—156;
4 — 8, 267
Гёрнес М. 1 — 260, 266; 2 — 91, 97,
100, 125
Геродот 1 — 178
Герон 1 — 116
Гессе Г. 2 — 432; 4 — 68, 294
Гесиод 4 — 334, 342, 465
Гёте И. В. 1 — 12, 20, 21; 40—42,
144, 195, 196, 209, 222, 223,
226—228; 251; 2—12, 50, 63, 70,
77, 92, 119—121, 123, 124, 151, 152,
172, 211, 213, 220, 226, 251, 299,
313, 325, 337, 358, 367, 378, 391,
400—403, 421, 424—426, 430, 431,
434, 443, 457; 3 — 51, 102, ИЗ,
121, 129, 134—136, 138—140, 150,
151, 153, 156—158, 169, 174, 188,
207, 209, 210, 213, 219, 224, 230,
237, 289, 290; 4 — 32, 56, 72, 75,
136, 137, 150, 163, 169, 201—203,
209, 223, 229, 231, 252, 253, 259,
266, 271, 272, 287, 289, 293, 306,
309, 327, 373—376, 382, 403, 404,
448, 465, 468, 481, 486, 501
Гёц К. А. 4 — 426
Гиббон Э. 1 — 149
Гиллен Ф. Дж. 2—103
Гиппократ 3 — 7
Гирландайо Д. 2 — 144
Гоббс Т. 1 — 12, 140, 141, 144, 145;
3 — 37, 249, 256; 4 — 483
Гоголь Н. В. 2 — 429
565
Гойен Я. ван 4 — 299
Гойя Ф. 2 — 222, 441; 3 — 283; 4 —
359, 369, 471
Гольбах П. А. 4 — 436
Гольбейн Г. Младший 1 — 236; 4 —
355, 356
Гомер 1 — 290; 2—108, 109, 134,
201, 239, 245, 318, 338, 340, 358,
379, 412, 447; 3 — 41, 107, 278;
4 — 330, 333—335, 341,- 342, 374,
386; 410, 438, 448, 469, 498
Гонгора-и-Арготе Л. де 4 — 361, 445
Гораций 4 — 465
Горгий 4 — 335
Горький М. 2 — 213, 222, 223, 395,
397, 398, 400, 417, 418, 448; 3 —
164; 4 — 316, 385, 463, 498, 499
Готхайн М. Л. 4 — 144, 145
Готшед И. К. 3—130
Гофмансталь Г. фон 2 — 174, 389,
390, 412; 4 — 25, 151, 435
Гоццоли Б. 4—111
Григорий I Великий 4 — 343, 347,
354, 369, 400
Гриммельсгаузен Г. Я. К. фон 4 —
360, 403
Грин Г. 4 — 372
Гриффит Д. 3 — 109; 4 — 155
Гроос К. 1—83; 2—6
Грюнвальд М. 2—178
Гумбольдт В. фон 4 — 287
Гюго В. 2 — 439, 442
Гюисманс И. К. 2 — 53
Данте Алигьери 1 — 176, 279; 2 —
318; 3—139, 148, 234; 4 — 48, 330,
342, 371, 393, 400, 401, 451, 465
Дарвин Ч. 1 — 27, 87, 181, 211, 235,
260—262, 264; 2 — 6, 319; 3 — 9,
48, 55, 69; 4 — 479, 486
Дворжак М. 4—114, 343—345, 354,
360—364, 367
Де Куинси Т. 4 — 247, 248
Де Сика В. 4 — 168, 182, 183
Декарт Р. 1 — 36, 144, 152; 2 — 435;
3 — 249
Делакруа Э. 4 — 369
Демокрит 1 — 19, 37, 117, 135; 3 —
242; 4 — 335
Дени М. 4 — 370
Дери Т. 4 — 164, 499
Дефо Д. 2 — 245; 4 — 296
Джойс Дж. 4 — 410
Джорджоне 2—142, 245, 350; 4 —
299, 355, 386
Джотто ди Бондоне 2—144, 178,
236, 383, 384; 3—104, НО, 111;
4 — 298, 351—353, 386, 400, 401,
468
Дидро Д. 1 — 12; 2 — 77—80, 199,
396; 3 — 45, 105, 106, 289, 290; 4 —
156, 246, 247, 250, 251, 271, 272
Диккенс Ч. 2 — 343; '3 — 234, 235;
4—119
Дильтей У. 2 — 260; 3 — 6, 80, 81,
263; 4 — 469
Диоген Лаэртский 4 — 334
Дионисий Ареопагит 3 — 245, 288;
4 — 396—398, 409, 477
Добрицхофер М. 1 — 104
Добролюбов Н. А. 3 — 164
Домье О. 2 — 153, 154, 222, 441—
444; 4 — 245, G59, 471
Дос Пассос Дж. 2 — 338
Достоевский Ф. М. 2 — 217, 367, 429;
3 — 36, 47, 48, 147; 4—313, 315,
317, 355, 426, 457, 466
Дудинцев В. Д. 4 — 498
Дьюи Дж. 1 — 73
Дюге к. 4—143
Дюгем П. 4 — 452
Дюма (сын) А. 2 — 277
Дюрер А. 1 — 240, 248—250, 252, 253
Евклид 1 — 165, 239
Еврипид 1 — 173; 2 — 153, 238; 3 —
41, 49, 108, 125; 4 — 333
Жакоб И. 3 — 73
Жан Поль 1 — 142; 3 — 54
Жид А. 2 — 343; 3 — 123
Зевксис 4 — 380
Зедльмайр Г. 4—121, 359
Зелль И. 3 — 74
566
Зенон Элейский 2 — 325, 330
Зиммель Г. 1—25, 101; 3 — 134,
231, 263, 357; 4 — 366
Зольгер К. В. Ф. 4 — 45, 190, 403
Золя Э. 1 — 166; 2 — 338, 340, 342;
3 — 123; 4—178, 331, 462
Ибсен Г. 1—22, 166; 2 — 77; 3 —
120; 4 — 35, 70, 119, 261, 435
Икскюль Я- фон 1 — 35
Иоанн Скотт Эриугена 3 — 245, 288;
4—186, 189
Иоахим Флорский 1 — 109; 4 — 351,
396, 399
Ионеско Э. 4 — 218
йеринг Г. 4 — 170
Кайзер Г. 4 — 492
Кальвин И. 2 — 374; 4 — 347, 429
Кальдерон де ла Барка П. 4 — 3'83,
393, 401
Камю А. 4 — 457
Каналетто А. 4 — 299
Кант И. 1—8, 10, 22, 87, 92, 93, 95,
96, 105, 153, 1-81, 188, 189, 24Ô,
246, 274, 275, 278; 2 — 119, 120,
153, 168, 172, 189, 192, 207, 208,
229, 272, 273, 276, 278, 279, 302,
320, 321, 336, 359, 360, 401, 407,
408, 419; 3 — 72, 111, 112, 126,
135, 187, 188, 190, 193, 194, 231,
237, 245, 250—254, 262, 263, 269;
4 — 21, 23—26, 99, 184, 186—190,
203, 210, 238, 241, 244, 245, 248,
273—275, 289, 319, 320, 376, 388,
469, 482
Карлштадт 4 — 347
Карнап Р. 1 — 19
Кассирер Э. 1 — 36, 37; 2 — 361
Касснер Р. 4 — 427
Кастильоне Б. 4 — 359
Каутская М. 3 — 220
Кафка Ф. 2 — 285, 406; 4—174
Келлер Г. 1 — 222; 2 — 192, 228,
332, 343, 384, 434; 3 — 59, 125,
143; 4—119, 163, 433, 436, 445,
468, 473
Кеплер И. 1 — 118; 2 — 333; 4 — 9,
11, 269, 270, 358
Керр А. 2 — 228
Китон Б. 4— 174
Ките Дж. 2 — 166; 4 — 322, 323
Клагес Л. 1—36, 78; 2 — 228, 320,
346; 3—114, 134
Клаудиус М. 2 — 73; 4 — 322
Клейст Г. фон 2 — 381
Климент Александрийский 1 — 276;
4 — 343, 396
Клодель П. 4 — 372
Клопшток Ф. Г. 2 — 169—172, 178,
183
Кодуэлл К. 1 — 78, 218, 219, 226;
2 — 225, 259, 396; 3—135
Коллеони Б. 4 — 354
Колонна В. 4 — 359
Кольридж С. Т. 4—140, 247
Коммаджер Г. С. 4 — 425
Кондиви А. 2 — 287
Конрад Дж. 2 — 437; 3 — 26, 39;
4 — 220, 296, 413
Константин I Великий 4 — 344
Коперник Н. 1 — 19, 59, 134, 150;
2 — 298, 442; 3 — 250, 260; 4 —
358, 442, 452, 479
Корнель П. 2 — 373; 4 — 393
Корреджо А. 4—112
Котт Я. 1 — 255
Кречмер Э. 3 — 71
Критий 1 — 11'9
Кроче Б. 3 — 231
Ксенофан 1 — 106, 119, 218; 2 —
192, 319; 4 — 334
Ксенофонт 3 — 42
Куган Дж. 4—163
Курбе Г. 2 — 415; 3 — 104, 203; 4 —
299, 369
Курт-Малер X. 2 — 438
Кьеркегор С. 1 — 24, 54, 101, 102,
135, 145, 297; 3 — 42; 4 — 58, 67,
68, 253, 254, 390—393, 425, 426,
445—448, 457—459, 477
Кюн Г. 2 — 102
Кюрель Ф. де 1 — 46
Лабрюйер Ж. де 3 — 44, 45
Лагранж Ж. Л. 1 — 103
Лакло П. А. Ф. Шодерло де 3 — 47,
51, 52, 125; 4 — 251
Ланге В. 3 — 80, 82, 83
Ларошфуко Ф. де 3 — 45
Ласк Э. 3 — 243
Лассаль Ф. 1 — 10
Лафайет M. М. де 3 — 125
Лафатер И. К. 2 — 346
Леви-Брюль Л. 1—63, 70, 77, 104,
207; 2—173, 257
Левкипп 1 — 37; 3 — 285
Лейбль Г. 2 — 350; 4 — 369
Лейбниц Г. В. 1 — 48, 49, 274; 2 —
11, 14, 167, 400
Ле Корбюзье 4— 121
Ленин В. И. 1 — 10, 21, 36, 45, 50,
58, 59, 61, ПО, 205, 220, 230; 2 —
8, 13, 14, 24, 25, 48, 66, 189, 190,
194, 215, 238, 251, 270, 271, 309,
310, 320, 335, 341, 372, 379—381,
418; 3—19—21, 179, 196, 205,
214, 255; 284; 4 — 209, 212, 285,
490, 491, 493—495
Леонардо да Винчи 1 — 240, 248;
2—113, 114, 139, 144, 287, 327,
335, 346, 384; 3 — 76, 141; 4 — 62
Лессинг Г. Э. 1 — 13; 2—182, 226,
247, 275, 278, 324—328, 337—339,
420, 433; 3 — 57; 4—159, 339,
393, 403, 470, 473
Либерман М. 2—15; 3 — 220; 4 —
92
Лилло Дж. 2 — 437
Линней К. 2 — 254
Линтон Р. 1—87
Липпс Т. 1 — 286
Лисипп 2— 182
Лист Ф. 4 —61, 1Г9
Лифшиц М. А. 1 — 10
Лихтенберг Г. К. 4 — 343
Лойола И. 2 — 36; 4 — 360, 361
Локк Дж. 4 — 444
Лоренс Д. Г. 2 — 390
Лоррен К. 2 — 217; 4 — 299; 315
Лукиан 2 — 75
Лукреций Kapp 1 — 130, 176; 3 —
148
Льюис С. 2 — 437
Людвиг О. 3 — 130, 142, 159
Лютер М. 4 — 347, 348
Мазаччо 4—111, 356, 386
Макаренко А. С. 2 — 420; 3 — 52;
4 — 462, 463, 499
Макиавелли Н. 1 — 149; 4 — 358,
483
Малер Г. 2 — 353
Малиновский Б. 4 — 424
Малларме Ст. 2 — 396; 4 — 408, 409
Мальро А. 1 — 288
Мандевиль Б. 4 — 483
Мане Э. 2 — 288, 344;%4 — 299
Манн Г. 2 — 432
Манн Т. 1 — 91, 138, 149, 179, 262,
290; 2 —77, 213, 220, 333, 339, 352,
367, 432; 3 — 65, 68, 69, 104, 129,
147; 4 — 28, 65, 68, 122, 164, 262,
311, 312, 463, 466, 469, 485, 486
Мантенья А. 4 — 111
Маре X. фон 2 — 251
Мария Агредская 4 — 371
Маритен Ж. 4 — 370, 371, 427
Маркс К. 1—7, 10, 11, 17, 20, 21,
26, 28, 29, 38, 43, 51—53, 63, 78,
107, 113, 114, 132, 133, 139, 142,
149, 159, 160, 101, 179, 18,3—186,
190, 191, 239, 249, 260, 264, 267,
270, 285, 289; 2 — 7, 8, 108, 109,
133, 136, 160, 161, 185, 186, 188,
194, 203—205, 209, 215, 219, 220,
239, 251, 314—316, 321, 322, 333,
363, 379, 396, 435; 3 — 90, 92, 100,
178, 233, 257, 266, 268, 284, 287;
4 — 53, 69, 95, 106, 118, 119, 124,
164, 205, 209, 222, 259, ' 260, 276,
278, 280—282, 284—286, 335, 479,
490, 491, 493
Мартен дю Гар Р. 4—163, 413, 463
Мартини С. 2 — 318
Марцелл М. К. 1 — 116
Матисс А. 4 — 371, 413
Мах Э. 1 — 19
Маяковский В. В. 2 — 441, 443
Мейер Э. 1 — 174
Мейерсон Э. 1 — 255
568
Мейлер ван ден Брук А. 2 — 321
Мелвилл Г. 4 — 296, 311
Мелль Р. 3 — 61
Мендельсон М. 1 — 114
Меринг Ф. 1 — 10, 72, 181
Метастазио П. 3—149
Метерлинк М. 3 — 27
Микеланджело Б. 2 — 137, 154, 287,
288, 298, 346, 349, 382, 384, 415,
433; 3 — 72, 141, 142, 145, 234;
4 — 47, 62, 110, 112—114, 169, 356,
357, ,363, 365, Э68, 369, 386, 468
Милле Ж. Ф. 4 — 299
Мильтон Дж. 2 — 439; 4 — 368, 465
Миттервурцер Ф. 4 — 174
Мольер Я. 2 — 154; 3 — 57; 4 — 471
Моне К. 4 — 299
Мопассан Г. де 3 — 220, 221; 4—172
Мор Т. 2 — 215, 439
Морган Л. Г. 4 — 479
Моргенштерн X. 4 — 305, 306
Мориак Ф. 4 — 372
Моррас Ш. 4 — 428
Моцарт В. А. 2 — 353; 4 — 60, 62,
68
Музиль Р. 1 — 142; 2 — 312, 340, 398,
413; 3 — 169
Мюнцер Т. 1 — 109; 4 — 432, 490
Наполеон I 4 — 313
Наполеон III 4—119
Николай Кузанский 3 — 252, 253;
4 — 443, 444
Нильсен Л. 4—174
Ницше Ф. 2 — 38, 157, 158, 192; 4 —
54, 66, 67, 454
Новалис 2 — 147, 357; 4 — 253, 404
Ньево И. 2 —231
Ньютон И. 2 — 399, 400; 4 — 273
Ожье Э. 2 — 277
Оливье. Л. 4— 175, 176
О'Нил Ю. Г. 2 — 250
Оппенгеймер Р. 2 — 299
Ориген 1 — 276; 4 — 396
Ортега-и-Гасет X. 1 — 136, 288; 4 —
120
Осиандер А. 3 — 250; 4 — 452
Островский А. Н. 3 — 164; 4 — 226
Остхяуз К- 2 — 414
Павезе Ч. 4 — 372, 416
Павлов И. П. 1 — 24, 27, 44, 46, 50,
69, 207, 208, 210; 2 — 5, 84, 86,
104, 105, 260, 355; 3 — 5—16, 19—
25, 27—30, 34, 35, 54, 64, 65—67,
69—71, 76, 77, 79, 88, 89, 95, 114,
172, 184
Парето В. 1 —29, 81
Паррасий 3 — 42
Паскаль Б. 1 — 127, 135, 137, 288;
4 — 360, 388, 439
Пеги Ш. 4 — 372
Пеладан Ж. 4—1371
Пенроуз Ф. Г. 1 — 251
Перуджино П. 4 — 369
Петёфи Ш. 2 — 441, 44,3, 444, 452
Петрарка Ф. 4 — 288, 289
Пизано Н. 4 — 351
Пикассо П. 4 — 371, 413
Пиндар 4 — 6, 7, 18, 28, 36, 44, 53,
342
Пинтуриккьо 4 — 3|81
Писарев Д. И. 1 — 50; 3 — 20
Пискатор Э. 4— 178
Пифагор 1 — 18, 155, 272, 333; 4 —
10, 334
Планк М. 1 — 139, 140; 4—11, 453
Платон 1 — 14, 40, 76, 96, 119, 121,
122, 124—129, 135, 137, 151, 155,
176, 226, 272, 273, 282; 2—6, 167,
182, 227, 257, 292, 352, 407, 432;
3 — 41, 107, 167, 195, 242, 243; 4 —
9, 10, 43, 44, 53, 66, 68, 190, 191,
210, 240, 244, 253—255, 257, 259,
263, 264, 305, 306, 331, 336—339,
346, 371, 383, 394
Плеханов Г. В. 1 — 10, 262
Плиний Старший 2 — 182
Плотин 1—96, 122—124, 126, 129,
135, 254; 2 — 36, 172, 193; 3 — 51,
187, 246, 262, 269, 288; 4—190,
254, 257, 326
Плутарх 1 — 116, 224; 3 — 43; 4 —
258
По Э. 1—223; 2 — 303; 3 — 156, 157
569
Поликлет из Аргоса 1 — 241
Поль Ф. 3 — 73, 74
Понтоппидан X. 4 — 426, 434
Поппер Л. 2 — 293—295, 311
Порто Дж. делла 4—117
Порфирий 4 — 326
Посидоний 4 — 468
Прантль К. фон 1—40; 2 — 255;
362; 3 — 33
Преториус Э. 2 — 288
Принцхорн Г. 3 — 71—73, 79
Протагор 1 — 115, 119, 121; 3—151
Пруст М. 2 — 396, 397, 400
Пудовкин В. И. 4—167
Пуссен Н. 4—143
Раабе В. 2 — 231
Рабле Ф. 4 — 351, 360
Ранке Л. фон 1 — 264
Расин Ж. 3 — 230, 234
Ратенау В. 2 — 228
Рафаэль 1—236, 237; 2—137, 245,
44.3, 444; 4 — 46, 111, 245, 356,
369, 371
Рейнхардт М. 4— 171
Рейсдал С ван 2 — 345; 4 — 299
Рембо А. 2 — 287; 3—156; 4 — 408
Рембрандт X. ван Рейн 1 — 237, 279;
2—137, 139, 142, 236, 296, 299,
345, 433; 3 — 72, 145, 278; 4 — 46,
47, 62, 152, 169, 364, 366—368, 378
Ренш Б. 1 — 211, 212
Репин И. Е. 3 —8
Ригль А. 1—237, 265, 275, 281; 2 —
140—142; 4 — 89, 90, 109, 117,
124—126, 133, 134, 290, 302, 408
Рид Г. Э. 1 — 79, 80
Рикардо Д. 1 — 52
Риккерт Г. 1 — 34; 2 — 248
Рильке Р. М. 2 — 288, 348, 427, 433;
4 — 427
Ример Ф. В. 3 — 213
Рисмен Д. 4 — 455
Ричард III —4 —246
Ришар Сен-Викторский 4 — 399
Роб-Грийе А. 2 — 338, 390
Робеспьер M. М. И. де 4 — 490
Роде Э. 2 — 37, 38, 157
Роллан Р. 4 — 47, 58, 367
Россетти Д. Г. 3 — 77
Ротхаккер Э. 1—35; 3 — 27
Рубен В. 1 — 102, 103
Рубенс П. П. 2 — 384; 4 — 46, 365
Руссо Ж. Ж. 3-57; 4 — 99, 141,
146, 273, 287
Савинков (Ропшин) Б. В. 2 — 430
Саккетти Ф. 4 — 353
Саразен П. 1 — 238
Сарду В. 2 — 277
Сапфо 2 — 287
Свифт Дж. 1—255, *256; 2 — 218
Сегерс X. 4 — 299
Сезанн П. 2 — 287, 288, 414, 415;
3 — 203, 221, 222, 224, 264, 265,
292; 4 — 300, 301, 368, 369, 413
Секст Эмпирик 1 — 121
Сениор Н. У. 1 — 114
Семпер Г. 1—265, 281
Сервантес Сааведра М. де 2 — 412;
3—119; 4 — 48, 351, 361, 475, 476
Сидни Ф. 2 — 95, 181
Силезиус Ангелус 2—192; 4 — 445
Синклер Э. 2 — 270, 448, 449; 4 —
178, 220
Сисмонди Ж. Ш. С. де 1 — 161
Скотт В. 3 — 282
Сократ 1 — 142; 2—172; 3 — 42, 195г
196; 4 — 43, 209, 240, 250, 258,
264, 305, 436
Солон 4 — 331, 334
Софокл 1 — 173; 2 — 32, 153, 162,
201, 433; 3 — 41, 80; 4 — 385,
465, 470
Спенсер Г. 2—103
Спиноза Б. 1 — 12, 20, 140, 141,
143—145, 152, 156, 157, 272; 2 —
218, 290; 435; 3—120, 173, 249,
256; 4 — 33, 38у 203, 209, 229, 230,
468, 480—482
Сталин И. В. 4 — 493—496, 500
Сталь А. Л. Ж. де 4 —14
Стендаль 2 — 95, 231; 4 — 251, 252
Стравинский И. Ф. 4 — 54
Стриндберг А. 2—194; 3 — 58, 78,80
570
Тацит 1 — 182; 4 — 438
Тейлор Ф. У. 3 — 18
Тейяр де Шарден П. 4—454
Теккерей У. М. 4—119
Теофраст 3 — 44
Тертуллиан 1—21; 4 — 343, 344,
392, 393, 477
Тинторетто Я. 4 — 362—365, 367
Тициан 1—245, 283; 2 — 178, 245;
3 — 234, 235, 283; 4 — 263, 355
Тойнби А. 4 — 447, 454
Толстой Л. Н. 1 — 60, 61, 76, 245;
2—213, 214, 315, 377, 384, 396,
409, 410, 412, 429; 3 — 8, 31, 43,
44, 59, 65, 66, 68, 169, 208, 213,
221, 282; 4—163, 164, 301, 302,
305, 306, 316, 434, 435, 437, 457,
468
Тольней Ч. де 4 — 356
Томсон Дж. 1—81; 2 — 41
Тулуз-Лотрек А. де 4—175
Тургенев И. С. 3 — 89
Тьерри О. 1 — 149
Тэйлор (Тайлор) Э. Б. 1 — 79, 81,
87, 88
Тэн И. 3—122, 123
Уайетт Дж. 1 — 159
Уайльд О. 2 — 288
Унамуно М. де 4 — 475
Уоллес А. Р. 1 — 83
Утрилло М. 4 — 299
Уэллс О. 4— 161
Фалес 1 — 117
Фаррингтон Б. 1 — 151
Федр 4 — 305
Фейербах Л. 1 — 19, 106, ПО, 279;
2 — 11, 12, 14, 192; 3—175, 176;
4—164, 468
Феллини Ф. 4— 179
Ферворн М. 2 — 100, 103, 105
Феспид 4 — 334
Фидлер К. 1 — 57, 170, 187—189,
200; 2 — 145, 249, 251, 268, 269,
279, 324; 4 — 299
Филдинг Г. 4 — 251
Филип Ж. 4—174
Фихте И. Г. 2 — 408; 3 — 113, 252
Фишер Ф. Т. 1 — 286; 2—181; 4 —
185, 243, 248, 265—267, 307
Флобер Г. 2 — 213; 3 — 132, 220,
221
Флюдд Р. 1 — 118
Фолькельт Г. 3 — 25
Фома Аквинский 1 — 102; 3 — 246,
247; 4—186, 399, 432, 440
Фонтане Т. 2 — 213, 214, 437; 3 —
68, 159, 160; 4 — 220, 258
Фра Анджелико — см. Анджелико
Франко Фр. 4 — 426
Франс А. 2 — 220, 222; 3 — 126; 4 —
261, 355
Франц-Иосиф I 4—119
Франциск Ассизский 4 — 351
Франческа П. делла 2 — 199, 200,
287; 3 — 76; 4—111, 355, 362, 369,
Фрейд 3. 1 — 71, 219; 3 — 6, 114,
124
Фридрих Вильгельм IV 4 — 119
Фридрих Г. 4 — 408
Фрэзер Дж. Дж. 1 — 77, 79—82, 84,
87, 89, 207; 2 — 28, 47—49, 61, 93,
96; 4 — 423
Фурье Ш. 2 — 7, 215; 3 — 125
Хайдеггер М. 1 — 53—56, 78, 136;
2 — 269, 320
Хайст В. 4 — 426
Хаксли О. 2 —158; 4 —441
Хальс Ф. 4 — 366
Хафтман В. 4 — 409, 414
Хеер Ф. 4 —428
Хейзе П 4 — 218
Хембидж Дж. 1 —271
Хемингуэй Э. 4 — 296
Хемстерхёйс Ф. 1 — 246, 247; 2 —
178, 179, 183, 326—328
Хильдебранд А. фон 2 — 251, 269;
4 — 58
Хокке Г. Р. 4 — 359, 360, 362, 408
Хоум Г. 4—146, 148
Хрущев Н. С. 4 — 494
Цвейг А. 4 — 463, 499
Цвингли У. 4 — 347, 348, 359
571
Цейтблом С. 2 — 339; 4 — 65
Цезарь Гай Юлий 1 — 114
Цельс Авл Корнелий 1 — 152
Цельтер К. Ф. 1 — 223
Циглер Л. 4 — 91, 92
Чайлд Г. 1—20, 64, 77, 80, 213,
219; 2 — 81, 91, 96, 97, 100, 101,
105, 130, 133; 4 — 83, 84
Чаплин Ч. С. 4 — 167, 174, 182, 183
Чемберлен X. С. 2—132
Чернышевский Н. Г. 1 — 60, 254;
2 — 181 — 183, 442; 3 — 51; 4 —
185, 246, 266—268, 285, 286, 290
Честертон Г. К. 4 — 426
Чехов А. П. 2 — 250; 3—164, 213;
4—172
Чима да Конельяно Дж. Б. 2 — 348
Чимабуэ Дж. 2 — 369
Шарден Ж. Б. С. 2 — 288; 3 — 203
Шекспир У. 1 — 61, 279; 2 — 65, 88,
126, 154, 221, 222, 247, 294, 311,
339, 341, 343, 367, 384, 412, 433,
439, 448—450; 3 — 107, 122, 124,
126, 139, 142, 143, 159, 164, 168,
212, 230, 234, 278, 282; 4 — 59, 75,
224, 360, 368, 471, 475
Шелер М. 1 — 136
Шелли П. Б. 2 — 216; 3—150; 4 —
52, 73
Шеллинг Ф. В. 1 — 14, 102; 2 —
167, 193, 195, 333, 374, 381, 407;
3—35, 111, 113, 114, 252, 253,
288; 4 — 7, 45, 72, 121, 190, 373,
376, 403, 404, 441
Шефстбери А. Э. 4 — 244, 245
Шёнберг А. 4 — 54
Шиллер Ф. 1 — 51, 61, 176, 227—229,
284; 2 — 7, 143, 172, 213, 216, 217,
226—228, 251, 278, 299, 337, 343,
358, 373, 375, 401, 407—409, 411,
426, 439, 442, 448—450; 3—129,
150, 188; 4 — 45, 229, 259, 471
Шлегель Ф. 4 — 45, 404
Шлейермахер Ф. Э. 1 — 135; 2 —
192, 201, 208; 4 — 444, 445, 490
Шмидт К. 2 — 379
Шмидт М. 1—85, 104; 2—19, 379
Шнайдер Р. 4 — 361
Шолохов М. И. 4 — 462, 463, 499
Шопенгауэр А. 2—192, 321, 372;
3-26; 4 — 7, 66, 67, 73, 86, 87,
121, 487
Шоу Дж. Б. 3—121, 122; 4 — 427
Шпанн О. 3 — 11
Шпенглер О. 2 — 132; 4 — 454
Штифтер А. 2 — 338
Шторм Т. 2 — 300; 4 — 35, 294
Шуберт Ф. 2 — 353; 4—56
Эйзенштейн С. М. 4— 167
Эйк Я. ван 2 — 344
Эйнштейн А. 2 — 299
Эккерман И. П. 3 — 150, 219; 4 —
136, 266
Экхарт И. (Майстер Экхарт) 3 —
245; 4 — 350
Элиот Т. С. 2 — 228, 284, 316; 4 —
449
Эль Греко Д. 4 — 46, 62, 361
Элюар П. 2 — 441
Эммерих А.-К. 4 — 371
Энгельс Ф. 1 — 10, 27, 38, 51, 65, 66,
72, 75, 85, 86, 88, 102, 112, 131,
169, 172, 189, 190, 235, 261, 266,
279; 2 — 11, 14, 17, 136, 214, 215,
223, 290, 319, 374, 379; 3— 14, 27,
40, 66^68, 220, 261, 284; 4 — 205,
209, 479, 480, 492, 493
Эпикур 1 — 12, 20, 117, 130, 135;
2—172; 4 — 209, 210, 229—231,
335, 468, 469, 481, 482
Эразм Роттердамский 4 — 358, 443
Эрнст М. 1—288; 4 — 409, 410
Эсхил 2—134, 236, 250, 439; 3 —
104, 164; 4 — 465
Юм Д. 2—192, 336; 3 — 250—252,
263
Юнг К. Г. 1—71; 3 — 6, 27
Якобсен И. П. 4 — 434, 436
Ясперс К. 3 — 71, 78; 4 — 446, 447,
453
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 14. Пограничные вопросы эстетического мимесиса 5
1. Музыка .... . . . . . 5
2. Архитектура .... . 72
3. Прикладное искусство . . 123
4. Садово-парковое искусство 137
5. Искусство кии о .... 152
6. Круг проблем приятного 183
Глава 15. Проблемы природной красоты 235
1. Между этикой и эстетикой . . . . . 236
2. Природная красота как элемент жизни 264
Глава 16. Борьба искусства за свое освобождение .... 328
1. Основные вопросы и главные этапы борьбы за освобождение 328
2. Аллегория и символ 373
3. Повседневная жизнь, частный индивид и религиозная потребность 415
4. Базис и перспективы освобождения 463
Примечания 503
Диалектика эстетического (Послесловие) К. М. Долгов 514
Именной указатель « 563
Д. Лукач
СВОЕОБРАЗИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО
Том 4
Редактор Н. В, Вербицкая
Младший редактор I—IV томов Т. В. Гундарова
Художественный редактор С. В. Красовский
Технические редакторы Е. 5. Велшкина, Л. Ф. Шкилевт
Корректор Г. А. Локшина
ИБ № 14473
Сдано в набор 15.10.86. Подписано в печать 04.06.87.
Формат 60X90Vi6. Бумага тип. № 1. Гарнитура «литературная».
Печать высокая. Условн. печ. л. 36,0. Усл. кр.-отт. 35,0. Уч.-изд. л. 39,28.
Тираж 6000 экз. Заказ № 805. Цена 3 р. 50 к. Изд. № 41152.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Прогресс"
Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17,
Московская типография № 11 Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
113105, Москва, Нагатинская ул., д. 1.
Издательство
«Прогресс»
Выходит в свет
Гейзенберг В. Шаги за горизонт. Пер. с нем.
В. Гейзенберг — один из пионеров совре-
менной теоретической физики, закладывав-
ший основы современной атомной физики,
смело и глубоко ставивший и решавший
связанные с ней философские, логические
и гуманитарные проблемы.
Сборник составлен на основе трех книг
В. Гейзенберга: «Природа в современной
физике» (1963), «Шаги за горизонт»
(1971), «Традиция в науке» (1977). В нем
дается теоретико-познавательное осмысле-
ние новейших научных достижений, путей
развития теоретической физики — одной из
основ всего современного научного миро-
понимания.
Рекомендуется философам и специали-
стам в области философских проблем ес-
тествознания.
Издательство
«Прогресс»
Выходит в свет
Башляр Г. Новый рационализм. Пер. с
франц.
Автор книги — известный французский
философ и методолог науки, основополож-
ник влиятельного в современной буржуаз-
ной философии течения неорационализма.
В основу издания положены два труда
Башляра — «Новый научный дух» и «Фило-
софия отрицания». В своих книгах автор
стремится философски осмыслить специфи-
ческие черты мышления при разработке
теории относительности, квантовой механи-
ки и других новейших физических теорий.
Рекомендуется философам и всем интере-
сующимся философскими проблемами сов-
ременного естествознания.