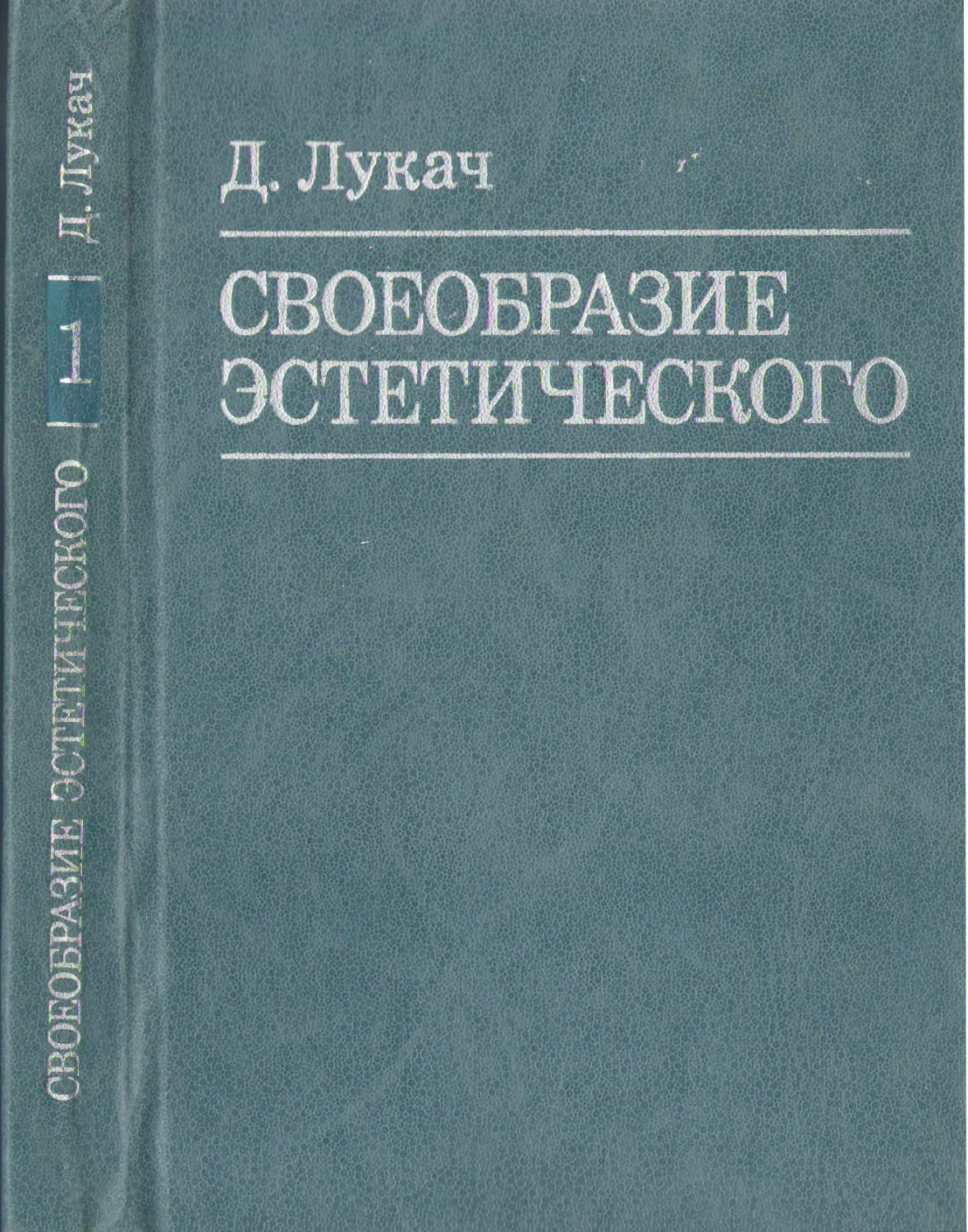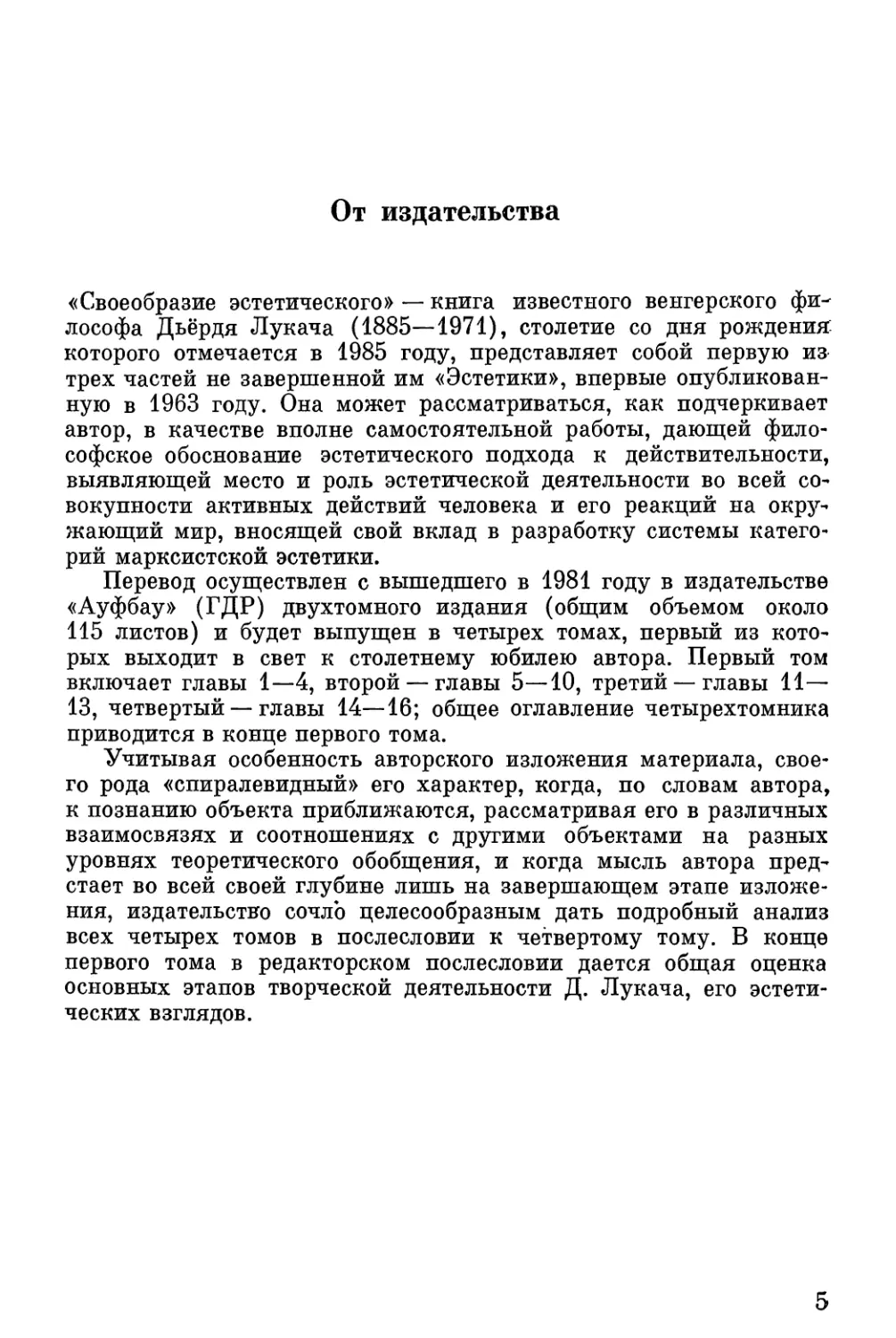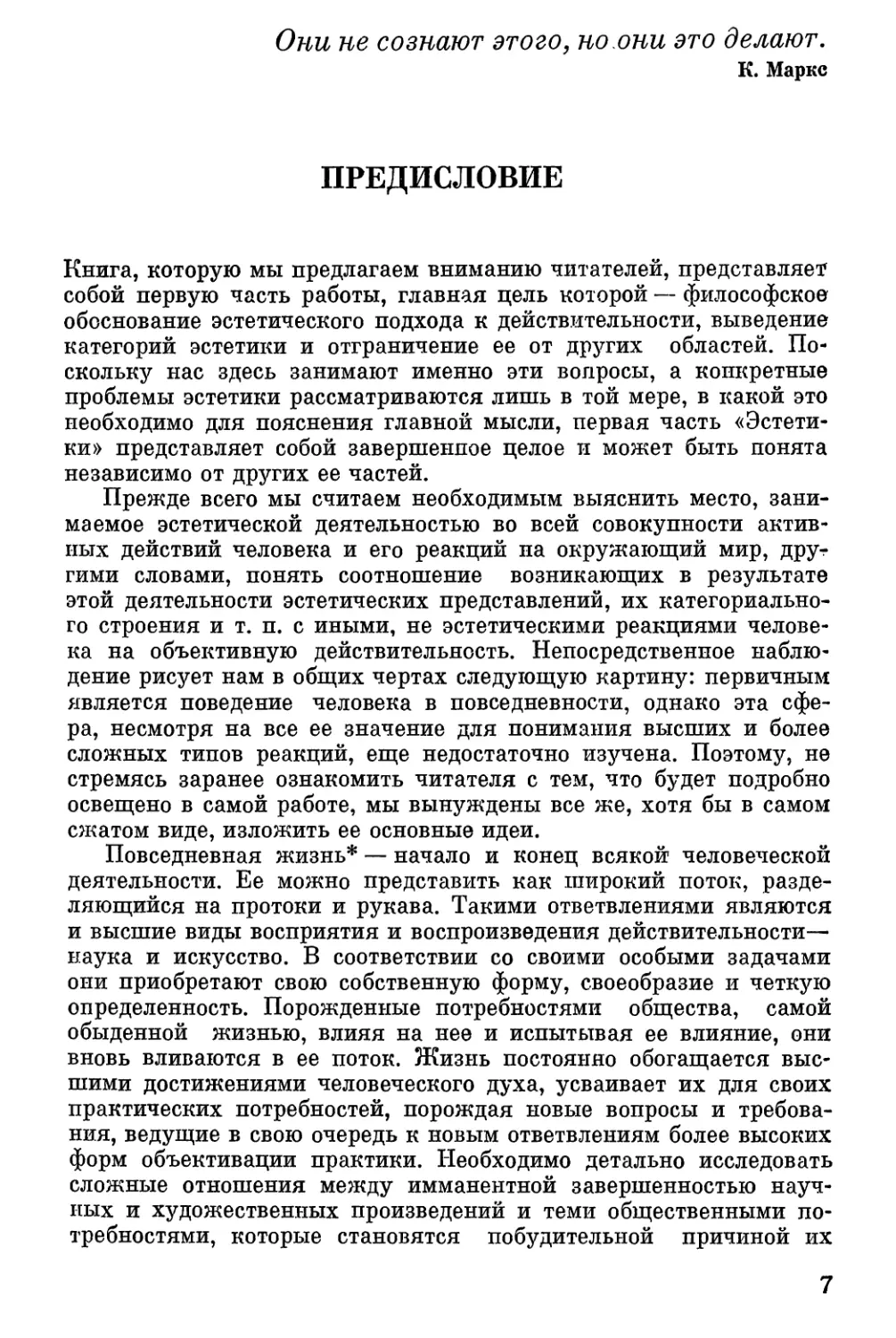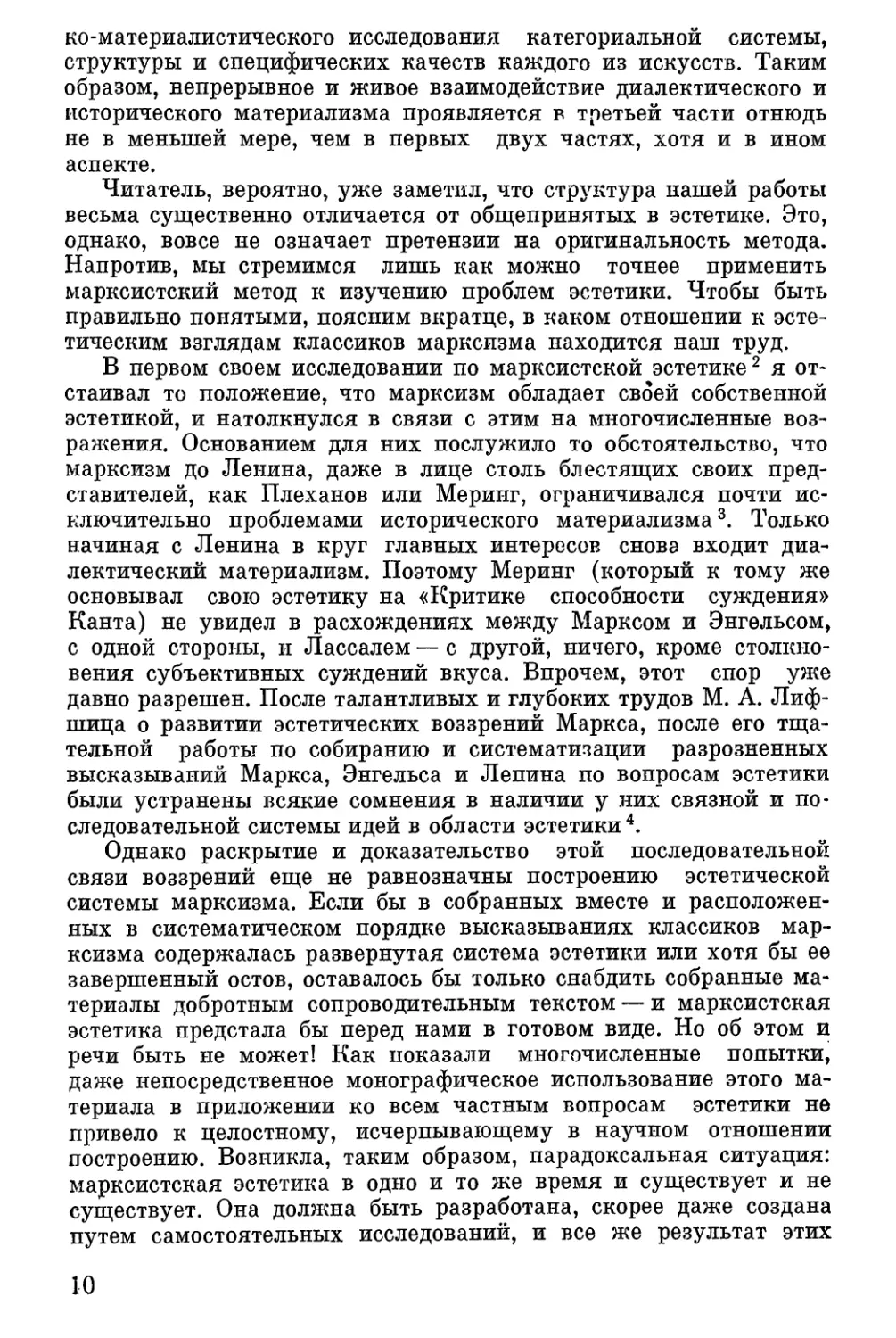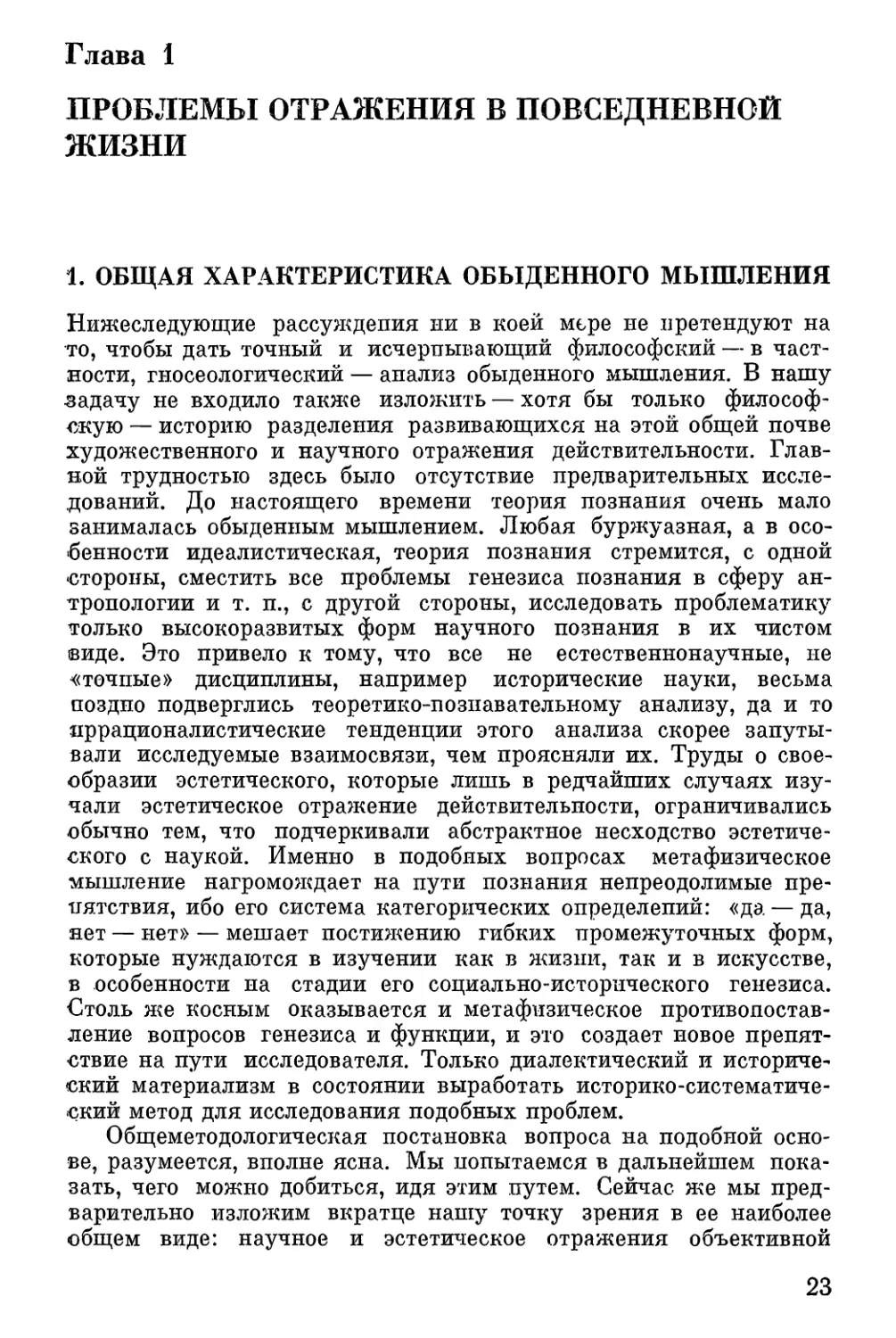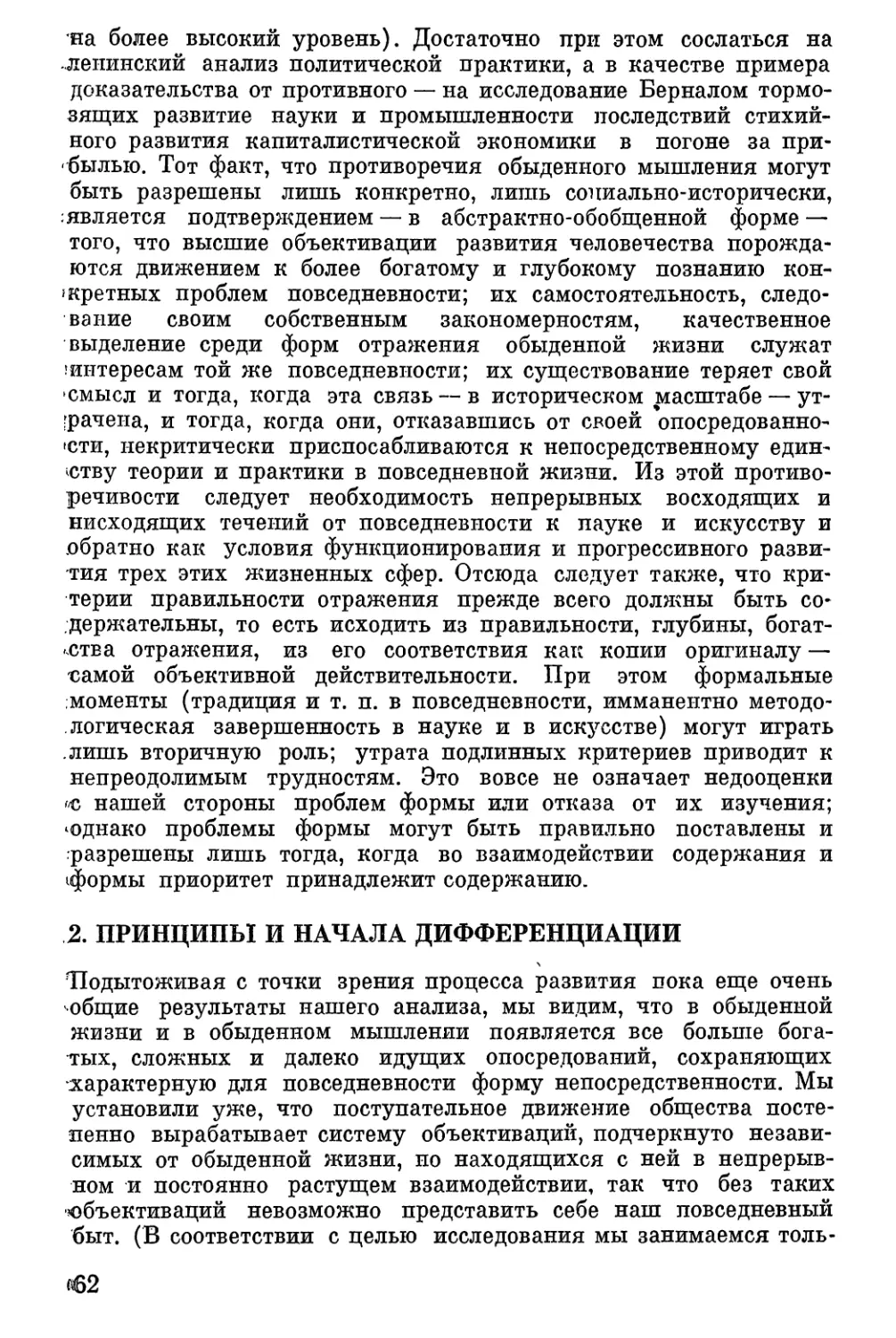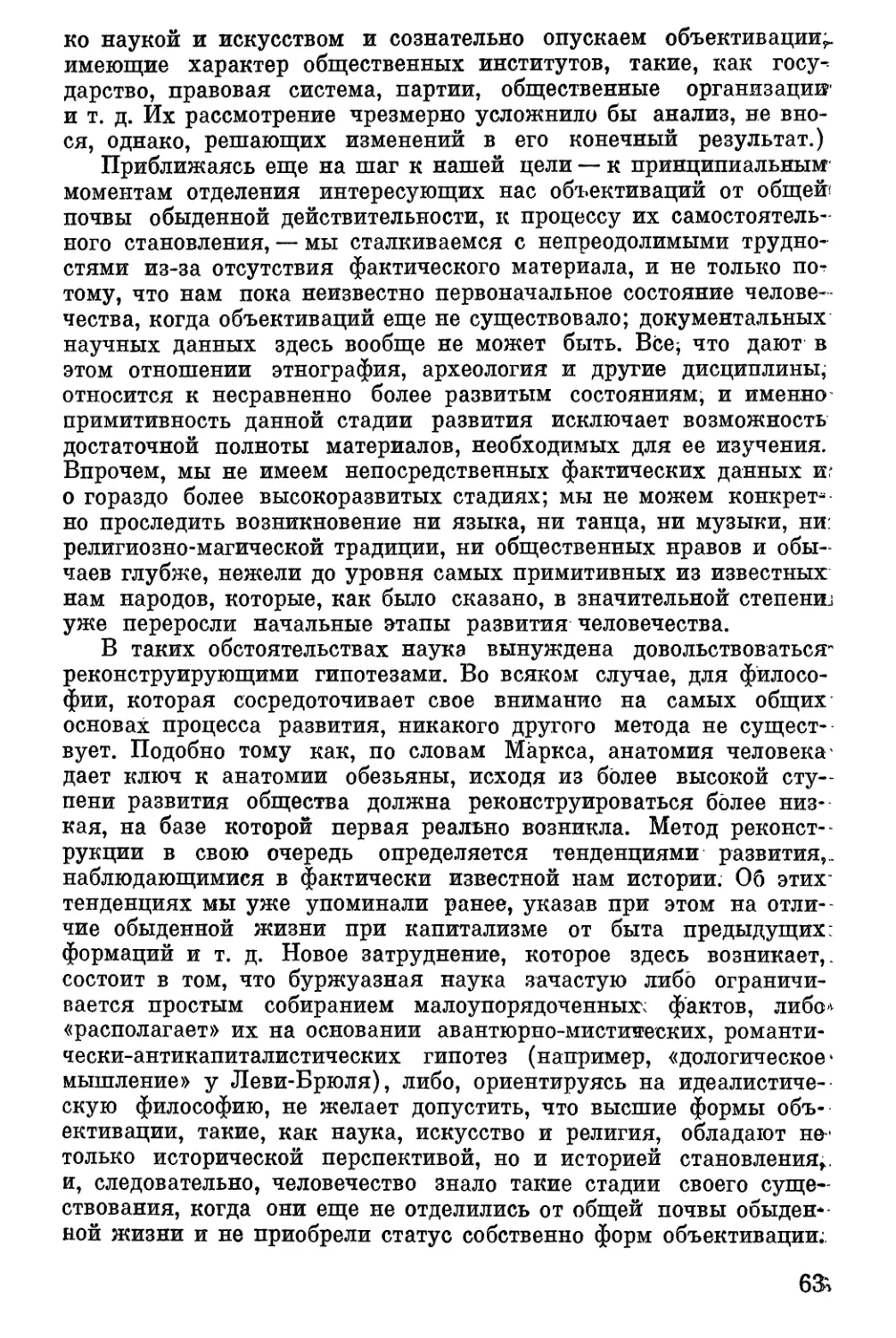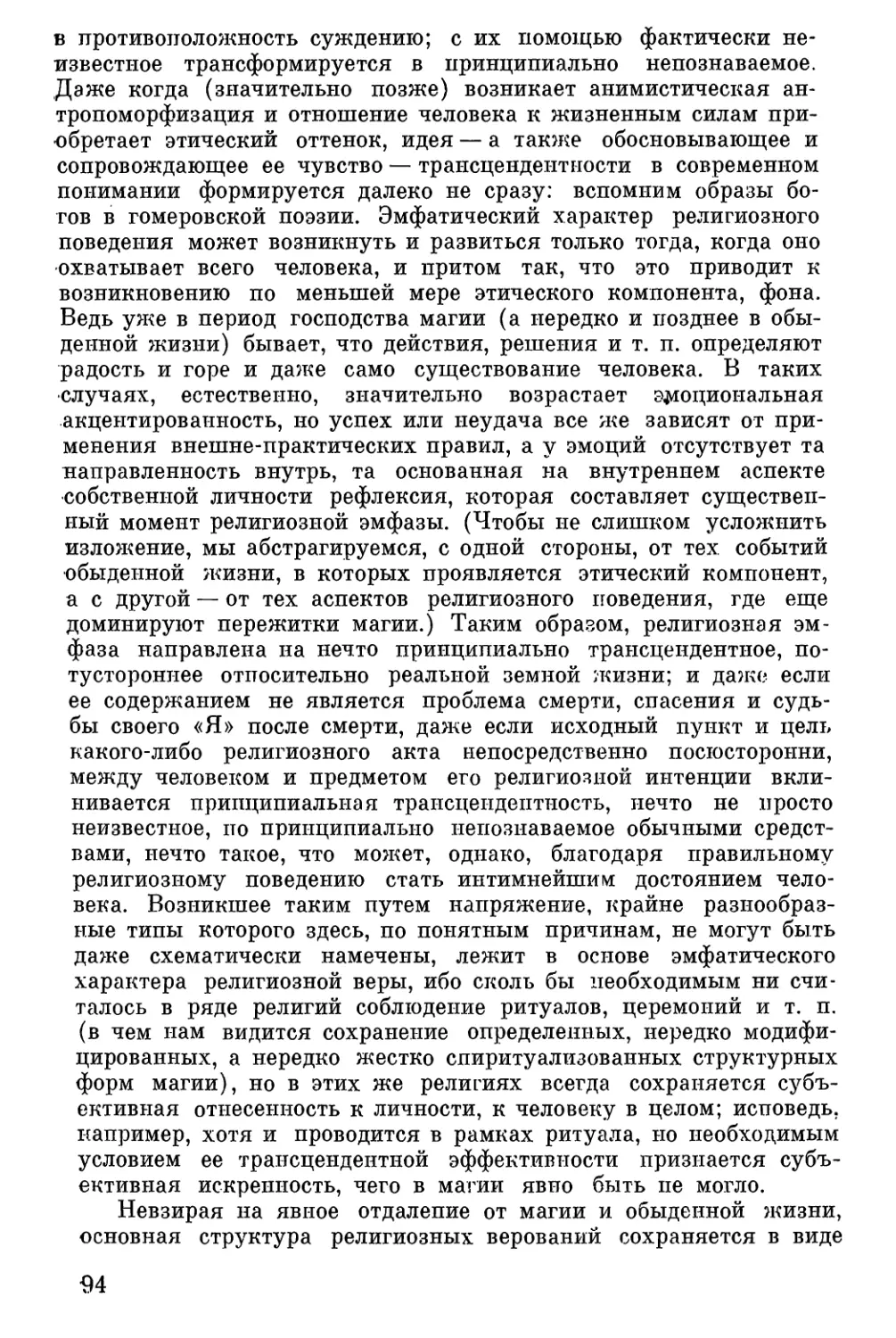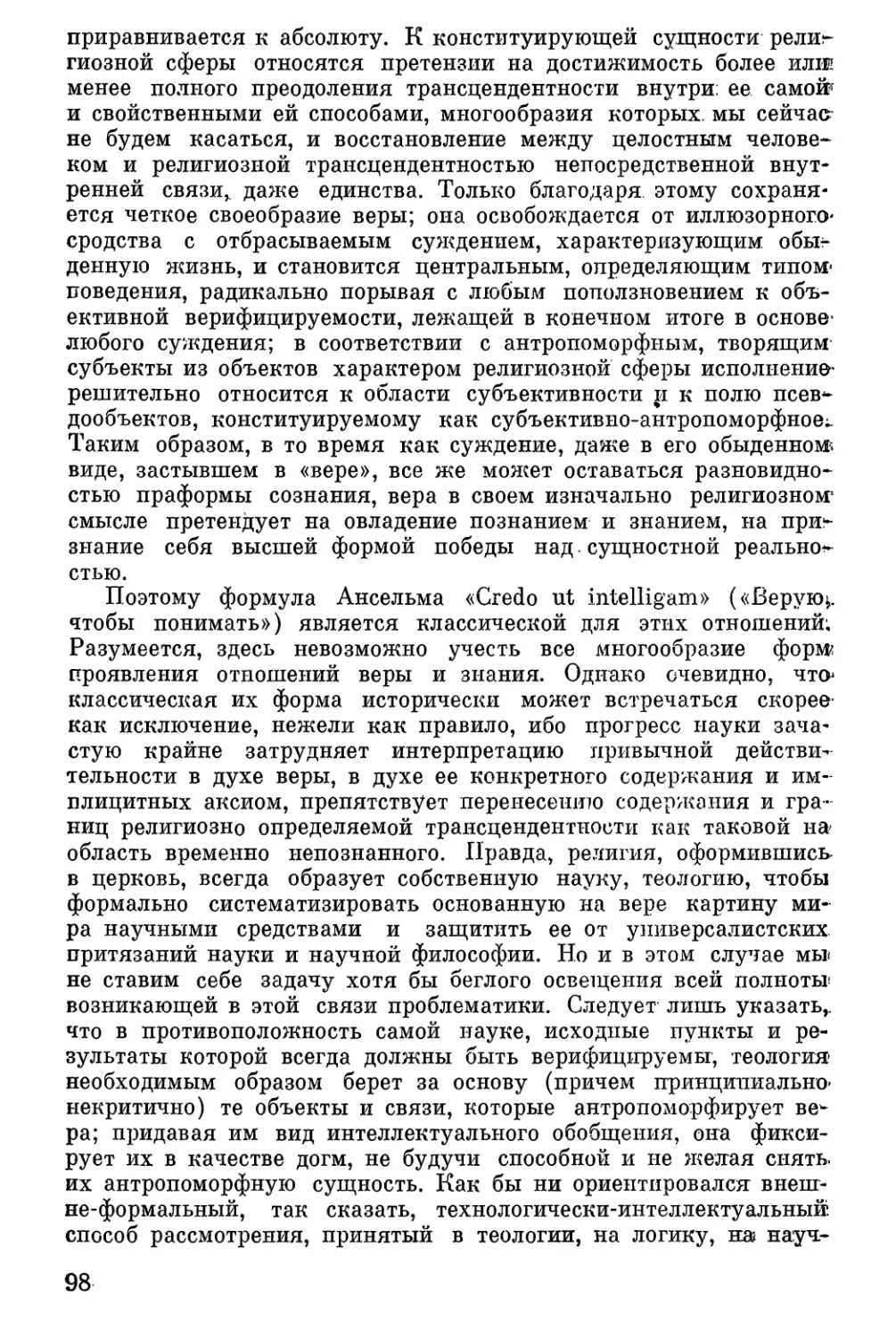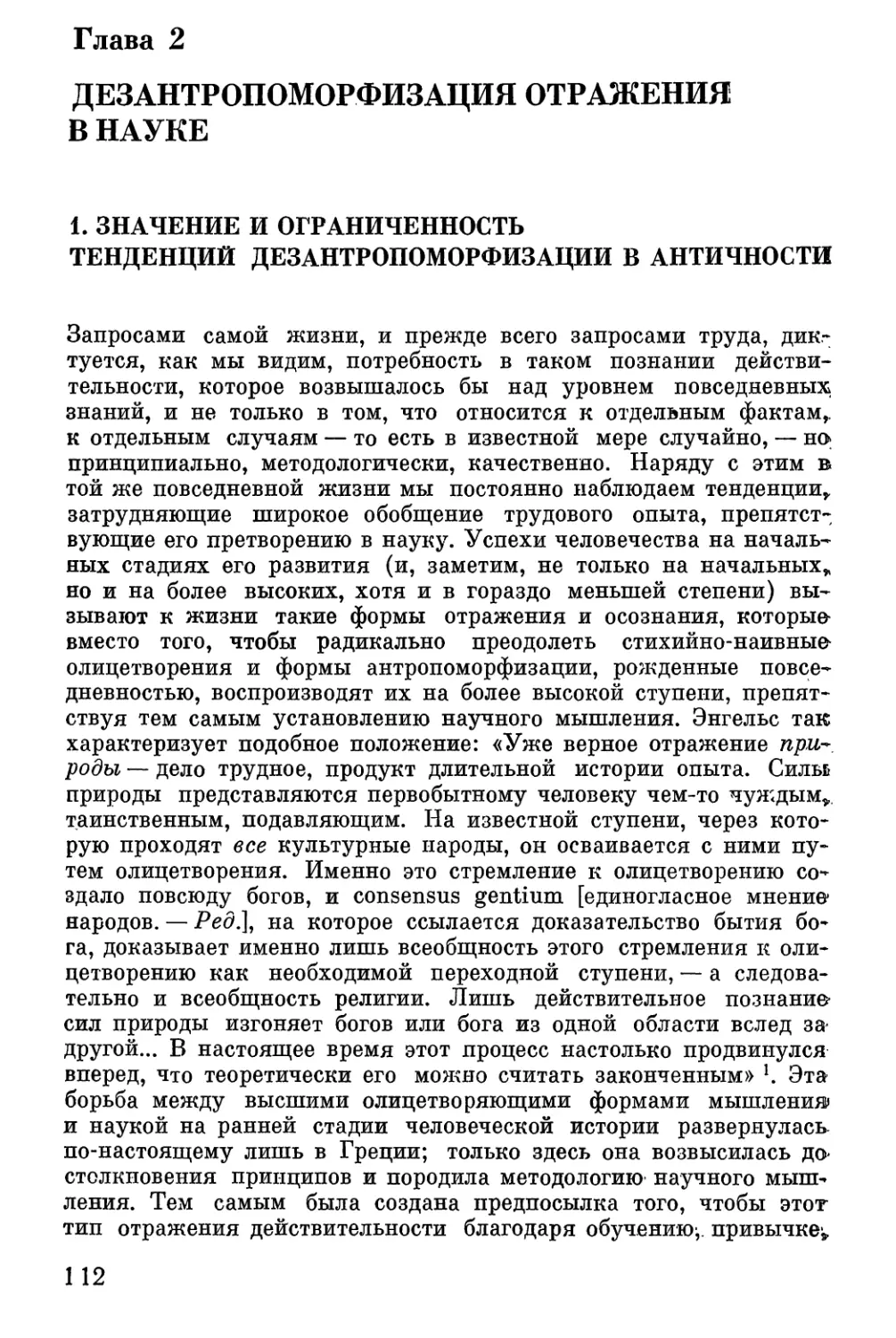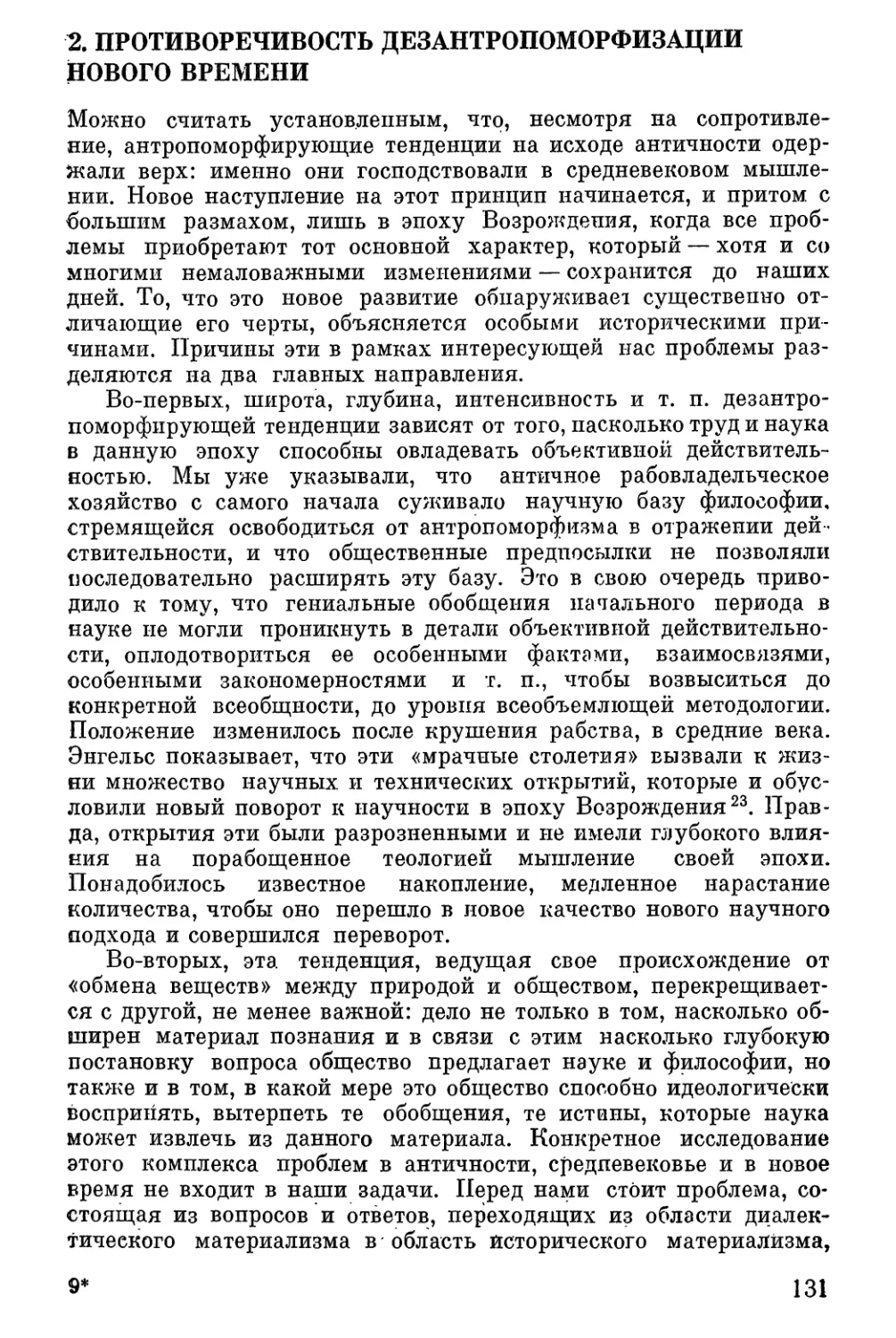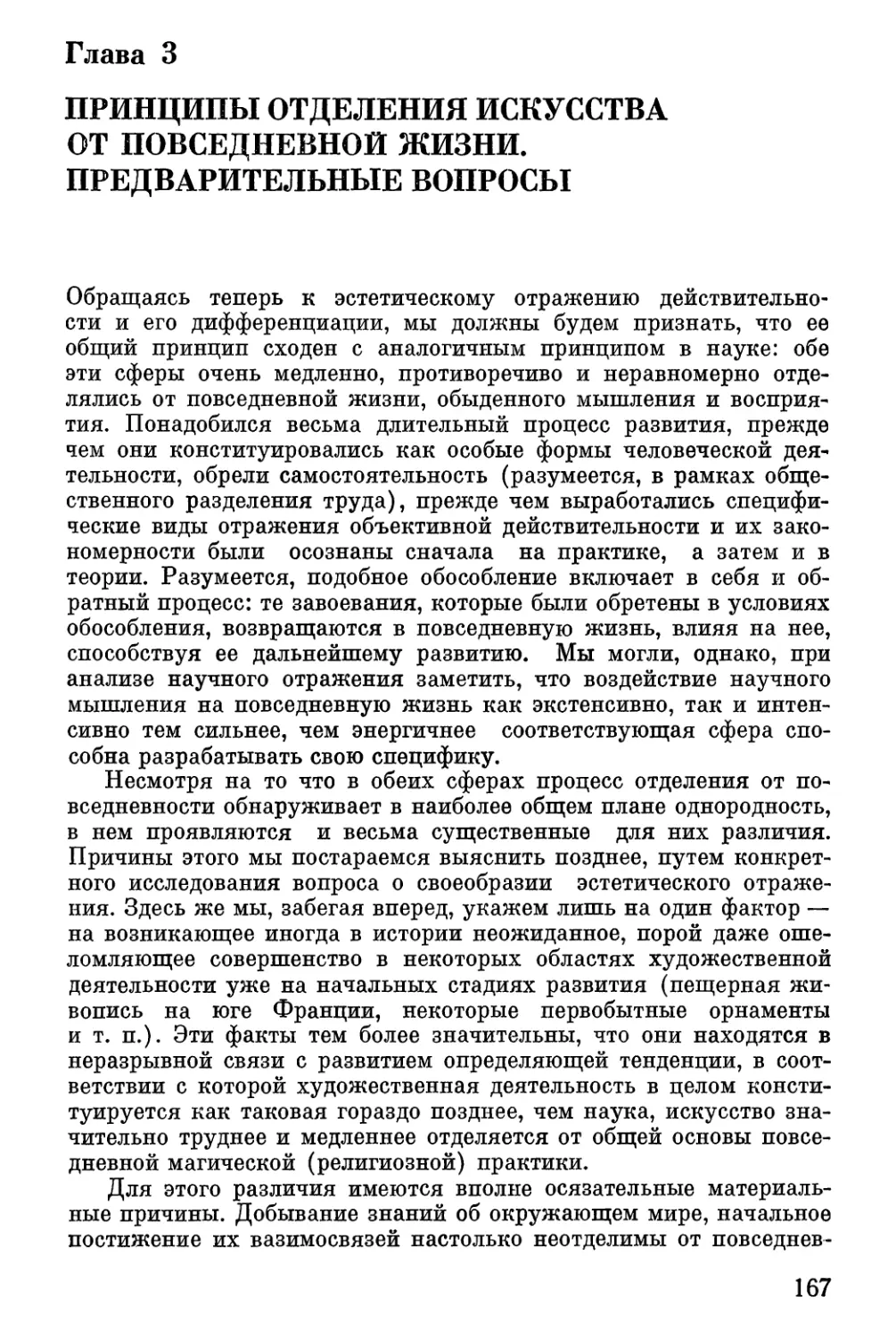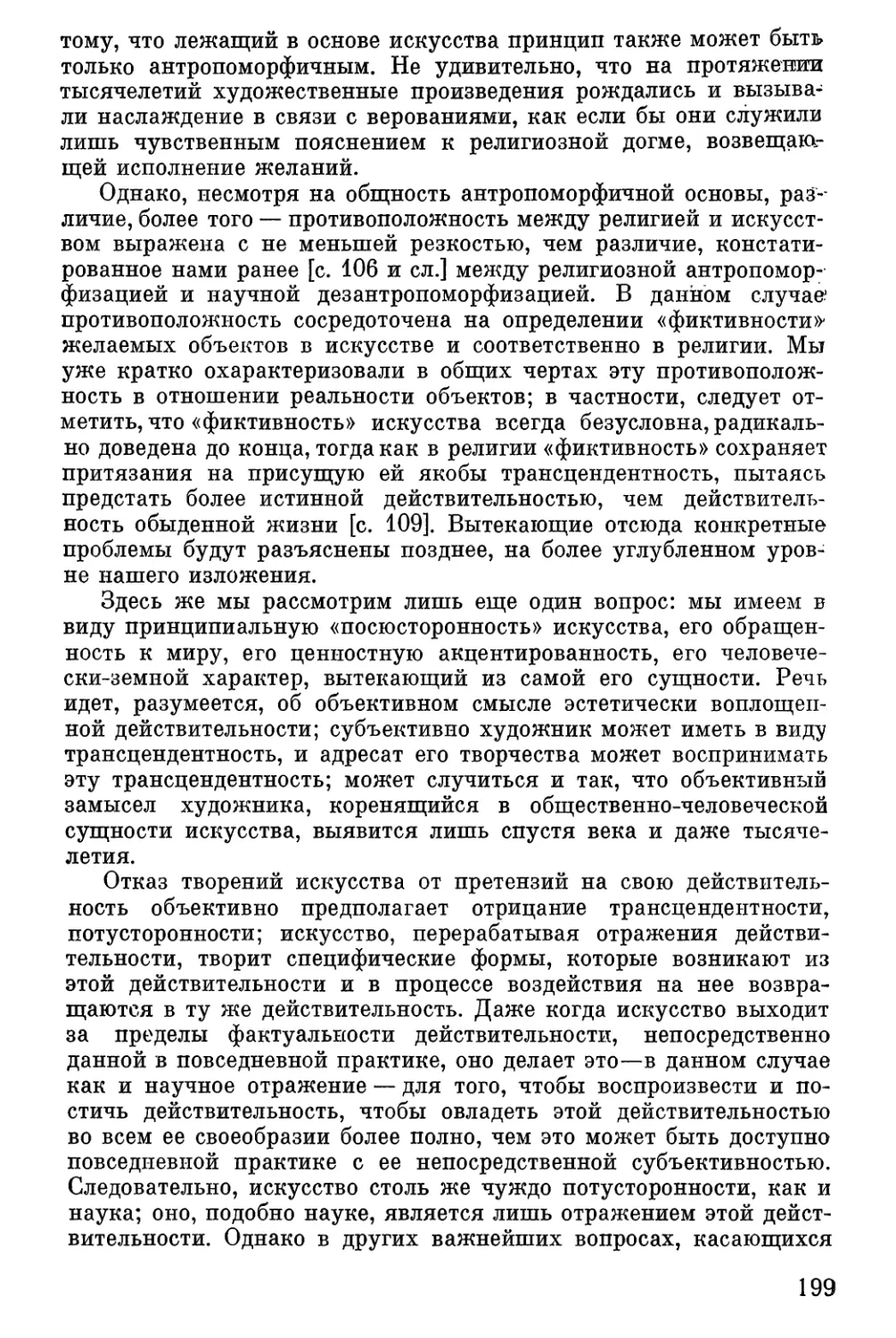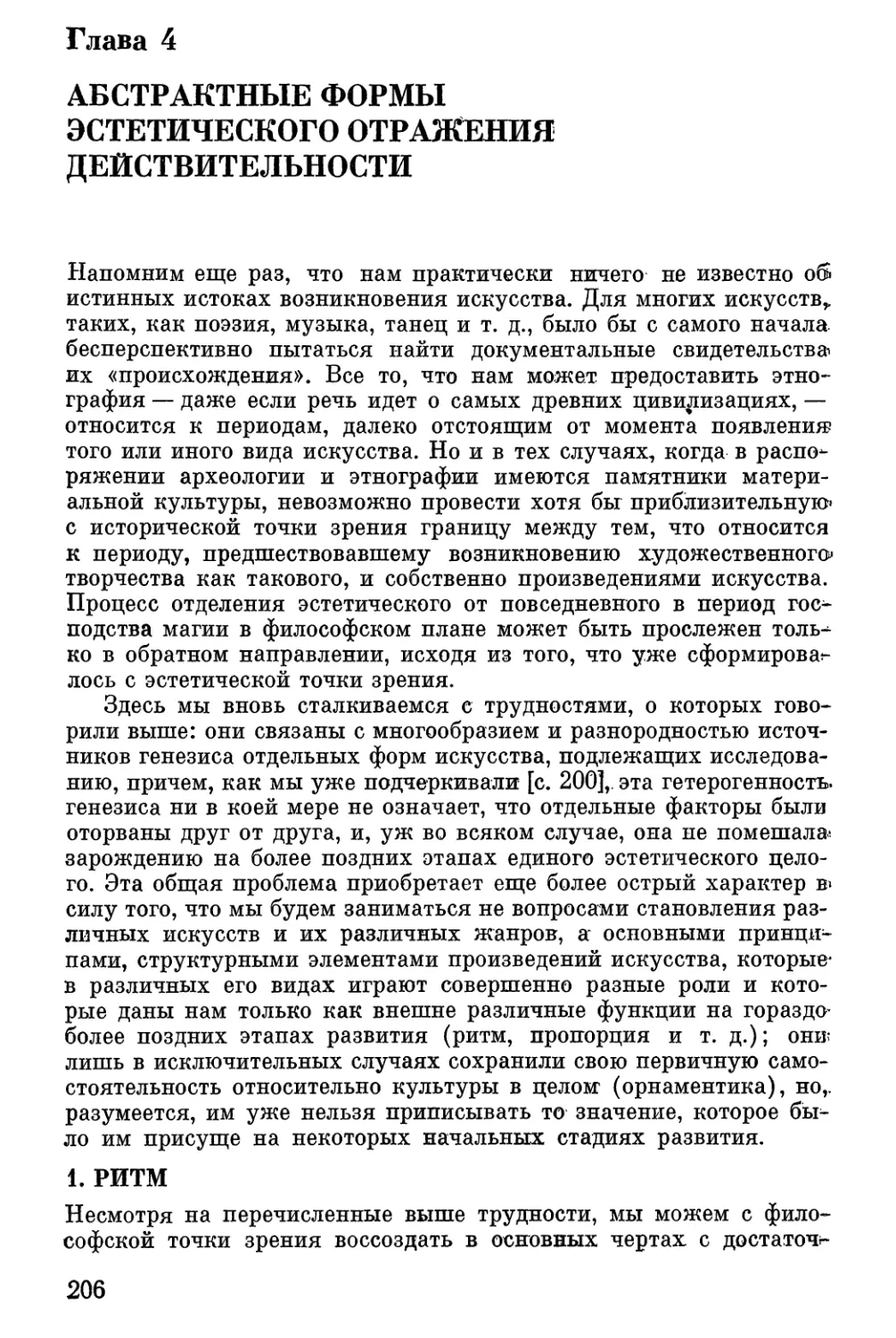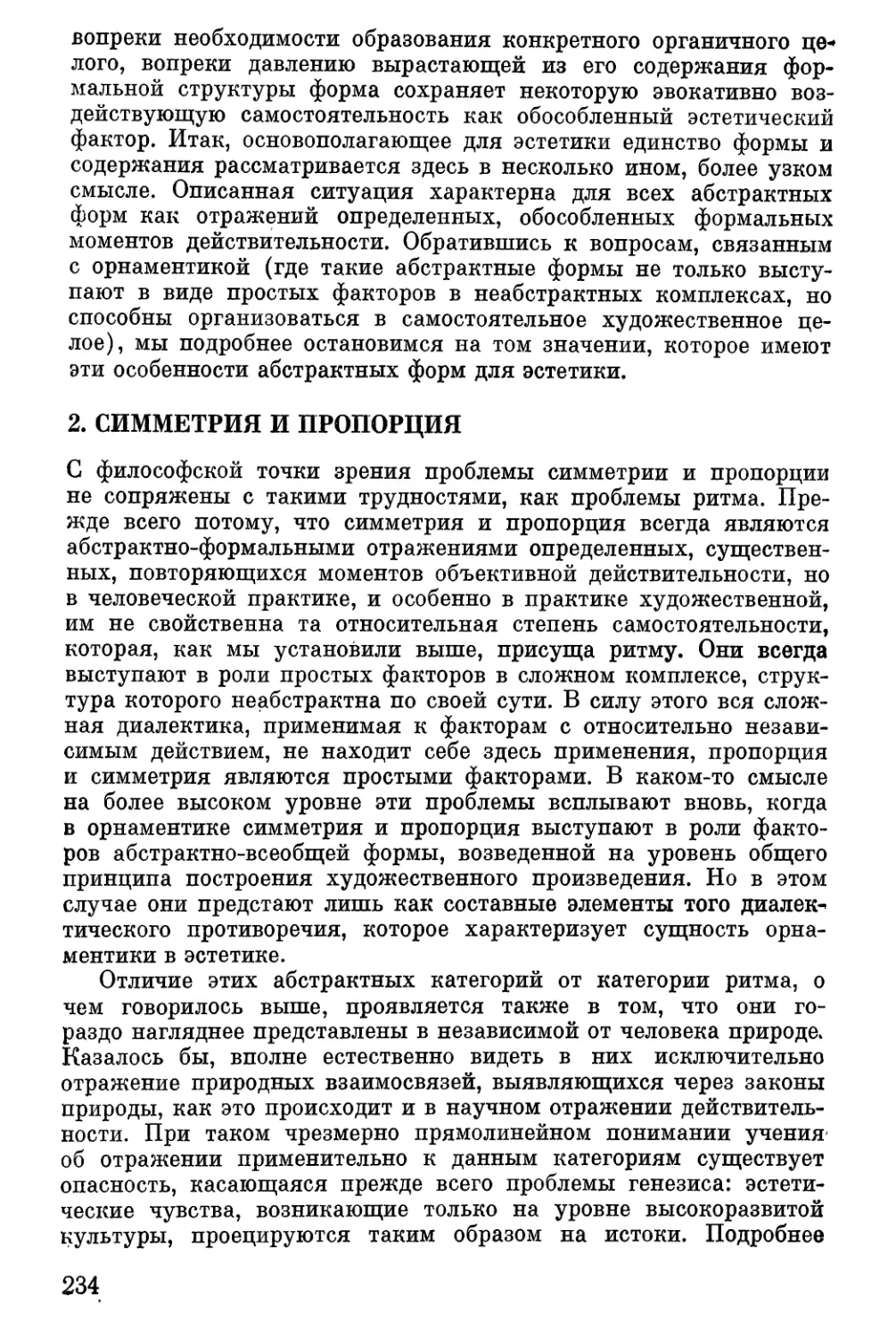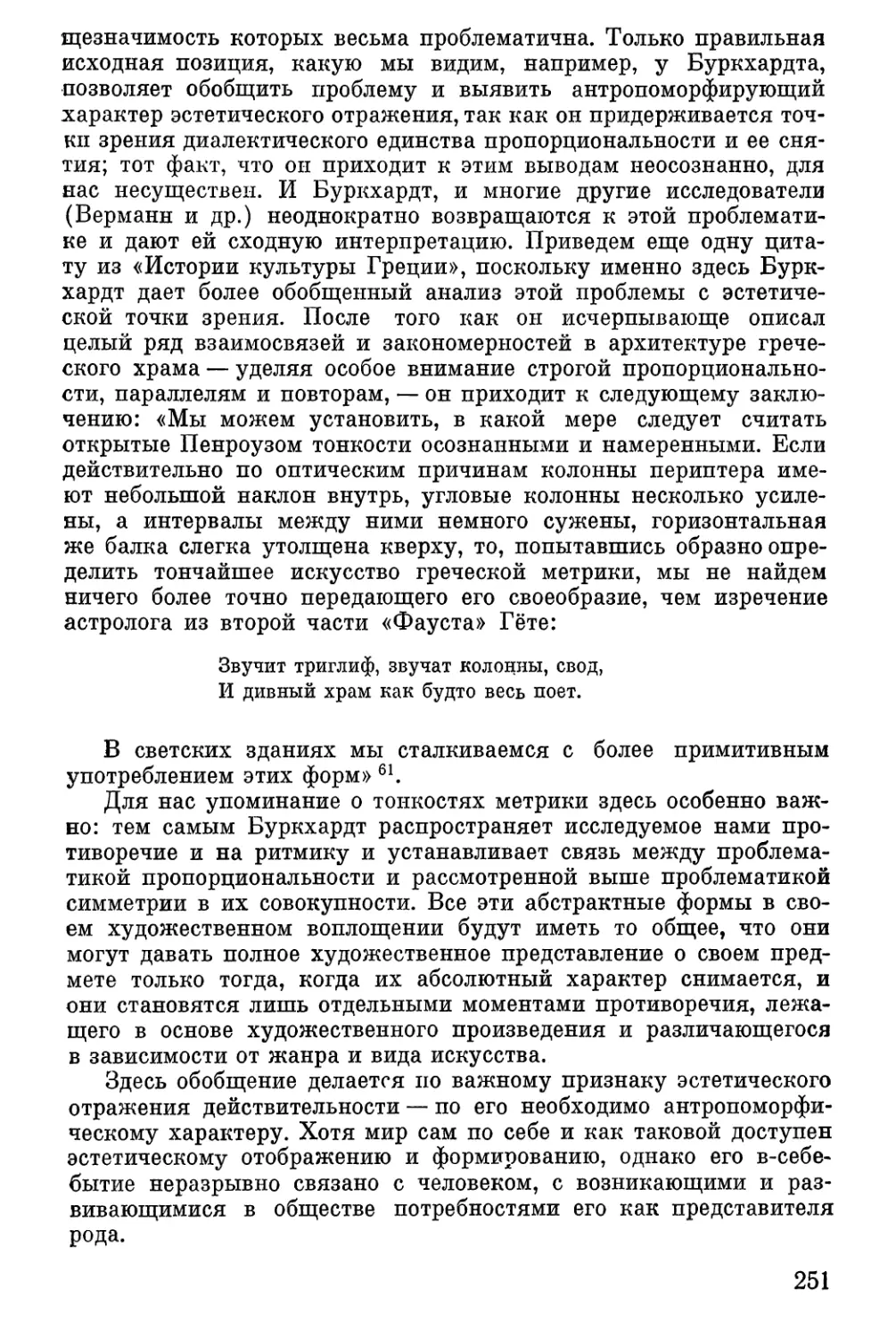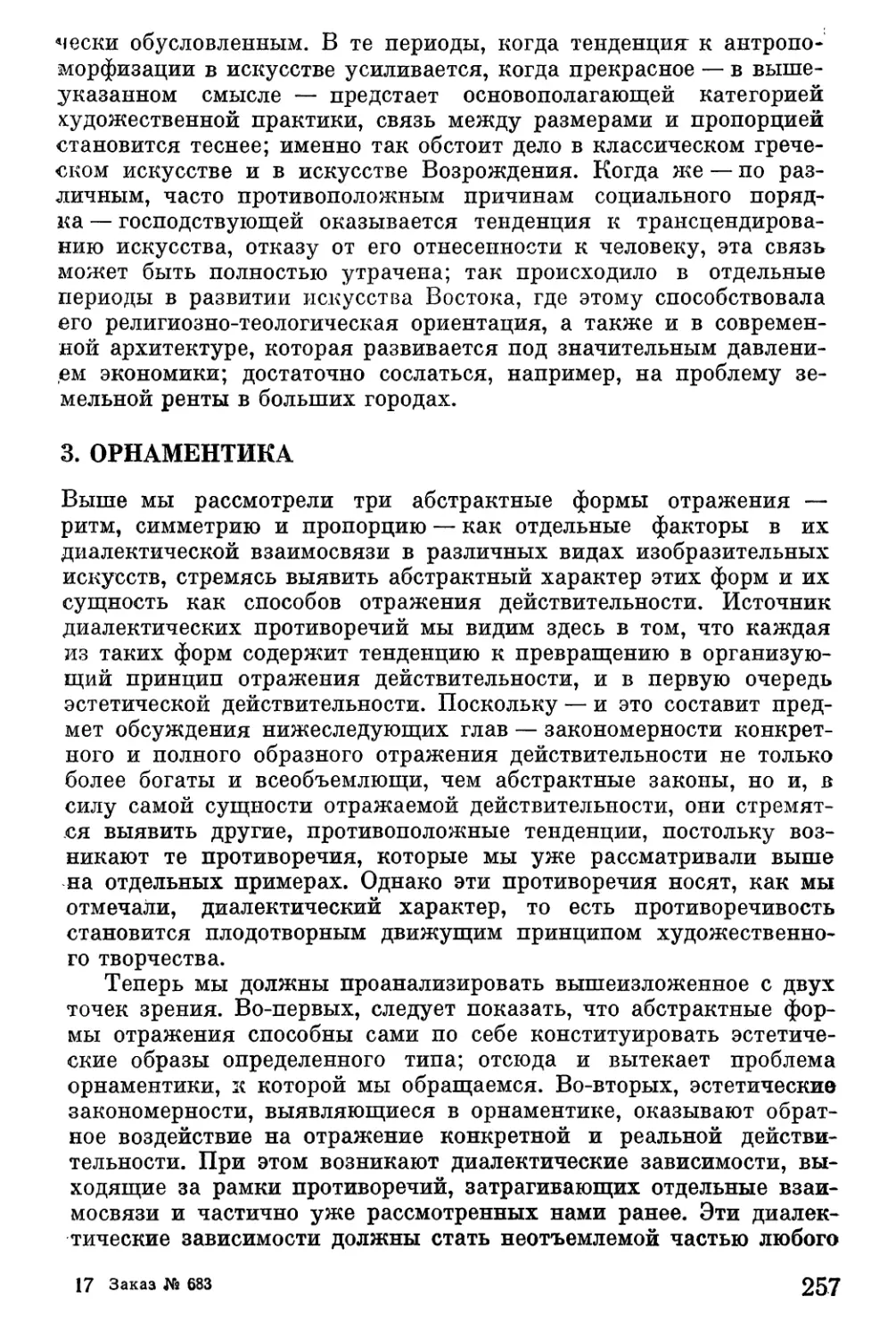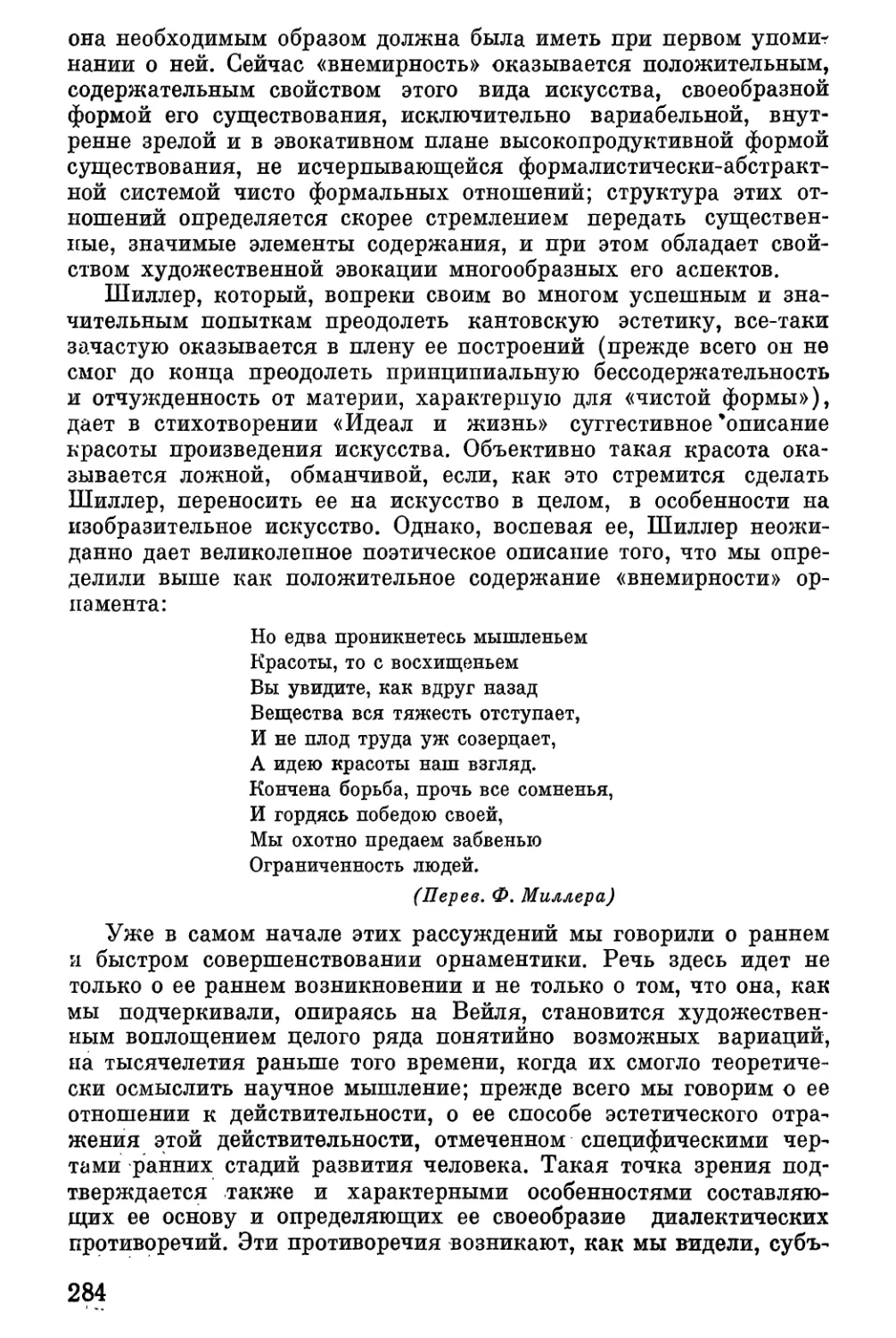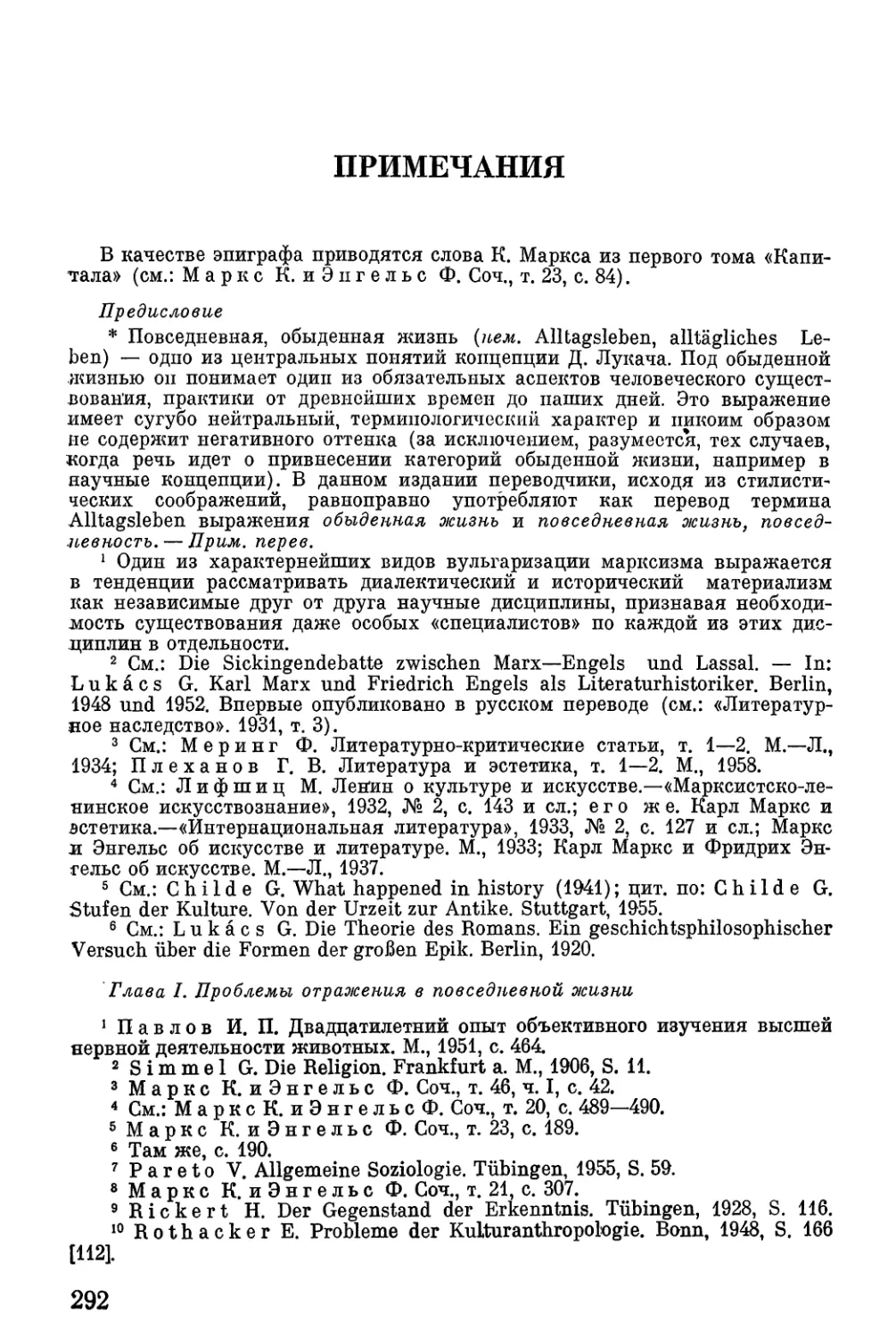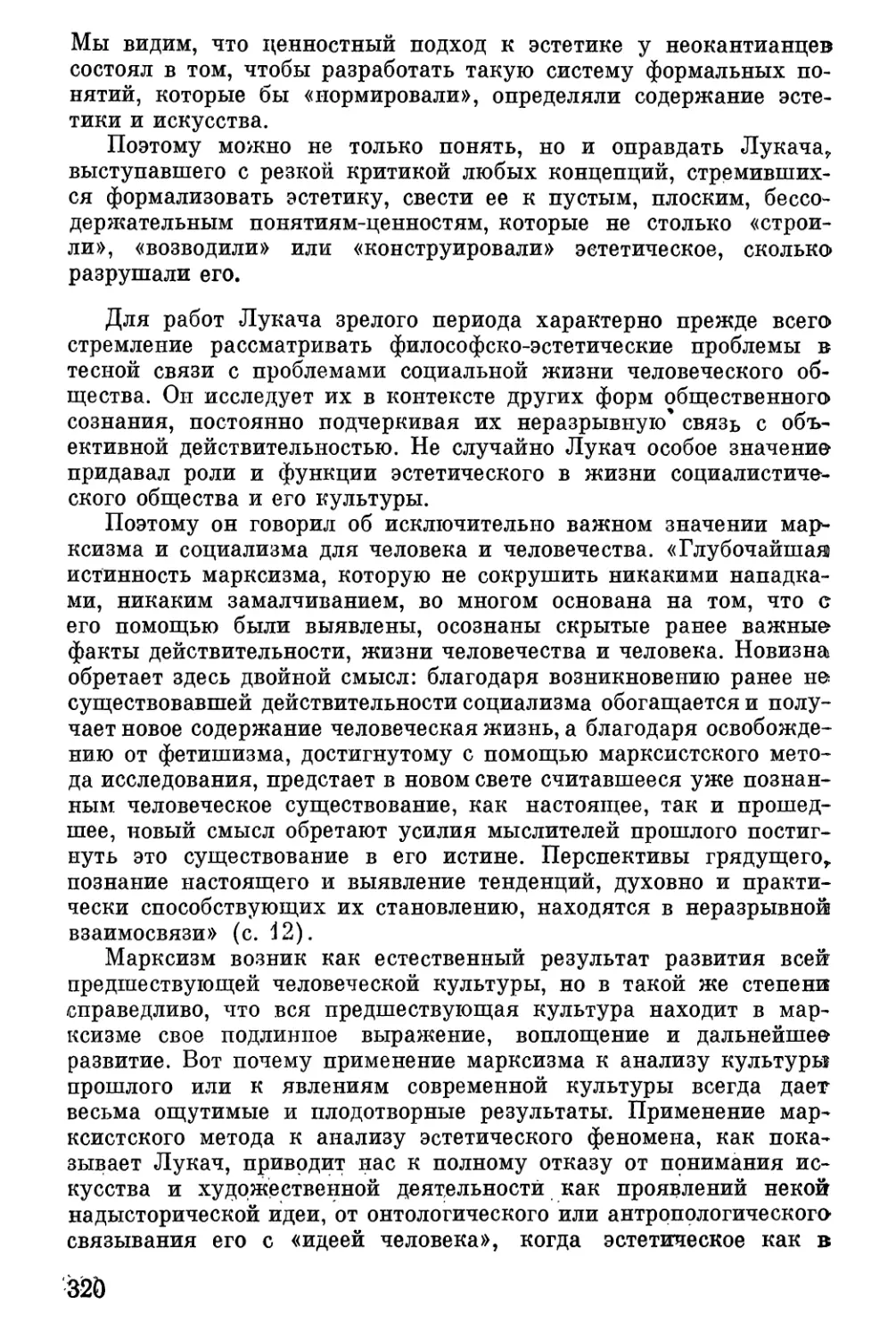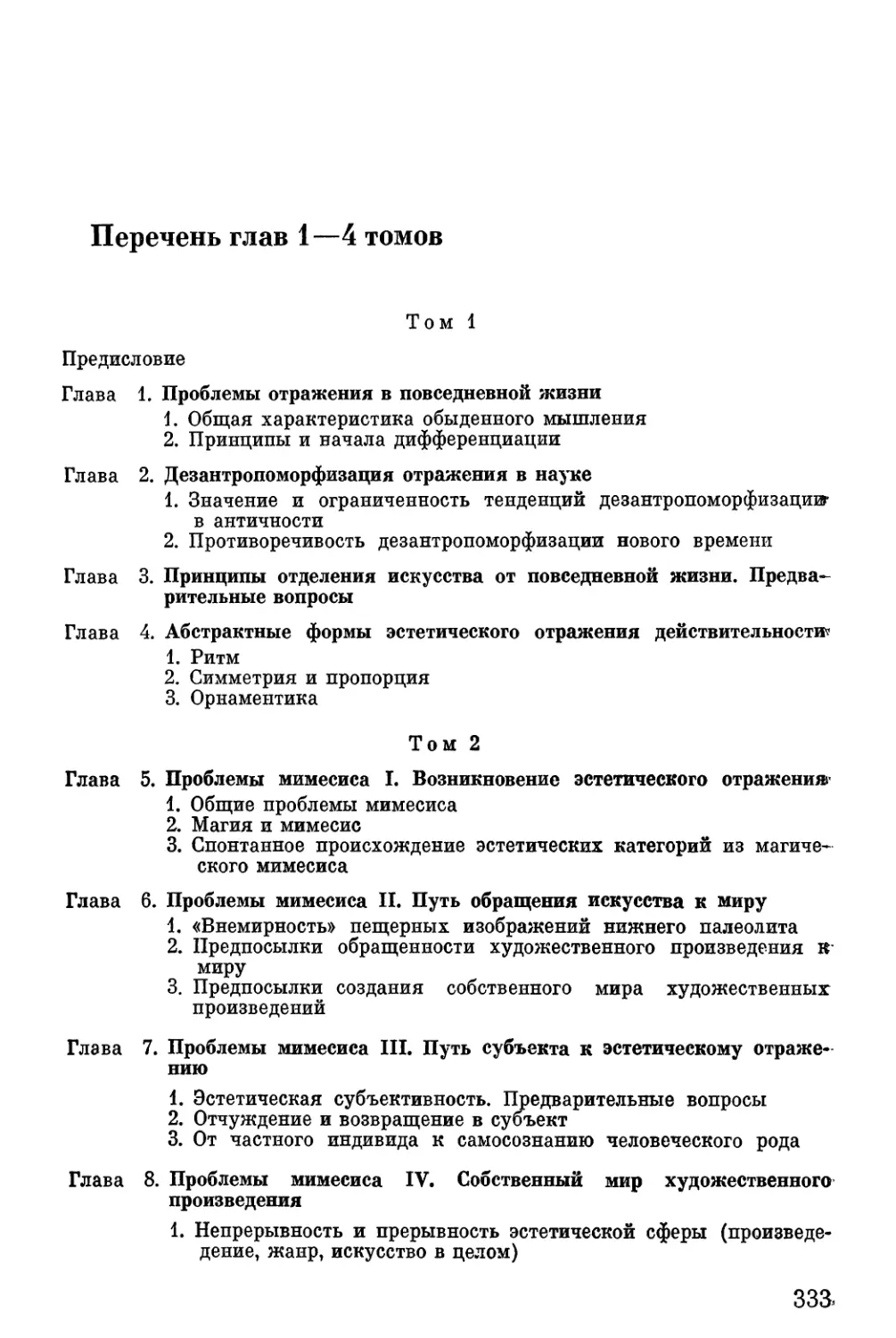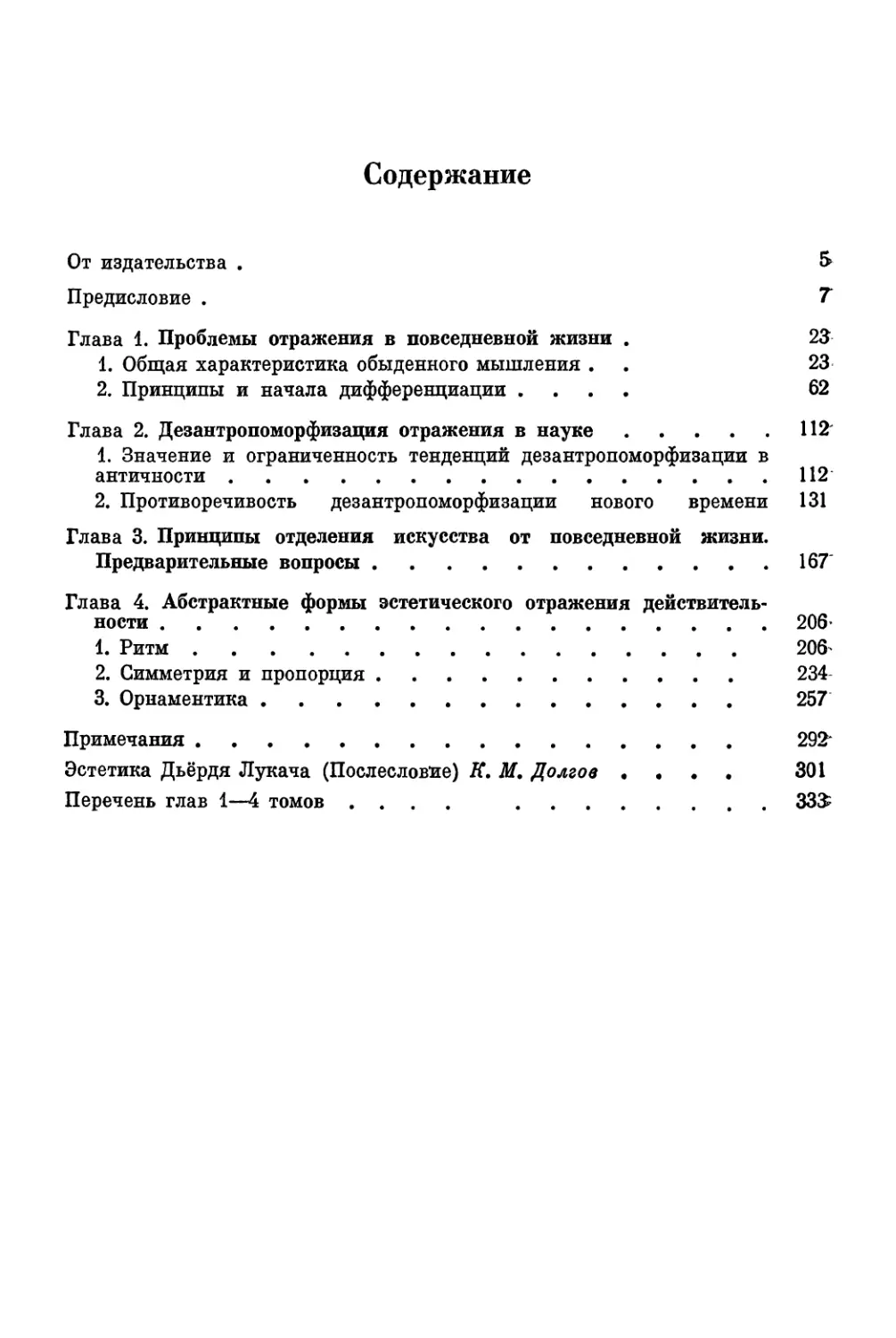Текст
«W»WHI«WM»»MIW«MIW»«I№IIW^
G. Lukâcs
DIE EIGENART
DES ÄSTHETISCHEN
Berlin und Weimar
Aufbau-Verlag
1981
Для научных библиотек
Д. Лукач
СВОЕОБРАЗИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ТОМ
I
Перевод с немецкого
Общая редакция и послесловие
доктора философских наук, профессора К. М. Долгова
Москва
«Прогресс»
1985
Переводчики: А. Ю. Айхенвальд, М. А. Журипская,
А. Г. Левинтон, Б. Э. Разлогова
В редактировании текста отдельных глав принимал участие И. А. Сац
Редакция литературы по философии и лингвистике
© Ferenc Jânossy, 1963
© Перевод на русский язык, текст «От издательства» ш
послесловие. «Прогресс», 1985
0302060000-309 „
Л ,www,4,i—7Z—без объявл.
006(01)—85
От издательства
«Своеобразие эстетического» — книга известного венгерского фи-
лософа Дьёрдя Лукача (1885—1971), столетие со дня рождения:
которого отмечается в 1985 году, представляет собой первую из
трех частей не завершенной им «Эстетики», впервые опубликован-
ную в 1963 году. Она может рассматриваться, как подчеркивает
автор, в качестве вполне самостоятельной работы, дающей фило-
софское обоснование эстетического подхода к действительности,
выявляющей место и роль эстетической деятельности во всей со-
вокупности активных действий человека и его реакций на окру-
жающий мир, вносящей свой вклад в разработку системы катего-
рий марксистской эстетики.
Перевод осуществлен с вышедшего в 1981 году в издательстве
«Ауфбау» (ГДР) двухтомного издания (общим объемом около
115 листов) и будет выпущен в четырех томах, первый из кото-
рых выходит в свет к столетнему юбилею автора. Первый том
включает главы 1—4, второй —главы 5—10, третий —главы 11—
13, четвертый — главы 14—16; общее оглавление четырехтомника
приводится в конце первого тома.
Учитывая особенность авторского изложения материала, свое-
го рода «спиралевидный» его характер, когда, по словам автора,
к познанию объекта приближаются, рассматривая его в различных
взаимосвязях и соотношениях с другими объектами на разных
уровнях теоретического обобщения, и когда мысль автора пред-
стает во всей своей глубине лишь на завершающем этапе изложе-
ния, издательство сочло целесообразным дать подробный анализ
всех четырех томов в послесловии к четвертому тому. В конце
первого тома в редакторском послесловии дается общая оценка
основных этапов творческой деятельности Д. Лукача, его эстети-
ческих взглядов.
5
Работу, в которой я собираюсь подвести
итог моего развития, обобщить самые
существенные результаты моей этики
и моей эстетики, первая завершенная
и самостоятельная часть которой %
представлена на суд читателя, я хотел
посвятить как скромную дань моей
благодарности более чем за сорокалетнее
содружество в жизни и в творчестве,
в труде и в борьбе
Гертруде Бортштибер-Лукач,
скончавшейся 28 апреля 1963 года.
Ныне я могу посвятить эту работу лишь
ее светлой памяти.
Они не сознают этого, но.они это делают.
К. Маркс
ПРЕДИСЛОВИЕ
Книга, которую мы предлагаем вниманию читателей, представляет
собой первую часть работы, главная цель которой — философское
обоснование эстетического подхода к действительности, выведение
категорий эстетики и отграничение ее от других областей. По-
скольку нас здесь занимают именно эти вопросы, а конкретные
проблемы эстетики рассматриваются лишь в той мере, в какой это
необходимо для пояснения главной мысли, первая часть «Эстети-
ки» представляет собой завершенпое целое и может быть понята
независимо от других ее частей.
Прежде всего мы считаем необходимым выяснить место, зани-
маемое эстетической деятельностью во всей совокупности актив-
ных действий человека и его реакций па окружающий мир, друг
гими словами, понять соотношение возникающих в результате
этой деятельности эстетических представлений, их категориально-
го строения и т. п. с иными, не эстетическими реакциями челове-
ка на объективную действительность. Непосредственное наблю-
дение рисует нам в общих чертах следующую картину: первичным
является поведение человека в повседневности, однако эта сфе-
ра, несмотря на все ее значение для понимания высших и более
сложных типов реакций, еще недостаточно изучена. Поэтому, не
стремясь заранее ознакомить читателя с тем, что будет подробно
освещено в самой работе, мы вынуждены все же, хотя бы в самом
сжатом виде, изложить ее основные идеи.
Повседневная жизнь* — начало и конец всякой человеческой
деятельности. Ее можно представить как широкий поток, разде-
ляющийся па протоки и рукава. Такими ответвлениями являются
и высшие виды восприятия и воспроизведения действительности—
наука и искусство. В соответствии со своими особыми задачами
они приобретают свою собственную форму, своеобразие и четкую
определенность. Порожденные потребностями общества, самой
обыденной жизнью, влияя на нее и испытывая ее влияние, они
вновь вливаются в ее поток. Жизнь постоянно обогащается выс-
шими достижениями человеческого духа, усваивает их для своих
практических потребностей, порождая цовые вопросы и требова-
ния, ведущие в свою очередь к новым ответвлениям более высоких
форм объективации практики. Необходимо детально исследовать
сложные отношения между имманентной завершенностью науч-
иых и художественных произведений и теми общественными по-
требностями, которые становятся побудительной причиной их
7
появления. Лишь подробное изучение этой динамики зарож-
дения, развития, обретения собственных закономерностей и
укоренения в жизни позволяет достаточно полно выявить общую
структуру научных и художественных реакций человека на мир
и особенности характеризующей их системы понятий. Мы ограни-
чиваем свою задачу раскрытием своеобразия эстетического. Одна-
ко люди живут во взаимодействии с единой действительностью,
поэтому сущность эстетического не может быть постигнута, пусть
даже неполно, без постоянного сопоставления с другими реакция-
ми их на мир. Важнейшим при этом будет сравнение между эсте-
тическим и научным определениями жизни. Не может быть обой-
дено и сопоставление с этикой и религией. Даже психологические
проблемы, которых мы касаемся здесь, также выступают как не-
обходимое следствие нашего обращения к вопросу о своеобразии
эстетического.
Разумеется, ни одна эстетическая система не может на этом
остановиться. Кант еще мог удовлетвориться ответом лишь на
общий методологический вопрос о значимости эстетических суж-
дений. Но, не говоря уже о том, что, на наш взгляд, вопрос этот
ке главный для построения эстетики, а вполне второстепенный,
следует учесть, что со времени появления гегелевской «Эстетики»
ни один философ, всерьез претендующий на раскрытие сущности
эстетического, не может удовлетвориться столь узкими рамками
■и столь односторонне ориентированной на гносеологию постанов-
кой вопроса. О проблематических сторонах гегелевской эстетики
в ее основных и частных положениях мы еще не раз будем гово-
рить в дальнейшем. Тем не менее философский универсализм
концепции Гегеля, присущий ей исторический и систематический
синтез остаются образцом для любого построения эстетики. При-
близиться к этому высокому образцу, да и то частично, могут
лишь все три части нашей «Эстетики», вместе взятые. Независи-
мо от знаний и способностей того, кто предпринимает подобную
попытку, в современную эпоху объективно гораздо сложнее, не-
жели в гегелевские времена, практически осуществить предложен-
ные гегелевской «Эстетикой» всеобъемлющие масштабы. Подробно
разработанная Гегелем — и тоже исторически систематизирован-
ная — теория искусств останется поэтому вне сферы нашего вни-
мания. Вторая часть работы — предварительно озаглавим ее «Про-
изведение искусства и эстетическая деятельность» — в первую
очередь должна конкретизировать наше понимание специфической
структуры художественного произведения, описанное в первой
части в самых общих чертах; намеченные ранее категории полу-
чат здесь свой истинный и определенный облик. Такие проблемы,
как содержание и форма, мировоззрение и формообразование, тех-
ника и форма и т. п., могли обсуждаться в первой части лишь
как пограничные вопросы, то есть в самом обобщенном виде; их
подлинная конкретная сущность философски прояснится при де-
тальном анализе структуры произведения. Точно так же обстоит
8
дело с проблемой творческой деятельности и ее восприятия.
В первой части работы мы могли очертить лишь общие контуры
этой проблемы, то «место», которое методологически принадле-
жит самой возможности ее определения. Реальные отношения
между обыденной жизнью, с одной стороны, научной, этической
и др. формами деятельности и эстетическим «производством»
и «воспроизводством», с другой стороны, категориальный харак-
тер сути их пропорций, взаимодействий и взаимных влияний
и т. п. также требуют анализа конкретнейших моментов, — анали-
за, принципиально невыполнимого в рамках первой части, где
изучаются общие философские основоположения.
Вышесказанное относится и к третьей части (ее предполагае-
мое название — «Искусство как общественно-историческое явле-
ние»). Однако уже в первой части не только встречались отдель-
ные исторические экскурсы, но приходилось постоянно подчерки-
вать изначально исторический характер всякого эстетического яв-
ления. Историко-систематическая точка зрения на искусство, как
мы упоминали, впервые была отчетливо воплощена в «Эстетике»
Гегеля; обусловленные объективным идеализмом косные стороны
гегелевской систематики были преодолены марксизмом. Уже сама
сложность взаимосвязи между диалектическим и историческим
материализмом говорит о том, что марксизм не дедуцирует фазы
исторического развития из развития идеи, но стремится в своих
исторически систематизирующих определениях дать сознательное
выражение реальному процессу во всей его действительной слож-
ности. Общность теоретических (в нашем случае эстетических)
и исторических определений в конечном счете проявляется в
форме весьма противоречивой и потому может быть познана и в
целом, и в отдельных конкретных случаях лишь при постоянном
применении исследователем методов как диалектического, так и
исторического материализма в их единстве 1. В первой и второй
части настоящего труда преобладает диалектико-материалистиче-
ский подход, ибо задача заключается в том, чтобы выразить в тео-
ретических понятиях объективный характер эстетического. Тем
не менее не существует почти ни одной проблемы, которую можно
было бы разрешить — в нерасторжимом единстве с эстетической
теорией, — не осветив хотя бы бегло ее исторический аспект.
В третьей части доминирует метод исторического материализма,
поскольку внимание там будет сосредоточено в первую очередь на
исторической определенности и своеобразии искусств, их генезиса,
развития, кризиса, их ведущей или подчиненной роли и т. п. При
этом прежде всего будет исследована проблема неравномерности
развития искусств в их генезисе, в их эстетическом бытии и ста-
новлении, в масштабах их воздействия, а это означает полный
разрыв со всякого рода «вульгарно-социологическим» теоретизи-
рованием относительно «генезиса и функции» искусства. Но та-
кого рода свободный от недопустимых упрощений социально-исто-
рический анализ невозможен без опоры на результаты диалекти-
9
ко-материалистического исследования категориальной системы,
структуры и специфических качеств каждого из искусств. Таким
образом, непрерывное и живое взаимодействие диалектического и
исторического материализма проявляется в третьей части отнюдь
не в меньшей мере, чем в первых двух частях, хотя и в ином
аспекте.
Читатель, вероятно, уже заметил, что структура нашей работы
весьма существенно отличается от общепринятых в эстетике. Это,
однако, вовсе не означает претензии на оригинальность метода.
Напротив, мы стремимся лишь как можно точнее применить
марксистский метод к изучению проблем эстетики. Чтобы быть
правильно понятыми, поясним вкратце, в каком отношении к эсте-
тическим взглядам классиков марксизма находится наш труд.
В первом своем исследовании по марксистской эстетике2 я от-
стаивал то положение, что марксизм обладает своей собственной
эстетикой, и натолкнулся в связи с этим на многочисленные воз-
ражения. Основанием для них послужило то обстоятельство, что
марксизм до Ленина, даже в лице столь блестящих своих пред-
ставителей, как Плеханов или Мерииг, ограничивался почти ис-
ключительно проблемами исторического материализма3. Только
начиная с Ленина в круг главных интересов снова входит диа-
лектический материализм. Поэтому Меринг (который к тому же
основывал свою эстетику на «Критике способности суждения»
Канта) не увидел в расхождениях между Марксом и Энгельсом,
с одной стороны, и Лассалем — с другой, ничего, кроме столкно-
вения субъективных суждений вкуса. Впрочем, этот спор уже
давно разрешен. После талантливых и глубоких трудов М. А. Лиф-
шица о развитии эстетических воззрений Маркса, после его тща-
тельной работы по собиранию и систематизации разрозненных
высказываний Маркса, Энгельса и Лепина по вопросам эстетики
были устранены всякие сомнения в наличии у них связной и по-
следовательной системы идей в области эстетики 4.
Однако раскрытие и доказательство этой последовательной
связи воззрений еще не равнозначны построению эстетической
системы марксизма. Если бы в собранных вместе и расположен-
ных в систематическом порядке высказываниях классиков мар-
ксизма содержалась развернутая система эстетики или хотя бы ее
завершенный остов, оставалось бы только снабдить собранные ма-
териалы добротным сопроводительным текстом — и марксистская
эстетика предстала бы перед нами в готовом виде. Но об этом и
речи быть не может! Как показали многочисленные попытки,
даже непосредственное монографическое использование этого ма-
териала в приложении ко всем частным вопросам эстетики не
привело к целостному, исчерпывающему в научном отношении
построению. Возникла, таким образом, парадоксальная ситуация:
марксистская эстетика в одно и то же время и существует и не
существует. Она должна быть разработана, скорее даже создана
путем самостоятельных исследований, и все же результат этих
10
усилий лишь зафиксирует и связно изложит то, что уже наличест-
вует в идее. Парадокс этот, однако, разрешается сам собой, если
подходить к проблеме, вооружившись методом материалистиче-
ской диалектики. Древний смысл слова «метод» неразрывно
связан с путем к познанию, ибо он включает требование к наше-
му мышлению: добиваясь определенного результата, избирать
к нему определенный путь. Направление этого пути со всей оче-
видностью предстает перед нами в той картине мира, которую
оставили нам классики марксизма, в особенности же благодаря
тому, что достигнутые ныне результаты мы можем рассматривать
как завершающие этапы пройденного пути. Таким образом,
метод диалектического материализма хотя и не непосредствен-
но, не с первого взгляда, но тем не менее вполне отчетлива
указывает, как и какими путями следует идти, чтобы отра-
зить в понятиях реальную действительность в ее подлинной
объективности и раскрыть природу той или иной ее области в
соответствии с применяемыми к ней критериями. Лишь тогда,
когда этого метода придерживаются на деле, когда путь выбирает-
ся самостоятельно в процессе собственных исследований, откры-
вается возможность прийти к искомому и правильно построить
марксистскую эстетику — или хотя бы приблизиться к ее подлин-
ной сущности. Тот же, кто питает иллюзии, будто, ограничиваясь
лишь интерпретацией Маркса, можно теоретически воспроизвести
действительность, да еще вдобавок и то, как шел к пониманию
этой действительности Маркс, наверняка не добьется ни того, ни
другого. Лишь непосредственно наблюдая действительность и
обрабатывая результаты наблюдений с помощью открытого
Марксом метода, можно достигнуть как верности марксизму, так
и верности действительности. Настоящая работа, являясь в этом
смысле самостоятельной как в целом, так и в своих составных
частях, тем не менее не претендует на оригинальность, ибо все
свои методы, все пути достижения истины автор находил в тру-
дах, оставленных нам классиками марксизма.
Верность марксизму, однако, означает в то же время и следо-
вание великим традициям прошлого в философском овладении
действительностью. Вульгаризаторы марксизма подчеркивали ис-
ключительно то, в чем марксизм порывает с традициями прош-
лых эпох. Если бы это делалось лишь для того, чтобы привлечь
внимание к качественно новому в марксизме, к тому скачку, ко-
торый отделяет марксистскую диалектику от диалектики даже
таких ее предшественников, как Аристотель или Гегель, это в
какой-то мере можно было бы еще оправдать. Подобная точка
зрения могла быть даже расценена как полезная, но лишь в том
случае, если бы радикально новое в марксизме не рассматрива-
лось — в полном противоречии с диалектикой — односторонне, со-
вершенно изолированно, а следовательно, метафизически и если
бы не был отброшен момент преемственности в истории человече-
скою мышления. Ибо действительность, а вместе с нею и ее мыс-
11
ленное отражение и воспроизведение, являет собой диалектичен
ское единство непрерывности и прерывности, верности традиции
и ее революционного отрицания, постепенных переходов и скач-
ков. Научный социализм сам по себе есть нечто абсолютно новое
в истории, но в то же время он воплощает в себе тысячелетнюю
мечту человечества, реализует то, к чему стремились его лучшие
умы. Так же обстоит дело и с теоретическим миропониманием
классиков марксизма. Глубочайшая истинниость марксизма, ко-
торую не сокрушить никакими нападками, никаким замалчивать
ем, во многом основана на том, что с его помощью были выявле-
ны, осознаны скрытые ранее важные факты действительности,
жизни человечества и человека. Новизна обретает здесь двойной
смысл: благодаря возникновению ранее не существовавшей дейст-
вительности социализма обогащается и получает новое содержа-
ние человеческая жизнь, а благодаря освобождению от фетишиз-
ма, достигнутому с помощью марксистского метода исследования,
предстает в новом свете считавшееся уже познанным человеческое
существование, как настоящее, так и прошедшее, новый смысл
обретают усилия мыслителей прошлого постигнуть это существо-
вание в его истине. Перспективы грядущего, познание настояще-
го и выявление тенденций, духовно и практически способствую-
щих их становлению, находятся в неразрывной взаимосвязи.
Когда внимание сосредоточивается исключительно на том, что от-
деляет нас от традиции, возрастает опасность сведения всей
конкретности и всего богатства определений нового к его абстракт-
ному несходству со старым, что сужает и обедняет новизну
нового.
У классиков марксизма нет и следа подобного метафизическо-
го противопоставления старого новому. Соотношение их высту-
пает в тех пропорциях, какие создавались и выявлялись самим
общественно-историческим развитием. Придерживаться этого
единственного правильного метода в эстетике, пожалуй, еще важ-
нее, чем в других областях знания; точный анализ фактов здесь
особенно четко показывает, что теоретическое осознание резуль-
татов художественной практики всегда было в общем беднее ее
самой, и именно поэтому так велико значение тех немногих мыс-
лителей, которые относительно рано очертили подлинные эстети-
ческие проблемы. Наряду с этим, как мы увидим далее, для пони-
мания эстетических явлений часто очень важны, казалось бы,
весьма отдаленные области, скажем, общефилософская или эти-
ческая. Не останавливаясь здесь на том, что уместнее рассмот-
реть в подробном изложении, заметим, однако, что общее построе-
ние и все частные рассуждения нашей работы — именно потому,
что она обязана своим существованием марксистскому методу,—
глубочайшим образом обусловлены достижениями Аристотеля,
Гёте и Гегеля в их различных и не всегда непосредственно свя-
занных с эстетикой произведениях. Высказав свою признатель-
ность также Эпикуру, Бэкону, Гоббсу, Спинозе, Вико, Дидро,
12
Лессингу и русским революционным демократам, я назову лишь
наиболее важные для меня имена, и список авторов, которым я
чувствовал себя обязанным при написании настоящей работы в
целом и в деталях, далеко не будет исчерпан. Соответственно это-
му был избран и способ цитирования. В мои намерения не вхо-
дило исследовать проблемы истории искусства или истории эсте-
тики. Речь идет о том, чтобы осветить только тот фактический
материал или те линии развития, которые имеют значение для об-
щей теории. Поэтому в соответствии с нынешним состоянием
теории цитируются либо те авторы и те их труды, которые — вер-
но или в той или иной мере ошибочно — впервые поставили дан-
ный вопрос, либо те, чье мнение характерно для рассматриваемой
ситуации. К исчерпывающей полноте литературно-справочного
материала мы ни в коей мере не стремились.
Из вышеизложенного ясно, что работа в целом полемически
заострена против философского идеализма. При этом гносеологи-
ческая полемика, разумеется, остается вне ее рамок; внимание
сосредоточено лишь на тех специфических проблемах, где фило-
софский идеализм становится препятствием к адекватному пости-
жению эстетического содержания. Относительно заблуждений,
возникающих при обращении к проблеме прекрасного (или так
называемых его «моментов»), речь пойдет преимущественно во
второй части; здесь этого круга вопросов мы касаемся лишь эпи-
зодически. Тем более важно отметить в данном случае неизбежно
иерархический характер всякой идеалистической эстетики. Ибо
если различные формы сознания выступают в качестве конечных
принципов, определяющих предметность исследуемых объектов,
их положение в системе и т. п., а не представляют собой — как
это имеет место в материализме — лишь типы реакций человека
на объективный мир, существующий независимо от его сознания
и уже конкретно оформленный, то этим формам сознания неиз-
бежно приходится взять на себя роль верховных судей мысли-
тельного порядка и строить свою систему иерархически. Какие
ступени предусматривает подобная иерархия в том или ином слу-
чае, решается исторически весьма различно. Нас интересует
лишь то обстоятельство, что любая иерархия такого рода фальси-
фицирует и предметы, и отношения.
Существует широко распространенное заблуждение, будто и
материалистическая картина мира в свою очередь носит иерархи-
ческий характер, отдавая приоритет бытию над сознанием, обще-
ственному бытию над общественным сознанием. Однако для мате-
риализма приоритет бытия прежде всего фиксирует тот факт, что
"существует бытие без сознания, но не существует сознания без
бытия. Из этого еще не вытекает иерархическая подчиненность
сознания бытию. Напротив, только приоритет бытия и его кон-
кретное — как теоретическое, так и практическое — принятие на-
шим сознанием позволяют нам реально овладеть бытием с по-
мощью сознания. Это убедительнейшим образом иллюстрирует
13
уже сам по себе простой факт труда. И если исторический мате-
риализм признает приоритет общественного бытия над общест-
венным сознанием, речь опять-таки идет лишь о констатации ре-
ально существующего положения вещей. Общественная практика
также нацелена на овладение общественным бытием, и то, что в
ходе предшествующей истории она лишь в весьма относительной
мере могла достичь этой цели, еще не свидетельствует о иерархи^
ческом их соотношении, но лишь определяет те конкретные усло-
вия, при которых успех практики становится объективно возможт
ным, — правда, одновременно устанавливая ее конкретные грани-
цы, тот предел развития сознания, который задается обществен?
ным бытием. Это соотношение определяется исторической диалек-
тикой, оно не может рассматриваться как иерархическая структу-
ра. Когда парусная лодка оказывается беспомощной перед бурей,
которая не страшна океанскому лайнеру, мы вщсим здесь лишь
реальное преобладание либо реальную ограниченность сил, но
отнюдь не иерархическое соотношение между силами человека и
силами природы. В ходе исторического развития перед сознанием
открываются все более широкие возможности проникновения в
истинные свойства бытия, овладения бытием.
Совершенно по-иному вынужден строить свою модель мира
философский идеализм. Тут уже не реальное и меняющееся соот-
ношение сил обусловливает временное превосходство или подчи-г
ненность, тут с самого начала утверждается иерархия конституит
руемых сознанием потенций, которые не только порождают и
упорядочивают формы предметности и соотношения между пред-
метами, но и сами также находятся между собой в отношениях
иерархической субординации. Применительно к интересующей
нас проблеме приведем следующий пример: когда Гегель связы-
вает искусство с созерцанием, религию с представлением, а фило-
софию с понятием и считает, что перечисленные формы сознания
определяют искусство, религию и философию, то тем самым oif
конструирует жесткую, «вечную» и непреоборимую иерархию,
которая, как известно всякому, изучавшему Гегеля, определяет в
то же время и исторические судьбы искусства. И если молодой
Шеллинг, строя свою иерархическую систему, отводит в ней искус-
ству другое место, это в принципе не меняет дела. Совершенно1
очевидно, что здесь возникает целый клубок мнимых проблем,
которые со времен Платона вносят методологическую путаницу
в любую эстетическую систему. Ибо независимо от того, помещает
ли та или иная идеалистическая философия искусство выше или
ниже прочих форм сознания, мышление отклоняется от изучения
специфических особенностей предметов, а сами предметы — боль-
шей частью совершенно недопустимым образом — приводятся к
некоему общему знаменателю для удобства сравнения их друг q
другом в рамках иерархической системы и распределения по на-
меченным иерархическим ступеням. Идет ли при этом речь об
отношении искусства к природе, к религии или к науке — повски
14
дау эти мнимые проблемы ведут к неизбежным искажениям форм
предметности, искажениям категорий.
Необходимость разрыва с любой разновидностью философско-
го идеализма станет еще более явной, если мы конкретизируем
наш материалистический исходный тезис. Мы рассматриваем ис-
кусство как своеобразную форму отражения действительности;
эта форма в свою очередь является лишь одним из видов универ-
сального отношения человека к реальному миру, основанного на
отражении этого мира в его сознании. Одна из главных идей на-
стоящего труда состоит в том, что все типы отражения — а мы
прежде всего анализируем отражения действительности в обыден-
ной жизни, в науке и в искусстве, — всегда отображают одну
объективную действительность. Это кажется чем-то само собой
разумеющимся, даже банальным, но отсюда следуют весьма важ-
ные выводы. Поскольку материалистическая философия в отличие
от идеалистической рассматривает все формы предметности, все
категории, относящиеся к предметам и их соотношениям, не как
продукт творческого сознания, а видит в них объективную дейст-
вительность, существующую независимо от сознания, то все рас-
хождения и даже противоположности отдельных видов отраже-
ния могут существовать лишь внутри этой единой — материально
и по форме — действительности. Чтобы усвоить сложную диалек-
тику этого единства тождества и различия, следует прежде всего
освободиться от широко распространенного представления о меха-
ническом, фотографическом характере отражения. Если бы имен-
но такого рода отражение служило основой различий между спе-
цифическими его формами, то либо все они оказались бы субъ-
ективными искажениями этого единственно «аутентичного»
воспроизведения действительности, либо вообще всякая их диффе-
ренциация была бы ретроспективной, не спонтанной, а всего лишь
сознательно сконструированной. Между тем экстенсивная и ин-
тенсивная бесконечность объективного мира заставляет приспо-
сабливаться к нему все живое, и прежде всего человека, и произ-
водить в его отражении бессознательный отбор. Тем самым
отражение — без ущерба для его объективности — включает в себя
и неизбежную субъективную составляющую, которая на живот-
ной ступени развития обусловлена чисто физиологически, а у
человека, сверх того, и социально (влиянием труда на обогаще-
ние, расширение и углубление способности человека отражать
действительность). Следовательно, дифференциация — особенно *
науке и искусстве — это продукт общественного бытия и возник-
ших на его почве потребностей, результат приспособления чело-
века к окружающей среде, развития его способностей во взаимо-
действии с необходимостью подниматься до уровня совершенно
новых задач. И хотя физиологически и психологически эти взаи-
модействия и эта приспособляемость к новому осуществляются
непосредственно в каждом отдельном человеке, они сразу же обре-
тают социальную всеобщность, поскольку новые задачи, новые
15
условия, изменяющие человека, обладают всеобщими (обществен-
ными) свойствами и допускают индивидуально-субъективные ва-
рианты лишь в рамках общественного целого.
Наиболее значительная в качественном и количественном от-
ношении часть нашей работы посвящена исследованию специфи-
ческих существенных признаков эстетического отражения дейст-
вительности. В соответствии с основным замыслом это ис-
следование носит философский характер, то есть внимание
сосредоточено на тех специфических формах, связях, пропорциях
и т. п., которые приобретает при эстетическом подходе мир кате-
горий, присущий всякому отражению. При этом, разумеется, не-
избежно и обращение к собственно философским проблемам;
этому специально посвящена глава И. Далее следует подчеркнуть,
что главная философская ориентация обязывает нас выявлять во
всех искусствах прежде всего общие эстетические черты отраже-
ния мира, хотя в соответствии с плюралистической структурой
эстетической сферы при исследовании категорий нужно рассматри-
вать со всей возможной обстоятельностью и своеобразие отдельных
искусств. Абсолютное своеобразие отражения действительности
в таких видах искусства, как музыка или архитектура, заставля-
ет нас обратиться к этим частным случаям в особой главе [гл. 14}
и при этом попытаться так осветить их специфику, чтобы одновре-
менно утвердить справедливость общеэстетических принципов.
Универсальность отражения действительности как основа взаи-
моотношений человека с окружающим миром при последователь-
ном проведении этого понимания влечет за собой общие философ-
ские выводы, чрезвычайно важные для понимания эстетического.
Для всякого последовательного идеализма любая форма сознания,
существенная для человеческого бытия — в нашем случае форма
эстетическая, — поскольку ее происхождение зиждется на иерар-
хических взаимосвязях мира идей, неизбежпо носит «вневремен-
ной», «вечный» характер. Если она и поддается исторической
трактовке, то лишь в метаисторических границах «вневременного»
бытия или значения. Казалось бы, это чисто формально-методоло-
гическая позиция, однако она не может не окрасить соответст-
венно и вопросы содержания, вопросы мировоззрения: из нее не-
избежно следует, что эстетическое как в творчестве, так и в вос-
приятии принадлежит «сущности» человека, и дело не меняется
от того, как определяется эта «сущность» — миром идей или все-
мирным духом, антропологически или онтологически. Совершенно
иная картина предстанет перед нами, если мы подойдем к этой
проблеме с материалистической точки зрения. Объективная дей-
ствительность, которая раскрывается в разных видах отражения,
не только непрерывно изменяется, но и обнаруживает в своих
изменениях вполне определенные направления, линии развития.
Действительность, следовательно, исторична сама по себе, исто-
рична объективно. Поэтому возникающие в различных ее отраже-
ниях исторические определения как в области содержания, так
16
и в области формы являются лишь более или менее верными при-
ближениями к этой стороне самой действительности. Подлинный
историзм, однако, никогда не сводится к изменению одного лишь
содержания при полностью неизменных формах, при совершенна
не изменяющихся категориях. Более того, изменение содержания
неизбежно вызывает также и модификацию форм, и прежде всего;
приводит к определенным функциональным изменениям внутри
системы категорий, в известной степени даже к резко выражен-
ному ее преобразованию — возникновению новых категорий и ис-
чезновению старых. Историзм объективной действительности вле-
чет за собой определенный историзм и в учении о категориях.
Необходимо, разумеется, внимательно выяснять, насколько-
объективны или субъективны подобные изменения. Ибо хотя в ко-
нечном счете природу также следует воспринимать исторически,,
отдельные этапы ее развития так длительны, что объективные
изменения в них едва прослеживаются наукой; тем важнее субъ-
ективная история открытий в области предметности, соотношений
и категориальных связей. Только в биологии можно установить
поворотный пункт — возникновение объективных категорий жиз-
ни (по крайней мере в доступной нам части Вселенной), а тем-
самым и объективный генезис. Качественно иначе стоит вопрос,
когда речь заходит о человеке и о человеческом обществе. Здесь,,
несомненно, всегда говорится о генезисе отдельных категорий и
категориальных взаимосвязей, которые нельзя «вывести» из одно-
го лишь продолжения предшествовавшего развития; выяснение
их генезиса выдвигает специальные требования. Однако истинное
положение вещей предстало бы в неверном свете, если бы иссле-
дование генезиса новых явлений было оторвано от их философско-
го анализа; подлинная категориальная структура любого та этих
явлений теснейшим образом связана с их генезисом; выявить ка-
тегориальную структуру полно и в верных пропорциях можно,
лишь органически связав расчленение на существенные элементы
с выявлением генезиса; выведение категории стоимости в «Капи-
тале» Маркса — образец подобного историко-систематического ме-
тода. В настоящей работе автор произвел опыт такого рода орга-
нического сочетания конкретного исследования основного эстети-
ческого феномена, его ответвлений и частных вопросов. Эта мето-
дология, однако, становится мировоззрением лишь при полном
отказе от понимания искусства, творчества как проявлений некой
иадысторической идеи, как онтологически или антропологически
присущих «идее человека». Искусство, подобно труду, науке и
всей общественной деятельности, есть продукт социально-истори-
ческого развития человека, который только через труд и стано-
вится человеком.
Однако и помимо этого объективный историзм бытия и его-
специфическая форма проявления в человеческом обществе имеют
важные последствия для понимания принципиального своеобразия
эстетического. Научное отражение действительности ставит себе
2 Заказ № 683
17
задачу освободиться от любых антропологических — как чувствен-
ных, так и духовных — ограничений, чтобы отразить предметы и
их соотношения, как они существуют сами по себе, независимо от
"Сознания. Эстетическое отражение, напротив, исходит из жизни
человека и обращено к ней. И это, как мы увидим далее, не
просто субъективизм: объекты сохраняют свою объективность,
но в самой объективности содержатся также все типические соот-
несенности с человеческой жизнью. Объективность выступает в
таком виде, который присущ только данной ступени внутреннего
и внешнего развития человечества — его общественного развития.
Это означает, что всякое эстетическое явление вовлекает,
вбирает в себя в качестве существенного момента своей несомнен-
.ной предметности историческое hic et nunc своего генезиса. Ра-
зумеется, всякое отражение существенно детерминировано опреде-
ленными условиями своего возникновения. Даже при открытии
математических или естественнонаучных истин никогда не быва-
ет случайным момент времени; правда, он важнее для истории
науки, чем для самого научного знания, для которого совершенно
неважно, например, когда и при каких — необходимых — истори-
ческих обстоятельствах была впервые сформулирована теорема
.Пифагора. В общественных науках дело обстоит сложнее. Ие имея
здесь возможности подробно остановиться на этом, заметим лишь,
что непосредственное влияние исторической ситуации в самых
разных формах может и в этой научной области оказаться поме-
хой для подлинно объективного воспроизведения социально-исто-
рической реальности. Совершенно иное положение с эстетическим
♦отражением: без художественно-образного воплощения hic et nunc,
-соответствующего данному историческому моменту, никогда еще
;не существовало подлинного произведения искусства. Независимо
от того, сознает ли это художник, или он полагает, что творит
нечто «вневременное», развивает традиционный стиль, воплощает
заимствованный из прошлого «вечный» идеал, его произведения,
если они обладают художественной подлинностью, не могут не
вырастать из глубочайших устремлений того времени, когда они
создаются; содержание и форму истинно художественных творе-
ний — именно в эстетическом смысле — нельзя отделить от поро-
дившей их почвы. Историзм объективной реальности обретает
<овой субъективный, равно как и объективный, образ в произведе-
ниях искусства.
Проблема исторической сущности действительности относится
к кругу вопросов, которые первоначально также носят методоло-
гический характер, но, как и всякая подлинная проблема правиль-
но, а не чисто формально понимаемой методологии, она неизбеж-
но перерастает в проблему мировоззрения. Мы имеем в виду
вопрос о посюсторонности искусства, его земном характере. Посю-
сторонность с точки зрения чисто методологической — необходимое
требование как научного познания, так и художественного вопло-
щения. Тот или иной комплекс явлений можно считать научно
18
познанным лишь тогда, когда он до конца осознан в аспекте им-
манентных им качеств и воздействующих на них столь же-
имманентных закономерностей. Иа практике подобное совершен-
ство достижимо лишь весьма приближенно; как экстенсивная, так
и интенсивная бесконечность предметов, их статических и дина-
мических соотношений и т. п. не позволяет, чтобы какое-либо зна-
ние в его ныне существующей форме могло рассматриваться как
абсолютно исчерпывающее, исключающее в дальнейшем исправ-
ления, ограничения, дополнения и т. п. Это «еще не постигнутое»
во все времена — начиная с магии и кончая современным позити-
визмом—и всяческими способами интерпретируется как транс-
цендентность, невзирая на то что многое, ранее считавшееся не-
познаваемым, давно уже стало достоянием науки, хотя бы в ка-
честве теоретически разрешимой, пусть даже практически еще и
не решенной, проблемы. Развитие капитализма, новое соотноше-
ние между наукой и производством в сочетании с кризисом рели-
гиозного мировоззрения поставили на место наивной трансцен-
дентности более сложную, более утонченную. Уже во времена,
когда ревнители христианства пытались идеологически сопротив-
ляться теории Коперника, возник новый дуализм: он принял
форму методологического воззрения, пытающегося объединить*
имманентность мира явлений с отрицанием его конечной реаль-
ности, оспорить способность науки узнать об этом мире нечто
достоверное. Казалось бы, это обесценение реальности мира не
имеет значения — ведь практически, в процессе производства,
люди могут выполнять свои непосредственные задачи независимо
от того, считают ли они объект и средства своей деятельности ре-
ально существующими или чистой видимостью. Однако подобное
рассуждение вдвойне софистично. Во-первых, всякий реально,
практически действующий человек убежден, что он имеет дело
с реальной действительностью; в этом не сомневается даже физик-
позитивист, когда он ставит опыты. Во-вторых, подобное воззре-
ние, если оно в силу социальных причин глубоко укоренилось и
получило распространение, разрушает наиболее опосредованные
духовно-моральные связи человека с действительностью. Экзи-
стенциалистская философия, противопоставляющая «брошенно-
му» в мир человеку «ничто», с точки зрения общественно-исто-
рической выступает в качестве необходимой дополняющей проти-
воположности, завершая философскую традицию, идущую от
Беркли к Маху или Карыапу.
Ареной самых непосредственных и ожесточенных сражений
между двумя отмеченными взглядами иа мир, бесспорно, является
этика. Именно поэтому в рамках настоящего труда основные
пункты разногласий в этой области могут быть лишь затронуты.
Автор надеется в обозримом будущем и по этому вопросу изло-
жить свои взгляды в систематической форме. Здесь же мы только-
напомним, что старый материализм — от Демокрита до Фейерба-
ха— представлял себе имманентность структуры мира мехашь
2*
19*
яески. Вследствие этого мир все еще рассматривался как часовой
.механизм, нуждающийся в трансцендентном воздействии, чтобы
.прийти в движение; человек же в подобной модели мира мог быть
лишь необходимым продуктом и объектом имманентно-посюсто-
ронних закономерностей, и его субъективность, его практика оста-
вались необъяснегшыми. Развитое Гегелем и Марксом учение о
самосотворении человека посредством его собственного труда,
о человеке, который, по образному выражению Гордона Чайлда,
«сам себя делает» («man makes himself») 5, завершило посюсто-
роннюю картину мира, создало философскую основу для соответ-
ствующей этики, дух которой уже давно жил в гениальных кон-
цепциях Аристотеля и Эпикура, Спинозы и Гёте. (Разумеется,
важную роль в решении этой проблемы играет учение об эволюции
живой материи, все большее приближение к познанию того, как
возникает жизнь из взаимодействия физических и Химических за-
кономерностей.)
Для эстетики этот вопрос имеет первостепенное значение, и в
дальнейшем .он будет подробно рассмотрен. Здесь, в предисловии,
бесполезно предвосхищать в кратком изложении выводы наших
исследований — они могут приобрести убедительность, только
когда будут развернуты все относящиеся к предмету определения.
Но для того, чтобы заявить о нашей точке зрения, заметим, что
имманентная завершенность, самодовлеющий характер любого
подлинного произведения искусства как разновидности отображе-
ния, не имеющей аналогий среди других человеческих реакций на
внешний мир, по своему содержанию всегда, вольно или неволь-
но, говорит против трансцендентности. Именно поэтому, как с ге-
ниальной цроницательностью заметил Гёте, для искусства проти-
воположность аллегории и символа — вопрос его бытия или не-
бытия. По той же причине (об этом будет говориться в главе 16)
борьба искусства за свое высвобождение из-под опеки религии
является основополагающим фактором его возникновения и разви-
тия. Исследование генезиса как раз и должно показать, как от
естественно присущей сознанию первобытного человека привязан-
ности к трансцендентному, без которой невозможно представить
раннюю стадию развития в любой области, искусство постепенно
пришло к независимости в отражении действительности, к само-
стоятельной, своеобразной ее обработке. При этом, разумеется,
речь идет об объективном развитии эстетических явлений, а не о
том, что думали о своей деятельности сами художники. В художе-
ственной практике расхождение между действием и его осознани-
ем особенно велико. Смысл высказывания Маркса, взятого нами в
качестве эпиграфа: «Они не сознают этого, но они это делают», —
выступает здесь особенно рельефно. Такова уж объективная кате-
гориальная структура художественного произведения, что любой
сдвиг сознания в область трансцендентного, столь естественный
и частый в истории рода человеческого, оно снова обращает к
земному, посюстороннему, ибо художественное произведение есть
20
то, что оно есть, то есть составная часть реальной жизни челове-
ка, симптом сегодняшнего и именно данного, а не иного бытия.
Осуждение искусства, эстетического принципа как такового, на-
чиная с Тертуллиана и кончая Кьеркегором, вовсе не случайно в
•истории философии; скорее, это признание истинной сущности
искусства его убежденными противниками. И наша работа не
просто устанавливает факт неизбежности такой борьбы, но зани-
мает в ней отчетливую позицию: за искусство против религии —
б духе великой традиции, идущей от Эпикура, Гёте к Марксу и
Ленину.
Диалектическое развитие — аналитическое расчленение и об-
ратный синтез — столь разнообразных, противоречивых, сходя-
щихся и расходящихся определений предметностей и их соотно-
шений нуждается и в особом методе изложения. Не следует счи-
тать, что, сообщая здесь вкратце его основные принципы, автор
выступает с апологией своего метода. Никто так ясно не видит его
недостатки и погрешности, как сам автор. Однако он хотел бы
ютстоять свои намерения; удалось ли их осуществить или нет,
о том судить не ему. Таким образом, речь здесь идет исключитель-
но о принципах. Эти принципы зиждутся на материалистической
диалектике, а последовательное проведение ее в столь обширной
н разветвленной области требует прежде всего разрыва с формаль-
ными средствами изложения, построенными на дефинициях и ме-
ханических разграничениях, на «аккуратном» распределении по
рубрикам. Подчеркнем сразу главное: исходя из метода определе-
ний, а не логических дефиниций, мы тем самым возвращаемся к
связанным с реальностью основам диалектики, к экстенсивной и
интенсивной бесконечности предметов и их связей. Любая попыт-
ка мысленно охватить всю эту бесконечность неизбежно окажется
недостаточной; ведь дефиниция фиксирует свою неполноту как
нечто окончательное и тем самым неизбежно извращает суть
явления. Определение с самого начала рассматривает себя как
нечто относительное, нуждающееся в дополнениях, как нечто по
самой своей сути требующее продолжения, развития, конкретиза-
ции. Иными словами, если в настоящей работе какой-либо пред-
мет, какое-либо соотношение предметностей, какая-либо кате-
гория с помощью своего определения станут понятными и тео-
ретически постижимыми, то надо всегда иметь в виду, что здесь
подразумевается нечто двойственное: мы ставим себе цель так оха-
рактеризовать данный объект, чтобы его можно было опознать, не
спутав с другими, не претендуя, однако, на то, что определение
уже на этой своей стадии доведено до полноты и на этом следует
•остановиться. К познанию объекта можно приблизиться лишь
постепенно, шаг за шагом, рассматривая один и тот же объект в
различных взаимосвязях и соотношениях с другими объектами,
причем первоначальное определение не только не отбрасывает-
ся — это значило бы, что оно было ложным, — но непрерывно обо-
гащается и все ближе, так сказать, подступает к бесконечности
21
предмета, который мы определяем. Этот процесс проходит на са-
мых разных уровнях теоретического воспроизведения действитель^
ности и поэтому — в принципе — может считаться лишь относи-
тельно завершенным. Однако если диалектический метод приме-
няется верно, определение и система его взаимосвязей приобретают
все большую ясность и богатство; следовательно, возвращение к
одному и тому же определению в разных ситуациях и на разных,
уровнях обобщения отнюдь не равнозначно простому повторению.
Мы не только все глубже проникаем таким образом в сущность,
постигаемого объекта; если наш путь правилен, диалектичен, то>
пройденный нами ранее путь открывается в новом свете, становит-
ся доступным в более точном смысле этого слова. Макс Вебер в
свое время написал мне о моих первых, весьма несовершенных
опытах подобного рода, что он воспринимает их как драмы Ибсе-
на, где начало становится понятным, лишь когда дойдешь до кон^
ца. Я воспринял это как тонкое проникновение в* мой замысел,,
ибо моя продукция того времени не заслуживала столь высокой
оценки. Мне хотелось бы надеяться, что этот мой труд в большей
мере будет воплощением вышеуказанного стиля мышления.
В заключение позволю себе весьма сжато рассказать историю-
возникновения моей «Эстетики». Я начинал свой путь как литера-
турный критик и эссеист, искавший теоретическую основу сперва
в эстетике Канта, а позднее — Гегеля. Зимой 1911/12 года во Фло?
реиции у меня возник первый набросок самостоятельной системы
эстетики; к разработке его я приступил в 1912—1914 годах в Гей-
дельберге. Опыт этот потерпел полную неудачу. И когда я ныне
выступаю против философского идеализма, моя критика постоян-
но обращается также и против тенденций моей собственной
юности. Внешне казалось, что мою работу тогда прервала война.
Уже «Теория романа» 6, возникшая в первый военный год и вы-
шедшая в свет в 1920 году, была ориентирована больше на исто-
рико-философские проблемы, тогда как эстетические вопросы
должны были служить лишь их симптомами, сигналами. Затем
мои интересы все больше сосредоточивались на проблемах этики,
истории, экономики. Я стал марксистом, и десятилетие моей ак-
тивной политической деятельности было в то же время периодом
углубленного изучения марксизма, периодом его подлинного усвое-
ния. Когда я — около 193Ö года — снова обратился к интенсивным
занятиям художественными проблемами, систематическая эстети-
ка представлялась мне лишь в весьма далекой перспективе. Толь-
ко двумя десятилетиями позднее, в начале 50-х годов, я начал
думать о том, чтобы осуществить мечту моей юности. К этому
времени мое мировоззрение и методы исследования были уже со^
вершенио иными, чем в юности. Вот почему и содержание моего-
труда совершенно иное, и для его выполнения использованы ко-
ренным образом изменившиеся методы.
Будапешт, декабрь 1962 г.
Глава i
ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЫДЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
Нижеследующие рассуждения ни в коей мере не претендуют на
то, чтобы дать точный и исчерпывающий философский — в част-
ности, гносеологический — анализ обыденного мышления. В нашу
задачу не входило также изложить — хотя бы только философ-
скую — историю разделения развивающихся на этой общей почве
художественного и научного отражения действительности. Глав-
ной трудностью здесь было отсутствие предварительных иссле-
дований. До настоящего времени теория познания очень мало
занималась обыденным мышлением. Любая буржуазная, а в осо-
бенности идеалистическая, теория познания стремится, с одной
»стороны, сместить все проблемы генезиса познания в сферу ан-
тропологии и т. п., с другой стороны, исследовать проблематику
только высокоразвитых форм научного познания в их чистом
©иде. Это привело к тому, что все не естественнонаучные, не
«точные» дисциплины, например исторические науки, весьма
поздно подверглись теоретико-познавательному анализу, да и то
иррационалистические тенденции этого анализа скорее запуты-
вали исследуемые взаимосвязи, чем проясняли их. Труды о свое-
образии эстетического, которые лишь в редчайших случаях изу-
чали эстетическое отражение действительности, ограничивались
обычно тем, что подчеркивали абстрактное несходство эстетиче-
ского с наукой. Именно в подобных вопросах метафизическое
мышление нагромождает на пути познания непреодолимые пре-
пятствия, ибо его система категорических определений: «да — да,
нет — нет» — мешает постижению гибких промежуточных форм,
которые нуждаются в изучении как в жизни, так и в искусстве,
в особенности на стадии его социально-исторического генезиса.
Столь же косным оказывается и метафизическое противопостав-
ление вопросов генезиса и функции, и это создает новое препят-
ствие на пути исследователя. Только диалектический и историче-
ский материализм в состоянии выработать историко-систематиче-
ский метод для исследования подобных проблем.
Общеметодологическая постановка вопроса на подобной осно-
ве, разумеется, вполне ясна. Мы попытаемся в дальнейшем пока-
зать, чего можно добиться, идя этим путем. Сейчас же мы пред-
варительно изложим вкратце нашу точку зрения в ее наиболее
общем виде: научное и эстетическое отражения объективной
23
действительности вырабатываются в ходе исторического развития8
и становятся все более тонко дифференцированными формами«
отражения, которые исходят из самой жизни и в ней находят
свое окончательное осуществление. Именно этим и определяется
их своеобразие, стоящая перед ними задача — обеспечивать все-
более совершенное и точное выполнение их общественной функ-
ции. Относительно поздно выступив в своем чистом виде, обус-
ловливающем их научную или, соответственно, эстетическую все-
общность, они образуют два полюса в общем отражении объек-
тивной действительности; средой, питающей их, является обы-
денная жизнь. Намеченная здесь трихотомия в отношениях чело-
века к внешнему миру (ниже о ней будет сказано подробнее)
была четко выявлена Павловым. В исследовании о типах высшей'
нервной деятельности он пишет: «Животные до появления семей-
ства homo sapiens сносились с окружающим миром» только чере&
непосредственные впечатления от разнообразных агентов егоу
действовавшие на разные рецепторные приборы животных и про-
водимые в соответствующие клетки центральной нервной систе-
мы. Эти впечатления были единственными сигналами внешних
объектов. У будущего человека появились, развились и чрезвы-
чайно усовершенствовались сигналы второй степени, сигналы
этих первичных сигналов — в виде слов, произносимых, слыши-
мых и видимых. Эти новые сигналы, в конце концов, стали обо-
значать все, что люди непосредственно воспринимали как из
внешнего, так и из своего внутреннего мира, и употреблялись ими
не только при взаимном общении, но и наедине с самим собой.
Такое преобладание новых сигналов обусловила, конечно, огром-
ная важность слова, хотя слова были и остались только вторыми
сигналами действительности... Но, не входя дальше в эту важную
и обширнейшую тему, нужно констатировать, что благодаря двум
сигнальным системам и в силу давних хронически действовавших
разнообразных образов жизни людская масса разделилась на
художественный, мыслительный и средний тип. Последний
соединяет работу обеих систем в должной мере. Это разделение
дает себя знать как на отдельных людях, так и на целых на-
циях» 1.
Таким образом, научное и эстетическое отражения в их чи-
стом виде отчетливо отделяются от сложных смешанных форм
повседневности, но границы между ними постоянно размываются,
поскольку обе эти обособившиеся формы отражения возникают
из потребностей обыденной жизни, призваны отвечать на ее за-
просы, а завоевания научного и художественного отражения в
свою очередь сливаются с формами ее проявления, делая их бо-
лее содержательными, дифферешщрованными, богатыми и глубо-
кими, непрерывно развивая и обогащая ее. Без выявления этого
взаимодействия нельзя представить себе генезис научного или
эстетического отражения с историко-систематической точки
зрения. Поэтому философское осмысление проблемы требует уче-
24
та как двойного взаимодействия этих обособившихся форм с обы-
денным мышлением, так и складывающегося своеобразия самих
этих форм.
Философское исследование отражения предполагает, однако,
необходимую предпосылку, которую надлежит пояснить хотя бы
в ее наиболее общих основах, прежде чем мы займемся специ-
фическими проблемами отражения. Речь идет о том, что, присту-
пая к исследованию отражения действительности в обыденной
жизни, в науке и в искусстве, устанавливая их различия, мы
должны постоянно помнить о том, что все эти три формы отра-
жают одну и ту же действительность. Только течения субъектив-
ного идеализма придеряшваются представления о том, что раз-
новидности систем отражения соотносятся с различными, само-
стоятельными, творимыми индивидом реальностями, не соприка-
сающимися друг с другом. Наиболее явно и последовательно это
выражает Зиммель; так, о религии он пишет: «Религиозная жизнь
заново творит мир, придает всему сущему особое звучание, так
что оно в идеальном случае вовсе не пересекается с картинами
мира, создаваемыми на основе других категорий, и не вступает
с ними в противоречие»2. Диалектический материализм, напро-
тив, рассматривает материальное единство мира как неоспоримый
факт. Тем самым любое отражение — это отражение единой и
единственной реальности. Но для механистического материализ-
ма отсюда следует, что любой образ этой реальности должен быть
ее простой фотокопией. (Подробнее этот вопрос мы рассматриваем
в главе 5; здесь же заметим, что в действительности отражения
возникают в процессе взаимодействия человека и внешнего мира,
причем процедуры выбора, упорядочения и т. д. вовсе не обяза-
тельно обусловлены субъективными иллюзиями или искажения-
ми, хотя, разумеется, во многих случаях это происходит.) На-
пример, если человек в обыденной жизни закрывает глаза, чтобы
лучше воспринять определенные звуковые нюансы своего окру-
жения, то такое отключение части отражаемой действительности
помогает ему точнее, полнее, более адекватно, чем это было бы
возможно без абстрагирования от видимого мира, воспринять
именно тот феномен, в овладении которым он в данный момент
заинтересован. Путь от таких манипуляций, проделываемых поч-
ти инстинктивно, к отражению в процессе труда, эксперимента
и т. д. вплоть до науки и искусства, весьма извилист. Возникаю-
щие таким образом различия и даже противоположности в отра-
жении действительности будут подробно рассмотрены ниже; здесь
же следует с самого начала решительно констатировать, что мы
все время имеем дело с отражением одной и той же объектив-
ной действительности и что это единство конечного объекта имеет
решающее значение для представления содержания и формы дан-
ных различий и противоположностей.
Рассматривая на этом основании типы взаимодействия обы-
денной жизни с наукой и искусством, мы можем заметить, что
25
даже самое четкое осознание решаемой здесь проблемы еще да-
леко не означает, что в настоящее время мы можем получить
конкретные ответы. Это утверждение относится прежде всего к
постепенному, неравномерному, противоречивому обособлению
трех разновидностей отражения. В общем виде мы, несомненно,
можем констатировать их первичное хаотическое взаимопро-
никновение на известной нам начальной, примитивной стадии
существования человечества. Фиксированная история представ-
ляет нам их различия высокоразвитыми и стремительно, хотя,.
как мы увидим, и противоречиво, развивающимися. Историче-
ский континуум между этими двумя состояниями следует при-
знать объективно проблематичным. Наших современных знаний
далеко не достаточно даже для того, чтобы конкретно постичь
сам процесс, и этот недостаток объясняется не только незнанием
исторических фактов — он глубочайшим образом связан с яепро-
яснеиностью основных философских проблем. В стремлении ра-
зорвать порочный круг разнородного незнания мы должны, по-
стоянно осознавая фрагментарность наших знаний, мужественно
приступить к философскому разъяснению основных типов и ре-
шающих этапов развития рассматриваемых различий. И хотя
наш метод принадлежит к сфере философии, он содержит и прин-
ципы социального анализа. Маркс четко определил и описал ме-
тод такого приближения к давно минувшим» а зачастую и давно
забытым эпохам с точки зрения истории экономических форма-
ций и категорий: «Буржуазное общество есть наиболее развитая
и наиболее разнообразная историческая организация производст-
ва. Поэтому категории, выражающие его отношения, понимание
его структуры, дают вместе с тем возможность заглянуть в струк-
туру и производственные отношения всех тех погибших форм
общества, из обломков и элементов которых оно было построено.
Некоторые еще не преодоленные остатки этих обломков и элемен-
тов продолжают влачить существование внутри буржуазного об-
щества, а то, что в прежних формах общества имелось лишь в
виде намека, развилось здесь до полного значения и т. д. Анато-
мия человека — ключ к анатомии обезьяны. Намеки же на более
высокое у низших видов животных могут быть поняты только
в том случае, если само это более высокое уже известно. Буржу-
азная экономика дает нам, таким образом, ключ к античной и
т. д. Однако вовсе не в том смысле, как это понимают экономии
сты, которые смазывают все исторические различия и во всех
формах общества видят формы буржуазные» 3. В рассматриваем
мой области также справедливо утверждение о том, что анатомия
человека —ключ к анатомии обезьяны. Разумеется, при совре-
менном уровне развития наших знаний и воззрений нельзя до^
стичь большего, нежели приближение к прояснению важнейших
тенденций, самых определяющих узловых моментов; но цели
современных исследований большего и не требуют. Можно на-
деяться, что в дальнейшем это послужит стимулом для последую-
26
щего исследования, в ходе которого, очевидно, будут предложены
поправки к излагаемому.
По поводу общего метода заметим еще, что наше исследова-
ние ограничивается человеком. Уже сама важность павловской
второй сигнальной системы — языка — требует четкого методо-
логического отграничения от мира животных, где эта система от-
сутствует. При этом важной задачей остается тщательное иссле-
дование развития и распространения условных рефлексов в эво-
люции животных, так как определенная обработка непосредст-
венно отражаемой объективной действительности, достигающая
у высших животных относительно высокой степени различения,
начинается уже на этом этапе. Но подробный анализ этого ком-
плекса проблем не входит в планы нашей работы; мы затраги-
ваем его лишь мимоходом, чтобы провести разграничение или
выявить переход в определенных конкретных случаях.
Разумеется, необходимо последовательно понимать и излагать
все положения учения Павлова с точки зрения диалектического
материализма, ибо, как бы ни фундаментально было его открытие
второй сигнальной системы (языка) для отграничения человека
от животного, оно становится эффективным, плодотворным и об-
ретает свой истинный смысл только при должном внимании к
симультанности становления труда и языка и к их сущностной
нераздельности, как это имеет место, например, в трудах Ф. Эн-
гельса4. Если человек может «кое-что сказать», преступая тем
самым пределы мира животных, то возникает эта возможность
непосредственно из труда и развивается — непосредственно или
опосредованно, а на более поздних этапах зачастую и благодаря
множеству разнородных факторов-посредников — в тесной связи
с развитием труда. Поэтому мы не уделяем особого внимания,
хотя бы даже в целях полемики, попыткам Дарвина отыскать
категории искусства уже в жизни животных и вывести отсюда
их человеческое выражение. Мы считаем, что труд (ас ним язык
и его понятийная система) создает здесь настолько широкую и
глубокую пропасть, что даже проявляющиеся в некоторых обстоя-
тельствах пережитки животного начала, рассматриваемые сами
но себе, не могут приниматься во внимание как решающие фак-
торы и совершенно категорически не должны использоваться для
объяснения принципиально новых феноменов. Но при этом, как
мы намерены эпизодически показывать в дальнейшем, ни в коем
случае не следует отрицать само наличие подобных пережитков;
напротив, мы считаем, что те тенденции в новейшей биологии и
антропологии, которые устанавливают полную йнаковость чело-
века и животного, игнорируют множество важных фактов. Здесь
мы используем определенные результаты антропологических ис-
следований в строго ограниченных целях, и для нас решающей
значимостью обладает адекватность познания нераздельности
труда и языка и, следовательно, различения человека и живот-
ного.
27
Если мы теперь предпримем беглый анализ обыденного мыш-
ления, нам придется наряду с уже упомянутым отсутствием
предварительных исследований отметить также некоторые объ-
ективные трудности, послужившие, по крайней мере частично.,,
причиной того, что повседневность — эта важная область, захва-
тывающая большую часть человеческой жизни, — столь мало изу-
чена в философском плане. Быть может, главная трудность за-
ключается в том, что обыденная жизнь не знает столь завершен-
ных объективации, как наука и искусство. Это ни в коей мере не
означает, что объективации ей вовсе не присущи. Без объектива-
ции вообще нельзя представить себе жизнь человека: его мышле-
ние и чувства, его практику и ее осмысление. Не говоря уже а
том, что все подлинные объективации играют важную роль в.
обыденной жизни человека, основные формы только человеку
присущего образа жизни — труд и язык — в изве(;тном смысле:
носят уже, в сущности, характер объективации. Труд может осу-
ществляться лишь как целенаправленный акт. Маркс говорит па
поводу специфически человеческого характера труда: «Мы пред-
полагаем труд в такой форме, в которой он составляет исключи-
тельное достояние человека. Паук совершает операции, напоми-
нающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых
ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый
плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отли-
чается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он ужа
построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается
результат, который уже в начале этого процесса имелся в пред-
ставлении человека, т. е. идеально. Человек не только изменяет
форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он
осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая
как закон определяет способ и характер его действий и которой
он должен подчинять свою волю» 5.
Рассмотрим же с этой точки зрения те моменты труда, кото-
рые превращают его в фундаментальный фактор обыденной жиз-
ни, обыденного мышления, отражения объективной действитель-
ности и повседневности. Маркс прежде всего указывает, что речь
идет об историческом процессе, в котором — как объективно, так
и субъективно — происходят качественные изменения. На кон-
кретном значении этих изменений мы в дальнейшем изложении
еще остановимся. Сейчас же для нас важно то, что Маркс в своей
сжатой формулировке различает три существенно важных пе-
риода в истории труда. Самый ранний из них отмечен еще нали-
чием «первых животнообразных инстинктивных форм труда».
Маркс рассматривает его как предварительную стадию развития,
преодолеваемую на раннем, еще не развернутом этапе простого
товарного обращения. Третий период связан с капиталистической
эпохой. Решающие перемены, к которым мы не раз вернемся, на
этой стадии вызваны проникновением науки в процесс труда.
Здесь труд уже не обусловлен в первую очередь телесными и ду-.
28
ховными способностями работника (период машинного труда.,
растущая роль наук в определении характера труда). Между
первой и третьей стадиями заключен период труда па менее раз-
витом уровне, тесно связанном с личными способностями чело-
века (период ремесла, близости ремесла к искусству), который
исторически создает предпосылки для третьего периода.
Всем этим трем периодам, однако, присущ существенный при-
знак специфически человеческого труда, принцип целенаправлен-
ности, заключающийся в том, что результат трудового процесса
«уже в начале этого процесса имелся в представлении человека,.,
т. е. идеально». Возможность подобного рода деятельности пред-
полагает известную степень правильности отражения действи-
тельности в сознании человека. Однако сущность подобной дея-
тельности, согласно Гегелю, который ясно сознавал эту структуру
труда и на которого ссылается Маркс, состоит в том, что она,
«обусловливая взаимное воздействие и взаимную обработку пред-
метов соответственно их природе, без непосредственного вмеша-
тельства в этот процесс, осуществляет свою цель» 6. Совершенна
ясно, что подобное управление процессами природы — даже на
самом примитивном уровне — предполагает их приблизительно
верное отражение также и в том случае, когда обобщающие вы-
воды оказываются ложными. Парето удачно описывает это соче-
тание верно подмеченного единичного и фантастичности обобще-
ний. «Можно сказать, — пишет он, — что такие подлинно эффек-
тивные комбинации, как добывание огня с помощью кремня,.,
побуждают человека поверить и в эффективность воображаемых
комбинаций» 7.
Но если подобные результаты отражения действительности,
относятся к обыденной жизни и к адекватному ей мышлению, то
очевидно, что проблему объективации и их недостаточной развит
тости в этой сфере жизни следует трактовать очень гибко, с диа-
лектической тонкостью, чтобы не исказить основополагающие
структурообразующие тенденции и тенденции развития. В труде
(как и в языке, другом фундаментальном моменте обыденной
жизни), несомненно, возникает разновидность объективации —
и не только в виде продукта труда, что совершенно бесспорно,,
но и в ходе самого трудового процесса. Поскольку накопление
ежедневного опыта, упражнение, навык и т. п. ведут к тому, что
в каждом трудовом процессе повторяются и совершенствуются
те или иные движения, их качественно и количественно опреде-
ленная последовательность, их взаимодействие, взаимодополнение*,
и взаимоусиление и т. п., процесс этот с необходимостью приоб^-
ретает для исполнителя характер известной объективации, Одна-
ко эта объективация, в противоположность гораздо более- четкой:
фиксированное™ структур, создаваемых наукой и искусством,,
по сути зыбка и изменчива. Ибо, как бы ни было силь-
но воздействие консервативных, стабилизирующих факторов в\
трудовом процессе повседневности (особенно на его начальных
29
стадиях) — сошлемся хотя бы на силу традиций в крестьянском
сельскохозяйственном труде или в докапиталистическом ремес-
ле, — тем не менее в каждом индивидуальном трудовом про-
цессе наличествует хотя бы абстрактная возможность откло-
ниться от существующей традиции, испробовать нечто новое или,
смотря по обстоятельствам, обратиться к преобразованию более
старого.
Вообще говоря, в сказанном выше еще нет указаний на су-
щественное отличие от практики ученого. Прежде всего потому,
что и повседневная жизнь ученого протекает в гуще обыденной
жизни других людей. Его индивидуальное отношение к объекти-
вации его деятельности не должно поэтому принципиально или
качественно отличаться от прочих видов его деятельности, осо-
бенно в пору еще не развитого общественного разделения труда.
Однако если мы взглянем на складывающееся при »этом положе-
ние не только с точки зрения действующего субъекта, но и с точ-
ки зрения объекта, выявятся важные качественные различия.
Эти различия кроются не в преобразуемое™ результатов, ибо
результаты науки так же меняются по мере их обогащения и уг-
лубления в процессе отражения действительности, как и резуль-
таты любого производительного труда. Решающей является,
скорее, степень абстракции, удаленность от непосредственной по-
вседневной практргки, с которой, впрочем, обе эти области оста-
ются связанными как в их предпосылках, так и в их последст-
виях. Однако для науки эта взаимосвязь оказывается более или
менее отдаленной и сложно опосредованной, тогда как для тру-
да, производящего материальные предметы, она носит непосред-
ственный характер даже в том случае, если труд связан с при-
менением самых сложных научных знаний. Причем чем более
непосредственны эти отношения — то есть чем более устремле-
ны они на единичный жизненный случай, как это постоянно бы-
вает в трудовом процессе, — тем более слабой, изменчивой, менее
устойчивой бывает объективация. Или, точнее говоря, тем более
вероятно, что ее — быть может, даже весьма жесткая — фиксация
не проистекает из существа объективной предметности, а имеет
субъективную, хотя часто и социально-психологическую основу
(традиция, привычка и т. п.). Отсюда видно, что результаты нау-
ки структурно фиксируются скорее как независимые от человека
формообразования, чем как результаты его труда. Развитие со-
стоит здесь в том, что одно из них, не утрачивая своей фиксиро-
ванной объективности, сменяется другим, улучшенным. В науч-
ной практике это даже принято подчеркивать специальным ука-
занием на достигнутые улучшения. В продуктах производствен-
ного труда подобные изменения, напротив, могут иметь место
лишь как индивидуальные отклонения; и если такие отклоне-
ния — как это нередко наблюдается в условиях капитализма —
подчеркнуто рекламируются, то, как правило, это вызвано сооб-
ражениями рыночного характера. Капитализм вообще структурно
30
сближает производственный труд и его результаты с научной?'
деятельностью.
Мы анализируем здесь лишь полярные ситуации, не принимай*
во внимание бесчисленного множества переходных форм, возни-
кающих в результате уже отмеченного нами ранее и подробнее
рассматриваемого в дальнейшем их взаимодействия. Если же мы
возьмем всю совокупность видов человеческой деятельности —
все ее объективации и те общественные институты, которые их
фиксируют, а не только науку и искусство, — то, конечно, пере-
ходные формы выступят более отчетливо. Поскольку, однако, мы
не ставим себе здесь столь широкой задачи, а намерены лишь
показать некоторые существенные черты обыденной жизни в их
противоположности науке и искусству, нам достаточно констати-
ровать наличие противоположностей. Тем более что труд как по-
стоянный источник развития науки (которую он все время обо-
гащает), по-видимому, достигает в обыденной жизни высшей из
возможных в ней степеней объективации. Еще раз укажем на
уже упоминавшееся [с. 28] историческое развитие труда. Посколь-
ку его взаимодействие с наукой имеет постоянное экстенсивна
и интенсивно возрастающее значение, очевидно, что в наше вре-
мя роль научных категорий в трудовом процессе гораздо важнее,
чем на более ранних этапах его развития, что отнюдь не снимает
своеобразия обыденного мышления; как бы ни росло усвоение
научных элементов производством, они не преобразуют его в на-
учную деятельность в подлинном смысле слова.
Это отчетливее всего проявляется во взаимодействии науки
и современной промышленности. В историческом масштабе бес-
спорно, что основная линия развития ведет к насыщению про-
мышленности, то есть процессов труда, достижениями наук. Од-
нако объективно-исторически следует констатировать — и это
исчерпывающе показал Бернал, — с одной стороны., оторванность
некоторых исследований ученых от жизни, с другой — ограничен-
ность и консерватизм представителей промышленности, во мно-
гих случаях исключавшие возможность практического примене-
ния научных данных. Это явление интересует нас здесь не с
точки зрения истории промышленности, техники или науки, для
которых несомненно, «что как выставленные напоказ, так и дей-
ствительные побуждения исторических деятелей вовсе не пред-
ставляют собой конечных причин исторических событий»8, но
с точки зрения повседневности, где на первый план выступают
именно «выставленные напоказ» побуждения; а эти побуждения
обнаруживают относительно невысокий уровень объективации
при выборе людьми того или иного способа действий, зыбкость,
многих самих по себе четко объективированных представлении
и, наконец, ключевую роль привычки, традиции и т. п. при таком
выборе. Характерно, что в обыденной жизни субъекта наличест-
вует постоянное колебание между решениями, вынесенными по*
мотивам сиюминутного, преходящего характера, и такими рептг-
31
ниями, которые имеют устойчивую, хотя и редко фиксируемую
сознанием основу (традиция, привычка).
Между тем производительный труд является той частью пов-
седневной действительности, которая наиболее близка к научной
объективации. Справедливость сказанного подтверждают такие
бесконечно разнообразные отношения между людьми, как друж-
ба, любовь, брак, семья и т. п., не говоря уже о таких бесчислен-
ных менее постоянных связях, как отношения отдельного чело-
века с государственными и общественными институтами, разно-
образные формы проведения досуга, развлечений и т. п. (напри-
мер, спорт), или таких явлениях повседневной жизни, как мода.
Во всех этих случаях речь идет о быстром, зачастую даже вне-
запном чередовании мотивов, о переходах от рутины и условно-
стей к таким действиям, решениям и т. п., которые мотивирова-
ны — по крайней мере субъективно, что как раз »особенно важно
для нашего исследования, — преимущественно личными причина-
ми. В условиях капиталистического общества, где преобладают
побудительные мотивы, возникающие на индивидуальной основе,
где объективно-статистически обнаруживается их величайшее
однообразие, мы также находим подтверждение нашего вывода.
В докапиталистических обществах, в большей мере базирующих-
ся на традициях, та же поляризация проявляется качественно
иначе, что не снимает, однако, ее существенного структурного
-сходства с аналогичными явлениями в других обществах.
Следующий существенный признак обыденного бытия и мыш-
ления — непосредственность связи между теорией и практикой.
Чтобы этот тезис был правильно понят, необходимо предварить
-его анализ некоторыми пояснениями. Было бы совершенно
неверно полагать, что объекты повседневной деятельности изна-
чально носят непосредственный характер. Напротив, они суще-
ствуют лишь вследствие весьма широко разветвленной, многооб-
разной, сложной системы опосредования, которая в ходе общест-
венного развития все более усложняется и разветвляется. Что же
касается предметов обыденной жизни, то они существуют уже в
готовом виде, и порождающая их посредующая система пред-
ставляется окончательно изглаженной из памяти их очевидным
непосредственным наличием и конкретным бытием. Мы яснее
осознаем эту непосредственность, если всполшим о таких слож-
ных не только в технико-научном, но и в экономическом отно-
шении феноменах, как, например, такси, автобус, трамвай и т. п.,
об их использовании в повседневной жизни, о той форме, в кото-
рой они в этой жизни представлены. К необходимой житейской
экономике повседневности относится то обстоятельство, что в
юбычных условиях все наше окружение — пока оно функциони-
рует — воспринимается и оценивается только па основании его
практических функций (а не на основании его объективной сущ-
ности). И нередко мы реагируем на него весьма сходным обра-
зом, даже когда оно не функционирует. В своем чистом виде
32
это явление, разумеется, относится к продуктам капиталистиче-
ского разделения труда. На более примитивных стадиях, когда
большая часть инструментов и других предметов повседневной
жизни либо изготовлялась своими руками, либо, во всяком слу-
чае, способ их производства был широко известен, значение
подобной непосредственности было не столь велико, она была го-
раздо менее ощутима. Такого рода непосредственность навязы-
вает действующему в обыденной жизни субъекту лишь высоко-
развитое общественное разделение труда, которое применительно
к каждой отрасли производства и ее частным моментам создает
четко отграниченную специальность.
Более всеобщая, хотя гораздо менее развитая структура этого
типа деятельности восходит к незапамятным временам. Ибо не-
посредственная связь теории (то есть осмысления как одного из
способов отражения объекта) и практики есть, разумеется, наи-
более древняя форма их связи: обстоятельства вынуяедают лю-
дей очень часто, даже в большинстве случаев, к немедленному
действию. Правда, общественная функция культуры (прежде
всего науки) в том и состоит, чтобы раскрыть, а затем исполь-
зовать посредующие звенья между предвидимой ситуацией и
оптимальными формами действия. Однако когда найденное, раз
появившись, входит во всеобщее употребление, звенья эти утра-
чивают для повседневно действующего лица свой посредую-
щий характер, и тогда снова вступает в силу описанная выше
непосредственность. Наука и обыденная жизнь находятся здесь —
далее мы остановимся на этом подробнее — в тесном взаимодей-
ствии: решаемые наукой проблемы возникают непосредственно
или опосредованно из обыденной яшзни, а жизнь в свою очередь
непрерывно обогащается достижениями науки и разработанными
наукой методами. Эта взаимозависимость не ограничивается, од-
нако, таким непрерывным взаимодействием. Мы должны уяснить
себе — наш анализ обыденного мышления с этой целью и был
предпринят, — что между отражением действительности, ее обра-
боткой в науке и в обыденной жизни существуют качественные
различия. Речь идет при этом не о резкой, принципиально не-
преодолимой двойственности, как чаще всего утверждают пред-
ставители бурясуазных теорий познания; такое расхоя^дение,
приводящее к качественному различию, в гораздо большей мере
обусловлено общественным развитием человечества. Дифферен-
циация, а вместе с ней и относительная независимость научных
методов от непосредственных потребностей повседневности, их
отрыв от навыков обыденного мышления потому и возникают,
что они служат более полному удовлетворению таких потребно-
стей, чем это возможно при прямом тождестве методов. Разли-
чие между искусством и повседневностью, их (сходное по своей
наиболее общей структуре) взаимодействие таюке служат обще-
ственным потребностям. Мы не можем здесь конкретно разби-
рать эти вопросы: для этого потребовалось бы слишком большое
3 Заказ Ш 663
зз
введение и слишком много отступлений в ходе изложения. Одна*
ко то, что мы будем возвращаться к их обсуждению в дальней-
шем, не означает, что они возникли исторически позднее. Отгра-
ничение от обыденной жизни и обыденного мышления двух
более резко объективирующих и объективно менее непосредст-
венных сфер — науки и искусства — процесс, столь же симуль-
танный, сколь и отмеченное нами взаимодействие повседневности
с наукой и искусством.
Специфический характер непосредственности обыденной жиз-
ни и обыденного мышления отчетливо выражен в своеобразном-
стихийном материализме этой сферы. Любой хоть сколько-нибудь
добросовестный и основательный анализ подтверждает, что чело-
век в обыденной жизни всегда реагирует на объекты своего окру-
жения стихийно-материалистически, однако реакции практиче-
ски действующего субъекта в дальнейшем могут быть иным об*
разом интерпретированы. Это вытекает уже из самой сущности
трудового процесса. Всякий труд предполагает наличие комплек-
са предметов, правил, которые по-своему определяют его необхо-
димые движения, приспособления и т. п., — и эти предметы и
правила стихийно признаются существующими и функционирую-
щими независимо от человеческого сознания. Сущность труда в
том и заключается, чтобы узнать все это в-себе-сущее и стано-
вящееся бытие, овладеть им и использовать его. Даже на той
ступени, когда первобытный человек еще не изготовлял орудий
труда, но лишь собирал камни определенной формы, а затем, ис-
пользовав, отбрасывал их прочь, он уже вынужден был произво-
дить известные наблюдения над тем, какие камни лучше подхо-
дят по своей твердости, форме и т. п. для соответствующих тру-
довых операций. Уже тот факт, что он из многих камней выбирал
один, казавшийся ему наиболее подходящим, — уже самый этот
отбор свидетельствует об осознании человеком в той или иной мере
того, что он вынужден действовать в независимо от него сущест-
вующем внешнем мире, что он должен поэтому исследовать не-
зависимую от него среду и попытаться мысленно, с помощью
наблюдения овладеть ею, чтобы выжить и избежать грозящих
ему опасностей. Даже сама опасность как категория духовной
жизни человека доказывает, что субъект осознает: ему противо-
стоит внешний мир, независимый от его сознания.
Этот материализм носит, однако, чисто стихийный характер
и ограничивается непосредственными объектами практики. По-
этому субъективный идеализм в пору своего расцвета в период
империализма высокомерно отворачивается от него, а в философ-
ском плане полностью его игнорирует. Так, например, Риккерт
пишет, что он не может ничего возразить против «наивного реа-
лизма»: «Ему не известны ни трансцендентная реальность, ни
теоретически осознающий ее субъект, ни надындивидуальное со-
знание. Он вообще не является научной теорией, которая потре-
бовала бы научного опровержения, это просто комплекс непроду-
34
манных и неустоявшихся мнений, которых хватает для обыденной
жизни и которые можно спокойно оставить тем, кто довольст-
вуется одной этой жизнью» 9. В годы кризиса после первой миро-
вой войны, когда субъективный идеализм был вынужден под-
креплять свои убеждения антропологическими аргументами, даже
ж для него все большее значение приобретают проблемы обыден-
ной жизни, а среди них и вопрос о «наивном реализме» (под
которым буржуазные идеалисты подразумевают обычно стихий-
ный материализм). Ротхаккер уже прямо заявляет: «Ведь весь
мир, в котором мы практически живем и действуем, включая, ра-
зумеется, нашу политическую, хозяйственную, религиозную, ху-
дожественную жизнедеятельность, вращается в кругу «житейских
категорий», содержание которых как донаучной картины мира
.настоятельно требует более развернутой разработки и составляет
одну из многочисленных тем «философской антропологии»... Нуж-
но как можно более отчетливо подчеркнуть, что самый этот факт,
то, что все наши значительные житейские решения относятся к
маивно-реалистическому миру, что вся всемирная история, а тем
самым и тематика любой исторической или филологической
дисциплины развертывается в этом наивно-реалистическом ми-
ре, представляет собой весьма веский аргумент также и в
пользу разрешения теоретико-познавательных вопросов» 10. Прав-
да, это признание проблемы служит Ротхаккеру лишь для
того, чтобы развивать субъективный идеализм еще более по-
следовательно солипсистски, причем он рассчитывает найти
биологическое обоснование своей субъективистской теории по-
знания в теории окружающего мира Икскюля. В этой связи
•стихийный материализм обыденной жизни превращается в не-
кий — достаточно сложный — способ проявления окружающего
мира, определяемого свойствами органов восприятия. Эту тео-
рию мы подробно рассмотрим, когда будем говорить о научном
отражении в связи с проблемой «бытия-в-себе» и «бытия-для-
себя».
Сила и слабость этой стихийно-материалистической позиции
представляют в ином аспекте своеобразие обыденного мышле-
ния. Сила проявляется в том, что ни одно идеалистическое, даже
солипсистское мировоззрение не может помешать его сти-
хийному функционированию в обыденной жизни и обыденном
мышлении. Даже самый фанатичный приверженец берклианст-
ва, уклоняясь на уличном перекрестке от автомобиля или пере-
жидая, пока тот проедет, не воспримет этот автомобиль всего
лишь как свое собственное представление, а увидит в нем реаль-
ность, независимую от его сознания. Принцип «Esse est percipi»
(«Существовать — значит быть воспринимаемым») бесследно ис-
чезает в обыденной жизни непосредственно действующего чело-
века. Слабость же этого стихийного материализма проявляется
в том, что он не может служить надежной основой для мировоз-
зренческих выводов. Он мирно уживается в сознании че-
3*
35
ловека — субъективно даже не подозревающего о том, какое
здесь кроется противоречие, — с любыми идеалистическими, ре-
лигиозными, суеверными и т. п. представлениями. Чтобы подтвер-
дить это примерами, нет нужды углубляться в предысторию че-
ловеческого развития, когда первые опыты труда и порожденные
им великие открытия были нерасторжимо связаны с магическими
представлениями. В наши дни у человека также нередко совер-
шенно реальное и стихийно-материалистическое понимание жи-
тейских фактов сочетается с суеверными представлениями, при-
чем зачастую он даже и не догадывается, сколь нелепо и смешно
выглядит подобное сочетание. Правда, говоря о сходстве, не сле-
дует упускать из виду существенного различия. Стихийный ма-
териализм первобытного человека распространялся и на те явле-
ния, которые, по существу, относились к области сознания. До-
статочно указать на то особое значение, которое он приписывал
снам. Но и там, где к наблюдению материальных явлений при-
соединялись «духовные» поясняющие мотивы, эти мотивы пере-
живались на первобытной стадии столь же стихийно-материали-
стически, как и сама объективная действительность. Кассирер
прав, когда утверждает, что первобытное мышление не проводит
резкой грани между истиной и видимостью, так же как и между
«всего лишь «воображаемым» и «истинным» восприятием, между
желанием и исполнением, между образом и предметом» п. (Сов-
ременная реакционная философия пытается отыскать в прими-
тивном отношении между образом и предметом основу для «но-
вого типа» мировоззрения; пример — Людвиг Клагес.) Совершен-
но так же, как это сделали выше мы, Кассирер указывает на
первобытное восприятие снов как объективной реальности. На-
сколько глубоко эта — обманчивая — «объективность» сновидений
укоренилась в повседневной жизни, можно видеть из того, что
различение между ними и действительностью играло известную
роль даже в теоретико-познавательных рассуждениях Декарта12.
На более поздних стадиях развития это отождествление истин-
ного и кажущегося, эта ложная идентификация постепенно те-
ряет свою власть над умами. Так, например, к числу суеверий,,
прочно укоренившихся в сознании современного человека, задер-
жавшегося на уровне стихийного материализма, относится «интел-
лектуально нечистая совесть», то есть понимание того, что он, в
сущности, имеет дело всего лишь с продуктом субъективного»
сознания, а не с независимой от сознания объективной действи-
тельностью.
Не вдаваясь в рассмотрение многочисленных переходных мо-
ментов, заметим, что такого рода положение существует и в на-
уке. Сторонники идеалистической теории познания нередко со
снисходительной насмешкой отзываются о «наивном реализме»
(читай: материализме) выдающихся естествоиспытателей. В свя-
зи с этим Ленин неоднократно подчеркивал, что даже те ученые,,
которые в области теории познания превозносят субъективный
36
идеализм, в своей научной практике являются стихийными мате-
риалистами 13.
Пренебрежение в теории этим первичным фактором обыден-
ной жизни и обыденного мышления ведет к тому, что без объяс-
нения остаются важные факты человеческого мышления. Так,
различные исследования первобытной эпохи констатируют опре-
деленное сродство первобытной магии и упоминаемого выше сти-
хийного материализма. Однако качественное, исторически обус-
ловленное различие состоит здесь в том, появляется ли идеали-
стическое (религиозное, магическое, суеверное) дополнение к
стихийному материализму в известной мере лишь на периферии
практической модели мира, или же оно доминирует в мышлении
и в эмоциях над фактами, устанавливаемыми стихийным мате-
риализмом. Путь от второго случая к первому — это основная,
хотя подчас и зигзагообразная линия развития культуры. Но это
развитие осуществимо лишь в ходе преодоления человеческим
мышлением непосредственной обыденности в указанном смысле,
то есть непосредственной связи между отражением действитель-
ности, его мыслительной интерпретацией и практикой, в ходе
осознания того, что между мышлением, только при этом условии
становящимся собственно теоретическим, и практикой располага-
ется все увеличивающийся ряд посредующих элементов. Только
таким образом открывается путь от чисто стихийного материализ-
ма обыденной жизни к материализму философскому. Ниже [с. 112
и ел.] мы увидим, что впервые это находит четкое выражение
в греческой античности. Начало окончательного разделения фи-
лософского идеализма и материализма лишь здесь проводится с
надлежащей решительностью. Прав Кассирер14, относящий раз-
рыв с «мифическим мышлением» к временам Левкиппа и Демо-
крита.
Насколько труден этот процесс, явствует из идеалистического
по сути характера первых попыток вырваться из спонтанности
обыденного мышления. Интересно, что Кассирер, исходя из при-
митивной идентификации образа и предмета, приходит к заклю-
чению, что «соответственно можно отметить как отличительный
признак мифического мышления то, что в нем отсутствует кате-
гория «идеального»...» 15. Тем самым выявляются сущность и гра-
ницы примитивного, стихийного материализма: он действует в
период, еще не знающий антиномического противостояния идеа-
лизма и материализма. Последний развивается в борьбе с ранее
возникшим философским идеализмом.
Хотя стихийный материализм повседневности и сохраняет
некоторые пережитки первобытного состояния, но проявляется
он в той среде, где уже совершается дифференциация. Изображе-
ние этого сложного процесса развития — и даже наметки такого
изображения — абсолютно не укладывается в рамки данной рабо-
ты; предложим лишь несколько замечаний о социальных предпо-
сылках возникновения идеализма. Основания его разнообразны.
37
Во-первых, это незнание природы и общества, из-за чего перво-
бытный человек, как только он пытается подняться над непосред-
ственными связями непосредственно же данного ему предметного
мира, вынужден хвататься за аналогии, вовсе не опирающиеся
или по крайней мере недостаточно опирающиеся на факты. Есте-
ственно, что в этих аналогиях он спонтанно пытается найти
исходный пункт своих собственных субъективных воззрений. Во-
вторых, зарождающееся общественное разделение труда создает
прослойку «досужих» людей, которые в состоянии размышлять
над подобными проблемами «профессионально». Вместе с тем, с
одной стороны, с освобождением от жесткой необходимости мо-
ментально реагировать на внешний мир эта прослойка обретает
нужную дистанцию для того, чтобы начать преодоление спонтан-
ной непосредственности быта, отсутствия в нем обобщения. Но
с другой стороны, разделение труда все более отдаляет прослой-
ку, обладающую привилегией углубленных размышлений, от са-
мого труда, который представляет собой важнейшую основу
стихийного материализма повседневности, но в то же время и
основу возникающих идеалистических тенденций мировоззрения.
Вспомним высказывание Маркса о результате трудового процес-
са, который идеально уже существовал до его начала. Понятно,
что предпочтение, оказываемое первобытным мышлением анало-
гии перед причинностью и закономерностью, является исходным
пунктом аналогического обобщения. Когда комплексы предметов
и процессов, ранее непосредственно необъяснимые, идеалистиче-
ски, религиозно и т. п. проецируются на «творца», то речь идет по
большей части именно о таком аналогическом обобщении субъ-
ективной стороны трудового процесса (вспомним ради наглядного
примера демиурга-ремесленника греческих мифов). Лишь на бо-
лее высокой ступени возникает в борьбе против подобных кон-
цепций философский материализм как попытка постичь все яв-
ления, исходя из законов движения независимой от сознания
действительности; история его борьбы с идеалистическим миро-
воззрением к нашей теме не относится.
Нам остается упомянуть еще об одной стороне вопроса, а
именно о связи идеалистических (религиозных) представлений
со способом мышления, принятым в обыденной жизни. Каждое
новое завоевание материализма как мировоззрения отдаляет его
от принятого в обыденной жизни непосредственного способа рас-
смотрения явлений в сторону зарождающегося научного проник-
новения в глубинные причины явлений и процессов. На грани-
цах этого научного отражения действительности, знаменующего
собой, как мы далее увидим, отход от обыденных форм мышле-
ния, возвышение над ними, неизбежно возникает и возврат к ним.
Мышление может быть весьма развитым, широко использующим
формы и содержание научного отражения действительности и все-
таки по своей основной сути сближаться с обыденным мышле-
нием. Когда, к примеру, Энгельс критикует понимание истории
38
у механистических материалистов и обнаруживает в нем возврат
к идеализму, его аргументация близка к тому, о чем мы здесь
говорим. Он упрекает этих материалистов в том, что они в исто-
рии считают «действующие там идеальные побудительные силы
последними причинами событий, вместо того чтобы исследовать,
что за ними кроется, каковы побудительные силы этих побуди-
тельных сил. Непоследовательность заключается не в том, что
признается существование идеальных побудительных сил, а в том,
что останавливаются на них, не идут дальше к их движущим
причинам»16. Совершенно ясно, что даже здесь, где речь идет о
весьма развитом в прочих отношениях философском направле-
нии, сущность методологического изъяна в том и состоит, что
точка зрения непосредственного обыденного мышления преодо-
левается недостаточно радикально и поэтому недостаточно полно
осуществляется превращение свойственного ему отражения дей-
ствительности в научное отражение. Такие примеры свидетельст-
вуют также о непрерывном взаимодействии обеих сфер, в дан-
ном случае — о вторжении обыденного мышления в сферу науч-
ного, в других же случаях может наблюдаться и обратное явле-
ние. Анализ подобных примеров доказал бы, однако, еще и то,
что для дальнейшего развития культуры необходимо формирова-
ние чисто научного отражения действительности и что достиже-
ния науки снова включаются в повседневной практике в цепь
обыденного мышления.
Мы уже говорили [с. 37—38] о том, что одной из наиболее
важных изначальных и преобладающих форм как первобытного,
так и современного обыденного мышления является аналогия.
Это преобладающий способ систематизации и трансформации не-
посредственных отражений объективной действительности. Мы
не будем останавливаться здесь на логической проблеме анало-
гии или умозаключения по аналогии. Однако для более полного
понимания сути проблемы приведем некоторые замечания Ге-
геля по этому вопросу.
Гегель не занимается специально генезисом аналогии, и все
же из его высказываний можно сделать вывод, что он связывает
прием аналогии и умозаключения по аналогии с начальной фазой
мышления. Так, разрабатывая свою «Феноменологию», он гово-
рит об «инстинкте разума» (стало быть, не о развитом разуме в
его чистой форме), «который дает почувствовать, что то или дру-
гое эмпирически найденное определение имеет свое основание
во внутренней природе или в роде данного предмета и опирается
на это определение в своем дальнейшем движении»17. Уже само
выражение «дает почувствовать» подчеркивает здесь зачаточный,
простейший характер аналогии. И хотя тут же Гегель замечает,
что, с одной стороны, применение метода аналогии в эмпириче-
ских науках привело к значительным результатам, с другой сто-
роны, когда речь идет о развитой науке, аналогия, по его мнению,
возникает и входит в употребление из-за неполноты индукции,
39
вследствие невозможности исчерпать все единичные подробно-
сти. Чтобы уберечь науку от этой опасности, Гегель считает не-
обходимым точно различать, где мы имеем дело с аналогией
«поверхностной» и где —с аналогией «основательной». Только
когда наука с величайшей тщательностью охарактеризует и клас-
сифицирует добытые аналогией определения, аналогия сможет
стать практически плодотворным приемом; натурфилософия шел-
лингканской школы, по мнению 1'егеля, «состоит в большой своей
части в праздной игре с пустыми внешними аналогиями».
Таким образом, мы видим изначальное своеобразие аналогии,
трудно отделяемой от обыденного мышления. Указание Гегеля
на ее поверхностное употребление имеет в виду не только общее
ее свойство — ведь всякая форма умозаключения может приме-
няться как поверхностно, так и основательно, как формально-со-
фистически, так и по существу. Речь идет о глубоко коренящейся
стихийной возможности пользоваться аналогией %именно поверх-
ностно. Не вдаваясь в исторические проблемы мышления по ана-
логии, отметим лишь, что оно очень легко переходит в чисто
словесное использование понятий. Прантль, опираясь на «Евти-
дема» Платона, критикует изложенный в этом диалоге софисти-
ческий принцип: «Словесное выражение повсюду должно приме-
няться во всех отношениях единообразно». Прантль справедливо
усматривает в этом «мотив всех умозаключений по аналогии,
основывающихся только на словесном выражении»18. Однако то,
что здесь свидетельствует о риторическом или софистическом
вырождении, бесспорно, играет важную роль в обыденном мыш-
лении — причем эта сфера часто совершенно свободна от подоб-
ных тенденций, — тем более важную, чем менее развита наука, а
с нею вместе и критический подход к значениям слов. Аналогия,
естественно, была абсолютно преобладающим приемом мышле-
ния в первобытные времена, в магический период, когда она без-
раздельно господствовала во всех житейских делах, формах обще-
ния и т. п. Очевидно при этом, что, к примеру, мистифицирован-
ная значимость имен в первобытном мышлении должна была
существенно способствовать развитию этой тенденции. Однако,
хотя и в более узких рамках, она действует также в обыденном
мышлении развитых культур; аналогизирование остается здесь
важным фактором в повседневной жизни человека. И этот фак-
тор тем весомее, чем шире непосредственная связь теории с прак-
тикой, чем теснее сближаются они в сознании людей. Ибо в по-
добных случаях непосредственное отражение действительности
выявляет в предметах целый ряд отдельных черт или признаков,
которые, за отсутствием более глубокого проникновения в суть
предметов, обнаруживают в них известное сходство. Чего же
проще мысленно — а тем более благодаря словесному обобще-
нию — сочетать эти сходные черты, сблизить предметы, а из этого
уже сделать и непосредственные выводы. Гёте, который, как мы
увидим далее, весьма критически относился к мышлению по ана-
40
логии, хотя неоднократно признавал его неизбежность в цовсе-
дневной практике, отметил вышеописанную опасность «сближе-
ния» понятий в практической жизни даже тогда, когда люди
выходят за пределы чистой аналогии и начинают мыслить при-
чинно: «Большая ошибка, которую мы делаем и которой не мо-
жем избежать, — это всегда представлять себе близкими причину
и следствие, как лук и стрелу...» 19.
На этом как раз и основано типичное мышление человека,
ограниченного повседневностью. Разумеется, проникновение нау-
ки в повседневную практику помогает исключить из употреблен
ния в конкретных случаях ряд подобных «коротких замыканий»,
и ведет к тому, что практика все больше опирается на научно-
правильные суждения, которые становятся привычными в сфере
обыденного мышления, что, однако, не изменяет его основной:
структуры. Наряду с этими почерпнутыми из науки навыками*
аналогия и умозаключение по аналогии по-прежнему применяют-
ся для субъективно еще не разрешенных вопросов и по-прежне-
му определяют практику и мышление повседневности. Еще в
большей мере это имеет место во взаимном общении людей. То,
что мы в практической жизни называем «знанием людей» и что
является неотъемлемым моментом всякого совместного действия—
особенно там, где это делается сознательно, — по большей части,
основывается на стихийном применении аналогии, (Психологию^
знания людей мы подробно проанализируем в одной из следую-
щих глав.) Гёте, один из немногих мыслителей, стремившихся
раскрыть категориальную структуру даже и в таких житейских
явлениях, говорит: «Сообщение аналогий я считаю столь же по-
лезным, сколько приятным: аналогичный случай не навязывает-
ся, он ничего не доказывает :— он только становится рядом с дру-
гим, не соединяясь с ним; много аналогичных случаев не соеди-
няются в закрытые ряды; они — как хорошее общество, которое
больше возбуждает, чем дает»20. В другом месте он пишет:
«Нельзя упрекать того, кто мыслит аналогиями; у аналогии то
преимущество, что она ничего не завершает и не притязает на
окончательность» 21.
Здесь, разумеется, определяются лишь полюсы, границы дей-
ственности аналогии в сфере обыденного мышления. Исследова-
ние обширного и изменчивого промежуточного пространства не
входит в нашу задачу. Но уже из сказанного видно, что анало-
гия и умозаключение по аналогии принадлежат к числу тех
категорий, которые возникают в обыденной жизни, кровно свя^
заны с ней, адекватно выражают диктуемое ею отношение к
действительности, способ отражения действительности и исполь-
зования этого отражения в практике, — выражают стихийно, па-
рой выходя за пределы запросов, выдвинутых практикой. Поэто^
му аналогии—-такие, каковы они есть, какими оби вырастают
на этой почве, — неизбежно носят характер изменчивый, дву-
смысленный; им свойственна известная гибкость, свободная ох.
m
аподиктичности, в чем Гёте видел их положительное значение
для повседневной жизни. Но им присуща и известная неопреде-
ленность, которую, правда, можно прояснить посредством теоре-
тической работы, эксперимента и т. д., направляя в сторону на-
учного мышления; однако, оставаясь неопределенностью, произ-
вольно фиксируясь как таковая, она обычно переходит в софизм
или пустое фантазирование.
Гёте привлекает внимание и к другой характерной черте ана-
логии в связи с проблемой отражения действительности: «Каж-
дый существующий предмет есть аналог всего существующего,
потому наличное бытие одновременно представляется нам раз-
дробленным и связным. Если слишком присматриваться к анало-
гиям, все отождествится со всем; если закрывать на них глаза,
все рассыплется в бесконечное множество. В обоих случаях
мысль впадает в застой: в одном — от переизбытка жизни, в дру-
гом — от того, что она умерщвлена» 22.
Главным источником ошибок непосредственно оказывается
необдуманное преувеличение; однако, как мы видим, к тому же
результату может привести и его противоположность — педан-
тичное отклонение всякого сходства, пока не выяснено, на чем
оно основано. Это должно быть принято во внимание как при
употреблении аналогий в повседневной жизни, так и при выра-
ботке научного мышления. Гёте указывает также, что постиже-
ние мира в форме аналогий способно привести к его эстетиче-
скому отражению. По существу проблемы говорить на данной
стадии нашего изложения еще преждевременно, подчеркнем
лишь, что отмеченные Гёте свойства аналогии — ее неточность и
гибкость — создают благоприятную почву для художественного
сравнения. Ибо, поскольку здесь сходство никогда не утрачи-
вает своей соотнесенности с субъектом, постольку апалогия вов-
се и не претендует на хотя бы приблизительно исчерпывающее
определение двух сравниваемых предметов или двух групп пред-
метов; многое из того, что в научном плане было бы недостат-
ком, здесь оказывается достоинством. Разумеется, и тут предпо-
сылкой является верное отражение действительности, но качест-
венно по-иному образованное. К этому вопросу мы вернемся
позднее.
Повседневная важность мышления, базирующегося на методе
аналогии, вынуждает нас заранее коснуться проблемы, призван-
ной сыграть заметную роль в дальнейшем изложении; однако ее
точная формулировка пока еще не может быть предложена.
В общем виде нами уже был сформулирован тезис о том, что
и обыденное мышление, и наука, и искусство отражают одну и
ту же действительность, но содержание и форма отражения мо-
гут и должны быть различными, в зависимости от конкретной
целевой установки, возникающей из общественной жизни чело-
века. Сейчас надлежит несколько уточнить это положение. От-
ражение одной и той же; действительности требует применения
43
во всех случаях одних и тех же категорий. Ибо в противополож-
ность субъективному идеализму диалектический материализм
рассматривает категории не как результат какой-то загадоч-
ной продуктивной способности субъекта, но как постоянные все-
общие формы самой объективной действительности. Следователь-
но, ее отражение можно будет оценить лишь тогда, когда отра-
женный в сознании образ будет включать в себя и эти формы
в качестве принципов, по которым оформляется отражаемое со-
держание. Объективность этих категориальных форм проявляет-
ся еще и в том, что их можно весьма долго применять для отра-
я^ения действительности, ни в малейшей степени не осознавая
их категориального характера. Результатом такого положения ока-
зывается то, что обыденное мышление, наука и искусство в об-
щем не только с неизбежностью отражают одно и то же содер-
жание, но и воспринимают его как сформированное одними и
теми же категориями.
Однако уже при обсуждении вопроса об аналогиях мы видели;
что в зависимости от вида общественной практики, от ее целевой
установки и обусловленных этой установкой методов использо-
вания категорий они могут выступать в разных, зачастую проти-
воположных аспектах; так, продуктивность метода аналогия при-
менительно к поэтическому творчеству отнюдь не означает, что
результаты его использования в области науки будут столь же;
благоприятными, скорее, напротив, и т. п. К этой проблеме мыт
еще вернемся в связи с конкретизацией эстетического отражения
действительности, и везде, касаясь ее, мы будем разбирать как
общность, так и различие отдельных категорий — прежде всего в
науке и в искусстве. Здесь следует отметить, что категории не
только имеют объективное значение, но обладают также собст-
венной как субъективной, так и объективной историей. Объек^
тивной — поскольку определенные категории предполагают опре*
деленные стадии в развитии движения материи. Так, специфиче-
ские категории, применяемые в биологической науке, объективно
появляются лишь с возникновением жизни; специфические кате*
гории капиталистической экономики связаны с генезисом этой
формации, причем, как доказал Маркс, их функции в процессе
возникновения не идентичны полностью функциям на стадии
зрелого развития. (Некоторые категории, например, средняя нор-
ма прибыли, предполагают даже относительно высокое развитие
капитализма.) Субъективная же история категорий есть история
их открытия человеческим сознанием. К примеру, статистические
закономерности действовали в природе и обществе всегда и везде*
где только имелось достаточное количество явлений, чтобы оьщ
могли обнаружить себя. Между тем понадобились тысячелетия
развития человеческого опыта и его мыслительной обработки,
прежде чем эти закономерности были постигнуты и сознательна
использованы. Объективно-оптически (а значит, и объективно-
чувственно-физиологически) всегда существовали — по крайней
4а
мере в нашей земной атмосфере — различия цветовых оттенков.
Однако и тут понадобилось длительное художественное развитие,
чтобы воспринять их и эстетически оценить как важные формы
визуально проявляющейся объективной действительности и в
плане отношения к ним человечества. О том, что такие достиже-
ния научного и художественного отражения действительности на
первых порах возникают как мало осознанные вопросы, потреб-
ности и т. п. повседневной жизни, а после того, как на них даны
ответы в науке и искусстве, снова вливаются в повседневность,—
об этом процессе мы уже говорили ранее и еще не раз привле-
чем к нему внимание читателей.
Очевидно, своеобразие обыденного мышления выступило бы
в наиболее отчетливой форме, если бы удалось с этой специфи-
ческой точки зрения подробно проанализировать язык. Повседнев-
ный язык прежде всего обнаруживает уже отмсченную нами
особенность — он является сложной по своей природе системой
опосредования, к которой каждый пользующийся ею субъект от-
носится непосредственно. Эта непосредственность в настоящее
время получила объяснение у Павлова, определившего язык как
вторую сигнальную систему, отличающую человека от животного.
То, что любое слово, а тем более любая фраза выходит за пределы
непосредственности, не нуждается в пояснениях. Даже самые
обычные слова—«топор», «камень», «идти» и т. п. — это уже
сложный синтез непосредственно между собой разнящихся явле-
ний, их абстрагирующее обобщение. История языка показывает,
насколько тесно это сопряжено с длительным процессом опосре-
дования и обобщения, то есть удаления от непосредственности,
от чувственного восприятия. Стоит ознакомиться с языком любого
первобытного народа, чтобы увидеть, что словообразование в нем
несравненно ближе к непосредственному восприятию и дальше
от понятия, чем в современных языках. Уже Гердер видел, что в
слове фиксируются определенные признаки предмета, чтобы оно
обозначало «именно данный предмет, а не какой-либо иной»23;
понадобился, однако, длительный исторический путь сквозь мно-
гие тысячелетия, чтобы вытравить из слова его конкретно-чувст-
шенные, непосредственно данные признаки и закрепить в нем —
часто весьма опосредованное — понятие о предмете, комплексе,
действии и т. п. Так, туземцам архипелага Бисмарка (полуостров
Газелл) неизвестно слово, выражающее понятие черного. «Черное
обозначается по различным предметам, имеющим черный цвет, а
тне то просто называют для сравнения какой-нибудь черный пред-
ает» 24. Известны сравнения с обугленным орехом мучного дере-
ва, черной болотной грязью, цветом сгоревшей смолы, обуглен-
ными листьями бетеля и т. п. Нет надобности пояснять, что
- такие обозначения гораздо ближе к непосредственному восприя-
тию, чем наше простое слово «черный», но что и они уже, отвле-
хкаясь от различия^^ ёдййичных воёпрйятйй и используя аналогию,
-движущей в направлШйй У^иьпШШъы штюЫъ-. : :: ,
№
Независимо от уровня развития бесспорно, что на каждой дан-
ной стадии язык (слово, фраза, синтаксис и т. п.) воспринимается
людьми непосредственно. Ибо возникновение языка из потребно-
стей трудового процесса потому и знаменовало собой начало но-
вой эры, что, именуя предметы и события, мы получили возмож-
ность постичь сложные по своей природе ситуации и процессы,
элиминируя их случайные единичные различия, подчеркивая и
фиксируя в них общее и существенное; тем самым была колос-
сально ускорена практическая преемственность достижений —
они становились привычными словами, традицией языка. Это фик-
сирование отличается от соответствующего процесса в животном
мире (осуществляемого исключительно с помощью условных и
безусловных рефлексов) тем, что оно не превращается в застыв-
шее, неизменное или, во всяком случае, с трудом поддающееся
изменению физиологическое качество, что оно постоянно сохра-
няет свой общественный характер, по самой природе своей способ-
ный к изменениям и преобразованиям. Даже самое примитивное
фиксирование предметов и связей с помощью слова поднимает
непосредственные восприятия и представления на уровень поня-
тия. Таким путем постепенно в сознание проникает диалектика
явления и сущности. Разумеется, на первых порах — и даже в
течение длительного времени — эта диалектика воспринимается
бессознательно; но никогда окончательно не застывающее значе-
ние слов, колебание их смысла в процессе словоупотребления от-
четливо указывают на то, что мысленный синтез и обобщение
чувственных качеств в слове неизбежно должны иметь обуслов-
ленный общественным развитием зыбкий, изменчивый характер.
То, что люди ориентируются в новых условиях и приспосаблива-
ются к ним гораздо быстрее, чем самые высокоорганизованные
животные, в значительной мере объясняется именно такого рода
практическим, хотя порой и неосознанным овладением диалекти-
кой явления и сущности через посредство твердо установленного,
но способного к изменениям значения слова. Правда, всем извест-
но, как цепко люди держатся иной раз за привычное, традицион-
ное; но так как эта сила инерции имеет не физиологические, а со-
циальные причины, их можно преодолеть социальными ясе сред-
ствами — и они действительно преодолеваются. Если где-нибудь
эти тенденции исключительно сильны, всегда оказывается, что
здесь социально-экономические пережитки прежней, в основном
преодоленной формации все еще сохранились в новых условиях,
лишь с некоторыми изменениями. Так, например, удержались
определенные феодальные элементы в сельском хозяйстве всех
стран, которые пришли к капитализму не «американским»,
а «прусским» путем развития (Ленин).
Это и создает естественным образом общесоциальный фон для
консервативных, стремящихся, к сохранению традиции механиз-
мов языка. Они оказывают на человека столь сильное воздействие,
так как необходимо непосредственно относятся к языковой сфере*
45
хотя язык по своей сущности является системой все более услож-
няющихся посредующих элементов. Невероятное упрощение отно-
шений людей к миру и межчеловеческих отношений, достигаемое
с помощью языка, его прогрессивная роль в развитии культуры
самым тесным образом связаны с непосредственным отношением
к нему каждого индивида. Павлов остроумно определил эту си-
туацию со всей таящейся в ней опасностью в приведенном нами
высказывании [с. 24] и тем самым придал вид научной формули-
ровки древнейшему опыту человека. Мефистофель у Гёте говорит
в сцене со студентом:
Спасительная голословность
Избавит вас от всех невзгод,.
Поможет обойти неровность
И в храм бесспорности введет..
Держитесь слов...
Из голых слов, ярясь и споря,.
Возводят здания теорий.
Словами вера лишь жива.
Как можно отрицать слова?
(Перев. Б. Пастернака)
С шутливой иронией констатирует это положение вещей фран-
цузский драматург Франсуа де Кюрель. В одной из его пьес некая
дама жалуется, что муж ее не понимает и поэтому она флиртует
с психологом. Ее подруга, выслушав это признание, говорит: «Уж
он-то сумеет назвать твои страдания греческим словом».
Таким образом, язык обнаруживает в обыденной жизни свои»
диалектически противоречивую природу: он раскрывает людям
новый, неслыханно обширный и богатый мир, о котором они и не-
подозревали, иначе говоря, именно язык делает для них доступ-
ным истинно человеческий внешний и внутренний мир. В то же
время, однако, язык зачастую исключает (или по крайней мере
затрудняет) непринужденное восприятие как окружающего мира,
так и духовного, внутреннего мира человека. Эта диалектика еще
более усложняется одновременностью действия двух факторов —
проявления описанного выше застывания языка и его неопреде-
ленности, неоднозначности. Научная терминология прежде всего
стремится преодолеть вторую тенденцию; было бы, однако,,
ошибкой не замечать и ее постоянной борьбы с языковой косно-
стью. Впрочем, история науки доказывает, что в научной сфере
также действуют силы инерции. В конечном счете все зависит от
уровня развития производительных сил и связанного с ним уров-
ня научного постижения объективной действительности. История
знает целые столетия застоя и окостенелости научных понятий
и — соответственно — научного языка. Вспомним хотя бы о став-
шей фетишем аксиоме «природа не терпит пустоты». Подобного
рода ограниченность может поддерживаться и искусственно в ин-
46
тересах существующего социального строя (например, господство
касты духовенства на Востоке).
Здесь опять-таки проявляется взаимодействие между повсе-
дневностью и наукой. Причем ъ данном случае — не с положитель-
ной стороны, способствующей плодотворной дифференциации на-
учных представлений, языка и т. п. в русле общего развития
человечества или столь же полезному для прогресса воздействию
научных методов и достижений на мышление и практическую
деятельность; взаимодействие выступает отрицательной своей сто-
роной: двойная ограниченность обыденного мышления укореняет
в научном отражении действительности и в ее словесном выраже-
нии обе полярные тенденции — расплывчатость и окостенелость.
Поскольку научная деятельность даже самого преданного науке
я: целеустремленного ученого протекает в рамках его повседнев-
ной личной жизни и поскольку основные силы его социальной
формации воздействуют на него только через посредство этой
повседневности, становится вполне понятным такого рода втор-
жение обыденного мышления и его словесного выражения в язык
науки. И хотя мы еще не подошли к рассмотрению проблемы
своеобразия эстетического отражения и выражающих его форм,
уже здесь следует подчеркнуть, что поэтический язьгк — на свой
особый лад, совершенно по-иному, чем язык науки, — также стре-
мится к преодолению таких полярно противоположных недостат-
ков обыденного языка, как расплывчатость и окостенелость. Эту
борьбу на два фронта как в науке, так и в искусстве следует отме-
тить особо, так как разделение человеческих «способностей»
в буржуазной идеологии и эстетике легко приводит к мнимому
«разделению труда»: науке приписывают одну только точность,
а уделом поэзии считают снятие косности. На деле же наука не
может преодолеть расплывчатость обыденного мышления и язы-
ка, не снимая своим постоянным обращением к реальности также
и его окостенелых форм, а поэзия не могла бы возвращать гиб-
кость затвердевшим и косным элементам языка, если бы она —
опять-таки обращаясь к действительности — не сообщала точности
и однозначности (в поэтическом смысле) тому, что лишено яс-
ности, четких контуров.
Здесь важен не только разрыв с кантианскими «душевными
способностями» и соответствующим им «разделением труда», но
(и возврат к действительности как таковой. Цитированное нами
замечание Павлова прямо указывает па недостаточную связь с
действительностью как частый и неизбежно повторяющийся фено-
мен обыденной жизни, которая не может идти гладко без тьмы
обычаев, традиций, условностей и т. п., и присущее ей мышление
не в состоянии реагировать на внешний мир со столь необходи-
мой быстротой и точностью. Следовательно, в обеих крайних (и в
конечном счете парализующих отношения с действительностью)
тенденциях нельзя не увидеть и прогрессивный, жизненный эле-
мент. В конце концов — и в этом суть диалектики обыденной жиз-
tô
ни и присущего ей мышления —г критический подход к этому
мышлению и его корректировка в науке и искусстве, в свою оче^
редь выросших на почве повседневности и находящихся с ней в
отношении взаимовлияния, способствуют существенному прогресс
су только тогда, когда они не ведут к однозначной ликвидации
как всего застывшего, так и всего текучего.
В динамической структуре языка повседневности выражается
та общая сущность социального развития, человеческой практики,
к которой мы апеллируем эпиграфом к этому тому. Когда люди
в обыденной жизни — и прежде всего на примитивных стадиях
развития — действуют, реагируя на непосредственную ситуацию
непосредственной целевой установкой, они вызывают к жизни
материально-духовную «инструментовку», то есть совокупность
обстоятельств, которая содержит в себе больше, нежели человек
в нее непосредственно и сознательно вложил; вследствие этого от
непосредственных человеческих действий она приходит в движе-
ние таким образом, что постепенно все ее имплицитное содержа-
ние эксплицируется и события выходят за пределы прямых наме-
рений. Причина этого кроется во взаимодействии объективной и
субъективной диалектики. Объективная диалектика, отражающая-
ся в субъективной, необходимо должна быть богаче и глубже.:
Присущие ей свойства, субъективно еще не осознанные, часта
проявляются в том, что события развиваются как бы по вертикал
ли, поднимаясь над непосредственной субъективной целевой уста<-
новкой; нередко это проявляется в форме кризиса. Впрочем., этим
отнюдь не исчерпываются отношения между объективной диалек-
тикой и ее субъективным отражением: если бы воздействие объек-
тивной действительности было всегда отмечена только прогрес-
сивными моментами, это придавало бы ей самой мистический
характер. Вышеописанные негативные тенденции столь же тесньщ
образом связаны со взаимодействием объективной и субъективной
диалектики. Непосредственная связь реальной практики с обра-
зом объективной действительности, отраженным в момент дейст-
вия, нередко по описанным нами причинам оказывает парализую-
щее влияние. Внутренняя логика такого положения дел обуслов-
ливает перевес тенденций, стимулирующих знание, в векторе
развития целых эпох; если этого не происходит, то соответствую-
щая формация приговорена к регрессу или отмиранию.
Последствия такого взаимодействия для человеческого мышле-
ния яснее других понял Лейбниц. Его концепция «смутных мыс-
лей» включает наряду с другими и упомянутую нами проблему
бессознательно создаваемой расширенной «инструментовки» форм
человеческой деятельности. В полемике против Бейля он разра-
батывает понятие релятивности, взаимоперехода дистинктивного-
и смутного мышления как важную для разрыва с учением о
«душевных способностях» позицию, утверждая, что оба эти типа
мышления являются результатом мыслительной деятельности че-
довека в целому то, что Лейбниц здесь отбрасывает, «разделение*
4&
труда» тела и души, не умаляет значения его идеи, скорее напро-
тив. Он пишет: «...Душа обладает внутренними произвольнымш
действршми. Так почему же этого не может быть во всех ее мыс-
лях? Не потому ли, что решили, будто смутные мысли toto genera»
(во всех отношениях) отличаются от отчетливых, тогда как на*
самом деле они просто менее определенны и менее развиты из-за*
их множественности. Вот и получилось, что некоторые движения,
сочли до такой степени присущими телу, что пришлось наимено-
вать их непроизвольными, и на этом основании решили, что в?;
душе нет ничего, что отвечало бы на них; а с другой стороны,,
решили, что некоторые абстрактные мысли никак не представле-
ны в теле. Но и то и другое — ошибка, как это обычно бывает при**
разграничениях такого рода, так как обратили внимание только*
на то, что лежит на поверхности. Самые отвлеченные мысли тре-
буют работы воображения; если же вдуматься, что представляют
собой смутные мысли (которыми всегда сопровождаются самые;
отчетливые мысли, какие только могут у пас быть), например*
мысли о цветах, запахах, вкусовых ощущениях, жаре, холоде;
и т. п., то приходишь к выводу, что они всегда вовлекают в себя
бесконечное, и не только то, что происходит в нашем теле, но и
через посредство тела то, что совершается вовне»25. Для совре-
менной философии языка отсюда следует признание наличного в:
каждом высказывании обобщения и диалектической относитель^
ности степени этого обобщения в практическом употреблении..
«Общие термины, — говорит Лейбниц, — служат не только для-
усовершенствования языков, они необходимы также по самому
существу последних. Действительно, если под отдельными вещами.
понимать индивидуальные вещи, то невозможно было бы разгова-
ривать, если бы существовали одни только имена собственные №
не было бы никаких нарицательных имен, т. е. если бы существо-
вали слова только для обозначения индивидов, так как каждую^
минуту возникают все новые слова, когда дело идет об индиви?
дах, событиях и в особенности о действиях, представляющих то,;,
что мы обозначаем чаще всего. Но если под отдельными вещами,
понимать низшие виды (species infimas), то, помимо того что.^
очень часто трудно их определить, они, очевидно, являются ужа
универсалиями, основанными на сходстве. А так как, смотря по,
тому, идет ли речь о родах или видах, мы имеем дело только с
более или менее значительным сходством, то естественно обозна-
чать всякого рода сходства или соответствия и, следовательно,
употреблять общие термины различной степени общности...»ж
Изложенное Лейбницем не только проливает свет на проблему
языка и мышления, но и указывает на важность другой сущест-
венной черты обыденной жизни — на постоянную вовлеченность,
в нее человека в целом; это также противоречит весьма влиятель-
ному в истории эстетики учению о так называемых «душевных,
способностях». Уже в философии и эстетике Гегеля ведется не-
примиримая борьба с подобным расчленением; человека, с концеп-
4 Заказ № 683
49
щией «мешка для души», как говорил Гегель. Но борьба эта не
*была до конца последовательной, так как неизбежная идеалисти-
ческая иерархия снова приводила — на другом, более высоком
уровне — к расчленению диалектического единства человека и его
деятельности; достаточно вспомнить о соотношении в системе Ге-
геля созерцания и искусства, представления и религии, понятия
■*и философии и о метафизически-иерархических следствиях этого
соотношения. Только диалектический материализм, установив при-
оритет бытия над сознанием, заложил методологические основы
единой и диалектичной концепции целостного человека в его дей-
ствиях и реакциях на внешний мир. Тем самым одновременно
было преодолено принятое метафизическим материализмом пред-
ставление о механическом характере отражения действительности.
Значение учения Павлова в том и состоит, что оно открывает
пути постижения материального единства всех жизненных про-
явлений как реальной материальной связи природного, физиоло-
гического бытия человека с его общественным бытием (вторая
сигнальная система как связь языка и труда). Диалектический
материализм признает органическое сотрудничество всех челове-
ческих способностей в любой сфере человеческой деятельности.
Правда, не в форме свободного от противоречий взаимного содей-
ствия этих сил, предустановленной гармонии, но во всей их ре-
альной цротиворечивости, когда общественная практика решает,
возникнет ли и в каких масштабах подобная взаимная поддерж-
ка человеческих сил и не обернется ли благодеяние бедствием.
.Ленин писал о процессе познания: «Подход ума (человека) к от-
дельной вещи, снятие слепка (=понятия) с нее не есть прос-
той, непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, раз-
двоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность от-
лета фантазии от жизни; мало того: возможность превращения
(и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения)
абстрактного понятия, идеи в фантазию (in letzter Instanz = бога).
И в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей
идее («стол» вообще) есть известный кусочек фантазии, (Vice
<versa: нелепо отрицать роль фантазии и в самой строгой науке:
ср. Писарев о мечте полезной, как толчке к работе, и о мечтатель-
ности пустой.)»27
Учение о метафизическом обособлении «душевных способно-
стей» не было простым заблуждением науки, ошибкой отдель-
ного мыслителя, а было — хоть и искаженным на идеалистический
или вульгарно-материалистический лад — отражением определен-
ных сторон действительности либо каких-то этапов ее развития.
Но этот факт ничего не может изменить в нашем суждении об
этом учении. Во всяком случае, справедливо то, что капиталисти-
ческое разделение труда разрушает непосредственную цельность
человека, что основная тенденция труда при капитализме ведет
к самоотчуждению человека и отчуждению от своей деятельности.
Этот факт замалчивается буржуазной политической экономией
.50
именно потому, как весьма тонко подметил Маркс, что эта науке»
«не подвергает рассмотрению непосредственное отношение
между рабочим (трудом) и производимым им продуктом» 28.
Для отчужденного от самого себя рабочего возникает противо-
положность между объективным продуктом труда и его духовно-
нравственными результатами. Было бы, однако, ошибкой пола-
гать, что это отчуждение подкрепляет идеалистическое учение о
«душевных способностях». Кажущаяся независимость «душевных
способностей» друг от друга, более того — их взаимное, открыто»
выступающее противоречие является важным фактом капитали-
стической повседневности, непосредственной формой проявления*
души человека данной эпохи. Метафизический характер возник-
ших на этой почве философских, психологических, антропологи-
ческих и др. теорий проистекает из некритической абсолютизации
бесспорно существующего непосредственного факта во всей его
непосредственности. «Некритичность» не означает при этом не-
пременно простого примирения с фактом, хотя и это нередко-
имеет место. Диалектика способа проявления может быть под-
вергнута остроумной критике, и таким путем могут даже быть,
открыты важные закономерности культуры, как это было, на-
пример, в философии искусства Шиллера. (В этом случае нельзя,
впрочем, отрицать наличия по крайней мере интуитивного про-'
зрения социально-исторической причинной обусловленности обо-
собления отдельных «душевных способностей» и их взаимных;
противоречий, и — хотя бы и ретроспективно-утопической — меч^
ты о едином и целостном человеке.) Однако только полное выяс-
нение социальных основ способно привести к пониманию человека
как единого целого, во всей нерасторжимости его физических и
психических способностей. Маркс образно характеризует иска^
женность человеческой жизни вследствие' этого отчуждения:
«Правда, еда, питье, половой акт и т. д. тоже суть подлинно че-
ловеческие функции. Но в абстракции, отрывающей их от круга
прочей человеческой деятельности и превращающей их в послед-
ние и единственные конечные цели, они носят животный харак-
тер» 29. Подобные результаты капиталистического разделения
труда молодой Маркс выявил первоначально в рабочем классе;
Но вслед за тем, уже в «Святом семействе», Маркс говорит о ка*
тегории «отчуждения» применительно ко всему буржуазному
обществу, видя решающее идеологическое противоречие между
буржуазией и пролетариатом в том, что буржуазия относится к
отчуждению как к положительной, а пролетариат как к отрица-
тельной тенденции30. Позднее Энгельс обобщит это положение,
распространив его на все жизненные коллизии современного бур-
жуазного общества31.
Классикам марксизма, однако, всегда было ясно, что это воз-
действие капиталистического базиса охватывает лишь одну сто-
рону всей совокупности его влияний. Последнее общество, строя-
щееся на эксплуатации, общество, же только: создающее матери-
4*
51
-ально-экономические предпосылки для социализма, но и поро-
ждающее своего могильщика, капитализм вынужден наряду с
;уродующими и искажающими человека силами вызывать к жизни
1й такие силы, которые — все более сознательно обращаясь про-
тив самого этого общества — устремлены в будущее. Уже в «Свя-
том семействе», как мы отмечали выше, Маркс видит это проти-
шоречие в том, как именно — с удовлетворением или с возмуще-
нием — реагирует тот или иной класс на самоотчуждение чело-
века. Позднее Маркс очерчивает также контуры тех экономиче-
ских определений, которые являются объективной основой воз-
смущения, формируют его и делают неизбежным тот факт, что оно
не остается субъективно бесплодным, но приводит в действитель-
ности к преобразованию общества. Маркс писал: «Рикардо рас-
сматривает капиталистический способ производства как самый
выгодный для производства вообще, как самый ^выгодный для
-создания богатства, и Рикардо вполне прав для своей эпохи. Он
..хочет производства для производства и он прав. Возражать на
-это, как делали сентиментальные противники Рикардо, указанием
на то, что производство как таковое не является же самоцелью,
.значит забывать, что производство ради производства есть не что
шное, как развитие производительных сил человечества, то есть
^развитие богатства человеческой природы как самоцель,,. При та-
ком подходе к вопросу остается непонятным то, что это развитие
^способностей рода «человек», хотя оно вначале совершается за
•счет большинства человеческих индивидов и даже целых челове-
ческих классов, в конце концов разрушит этот антагонизм и сов-
падет с развитием каждого отдельного индивида; что, стало
«быть, более высокое развитие индивидуальности покупается толь-
ко ценой такого исторического процесса, в ходе которого индиви-
ды приносятся в жертву» 32.
Таким образом, становится понятной еще одна причина, поче-
му мы до сих пор не располагаем философски обоснованным ана-
лизом обыденной жизни и обыденного мышления. В таком ана-
лизе прямо или косвенно, но неизбежно должно быть определено
то или иное отношение к описанной Марксом двойственной про-
тиворечивости обыденной жизни при капитализме. При этом со-
вершенно очевидно, что, достигая здесь своего кульминацион-
ного пункта, противоречие это в самых разнообразных формах
наличествует уже и в некоторых более ранних формациях: оно.,
конечно, не исчезает мгновенно и автоматически ташке и после
~экспроприации и обобществления средств производства. Происхо-
дящее при социализме снятие антагонистического характера вы-
ступающих здесь противоречий и их превращение в неантагони-
стические является длительным и неравномерным процессом,
который отнюдь не исключает определенных пережитков прош-
лого и его рецидивов. Поскольку теперь даже самое абстрактное
теоретико^познавательное или феноменологическое исследование
обыденного мышления не может игнорировать подобного рода
ш
■■%
исторического изменения общества, не фальсифицируя посредст-
вом антиисторической абсолютизации содержание и структуру
-своего собственного предмета познания, философской теории при-
ходится занять ту или иную позицию по отношению к основным
историческим явлениям. Между тем любая позиция требует ис-
торического исследования наличествующих здесь видов прояв-
ления повседневности в условиях капитализма, а также и извест-
ного проникновения в действительное направление всего истори-
ческого развития. В противном случае возникает абсолютизация
и идеализация прошлого или настоящего либо даже того и дру-
гого сразу, причем и положительный и отрицательный акценты
в подобного рода оценке будут равно ложными. Маркс видит в
этом неизбежную и неразрешимую дилемму буржуазного суж-
дения об историческом развитии: не в силах справиться с выше-
описанным противоречием, оно односторонне закрепляет либо
момент прогресса, либо момент отчуждения. По этому поводу
Маркс пишет: «На ранних ступенях развития отдельный инди-
вид выступает более полным именно потому, что он еще не выра-
ботал всю полноту своих отношений и не противопоставил их
себе в качестве независимых от него общественных сил и отно-
шений. Так же, как смешно тосковать по этой первоначальной
полноте индивида, так же смешно верить в необходимость оста-
новиться на нынешней полной опустошенности» 33.
В начальный период развития буржуазной философии в ней
господствовала тенденция утверждать прогресс, не замечая его
противоречивости; но еще до Маркса выступило противополож-
ное движение, романтически сочетавшее критику отчуждения с
идеализацией примитивных исторических эпох, а в наши дни —
явно или прикрыто — господствует то же, впрочем весьма поверх-
штатное, направление в философии, поскольку она занимается
повседневностью и обыденным мышлением.
Краткое знакомство с той обедненной и извращенной формой,
©которой выступает проблема повседневного поведения к обы-
денного мышления у Хайдеггера, может, пожалуй, оказаться не-
достаточно основательным для зачисления его в разряд романти-
ческих критиков капиталистической культуры. Он решительно
разграничивает повседневность и примитивность: «Повседневное
не тождественно примитивному. Повседневность есть скорее жиз-
еениый модус существования даже тогда — ив особенности тог-
да, — когда это существование протекает в высокоразвитой и
дифференцированной культуре» 34. Приступая к детальному ана-
лизу, он также не высказывает одобрительной оценки какой-либо
из предшествовавших эпох (как, например, Гелен с его культом
«домагического периода»). Романтический аптикапитализм Хай-
деггера порицает современную повседневность и ее мышление
«только» с феноменологически-онтологической точки зрения, его
осуждение не опирается на пример какой-либо конкретной прош-
лой эпохи, его масштаб — онтологически-иерархическая дистан-
5&
ция, отделяющая сущее от бытия, ведущая к отпадению сущего
от бытия. Следовательно, духовная основа порочности современ-
ного мира носит здесь не романтически-исторический, а теологи-
ческий характер; она заложена в атеистически переосмыслен-
ном иррационалистическом учении Кьеркегора о боге.
Об отношении Хайдеггера к повседневности свидетельствует
уже его терминология. Когда он называет наличествующие здесь
вещи das Zeug, действующее лицо этой сферы — das Man, наибо-
лее часто встречающиеся типы повседневного поведения — das
Gerede, die Zweideutigkeit, das Verfallen * и т. п., то, если он даже
и питает иллюзию, что его описание строго объективно и лише-
но эмоционально окрашенной оценки, на самом деле у него все
же речь идет о неподлинном мире, деградировавшем и отпавшем
от подлинного бытия. Хайдеггер называет такое «перемещение»
существования относительно его собственного бытия Absturz
(«глубоким падением», «низвержением»). Существование «низ-
вергается» из себя самого в самое себя, в беспочвенность и нич-
тожество неистинной повседневности. Это низвержение остается,
однако, скрытым благодаря тому, что в общественном мнении
оно истолковывается как «подъем» и «конкретная жизнь» 35. Да-
лее он развивает эту мысль: «Явление деградации не дает также
чего-то вроде «ночной стороны» существования — бытийно нали-
чествующего качества, которое могло бы послужить дополнением*
к наивному аспекту этого сущего. Деградация разоблачает суще-
ственную онтологическую структуру самого существования, ко-
торая тем меньше определяет «ночную сторону», чем больше она*
конституирует все его дни в их повседневности» 36.
Этот глубокий пессимизм, который превращает иовседневность
в сферу глубочайшего упадка, заброшенности «в публичность
Man» 37, в «беспочвенность Gerede» 3S, обедняет и искажает суще-
ство и структуру повседневности. Если практика повседневности
утрачивает — феноменологически-онтологически — динамическую
связь с познанием и наукой, если эта последняя не возникает из;
вопросов, которые ставит практика, если практика не обогаща-
ется постоянно наукой, не становится шире и глубже, повседнев-
ность вообще теряет свою подлинную сущность — перестает быть
истоком и устьем потока познавательной деятельности людей.
Поскольку Хайдеггер изымает ее из этой взаимосвязи, она вы-
ступает у него исключительно как сфера, где господствуют уро-
дующие человека силы отчуждения. Другой момент, прогрессив-
ный и противодействующий отчуждению, при этом онтологиче-
ском «очищении» явлений исчезает.
В этом примере также сохраняется очевидная связь методо-
логии с мировоззрением. Метод Хайдеггера как в области фено-
менологии, так и в вырастающих из нее онтологических тенден-
циях направлен на сведение всякой предметности (и любого от-
ношения к ней) к простейшим и наиболее всеобщим «изначаль-
ным формам», чтобы таким образом можно было — независимо от
54
любых социально-исторических перемен — однозначно определить
их «глубочайшую сущность». Но так как интуитивное «созерца-
ние сущности» составляет также одну из главных основ этой
методологии, то субъективное оценочное суждение того или ино-
го философа неизбежно должно — сознательно или бессознатель-
но — глубоко влиять на определение содержания и формы фено-
менологически или онтологически «очищенной» предметности,
запутывая соотношение между явлением и сущностью. Явления
капиталистической повседневности выступают здесь как онтоло-
гические существенные определения всякого сущего вообще. То
же происходит и при характеристике обыденной жизни у Хай-
деггера. Никто не станет отрицать, что он со всей страстью пред-
принял попытку определить некоторые решающие стороны повсе-
дневной жизни и обыденного мышления конкретнее, чем это
было сделано до него. И действительно, в этом отношении Хай-
деггер далеко выходит за пределы достигнутого в изучении этой
проблемы неокантианцами. Так, Хайдеггер делает весьма инте-
ресный экскурс в сферу специфической связи теории и практики
в обыденной жизни: «В таком потребляющем общении выпол-
нение подчинено для каждой данной вещи основополагающему
«для чего»; чем меньше на такую вещь, как молоток, будут гла-
зеть, чем чаще им будут пользоваться, тем более изначальным
станет отношение к нему, тем более неприкрыто выступит он в
качестве того, что он и представляет собой, — в качестве инстру-
мента. Сама работа молотком раскрывает специфическое «удоб-
ство» молотка в обращении... Один лишь «теоретически» оцени-
вающий взгляд на вещи лишен понимания их «сподручности».
Потребляюще-манипулирующее общение, однако, не является
слепым, у него есть свой собственный способ видения, который
руководит манипуляцией и придает ей ее специфическую вещест-
венность...» 39
Здесь, бесспорно, уловлены кое-какие черты основной струк-
туры обыденной жизни и обыденного мышления, непосредствен-
ного сочетания теории и практики. Однако конвергенция фор-
мально-методологического упрощения и субъективного оценочно-
го (антикапиталистического) суждения в «созерцании сущности»
выдвигает на место реальных противоречивых переходов и взаи-
модействий преувеличенно резкий метафизический контраст
между подлинно теоретическим воззрением и «теорией» повсе-
дневной практики. Выполненная подобным образом абстрагирую-
щая изоляция повседневности, ее сведение к тем моментам, ко-
торые кажутся исключительно подходящими для нее в подобного
рода искусственном мысленном ограничении, приводит, как это
уже подчеркивалось выше [с. 53 и ел.], к обеднению и искаже-
нию представления обо всей этой сфере: к обеднению — посколь-
ку сознательно методологически отбрасывается глубокая взаимо-
связь всех типов поведения в повседневности с общей культурой
й культурным развитием человечества; к искажению — поскольку
55
благодаря этому мысленно устраняется роль повседневности в
распространении прогресса и осуществлении его достижений.
Обрисовав столь очевидный у Хайдеггера теоретический ту-
пик, мы, как и в прочих подобных случаях, отнюдь не собирались
разбирать учение этого философа в целом. Нам важно было лишь
путем сравнения методологически уточнить ход наших собствен-
ных рассуждений. Разумеется, предприняв этот полемический
экскурс, мы также не стремились и к тому, чтобы исчерпать весь
круг вопросов, относящихся к данному предмету. Мы лишь упо-
мянули об этих вопросах, чтобы полнее охарактеризовать проб-
лему целостного человека в повседневности (в том числе и в бур-
жуазном обществе, и даже в первую очередь в нем). Для этого
здесь и приходится предварительно пояснить, в чем заключается
общий характер повседневности и обыденного мышления в их
отношении к поведению человека в сфере научной и художест-
венной деятельности. Но только предварительно, так как разде-
ление науки и повседневности будет освещено в специальной
главе; художественная деятельность и ее восприятие, которы-
ми мы займемся позже, могут быть рассмотрены по-настоящему
адекватно только во второй части, после анализа структуры про-
изведения искусства. Предвосхищая дальнейшее изложение, мож-
но лишь сказать, что тип поведения людей существенно зависит
от степени объективации их деятельности. Там, где объектива-
ция достигает высших ступеней, то есть в науке и искусстве, их
собственные объективные законы определяют отношение людей
к этим ими же созданным творениям. Иными словами, все спо-
собности человека получают — частично инстинктивную, частич-
но осознанную или воспитанную — целеустремленность, направ-
ляются на выполнение этих объективных закономерностей. Чтобы
правильно понять подобные формы поведения и правильно опи-
сать их, как в их связи с повседневностью, так и в их отличии
и противоположности к повседневному поведению, следует по-
стоянно иметь в виду, что в обоих случаях речь идет об отноше-
нии целостного человека — пусть даже отчужденного и искажен-
ного — к объективной действительности или, точнее, к отражаю-
щим и опосредующим ее общественно-человеческим объектива-
циям. Воздействие таких развитых и разработанных объектива-
ции, как наука и искусство, обнаруживается прежде всего в том,
что критерии выбора, группировки, интенсивности и т. п. разви-
ваемой субъективной деятельности гораздо более точно ограни-
чены и детерминированы, чем в прочих жизненных проявлениях.
Разумеется, здесь существуют весьма постепенные переходы, в
особенности в труде, который в ходе истории тоже объективно
обнаруживает ряд переходов к науке и к искусству.
Подобные объективации имеют не только свою собственную
внутреннюю закономерность — правда, лишь постепенно осозна-
ваемую,—но и некую систему опосредования, с помощью кото-
рой только ж может быть реализована как активно, так и-
$6
пассивно соответствующая объективация (вспомним о роли ма-
тематики в точных науках, о визуальности в изобразительных
искусствах и т. п.). Тот, кто не сумеет с помощью подобного опо-
средования проложить путь к объективации, тот неизбежно упу-
стит важнейшие, решающие для данной объективации проблемы.
Это происходило довольно часто, и почти столь же часто из этого
извлекались неверные выводы. Когда посредующую систему
отождествляют с объективацией (как, например, это имеет место
у Конрада Фидлера с визуальностью, о чем мы позднее [с. 187
и ел.] скажем более подробно), тогда ту или иную группу объ-
ективации, хотя бы и варьируя ее на новый лад, приписывают
какой-нибудь «душевной способности», либо недооценивая, либо
даже полностью устраняя подвижную динамику душевной жиз-
ни человека в ее целостности. На деле, однако, получается, что
поскольку роль посредующей системы в объективации как раз
в том и состоит, чтобы служить носителем совокупности ощуще-
ний, мыслей, предметных связей и т. п., то и приспособленный
к ней субъективный образ действий должен служить синтезу
всех этих элементов. Следовательно, даже в предельной специа-
лизации — в данном случае объективации — снова и снова нахо-
дит свое выражение целостный человек, с тем, однако, весьма
важным структурно-динамическим изменением (по сравнению со
средним повседневным случаем), что все его разом мобилизован-
ные качества как бы сосредоточены в некоем острие, устремлен-
ном на избранную им объективацию. Поэтому всюду в дальней-
шем, где речь пойдет о подобном действии, мы будем говорить
о «цельном человеке» («der Mensch ganz») в его отношении к оп-
ределенной объективации — в противоположность «целостному
человеку» повседневности («der ganze Mensch»), который, образ-
но говоря, обращен к действительности всей поверхностью своего
существования. Для нас, естественно, всего важнее эстетическое
поведение, поэтому в дальнейшем изложении мы обратимся к эс-
тетическому различию «целостного человека» и «цельного чело-
века» [см. т. 2, гл. 8, § 2]. Так как образ действия в науке инте-
ресует нас прежде всего как контрастирующее обстоятельство для
эстетического поведения, мы в состоянии удовлетвориться некото-
рыми общими положениями.
Это противопоставление, подобно некоторым другим, рассмат-
ривается здесь нами в наиболее отчетливых, крайних его опре-
делениях, но при этом мы не забываем, что в действительности
существует необозримое число переходных оттенков. Достаточно
вспомнить о труде человека в материальном производстве. Чем
совершеннее труд, тем сильнее в нем тенденция к целесообраз-
ному объединению и заострению всех способностей «цельного
человека». Там, где труд, как в старом ремесле, подобен своего
рода искусству, деятельность человека в процессе труда объек-
тивно приближается к художественной. Если труд максимально
рационализирован, он близок к научной деятельности. Следова-
57
тельно, многие виды труда в материальном производстве, оста-
ваясь в этом отношении в сфере переходных явлений, прибли-
жаются к одной из указанных крайностей. Но как бы ни были
они фундаментально важны для всей человеческой жизни, они
тем не менее охватывают лишь часть ее повседневности. В ос-
тальных ее частях, естественно, должен преобладать другой, бо^
лее широкий и гибкий принцип, менее целеустремленно группи-
рующий человеческие способности. Конечно, и тут существуют
переходные формы; игра, спорт (когда занятия им превращаются
в систематическую тренировку), беседа (когда она переходит в
деловую дискуссию) и т. п. легко могут на короткое или на про-
должительное время сблизиться с поведением человека в трудо-
вом процессе. Однако широкая шкала переходных оттенков не-
устраняет противостоящих крайностей. Напротив, мы полагаем,
что именно благодаря наличию переходных форм проявляется
не только необходимость перерастания «целостного* человека» в
«человека цельного», но становится ясным и то, что «цельный
человек» происходит из «человека целостного», что оба эти жиз-
ненных типа оплодотворяют друг друга и взаимно способствуют
дальнейшему развитию. При этом между ними сохраняется
различие и даже противоположность. В основе ее лежит большая
или меньшая степень единства намеченной объективации (от
почти полного ее отсутствия вплоть до преобладания объектива-
ции над субъективными стремлениями) и — в тесной связи с ха-
рактером объективации — более или менее непосредственное от-
ношение между мышлением и практикой. Вспомним хотя бьв
спорт: простое телесное упражнение, в котором это отношение
может носить совершенно непосредственный характер (например,,
во время прогулки), и те сложные, часто весьма далекие опосре-
дования, которые появляются при систематической тренировке.
Еще отчетливей выступает это противоречие в социально-по-
литической деятельности человека. Ленин блестяще вскрыл ее-
характер в своем труде «Что делать?». Его рассуждения тем бо-
лее ценны для нас, что они целиком сосредоточены на социаль-
но-политических проблемах и лишь мимоходом касаются вопроса,,
который разбираем сейчас мы. Говоря а стихийности экономи-
ческих движений рабочего класса, Ленин показывает, что им как
раз недостает осознания более широких социальных связей, иба
эти связи выходят за пределы непосредственно поставленных
целей; у стихийно бастующих русских рабочих начала XX сто-
летия «не было, да и быть не могло, — говорит Ленин, — сознания
непримиримой противоположности их интересов всему современ-
ному политическому и общественному строю» 40; иными словами,,
у них не было понимания дальнейших неизбежных последствий
их собственных действий.
Не приходится подробно объяснять, что большая часть поступ-
ков в обыденной жизни (безразлично — индивидуальных или
коллективных) обладает подобной же структурой, в которой лег-
58
ко различить ранее установленную нами непосредственную связь
между мышлением и практикой.
Продолжая свою социально-политическую критику стихийно-
сти, Ленин утверждает, что в стихийную борьбу рабочих за свои
интересы «классовое политическое сознание может быть прине-
сено... только извне, то есть извне экономической борьбы, извне
сферы отношений рабочих к хозяевам»41, и, следовательно, не
из непосредственно окружающего их мира, непосредственных це-
левых установок их деятельности. Это замечание вдвойне важно
для того вопроса, который мы разбираем. Во-первых, это значит,
что для преодоления повседневности необходимы духовные силы,
типы мыслительной деятельности, качественно превосходящие
кругозор обыденного мышления. Во-вторых, что в тех случаях,
когда, как здесь, речь идет о правильной ориентации практиче-
ской деятельности, ленинское «извне» означает мир науки.
Достигнутое таким путем проникновение в обыденное мыш-
ление свидетельствует о том, что его правильное развитие, фор-
мирование способности познавать объективную действительность
возможно лишь на путях науки, лишь путем отдаления от этого
мышления как такового. Об этом же, по-видимому, свидетельст-
вует в основном и ход мировой истории. И все-таки, попытав-
шись превратить такой вывод в универсальный, не знающий
исключений закон, мы пришли бы лишь к искажающей действи-
тельность вульгарной абстракции. Разумеется, нередко бывает,
притом в весьма важных случаях, что научное и обыденное
мышление противостоят друг другу именно таким образом. Вспом-
ним хотя бы о теории Коперника и о том, что наш ежедневный
«опыт» с непосредственной, субъективной непреодолимостью
утверждает, что «солнце заходит»; мы намеренно употребляем
выражение «непреодолимость», ибо именно такой должна быть
стихийная реакция на это явление даже у самых образованных
астрономов в их повседневной жизни. Тем не менее этим далеко
не исчерпывается все богатство действительности, вся сложность
отношения к ней обыденного мышления, науки (и искусства).
Часто обыденное мышление справедливо протестует против неко-
торых способов объективации в науке (и искусстве) и в конеч-
ном итоге оказывается правым. Диалектика подобных противо-
речий между повседневностью, с одной стороны, и наукой или
искусством — с другой, во все времена носит общественно-исто-
рический характер; справедливо ли выступает обыденное мыш-
ление против объективации более высокого уровня или оно
ошибается — этот вопрос решается в соответствии с конкретной
социально-исторической ситуацией. Создавшееся положение не
следует метафизически абсолютизировать. Обыденное мышление,
даже одержавшее в конечном счете эпизодическую победу над
научным или художественным, добивается победы лишь в силу
стихийности и непосредственности повседневной жизни, а на этом
пути можно добиться лишь отрицания, отклонения. Если дейст-
59
вительно не отвечающая более потребностям жизни наука (либо»
искусство) будет преодолена, то из такого стихийного отрицания
может возникнуть лишь новый тип науки (либо искусства), ко-
торый все равно должен подняться над повседневностью. Анализ?
любой подобной ситуации покажет, что как единство, так и рас*
хождение двух этих сфер можно понять только с учетом непрег
рывного взаимодействия между ними. В той степени, в которой
следствия из этого положения важны для искусства, они в своей
социально-исторической конкретности будут разобраны в истори-
ко-материалистической части нашей «Эстетики».
Здесь мы укажем в абстрактной форме лишь те определения,,
которые обнаруживают в повседневности наиболее общий харак-
тер отражения действительности.
Коротко говоря, речь пойдет о явлении так называемого здра-
вого смысла. Само по себе это прямое, большей частью остаю-
щееся абстрактным обобщение опыта обыденной% жизни. По-
скольку данные науки и искусства непрерывно вливаются в обы-
денную жизнь и в обыденное мышление, они часто закрепляются
в этом мышлении — но обычно лишь в той мере, в какой они
становятся живыми и постоянными элементами повседневной
практики. По форме такие обобщения носят в большинстве слу-
чаев аподиктический характер. В подобной лаконичной форме
выражена мудрость народных пословиц и поговорок. Они не опи-
раются на доказательства, ибо они-то как раз и являются итогом
порой многовекового опыта, привычек, традиций, обычаев и т. п.
И как раз эта их форма способствует превращению их в непо-
средственный руководящий принцип действия. Так самая их
форма отражает типичную для обыденного мышления непосред-
ственность связи теории и практики.
По праву или не по праву выступает эта аподиктически-ла-
коничная мудрость против более сложных объективации науки
и искусства? Мы здесь не будем рассматривать конкретных проб-
лем социально-исторического плана, но все же можем с уверен-
ностью сказать, что положительная и отрицательная функции
здравого смысла, равно как и народной мудрости, тесно связаньв
с борьбой старого и нового. Повсюду, где реакционное, отмираю-
щее отстаивает себя, опираясь на искусственно опосредованные,
оторванные от жизни теоретические конструкции, условные чув-
ства и т. п., здравый смысл играет роль мальчика из сказки Ан-
дерсена, воскликнувшего: «А король-то голый!» В том и заклю-
чается великая заслуга эстетики Чернышевского, что она проти-
вопоставила высокопарным искусственным претензиям образо-
ванных классов действительные потребности народа42. Эстетика
и философия искусства позднего Толстого превращают простого
крестьянина в высшего судию, определяющего правильность или
ложность произведений искусства и науки.
Не подлежит сомнению, что подобные воззрения во многие
случаях подтверждались историей. Однако столь же верно и то,
60
что нередко суждения здравого смысла сводятся к мещанскому
скептицизму в отношении к новым открытиям. Насколько спра-
ведлива мужицкая насмешка над модой на спиритизм в «Плодах
просвещения» Толстого, настолько же несостоятельны его суж-
дения — от лица простого крестьянина — по поводу Ренессанса,
или Шекспира. Еще Шиллер учил, что компетентность суждений
мольеровской служанки о сочинениях великого комедиографа
имеет свою границу; мне оставалось лишь присоединиться к нему
в моей попытке осветить проблематику оценки современной куль-
туры у позднего Толстого 43.
Социально-историческая обусловленность отдельных случаев:
нисколько не меняет того, что в них находят свое выражение иг
более общие закономерности. Это, с одпой стороны, противоре-
чие между абстрактно-идеалистическим обобщением и противо-
стоящим ему стихийным материализмом обыденного мышления*,
который одерживает верх; с другой стороны, противоречие меж-
ду диалектическим и механистическим отражением действитель-
ности, причем стихийная диалектика повседневности моя^ет ока-
заться правой в споре с метафизическими теориями, но и тради-
ционная метафизическая «мудрость» повседневности может быть-
опровергнута новейшим диалектическим пониманием жизни. Уже-
из одного этого видно, что реакции обыденного мышления на
науку и искусство отнюдь не однозначны. Их нельзя проста'
квалифицировать как прогрессивные либо реакционные, как нель-
зя всегда приписывать одну из этих тенденций новому, а дру-
гую — старому. В проповеди Толстого, например, как это убеди-
тельно показал Ленин, звучат и голоса темного, обреченного на
гибель крестьянства, и голоса протеста, которые — пусть лишь на-
уровне повседневности — возвещают бунт крестьянства против:
полуфеодального строя44. Истинная роль здравого смысла и на-
родной мудрости может быть, следовательно, выяснена лишь пу-
тем изучения конкретных общественно-исторических условий с*
позиций исторического материализма.
Здесь следует обратиться к объективно и субъективно всеоб-
щим диалектическим, гносеологическим основам этой неустрани-
мой двойственности обыденного мышления. Источник ее — все то-
же непосредственное соотношение теории и практики. С одной'
стороны, и теория и практика должны постоянно исходить из-
непосредственного отношения к действительности, никогда не мо-
гут о ней забывать, никогда не перестапут к ней апеллировать;;
и если высшие, более сложные, более опосредованные объекти-
вации действительности ограничить своего рода духовным инцух-
том (близкородственным размножением), они могут оказаться в;
том же положении, что и король в сказке Андерсена. С другой
стороны, истинная плодотворность правильного отражения дей-
ствительности и возникающей из него практики будет обеспечена
лишь тогда, когда непосредственность будет снята (в гегелевском;
тройственном смысле — уничтожения, сохранения и возведения^
61!
на более высокий уровень). Достаточно при этом сослаться на
ленинский анализ политической практики, а в качестве примера
доказательства от противного — на исследование Берналом тормо-
зящих развитие науки и промышленности последствий стихий-
ного развития капиталистической экономики в погоне за при-
былью. Тот факт, что противоречия обыденного мышления могут
быть разрешены лишь конкретно, лишь соииально-исторически,
:является подтверждением — в абстрактно-обобщенной форме —
того, что высшие объективации развития человечества порожда-
ются движением к более богатому и глубокому познанию кон-
кретных проблем повседневности; их самостоятельность, следо-
вание своим собственным закономерностям, качественное
выделение среди форм отражения обыденпой жизни служат
^интересам той же повседневности; их существование теряет свой
смысл и тогда, когда эта связь — в историческом масштабе — ут-
рачена, и тогда, когда они, отказавшись от своей опосредованно-
'сти, некритически приспосабливаются к непосредственному един-
ству теории и практики в повседневной жизни. Из этой противо-
речивости следует необходимость непрерывных восходящих и
нисходящих течений от повседневности к пауке и искусству и
.обратно как условия функционирования и прогрессивного разви-
тия трех этих жизненных сфер. Отсюда следует также, что кри-
терии правильности отражения прежде всего должны быть со*
держательны, то есть исходить из правильности, глубины, богат-
ства отражения, из его соответствия как копии оригиналу —
самой объективной действительности. При этом формальные
моменты (традиция и т. п. в повседневности, имманентно методо-
логическая завершенность в науке и в искусстве) могут играть
.лишь вторичную роль; утрата подлинных критериев приводит к
непреодолимым трудностям. Это вовсе не означает недооценки
с нашей стороны проблем формы или отказа от их изучения;
юднако проблемы формы могут быть правильно поставлены и
разрешены лишь тогда, когда во взаимодействии содержания и
формы приоритет принадлежит содержанию.
2. ПРИНЦИПЫ И НАЧАЛА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Подытоживая с точки зрения процесса развития пока еще очень
-общие результаты нашего анализа, мы видим, что в обыденной
жизни и в обыденном мышлении появляется все больше бога-
тых, сложных и далеко идущих опосредовании, сохраняющих
характерную для повседневности форму непосредственности. Мы
установили уже, что поступательное движение общества посте-
пенно вырабатывает систему объективации, подчеркнуто незави-
симых от обыденной жизни, но находящихся с ней в непрерыв-
ном и постоянно растущем взаимодействии, так что без таких
•объективации невозможно представить себе наш повседневный
быт. (В соответствии с целью исследования мы занимаемся толь-
«62
ко наукой и искусством и сознательно опускаем объективации^
имеющие характер общественных институтов, такие, как госу-=
дарство, правовая система, партии, общественные организации-
и т. д. Их рассмотрение чрезмерно усложнило бы анализ, не вно-
ся, однако, решающих изменений в его конечный результат.)
Приближаясь еще на шаг к нашей цели — к принципиальным
моментам отделения интересующих нас объективации от общей!
почвы обыденной действительности, к процессу их самостоятель-
ного становления, — мы сталкиваемся с непреодолимыми трудно-
стями из-за отсутствия фактического материала, и не только по-?
тому, что нам пока неизвестно первоначальное состояние челове-
чества, когда объективации еще не существовало; документальных
научных данных здесь вообще не может быть. Все* что дают в
этом отношении этнография, археология и другие дисциплины,
относится к несравненно более развитым состояниям, и именно
примитивность данной стадии развития исключает возможность
достаточной полноты материалов, необходимых для ее изучения.
Впрочем, мы не имеем непосредственных фактических данных кг
о гораздо более высокоразвитых стадиях; мы не можем конкрет*
но проследить возникновение ни языка, ни танца, ни музыки, ни:
религиозно-магической традиции, ни общественных нравов и обы-
чаев глубже, нежели до уровня самых примитивных из известных
нам народов, которые, как было сказано, в значительной степени
уже переросли начальные этапы развития человечества.
В таких обстоятельствах наука вынуждена довольствоваться-
реконструирующими гипотезами. Во всяком случае, для филосо-
фии, которая сосредоточивает свое внимание на самых общих
основах процесса развития, никакого другого метода не сущест-
вует. Подобно тому как, по словам Маркса, анатомия человека^
дает ключ к анатомии обезьяны, исходя из более высокой сту-
пени развития общества должна реконструироваться более низ-
кая, на базе которой первая реально возникла. Метод реконст-
рукции в свою очередь определяется тенденциями развития,.,
наблюдающимися в фактически известной нам истории. Об этих~
тенденциях мы уже упоминали ранее, указав при этом на отли-
чие обыденной жизни при капитализме от быта предыдущих:
формаций и т. д. Новое затруднение, которое здесь возникает,,
состоит в том, что буржуазная наука зачастую либо ограничи-
вается простым собиранием малоупорядоченных; фактов, либо*
«располагает» их на основании авантюрно-мистических, романти-
чески-антикапиталистических гипотез (например, «дологическое^
мышление» у Леви-Брюля), либо, ориентируясь на идеалистиче-
скую философию, не желает допустить, что высшие формы объ-
ективации, такие, как наука, искусство и религия, обладают не-
только исторической перспективой, но и историей становления»,
и, следовательно, человечество знало такие стадии своего суще-
ствования, когда они еще не отделились от общей почвы обыден*
ной жизни и не приобрели статус собственно форм объективации;
63v
Если считать, например, религию или искусство врожденно
^присущими человеку, неотделимыми от его сущности видами дея*
дельности, то тем самым вопрос об их происхождении не может
даже ставиться. Но по нашему мнению, такой вопрос неотделим
•от исследования сущности этих явлений; сущность искусства
нельзя отрывать от его социальной функции, она может иссле-
доваться только в тесной связи с его происхождением, с предпо-
сылками и условиями его становления.
Итак, наша цель — реконструировать состояние общества без
объективации. Это утверждение, очевидно, сразу же следует
уточнить: состояние общества с минимумом объективации, так
!как самые примитивные общественные проявления человека, в
первую очередь и самым существенным образом отличающие его
от животного — язык и труд, — уже обладают, как мы видим
.[с. 29], определенными чертами объективации. Следовательно,
подлинное происхождение объективации должно охватывать и
становление человека как человека, и постепенное возникнове-
ние труда и языка. Не говоря о том, что наши знания в этой
f области безнадежно минимальны, исследование ее не представ-
.ляется решающим для наших целей, так как мы не можем зани-
маться здесь разработкой вопроса (самого по себе в высшей сте-
пени важного для философии) о значимости объективации вооб-
ще для становления человека и человеческого бытия; мы
.ограничиваемся тем, что прослеживаем, как от общей почвы че-
ловеческих действий, отношений, высказываний и т. д. отдели-
лись, обретя относительную самостоятельность существования,
гвысшие формы объективации, прежде всего наука и искусство,
^как они приобрели то качественное своеобразие, наличие и про-
явление которого в наши дни представляется само собой разу-
меющимся жизненным фактом. Мы убедились, что это могло
произойти только путем взаимодействия с обыденной действи-
тельностью, поэтому исходным пунктом мы избрали не проис-
хождение объективации вообще, а только ступень развития об-
щества с минимумом объективации. (Как уже подчеркивалось,
;мы не занимаемся здесь объективациями институционального
^характера, однако очевидно, что на интересующей нас стадии
такие структуры, как государство, право и т. д., еще не образо-
вались, а их функции выполняли обычаи, привычки и т. п., то
»есть формы обыденной жизни.)
Такая уточненная постановка вопроса означает одновременно,
что проблемы становления человека остаются для нас вне поля
зрения. Общеизвестно, что первоначально человек, находящийся
•© процессе становления, был менее приспособлен природой к на-
падению и защите, чем большинство животных. Но, создав куль-
туру труда, орудия и инструменты, человек компенсировал эту
малую приспособленность. Гордон Чайлд говорит об этом: «Не-
когда древнейшие «люди» обладали далеко выступающими клы-
ками в очень массивной челюсти, представлявшими поистине
лб4
опасное оружие, но у современного человека они исчезли, и его,
укус не влечет за собой смертельных повреждений»45. Такие
факты значимы для нас тем, что в интересующее нас время био-
логический процесс становления человека закончен. Отныне су-
щественные линии развития в значительной степени носят об-
щественный характер. Разумеется, следы этого развития отража-
ются и на телесно-духовных свойствах человека, но при этом
речь идет в основном скорее о высшем развитии центральной
нервной системы, нежели об изменении телесных свойств в соб-
ственном смысле слова. Мы часто будем в дальнейшем возвра-
щаться к возникающим при этом вопросам, а сейчас укажем
лишь, что труд и язык развивали человеческие чувства таким
образом, что они без всяких физиологических изменений или
улучшений, без преодоления некоторого несовершенства сравни-
тельно с определенными породами животных становились более
полезными для целей человека, чем прежде. Энгельс констати-
рует: «Орел видит значительно дальше, чем человек, но челове-
ческий глаз замечает в вещах значительно больше, чем глаз
орла. Собака обладает значительно более тонким обонянием, чем
человек, по она не различает и сотой доли тех запахов, которые
для человека являются определенными признаками различных
вещей. А чувство осязания, которым обезьяна едва-едва обладает
в самой грубой, зачаточной форме, выработалось только вместе
с развитием самой человеческой руки, благодаря труду» 4б.
Здесь Энгельс указывает на один из важнейших вопросов тео-
рии отражения — на его немеханический характер. Мы не будем
касаться того, действительно ли, и если да, то в какой мере, отра-
жение в физиологическом аспекте является фотокопией, механи-
ческой копией внешнего мира [см. об этом т. 2, гл. 5, § 1]. Но из
того, что точность отражения составляет необходимое условие
существования любого живого существа, а неспособность к нему
влечет за собой его гибель, еще не следует, что в силу этого
отражение всегда может и должно оставаться на стадии простой
фотокопии и что различение, выход за пределы такой непосред-
ственной передачи действительности принадлежит исключитель-
но мышлению, что только осознавание, анализ и т. п. того, что
воспринимается как копия, устанавливает существенные связи,
целесообразность и т. д. В действительности процесс намного
сложнее. Когда Энгельс говорит, что человек видит лучше, чем
орел, то дело здесь в том, что человеческий глаз привык непо-
средственно-визуально воспринимать в экстенсивно и интенсивно
бесконечном мире явлений определенные признаки предметов,
их связи и т. д. Следовательно, уже при зрительном восприятии
осуществляется упорядочивание отраженного внешнего мира, вы-
бор: обостренное внимание к определенным признакам, более
или менее осознанное пренебрежение другими, вплоть до того,
что они и непосредственно вообще перестают восприниматься.
Вид, степень и т. п. такого выбора общественно-исторически обус-
5 Заказ № 683
65
ловлены. Формирование новых способностей к восприятию часто
сочетается с деградацией других. Чувства человека как бы задают
вопросы внешнему миру; вспомним такие акты, как слушание,,
смотрение и т. д. Но, стремясь вывести отсюда наличие механи-
ческого «разделения труда» между чувствами и сознанием, мы
вместе с тем не можем отрицать, что такая функциональная на-
грузка на человеческие чувства возможна только путем накопле-
ния и упорядочивания опыта, то есть также и с помощью мыш-
ления. Однако этот факт ничего не меняет в конечном результа-
те — описанной Энгельсом способности восприятия, обогащаю-
щейся и, по существу, уточняющейся. Конкретизацией этого-
вопроса мы будем неоднократно заниматься в ходе дальнейшего
изложения (мы считаем почти бесспорным, что предварительные
стадии этого процесса проходят и животные, но по существу
это к нашей проблеме не относится).
Конкретная роль труда в этом процессе состоит как раз в
разделении труда между чувствами человека. Глаз берет на себя
различные функции осязательного восприятия, освобождая руку
для присущего ей труда, благодаря чему она получает возмож-
ность развиваться в плане дифференциации способностей. Гелен
пишет: «Важнейший результат далеко продвинувшейся коопера-
ции осязательного и зрительного восприятия состоит в том, что
зрительное восприятие — причем только у человека — наследует
опыт осязательного восприятия. Решающие последствия этого
двояки: наша рука освобождается.от накопления эмпирического
опыта для собственно трудовых достижений и для использования
этого эмпирического опыта. А общий контроль за окружением и
за нашими действиями берет па себя в первую очередь зритель-
ное восприятие» 47. Глаз может взять на себя эту функцию толь-
ко потому, что он учится (в указанном Энгельсом смысле) вос-
принимать в визуально доступной объективной действительности
такие признаки, которые непосредственно и обычно лежат вне
области естественного «видения». Гелей справедливо констати-
рует, что при этом такие свойства, как твердость или мягкость,
вес и т. д., воспринимаются визуально и что обращение к осяза-
нию оказывается вовсе не обязательным для их оценки. То же
самое происходит и с другими чувствами человека в контексте
накопления трудового опыта, в ходе фиксации этого опыта, вве-
дения его в привычку в форме условного рефлекса48.
Как ни мало доступны конкретному исследованию отдельные
ступени процесса этого развития, мы можем констатировать на-
личие трех очевидных этапов в отношении первобытных людей
к их орудиям. Сначала для определенных целей подбираются
соответствующие камни, которые выбрасываются после употреб-
ления. Позднее такие годные к употреблению камни (клинооб-
разные, удобные для руки) сохраняются. Потребовался долгий
путь развития, чтобы эти каменные орудия начали изготавли-
ваться, вначале лишь как подражания некогда найденным удоб-
66
иым оригиналам, впоследствии медленно и постепенно это при-
вело к созданию дифференцированных орудий труда49.
Этот процесс, одновременно являющий взаимодействие людей
в труде и возникновение коллективного труда, свидетельствует
прежде всего о возрастании опосредования. Разумеется, включе-
ние опосредования между потребностью и ее удовлетворением
налицо уже на самых примитивных стадиях труда, но там оно
носит более или менее случайный характер. Отклонения от слу-
чайности возможны, вероятно, и тогда, потому что единственной
объективной причиной, пусть вначале и малосознаваемои, поиска
и использования годных к употреблению орудий может быть
только преодоление случайности, хотя бы и в высшей степени
примитивное, недостаточное, подчиненное превратностям поис-
ков и находок. Конечно, тем самым еще не снимается (как и на
'более высоких ступенях развития) объективная случайность при-
родных закономерностей. Напротив, человеческое сознание бла-
годаря труду и посредством ступенеобразных проникновений в
существо вещей постепенно приходит к обт>ективной закономер-
ности, необходимости. Естественная преграда непознанных зако-
номерностей, предстающая перед индивидом как непроходимая
•чаща, где неразличимы случайность и необходимость, постепенно
преодолевается. Однако только при усовершенствовании орудий,
их дифференциации в зависимости от цели труда впервые в ис-
тории человечества явственно выступает тенденция к преодоле-
нию случайности, впервые проявляется свобода как осознанная
необходимость50. Но и тогда — лишь на уровне обыденного мыш-
ления. Это означает, что тенденция к фактическому преодолению
случайности практически реализуется, но — вследствие непосред-
ственного соединения в обыденной жизни мышления и практи-
ки — эта закономерность не обязательно должна осознаваться как
таковая. Для этого необходима более высокая ступень обобще-
ния опыта, возвышение над уровнем мышления обыденной жиз-
ни. Но во всяком случае, здесь присутствует по меньшей мере
зародыш такого обобщения; можно было бы сказать, что обобще-
ние как таковое наличествует здесь в качестве неосознанной по-
требности и ему остается «всего-навсего» перейти в форму осо-
знанного бытия-для-нас. Но это «всего-навсего» может означать
процесс развития, растягивающийся на столетия и тысячелетия.
Позднее мы подробно рассмотрим сложные последствия мировоз-
зренческого характера, которые выявляются также и на более
высоких уровнях развития от случайности к необходимости.
Здесь в первую очередь необходимо выделить связь опосре-
дования с процессом познания объективной действительности,
ибо только таким путем возникает особая непосредственность
обыденной жизни, — непосредственность, основу которой и на са-
мых примитивных ступенях существования человечества состав-
ляет открытая самим человеком, воспроизводимая им система
опосредовании. Все это отражается в развитии языка, хотя од-
:5*
67
новременно следует заметить, что здесь налицо не пассивность
простого рефлектирования и что, напротив, развитие языка само
играет активную роль в этом процессе. Эта активность основана
на нераздельности языка и мышления; языковая фиксация опы-
та, обобщаемого в процессе труда, — это средство не только его
сохранения, но и развития, осуществляющегося именно на основе
однозначного закрепления. Самый важный шаг в этом направ-
лении — это шаг от представления к понятию, ибо несомненно,
что определенными более или менее отчетливыми представления-
ми об окружении обладают и высшие животные. Но только язы-
ковое выражение, отделяя выраженное, то есть фиксированное»
отображение предметов, процессов и т. д. внешнего мира от жи-
вотного, непосредственно возбуждаемого объективного импульса,
делает возможным его всеобщее применение. Уже в самых про-
стых, конкретных словах кроется абстракция, выражается тот
или иной признак предмета, благодаря чему синтезируется един-
ство целого комплекса явлений или даже конструируется един-
ство высшего порядка, чему всегда предшествует процесс анали-
за. Вследствие этого самое простое и конкретное слово совер-
шенно иным образом отстоит от непосредственной предметности,
нежели это возможно для самых высокоразвитых представлений
высших животных, так как только с помощью перехода представ-
лений на более высокий уровень понятий мышление (язык) мо-
жет подняться над непосредственной реакцией на внешний мир,
над простым, соотнесенным с представлением узнаванием соотно-
симых предметов и предметных комплексов. Свобода действия,
хотя и относительная, точнее, разумный выбор между различны-
ми возможностями означает постоянно расширяющееся овладе-
ние объективно наличествующими опосредоваыиями. Благодаря
созданию понятий в мышлении и языке реакция на внешний мир
все в большей степени теряет свою изначально связанную со
стимулом, чисто спонтанную непосредственность. Процессы внут-
ренней жизни субъекта, таким образом реагирующего на окру-
жение, могут быть познаны и осознаны самим субъектом во всем
их своеобразии, во всех их особенностях только через понятие,
и именно таким путем возникает в ходе труда субъектно-объект-
ное отношение.
Предпосылкой формирования самосознания служит определен-
ный уровень подъема сознания над объективной действительно-
стью; самосознание может развиваться только в процессе взаи-
модействия с сознанием. Но, пытаясь постичь все особенности
этого процесса, не следует забывать, что обыденная жизнь, навык
и привычка к труду, традиции и обычаи совместной жизни и дея-
тельности людей, фиксация этого опыта в языке — все это спо-
собствует преображению завоеванного мира опосредовании в но-
вый мир непосредственности. С одной стороны, эта тенденция
открывает пути к новому завоеванию действительности, так как
в ходе привыкания к завоеванному, его освоения, прежде чем
68
любое необходимое для этого усилие сделается привычным, обре^-
тет характер непосредственности, возникают новые столкновения
с еще не познанной объективной действительностью, с субъектив-
ными воззрениями, представлениями и понятиями людей; эти
столкновения обнаруживают тенденцию к подъему на более вы-
сокий уровень, они стимулируют открытие ранее неизвестных
связей и закономерностей. Возникающее при этом удовлетворе-
ние потребностей ведет к возникновению все новых потребностей,
причем не только в расширении, но и в углублении и обобщении.
Но с другой стороны — и здесь язык, как и в вышеупомянутом
комплексе, играет решающую роль, — всякая фиксация, ведущая
к привычке, может обрести консервативную, сковывающую посту-
пательное движение функцию; вспомним еще раз наблюдения
Павлова, утверждавшего, что вторая сигнальная система может
привести к опасному отчуждению человека от объективной дей-
ствительности, то есть не только к недопустимому отдалению от
действующего стимула, но и к погружению в мир языка, стано-
вящегося новой непосредственностью и относительно свободного
от предметных связей [с. 24 и ел.]. Эта диалектика лежит в ос-
нове любого столкновения старого и нового как в искусстве, так
и в науке и в обыденной жизни.
Итак, язык — это одновременно отражение и питательная
среда сложных, противоречивых, несопоставимых тенденций на
пути завоевания человеком объективной реальности. При всей
зигзагообразности этой линии движения доминирующей, несом-
ненно, является направленность вперед, но предстает она со всей
очевидностью, пожалуй, только во всемирно-историческом мас-
штабе, ибо преобладание в труде и языке второй сигнальной си-
стемы преобразует простое приспособление животного к данной
природной среде в непрерывное социально обусловленное изме-
нение этой среды, а с ней и структуры общества и его членов.
В самом этом движении, в обусловленном им воспроизводстве
общества, его структуры на более высоком уровне имплицитно
содержится принцип стремления к высшему развитию (в проти-
воположность стационарному по сути воспроизведению видов
животных). Разумеется, речь здесь может идти только о тенден-
ции. В ходе истории повторяются случаи застоя, деградации или
даже полного упадка, но это свидетельствует лишь о многообра-
зии форм и о неравномерности общественпо-исторического раз-
вития, а не об ослаблении тенденции к поступательному разви-
тию, к развитию в направлении качественно более высокого
состояния.
Не останавливаясь на подробностях языкового развития, заме->
тим лишь, что в нем наблюдается вышеописанное двойное дви-
жение: преодоление непосредственности путем обобщения и пре-
вращение достигнутого состояния в новую непосредственность,
обладающую более высокой потенцией, более всеобъемлющую и
дифференцированную. Как уже было сказано [с. 44 и ел.], при-
69
митивные языки, с одной стороны, не знают видовых обозначе-
ний, но с другой — обладают в то же время особыми способами
выражения любых различий предметов и процессов. Из много-
численных примеров, приводимых Леви-Бртолем, сошлемся лишь
на один: «В Северной Америке индейцы имеют множество вы-
ражений, точность которых можно было бы почти назвать науч-
ной, для обычных форм облаков, для характерных черт: было бы
бесполезно искать равнозначные им термины в европейских язы-
ках. Оджибвеи, например, имеют особое название для солнца,
сияющего среди туч... для маленьких голубых просветов, которые
видны иногда на небе среди мрачных туч, Индейцы-кламаты не
имеют родового термина для понятия лисицы, белки, бабочки
и т. д., но каждая порода лисиц, белок и т. д. имеет у них свое
особое имя. Имена существительные в языке кламатов почти
неисчислимы» 51~52. Так, двойственное, тройственное, четвер-
ное числа в развитых языках постепенно отмирают, а папуасы
острова Кивай, по Леви-Брюлю, говорят на языке, распола-
гающем рядом суффиксов для выражения действия двух на
многих или на трех, троих на двух в настоящее время или в прош-
лом и т. д.53
Для нас здесь ценно то, что подобная конкретизация отражаю-
щих языковых форм исчезает из языка, уступая место более об-
щим видовым обозначениям. Но не теряет ли тем самым язык
способность конкретно и безошибочно обозначать любой конкрет-
ный предмет? Мы полагаем, что подобные, часто высказываемые
романтические представления по существу ошибочны. Хотя лю-
бое слово по мере своего приближения к видовому понятию утра-
чивает чувственно-непосредственную конкретность, но нельзя
забывать, что в наших языковых отношениях с действительностью
все большую значимость обретает предложение, и сложные син-
таксические словесные построения оказываются все более способ-
ными предопределять значение слова в его конкретном употреб-
лении, разрабатываются все более утонченные языковые средства
отражения конкретных предметных отношений через отношения
слов в предложении. В таком развитии языка отражается процесс
выхода за пределы примитивной непосредственности, философ-
ский аспект которого анализируется выше, и одновременно ре-
зультат этого процесса, фиксируемый в новой, усложненной непо-
средственности. При этом возрастание обобщения в пределах
отдельного слова и усложненность сочетаний и отношений слов
в структуре предложения, несомненно, опираются на неосозна-
ваемую тенденцию — подняться над непосредственностью обыден-
ного мышления.
Эта тенденция проявляется и в том, что языковое развитие,
описываемое здесь в самом общем виде, протекает бессознатель-
но. В наше время это требует терминологического разъяснения.
Рамки данной работы не допускают полемики с путаными мис-
тификациями так называемой «глубинной психологии», которая
70
затемняет сущность бессознательного даже и там, где оно реаль-
но наличествует и функционирует. Ясно, что значительное число
мыслительных процессов, процессов восприятия и т. д. протекает
при неполном включении сознания, что часто в сознании всплы-
вают более или менее внезапно лишь результаты неосознаваемого
движения. Достаточно указать на феномены типа вдохновения,
интуиции и т. д., чтобы прояснить непосредственное положение
дел. Но многие современные психологи и философы стремятся
сделать из этой констатации необоснованно далеко идущие вы-
воды, опираясь, например, на явление интуиции, механически
противопоставляя интуицию и сознательное мышление, причем
в гносеологическом аспекте интуиции всегда оказывается пред-
почтение, но при этом не учитывается внутренняя связь обоих
явлений. Тот факт, что в содержательном плане интуиция явля-
ется завершением сознательно начатого мыслительного процесса,
может быть представлен следующим образом: человек не осознает
посредующих членов своего мышления, но впоследствии они
всегда могут быть осознаны в том, что касается мыслительного
содержания. Это и сходные психические явления отчетливо ука-
зывают на то, что весь ход психической жизни состоит из непре-
рывного взаимодействия сознательных и бессознательных, про-
цессов. Даже если мы говорим, что что-то откладывается в памя-
ти, речь идет не о механической консервации прежних мыслей.
Они, с одной стороны, подлежат беспрерывным преобразованиям,
сдвигаются, меняют окраску и т. п.; с другой стороны, человек
зачастую не может располагать ими автоматически в любую ми-
нуту по собственному желанию: случается, что мы забываем
хорошо известное, когда оно всего необходимее, а порой, мешая
нам думать о настоящем, невольно всплывают давно забытые
воспоминания. Все это показывает, что в мозгу человека и вслед-
ствие этого в его мышлении, восприятии и т. д. происходят про-
цессы, в которых элементы и тенденции сознательного и бессозна-
тельного постоянно переходят друг в друга; только их подвижное
единство обеспечивает полноту психической жизни. Закономер-
ности этих процессов еще далеко не исследованы, прежде всего
потому, что весьма фрагментарны открытия лежащих в их основе
фактов физиологии. Мы не рассматриваем здесь тех мифических
построений, которые фетишизируют отдельные составляющие пси-
хики — например, сексуальность, — представляя их как ее основ-
ные движущие силы и превращая в метафизические антитезы соз-
нательной жизни, ибо они имеют весьма отдаленное отношение к
сфере наших наблюдений. (Эстетические следствия, выводимые,
например, из психологии Фрейда или Юнга, настолько эксцен-
тричны, необоснованны и ложноиаправленны, что полемика с
ними была бы абсолютно бесплодна.) Мы затронули этот комп-
лекс проблем лишь постольку, поскольку он важен для психологии
в целом. Ниже мы должны будем обратиться к определенным
специфически психологическим основам эстетического отношения,
71
йо они никак не связаны с противопоставлением сознательного и
бессознательного.
Рассматривая это противопоставление с точки зрения нашей
проблематики, мы видим, что понятие бессознательного мало свя-
зано с ранее упомянутыми категориями: для нас изначально важ-
ны категории социальные, а не психологические в собственном
смысле. Сознательная деятельность интересует нас в первую оче-
редь как проблема содержательная: соответствует ли, и если да,
то насколько, содержание сознания (и вследствие этого его фор-
мы) объективной действительности, могут ли и в какой мере пред-
мет мышления и отношение к нему регулярно воспроизводиться
сознанием. Тем самым наш подлинный объект — соотношение не
столько сознательного и бессознательного, сколько истинного и
ложного сознания. (Собственно говоря, как указал еще Гегель в
своей «Феноменологии», этот объект относителен, причем относи-
телен в общественно-историческом плане.) Энгельс очень точно
определил это в письме к Францу Мерингу: «Идеология — это
процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с
сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие силы,
которые побуждают его к деятельности, остаются ему неизвест-
ными... Он создает себе, следовательно, представления о ложных
или кажущихся побудительных силах»54. То, что теперь очень
часто — и часто очень «глубинно» — определяют как бессозна-
тельное, с психологической точки зрения протекает как раз созна-
тельно, но только в русле ложного сознания, то есть субъективное
осознание непосредственного процесса соответствует объективно
ложному сознанию истинного положения дел и подлинной значи-
мости того, что непосредственно-практически происходит. Соот-
ветственно бессознательность мышления представляет для нас об-
щественно-исторический феномен. Существуют общественно-исто-
рические мотивы, определяющие наличие и степень истинного или
ложного сознания, то есть сознательной или бессознательной об-
щественной деятельности. Тем самым намечается и процессуаль-
ность данного феномена. В любом проявлении ложного сознания,
рассматриваемом в плане социально-историческом, в принципе
может содержаться тенденция к сознанию просто-напросто еще
неправильному; разумеется, известны случаи, когда ложное соз-
нание необходимым образом заходит в тупик. Развитие человече-
ства в ходе овладения действительностью постоянно преображает
ложность в истинность, хотя подчас и истинное обращается в
ложное, в чем выражается неравномерность, противоречивость
развития, отсутствие эволюционной прямолинейности. Однако по
большей части это происходит не в виде восстановления старой
ложности, а таким образом, что неравномерность прогресса выдви-
гает в ходе отражения действительности новые заблуждепия (ср.
соотношение раннего средневековья и античности).
Этот процесс, существенным признаком которого является еще
не устоявшаяся истинность сознания, когда относительно истин-
72
ное лишь подразумевается и содержится только в интенции, про-
текает параллельно с упоминавшейся фиксацией опыта, со своей
стороны беспрестанно обращающей сознательные акты в-спонтан-
но-бессознательные. Изначально осознаваемое меняется именно в
силу того, что становится составной частью повседневной обще-
ственной практики, тем самым больше не осознается (в этом —
второй истинный аспект бессознательного). Здесь мы говорим о
реальных зафиксированных фактах общественно-исторического
развития, а вовсе не об «особом мнении» марксистов. Однако для
современной буржуазной психологии характерна тенденция к сни-
жению значимости сознания в человеческой практике, а образую-
щийся при этом вакуум заполняется мистифицированным «бес-
сознательным». Но против этого возражают представители тех
течений в современной антропологии, которые опираются на под-
линные факты и их непредвзятый анализ, как, например, Гелен.
Он критикует тезис Дьюи «об эпизодическом характере сознания»
и точно описывает истинное положение вещей: «Я, скорее, пола-
гаю, что бытие человека не бессознательно, а лишь становится
бессознательным: привычки, с трудом преодолевающие сопротив-
ление, чтобы наконец выступить в принципиально новой функ-
ции, образуют базис освобожденного, высшего и заново ставшего
сознательным поведения» 55.
Следует еще отметить, что тот вид бессознательности, который
обычно обозначается термином «привычка», ни в коем случае не
является чем-то врожденным, но представляет собой продукт дли-
тельной и зачастую систематизированной общественной практики.
Упражнение (тренировка), например, — это не что иное, как на-
выки, привычные движения, способы поведения и т. д., столь раз-
работанные, что в случае необходимости (если объективная дей-
ствительность требует соответствующей реакции) они реализуют-
ся без осознанных установок или усилий. Существенные черты
такого рода поведения мы наблюдаем уже в играх высших жи-
вотных, при обучении полетам молодых птиц. Игры детей каче-
ственно отличаются от них, так как складываются из постоянно
развивающихся вариаций движений, видов поведения и т. д. Стоит
вспомнить хотя бы о многообразных типах реакций, входящих в
привычку и составляющих комплекс так называемых хороших
манер, цель которого — достижение «бессозиательно»-привычного
функционирования в общественной жизни.
Предпосылкой такого рода упражнений является то, что их
субъект находится «в надежном и не требущем усилий положе-
нии»56. У животных такая ситуация встречается только в; раннем
детстве. Раннее развитие ребенка отличается от развития детены-
ша животного большей дифференцированностью и подвижностью
привычек, их потенциальной приспособленностью к разнообраз-
ным и неожиданно меняющимся ситуациям. Благодаря этому в
центральной нервной системе формируется способность к новому
обучению. Позднее возникающие привычки стимулируются тру-:
73
довыми процессами, различными формами человеческого общежи-
тия, школой и т. д. Часть из них фиксируется как «простые при-
вычки», как типы реакции, то есть неосознаваемые более основа-
ния деятельности, становящиеся общим достоянием человечества.
(Для животных на свободе это является правилом; что же ка-
сается различия уровней, то на этом мы здесь останавливаться не
будем.) Другая часть охватывает становящиеся привычными но-
вые развивающиеся способности человека. Процесс труда не толь-
ко делает привычным уже достигнутый уровень, но и создает
условия для его повышения; ту же тенденцию обнаруживают спор-
тивные тренировки, совершенствование в различных видах искус-
ства (для последних мы не находим аналогий в животном мире;
только в особых обстоятельствах у высших домашних животных
проявляется нечто отдаленно похожее, но разделительные барьеры
при этом настолько резки, что различие оказывается разительнее
сходства). Не вдаваясь в подробности проблемы «бессознательно-
го», заметим лишь, что, как правило, способ поведения, сформи-
рованный привычкой, упражнением и т. д., бессознателен потому,
что это обеспечивает сознанию более широкое поле деятельности
в решающих случаях; так, привычность действий, сформировав-
шаяся в ходе спортивных тренировок, помогает спортсмену на
соревновании сконцентрировать внимание исключительно на опти-
мальной тактике достижения победы. Тем самым при переходе в
«бессознательное» сфера сознательного не только не сужается, но
значительно расширяется. (Разумеется, здесь также проявляется
и та всеобщая диалектическая противоречивость, в силу которой
привычка, застывая, становясь рутиной, тормозит, а не стимули-
рует сознательное развитие.) Возвращаясь в связи со вторым ти-
пом «бессознательного» к вопросу об истинном и ложном созна-
нии, следует сказать, что упомянутая выше диалектика истинного
и ложного относится и к этому второму процессу. Закрепление
сознательно достигнутого с помощью упражнения, привычки, тра-
диции и т. д. может, рассуждая абстрактно, столь же успешно
фиксировать ложные констатации и обоснования, сколь и истин-
ные. Но при этом нельзя упускать из виду относительность еди-
ничных процессов и значимость главной линии прогресса целого;
если то или иное человеческое сообщество обладает только лож-
ными представлениями о действительности, то оно неотвратимо и
быстро погибает. Всякое ложное сознание должно содержать в
известной степени и элементы истинности, на примитивной ста-
дии развития — скорее в отражении предметов, процессов и взаи-
мосвязей, нежели в попытках их объяснения, выведения на уро-
вень понятий, постижения их закономерностей.
Все это помогает уяснить, что момент бессознательности в
обыденной жизни в согласии с основной тенденцией выражен
сильнее, нежели, например, в науке. (Хотя с идеологической точ-
ки зрения ни одна зрелая научная работа невозможна без «при-
ведения к бессознательности» целого ряда вспомогательных тех-
74
нических приемов.) Спонтанно-непосредственная «бессознатель-
ность» обыденной жизни, доминирующая во втором из описанных
процессов, представляет собой как таковая социальный феномен.
Во многих случаях побудительной причиной могут служить пси-
хологически явно осознанные индивидуальные акты, которые,
однако, становясь общественным достоянием, превращаются в бес-
сознательные, и не только с точки зрения общей социальной прак-
тики, но и с точки зрения выполняющих их отдельных индивидов.
Эти утверждения полностью относятся и к языку, причем именно
благодаря его общественной природе. Бессознательность языко-
вого развития (в обоих указанных здесь значениях) наиболее яв-
ственна при сравнении обиходного языка, языка в собственном
смысле, со специфическими формами его употребления, например
с научной терминологией. Конечно, строго говоря, она не образует
собой языка в собственном смысле слова; она основывается на
общем синтаксисе и лексиконе, ими определяется, и всякая созна-
тельная инновация в ней соотносима со смежными областями соб*
ственно языка. Тип развития такого частного фрагмента способен
прояснить для нас непосредственность и спонтанность языкового
развития. Обогащение его, например, отдельными писателями не
может слуяшть контраргументом, так как по мере их общего ус-
воения индивидуальные инновации уже ничем не отличаются от
нормального и обыденного в языке. Ясно, что, как и в других об-
ластях, рассмотренных нами, сферы выраженных объективации
уже по типу становления и функционирования отграничиваются
от сфер обыденной жизни преодолением спонтанности. При этом;
и здесь значимы — с определенными модификациями — сходства
и различия истинного и ложного сознания.
Мы стремились показать, что этим отнюдь не аннулируется
общность их основания. Это четко прослеживается в главной
функции языка, в назывании внешних и внутренних объектов.
Здесь опять-таки потребности и их удовлетворение вырастают из
процесса труда. Энгельс справедливо замечает о возникновении
языка: «Коротко говоря, формировавшиеся люди пришли к тому,
что у них появилась потребность что-то сказать друг другу»57.
При этом содеря^ание того, что необходимо должно было быть
высказано, бесспорно, вырастает изначально из трудовых процес-
сов; простое представление как о предметах, так и о способах
действия только тогда перерастает в понятие и может утвердиться
в сознании, когда получает наименование. В силу того, что язык
именует также взгляды и представления, они тоже поднимаются
на более высокий уровень определенности и однозначности, не-
жели это было достижимо на предыдущем этапе у высших живот-
ных. Взгляды и представления в постоянной диалектической отне^
сешюсти к понятию, в подъеме к нему и в отталкивании от него
необходимо достигают качественно иного уровня, чем тот, на ко*
тором они первоначально находились, пребывая вне этого процес-
са. Поэтому невозможно переоценить значение именования для
75
духовной жизни людей: оно стремительно вырывает новое из
прежней темноты сознания. И даже когда именующее слово фик-
сируется привычкой и поэтому употребляется без шока, прису-
щего становлеиию сознания, когда постепенное овладение дейст-
вительностью уже достаточно продвинуто благодаря общественно-
му сознанию,действующему бессознательно (внашем понимании),
что-то от прежней изначальной шоковости наименования сохра-
няется, правда с измененным, сниженным эмоциональным акцен-
том. Мы еще обратимся в конкретной связи [см. т. 2, гл. 9, § 41
к тому, что поэтическое творчество непрестанно сталкивается с
потрясением истинного именования. Сейчас укажем лишь, что чем
выше уровень развития, тем реже встречается просто называние
неизвестных предметов или объективных связей; по большей части
отношения людей к предметам и т. п. их окружения, которые в
силу привычки уже стали само собой разумеющимися и не заме-
чаются осознанно, благодаря поэзии «вдруг» предстают в новом
освещении, в новой предметной соотнесенности с человеком. Име-
нование часто перерастает, превращается в определение. Эта
структура как таковая имплицитно содержится уже в примитив-
ных именованиях, но в ходе сознательного овладения действитель-
ностью приобретает качественно новый оттенок. Такое «вдруг»
поэтического языка часто оказывает шоковое воздействие, и за
этим, как и всегда, кроется борьба старого с новым, неожиданное
осознание доселе капиллярно развивающихся новых отношений
людей к их общественно-исторически преображенному окруже-
нию. Следовательно, за каждым случаем такого воздействия фор-
мы скрыт (в качестве его определяющей субстанции) момент
содержательного изменения. Поэтому подобные эффекты должны
естественным образом возникать и в обыденной жизни; они обра-
зуют содержательное основание поэтических высказываний.
Толстой в «Анне Карениной» прекрасно описывает такой случай.
Константин Левин в разговоре с собеседницей дает неожиданное
определение новой французской живописи. Анна смеется и гово-
рит: «Я смеюсь, как смеешься, когда увидишь очень похожий
портрет».
Здесь налицо очевидность как важности именования, так и
практического и потому чувственного ослабления его действия.
У греков эта связь представлена еще явственнее (вспомним диа-
лог Платона «Кратил»). В первобытный период такой акт не
только сопровождает и выражает первые шаги в овладении дей-
ствительностью, но и непосредственно их содержит, и эмоцио-
нальный акцент здесь качественно сильнее. Таким образом —
учитывая, что чем примитивнее общество, тем труднее в нем раз-
виваться объективациям, — новое познание действительности, воз-
пикающее посредством именования, не может органически вклю-
чаться в издавна установившуюся и апробированную систему
объективации. При общественно насущной необходимости не оста-
навливаться на именовании единичных комплексов, а приводить
76
их во взаимосвязь уже на начальных ступенях должны наличест-
вовать определенные системы объективации, выполняющие и эту
функцию. Негативно они характеризуются внутренней недоста-
точностью и крайне ущербной аргументированностью в том, что
касается отражения действительности, а позитивно — тем, что в
их пределах должна сниматься эмоциональная акцентированность
того шока, который вызывается именованием. Отсюда подчеркива-
ние роли называния на магической стадии развития человечества.
Гордон Чайлд описывает его следующим образом: «Как у полуци-
вилизоваыных народов современности, так и у культурных наро-
дов древности повсеместно принимается основная идея магии,
согласно которой имя предмета таинственным образом равноценно
самому предмету; в шумерской мифологии боги «создают» пред-
мет, произнося его имя. Поэтому знание имени предмета означает
для мага власть над этим предметом — другими словами, «знание
его природы»... Соответственно шумерские словари, возможно,
служили не только словарями, используемыми в утилитарных це-
лях, но считались непосредственным устройством для овладения
тем, что в них содержалось; чем полнее был такой каталог, тем
обширнее была та часть природы, которую можно было подчи-
нить путем знания и применения этого каталога» 58. Здесь Чайлд
отмечает дальнейшее существование подобных представлений в
рамках относительно цивилизованных, развитых формаций. Пер-
воначально, как показывают различные предания о сотворении
мира, магические обряды и т. п., наименование было неразрывно
связано с представлением об овладении предметом, о его выделе-
нии, уничтожении, превращении и т. д. Это в сильной степени
влияло и на личную жизнь человека. Фрэзер говорит: «Первобыт-
ный человек, не будучи в состоянии проводить четкое различие
между словами и вещами, как правило, воображает, что связь
между именем и лицом или вещью, которую оно обозначает, яв-
ляется не произвольной и идеальной ассоциацией, а реальными,
материально ощутимыми узами, соединяющими их столь тесно,
что через имя магическое воздействие на человека оказать столь
же легко, как через волосы, ногти или другую часть тела. Перво-
бытный человек считает свое имя существенной частью самого
себя и проявляет о нем надлежащую заботу» 59. Отсюда ясна при-
рода двойного именования, описанного Фрэзером, Леви-Брюлем и
другими авторами, при котором скрывается собственное имя,
а также причина изменения имени в старости и т. п.60
Как бы ни были чужды нам такие представления, они способ-
ствуют прояснению структуры мышления обыденной жизни и
становления обыденного сознания, так как возникали и действова-
ли в среде, почти не знавшей объективации в нашем смысле; тем
самым в ней еще не присутствуют сложные типы взаимодействия
обыденного мышления с такими объэктивациями, что позволяло с
большим трудом разрабатывать «чистые формы» этого мышления.
Наверное, здесь следовало бы обратить особое внимание на это
77
«почти», так как уже само слово, наименование может быть оха-
рактеризовано как зародыш объективации. Во всяком случае,,
даже самый развитый язык представляет объективацию не в том
смысле, что наука, искусство или религия: он сам в отличие от
них никогда не становится специфической сферой человеческой
деятельности. Именно вследствие неразрывности языка и мышле-
ния язык охватывает все виды деятельности и поведения чело-
века и служит их фундаментом, распространяет свою универсаль-
ность на жизнь в целом, не образуя в ней особой «сферы». Но
можно добавить, что «система» магии, ее воззрения, ритуалы
и т. д. гораздо глубже вросли в обыденную жизнь, чем «система»
позднейших религий, которые скорее «охватывают» обыденную
жизнь, нежели отграничиваются от нее с целью вступить с ней во
взаимодействие на правах самостоятельных объективации. Столь
мощное эмоциональное акцентирование именования как момент
зарождающегося общественного разделения труда Является одно-
временно и одним из средств укрепления власти магов, развития
магического учения и типа поведения. Однако его приспособлен-
ность к такому употреблению основывается- и на том вполне эле-
ментарном и непреоборимом представлении первобытного челове-
ка, согласно которому имя и предмет (лицо) образуют неразрыв-
ное единство; и из этого факта могут проистекать для индивида
самые благоприятные и таинственные последствия.
И снова нам помогает верно осмыслить исторический феномен
магии метод Маркса, согласно которому анатомия обезьяны может
быть понята, исходя из анатомии человека; рассмотрим путь его
применения. Истинное познание должно преодолеть здесь две лож-
ные крайности. С одной стороны, и поныне модно идеализировать
истоки и проповедовать возврат к ним как единственный выход
из кажущейся неразрешимой современной проблематики. Осуще-
ствляется ли это в форме грубой демагогии, как у Гитлера и Ро-
зенберга, или в форме «хитроумных» философских построений,
как у Клагеса или Хайдеггера, не имеет значения, так как в том
и в другом случае одинаково игнорируется подлинное историче-
ское развитие. (Далее [с. 218 и ел.] мы увидим, что подобные кон-
струкции неубедительны даже у таких одаренных и прогрессив-
ных авторов, как, например, Кодуэлл, сближавший лирику и
магию.) С другой стороны, существует достаточное число позити-
вистов, интерпретирующих такие факты прошедших эпох в духе
современных мыслей и чувств. Так, в общем достаточно эрудиро-
ванный и проницательный этнограф Боас характеризует магию
следующим образом: «А магия? Думаю, если молодой человек
увидит, что на его фотографию плюют и затем рвут ее, он будет
глубоко возмущен. Я уверен, что во времена моего студенчества
это завершилось бы дуэлью...»61 Боас «всего лишь» просмотрел,
что ни один современный человек не верит, будто его личная
судьба зависит от подобных действий; хотя он и может почувст-
вовать себя уязвленным, но не ощутит угрозы своему физическо-
78
му существованию и ущерба, как ощутил бы человек магического
периода.
Более ранние исследователи первобытного периода выказыва-
ли в этом отношении гораздо больше историчности и реализма.
Фрэзер и Тэйлор считали персонификацию природных сил по ана-
логии относительно поздним явлением. Как уже отмечалось, даже
фиксируемое субъектно-объектное отношение является продуктом
труда, трудового опыта, потому что предполагает как восприятие
окружающего мира в виде более или менее освоенного поля че-
ловеческой деятельности, так и личность, которая в известной
степени осознает и свои способности, и препятствия на пути своих
действий, и степень своей приспособляемости, и т. д. Поэтому для
развития персонификаций на основе выводов по аналогии трудо-
вой опыт, ставший привычкой, должен достичь довольно высокого
уровня. Разумеется, самая общая часть подобного опыта одина-
ково присутствует на всех относительно низких ступенях разви-
тия: это столкновение с препятствием, которое не может быть
преодолено наличествующими силами и знаниями. При непосред-
ственности эмоций и форм мышления люди, находящиеся на на-
чальных ступенях развития, начинают подозревать, что за этим
кроется неизвестная сила, и пытаются подчинить ее человеческой
деятельности или по меньшей мере ориентировать ее в нужном
для них направлении. (Различные формы суеверия, гнездящиеся
и в средостении современной обыденной жизни, бесспорно, возни-
кают из-за такой же неспособности к преодолению внешнего мира,
но качественное различие состоит в том, что здесь речь идет о
периферийных эпизодах, а не о жизни в целом во всей ее широте
и глубине.) Что касается стадий становления полностью фанта-
стических спонтанно-чувственных аналогий или выводов по ана-
логии, то решающий мотив их — непосредственность. Фрэзер
справедливо подчеркивает, что «первобытный колдун знает магию
только с ее практической стороны». Отсюда — следующая харак-
теристика: «Маг не упрашивает высшую силу, не ищет благорас-
положения переменчивого и своевольного сверхъестественного су-
щества, не унижается перед грозным божеством» 62. Все сводится
единственно к точному и безошибочному применению «правил»,
которые на практике приняты в отношении неизвестных сил; ма-
лейшее упущение может повлечь за собой не только неудачу, но
и самую серьезную опасность. Итак, маг обходится с этими «си-
лами» как с «одушевленными предметами», в известной степени
технологично (ритуально-магически), а не религиозно. В этом не-
которые этнологи (например, Рид) видели разновидность материа-
лизма в противоположность идеалистическому анимизму. Это,
однако, является некоторым преувеличением, ибо, как мы видели
[с. 36], речь идет не о периоде отчетливого разделения и противо-
поставления материализма и идеализма. Скорее, можно сказать,
что своеобразие магии в сравнении с религией — это малая сте-
пень обобщения, более мощное господство непосредственности;
79
познаваемые границы внешнего и внутреннего мира более рас-
плывчаты и взаимопроницаемы, чем в религиозно-анимистический
период. Отсутствие этико-религиозного отношения к внешнему
миру в эпоху господства магии тем самым еще не является заро-
дышем позднейшей материалистической модели мира; это проста
примитивное выражение известного нам стихийного материализ-
ма обыденной жизни; напротив, в анимизме Рид справедлива
усматривает первые мировоззренческие начала идеализма. В ма-
гии позднейшие тенденции к этой противопоставленности еще не
дифференцированы. В непосредственной необъективированной ма-
гической практике, складывающейся по типу обыденности, скон-
центрированы все элементы модели мира. Тем самым когда Фрэзер
называет магию «ложной системой законов природы», лженаукой
и бесплодным искусством, то эти расцениваемые как упрек выра-
жения содержат известный элемент модернизации, так как отрыв
от повседневной действительности, тенденция к созданию собст-
венной объективности, научной или художественной, отсутствуют
на магической ступени развития совершенно закономерно. Эти
термины лишь потому относительно уместны и способны прояс-
нить истинное положение вещей, что на данном этапе проявляют-
ся слабые и бессознательные начатки того, что в дальнейшем раз-
вивается в направлении науки или искусства. В той степени, в ка-
кой эти начатки уже тогда содержали определенную объектива-
цию, она — именно вследствие ярко выраженного практического;
характера магии — была более созвучна минимуму тенденций обы-
денной действительности, нежели объективациям обособившихся
науки или искусства. А поскольку эти начатки, несомненно, со-
держат элементы более поздних, высших объективации, они, осо-
бенно изначально, полностью подчинены основным тенденциям
практикующей магии, и их своеобразие может проявляться лишь,
фрагментарно, эпизодически, всегда бессознательно, хотя и не
случайно.
Мы говорим: не случайно, так как стремление к правильному
отражению, познанию объективной действительности как таковой
содержится (разумеется, бессознательно) уже в примитивнейших
трудовых актах, даже в собирательстве, в силу того, что полное
незнание реальности, полное игнорирование объективных связей
немедленно повлекли бы за собой гибель. Труд означает качест-
венный скачок в направлении формирования познавательных тен-
денций. Но для первых шагов в этом направлении, для освобож-
дения от господства магии, основанной именно на незнании объек-
тивной действительности, необходимо достичь относительно
высокого уровня обобщения, опыта.
Несмотря на это непосредственно неразложимое единство, не-
обходимо последовательно проводить объективную дивергенцию
обобщения в трудовом опыте и обобщения в магической практике.
Первый позднее приводит к науке, вторая же по большей части
сковывает это развитие, как справедливо указывает Гордон Чайлд.
8Q-
Однако это противопоставление не абсолютно, как бы верно оно
ни намечало разграничение внутри процесса развития. Постоянно
осуществляется и процесс взаимовлияния, так что Парето, как мы
видели ранее [с. 29], констатирует это с известным правом.
(К сходным тенденциям в искусстве мы обратимся ниже.) Во
всем этом выявляется самое общее сходство со структурой обыден-
ного мышления, но тем не менее не следует упускать из виду и
основополагающее различие, состоящее в том, что обыденная
жизнь в цивилизованном обществе всегда располагает, сознатель-
но или бессознательно, результатами развитых науки и искусства.
Хотя их подчиненность ее собственным, часто сиюминутно-прак-
тическим интересам и может вызывать серьезные деформации их
специфической сущности, степень овладения объективной дейст-
вительностью тем не менее достигает на этом пути несравненно
более высокого, качественно иного уровня. Упомянутое структур-
ное сходство должно тем самым пониматься в самом общем смыс-
ле, и не следует применять его по аналогии к отдельным частно-
стям.
Следствием этой примитивности магического периода со свой-
ственным ему хаотически смешанным, непосредственно-практиче-
ским отношением к объективной действительности была идеали-,
стическая ориентация дальнейшего развития. Джордж Томсон
дает более точную характеристику состояния магизма, нежели
Фрэзер и Тэйлор: «Первобытная магия основывается на представ-
лении о том, что, создавая иллюзию овладения действительностью,
ею можно овладевать и на самом деле. Это иллюзорная техника,
восполняющая недостаток подлинной. Соответственно низкому
уровню производства осознание субъектом внешнего мира также
несовершенно, вследствие чего выполнение предваряющего ритуа-
ла предстает как причина успеха в реальном предприятии; но
одновременно магия в качестве введения к действию олицетворяет
ту драгоценную истину, что внешний мир действительно может
быть изменен субъективной деятельностью человека»63. Ясно, что
при столь ограниченном, мягко говоря, неполном знании действи-
тельности, которое, однако, в своих объективно ценных частях,
основывается на трудовом опыте, субъективная сторона трудового
процесса, временный приоритет цели как причина и объективный
результат как следствие обобщаются и систематизируются рань-
ше, нежели фрагментарно познанные элементы самой объектив-
ной действительности. А так как на этой ступени, как уже было
сказано [с. 40], аналогия является главным интеллектуальным
средством обобщения и систематизации, шаг от магии в идеали-
стическом направлении, в направлении персонификации неизвест-
ных сил по модели трудового процесса, шаг к анимизму и рели-
гии происходит самым естественным образом. И решающим здесь
оказывается отнюдь не предположение о существовании «духов».
Оно, как указывает Фрэзер, присутствует еще на стадии магии,
что вполне понятно, так как речь идет об элементарном обобщен
6 Заказ № 683
81}
нии субъективной стороны трудового процесса. Однако аналоги-
зирование в этих рамках осуществляется на том же уровне, что и
все прочие наблюдения; и только когда персонификация обогаща-
ется всеми чертами самопознания, возникает новое отношение к
духам; разумеется, здесь существует множество переходных со-
стояний, детальный анализ которых не входит в нашу задачу.
Фрэзер правильно отмечает решающее различие: «Магия часто
имеет дело с духами, то есть с личными агентами, что роднит ее
с религией. Но магия обращается с ними точно так же, как она
обращается с неодушевленными силами, то есть, вместо того, что-
бы, подобно религии, умилостивлять и умиротворять их, она их
принуждает и заставляет» 64. При этом отсутствие этико-религиоз-
иого отношения к внешнему миру еще не означает высшей, «бо-
лее материалистической» ступени по сравнению с идеалистиче-
скими представлениями, этизирующимися в процессс развития, но
является просто сущностной характеристикой первобытного этапа.
Идеализм здесь не должен рассматриваться как прогресс, так же
как рабство не следует считать высшей стадией развития по отно-
шению к каннибализму.
Подлинной заслугой Фрэзера является то, что при анализе
теории и практики магии он подчеркивает всю важность подража-
ния как элементарного факта отношения человека к объективной
действительности. Однако в соответствии с кругом магических
представлений он настойчиво связывает его с так называемым
«законом сходства», согласно которому подобное всегда порождает
подобное. Подробное рассмотрение им другого магического акта,
когда «вещи, которые раз пришли в соприкосновение друг с дру-
гом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекра-
щения прямого контакта» 65, показывает, что и здесь подражание
играет решающую роль, ибо примитивная, непосредственно-прак-
тическая реакция на относительно непосредственное отражение
действительности выражается именно в подражании. Развитие
должно пройти относительно долгий путь, значительно удаляясь
от непосредственности, от аналогии необходимо перейти к рас-
смотрению причинности, пусть еще относительно неразвитому,
чтобы люди пришли к пониманию того, что их воздействие на
природу достигается методами, внешне не имеющими более непо-
средственного сходства с отражаемым феноменом (разве что с его
сущностью и внутренними закономерностями). Вспомним, что са-
мые примитивные орудия были простыми подражаниями камням,
сначала случайно найденным, позднее специально собираемым.
При раскопках древнейших культур вовсе не легко отличить ори-
гинал от подражания. Лишь значительно позднее появляются
орудия, форма которых диктуется пониманием соотнесенности
цели и средства и которые поэтому помогают достичь самого суще-
ственного — полезного эффекта труда. Чем более дифференциро-
ван труд, тем более самостоятельна, технологически обусловлена
форма инструмента, тем полнее исчезает в этой области подража-
82
ние непосредственно находимым предметам. С субъективной сто-
роны подражание предстает как нечто существенно иное: как
подражание апробированным в трудовой практике движениям
и т. д. Такое подражание (со многими вариациями, при возра-
стающей рационализации) остается постоянным принципом тру-
да, основой непрерывности трудового опыта. Итак, чем теснее
соотносится подражание с человеком, тем плодотворнее и дейст-
веннее оно и на более высоких стадиях развития.
Подражание как непосредственное внедрение отражения в
практику является элементарным фактом жизненного развития,
ибо, по общепринятому мнению, его можно наблюдать и у высших
животных. Например, Уоллес отмечал, что птицы, никогда не
слышавшие пения, характерного для того вида, к которому они
принадлежат, усваивают особенности пения особей тех видов,
с которыми они живут. Многие буржуазные исследователи ощу-
щают не без тревоги, что здесь речь идет об основополагающем
факторе отношения живых существ к их окружению; они спра-
ведливо опасаются, что это может привести к признанию отра-
жения как основы науки и искусства. Поэтому Гроос, приводя-
щий вышеупомянутое наблюдение Уоллеса, отрицает, что игры
животных как-либо связаны с отражением; согласно его мнению,
они, напротив, представляют собой, скорее, «типы реакции, бази-
рующиеся на прирожденных свойствах организма» 66. Признание
прирожденности догматически исключает проблему генезиса. Та-
ким образом, простые факты мистифицируются, а на пути реше-
ния проблемы развития сложного из простого воздвигается
непреодолимое препятствие. Гелен высказывает в этой связи спра-
ведливое полемическое замечание: «Признание «игрового импуль-
са» — это всего лишь ничего не говорящая словесная деклара-
ция» 67.
Разумеется, первобытный человек стоит на качественно более
высокой ступени, чем самое развитое животное, уже потому толь-
ко, что содержание отражения и подражания опосредуется с по-
мощью языка и труда, даже если последний находится на уровне
простого собирательства. Уже у первобытных людей подражание
не полностью спонтанно, а зачастую сознательно направлено к
цели и тем самым определенным образом выходит за пределы не-
посредственности. Человеческая форма подражания предполага-
ет относительно развитое субъектно-объектиое отношение, ибо
явно нацелено на определенный объект как на часть, на момент
окружения; следовательно, в нем наличествует и известная сте-
пень осознания того, что этот объект противопоставлен субъекту,
существует независимо от него, но при определенных обстоятель-
ствах может быть модифицирован путем приложения активности
субъекта. Правда, эта независимость присутствует больше в чув-
ственном опыте, наряду, например, со страхом и т. п. Здесь мы
находим праформу того, что называем стихийным материализмом
обыденной жизни. Чем более неопределенной, растворенной в
6*
83
ощущениях предстает здесь мысль об объективности внешнего
мира, тем точнее, «предписаннее» должно быть подражательное
магическое воспроизведение этой объективности. Оно, естествен-
но, схватывает только внешние черты проявления предмета и
«закономерностей» его изменений (весна после зимы). Но вслед-
ствие расплывчатости посылки и скудости знания эти черты
внешнего проявления фиксируются как существенные, и в их точ-
ном закреплении видится магическое средство вызвать желаемый
эффект путем подражания (например, возвращение весны, хоро-
ший урожай и т. п.). Чем в большей степени это подражание тре-
бует совместного приложения сил (общие танцы и т. д.), тем
больше внимания уделяется ритуальной точности. И это положе-
ние побудило Фрэзера рассматривать «теорию магии» как «псев-
донауку», а ее практику, то есть подражание, — как «псевдо-
искусство» 68. При этом, с одной стороны, упускается из виду
непосредственное единство теории и практики, а с другой сторо-
ны, вся ситуация модернизируется из-за приложения более позд-
них систем измерения. Те способы отношения к действительности,
которые позднее в качестве науки и искусства получили в свое
распоряжение собственные методы, на этом этапе пребывают,
вместе с зачатками будущей религии, в неразложимом смешении,
причем неразложимом как в теории, так и на практике. Их раз-
деление и противопоставление тем более ошибочны, что, напри-
мер, элементы практики (танец, пение и т. д.), будучи исходным
моментом для образования специфических тенденций искусства,
одновременно, как мы увидим, сковывают и даже пытаются пода-
вить его самостоятельность, становление его истинного своеобра-
зия. Разумеется, это ничего не меняет в том положении, что в
конкретном отражении действительности, в попытках зафиксиро-
вать отражение с помощью подражания объективно наличеству-
ет зерно эстетического отражения действительности — еще раз
повторим: нераздельно смешанное с другими видами отношения.
Эта констатация исключительно важна как исходный пункт для
понимания позднейшей дифференциации, ибо любые попытки
проецировать науку и искусство, хотя бы и в искаженных фор-
мах, на исторически начальную, предшествующую дифференциа-
ции стадию решительно препятствуют созданию сколько-нибудь
правдоподобной картины целого. Это не только непозволительным
образом модернизирует начальную стадию (как уже было пока-
зано), но одновременно искажает своеобразие научного и художе-
ственного отражения. Хотя второе в некоторых (но не во всех)
своих моментах и исходит из подражательной фиксации отражен-
ного, но для достижения подлинной самостоятельности оно долж-
но быть качественно продолжено и преобразовано. А первое, как
уже разъяснялось [с. 82—83] и более подробно излагается далее
[см. т. 2, гл. 5, § 1], в поисках собственного метода обработки
отраженного должно подняться над непосредственно подража-
тельным «методом», искать новые пути анализа и синтеза соглас-
84
но объективным критериям. В обоих случаях мы видим растущее
овладение объективной действительностью и параллельно этому
повышение степени овладения собственной субъективностью, те-
лесными и духовными силами человека, что требует отказа от не-
посредственного подражания и обеспечивает этот отказ.
Только исключив в известной степени путем мыслительного
эксперимента все завоевания и возможности растянутого на ты-
сячелетия процесса развития, можно ретроспективно воссоздать
структуру периода магизма в формах и содержании присущего
ему способа отражения действительности. При этом наибольшие
затруднения создают такого рода модернизации, которые проеци-
руют на начальные периоды некоторые «глубинные» стремления
современного человека в качестве «мировоззрения» и исходя из
этого предлагают — по контрасту — интерпретировать современ-
ность. Следует, напротив, констатировать, что именно «мировоз-
зренческая» сторона первобытной картины мира была, естествен-
ным образом, наиболее неразвитой и что даже сами по себе вер-
ные отдельные восприятия приобретают в таких интерпретациях
фантасмагорический, хаотический характер. Поэтому во многом
справедливы резкие слова Энгельса, назвавшего «мировоззре-
ние» этого состояния человечества и его частичные пережитки на
более высоких ступенях «первобытной бессмыслицей»; Энгельс
полностью прав, когда отвергает как педантическую идею поиска
экономических причин для каждой частной детали, констатируя
при этом, что, разумеется, и тогда «экономическая потребность
была... главной пружиной прогресса в познании природы» 69. Для
нас важно только одно — установить, что первобытные знания,
какой бы «бессмыслицей» ни казались их обобщенные основания
и итоги, сами по себе наверняка охватывают более обширную об-
ласть, нежели это можно представить себе чисто теоретически.
Особенно велика возможность расширять знания, изначально,
очевидно, весьма скудные, не пересматривая при этом их основа-
ний. Например, Макс Шмидт указывает на факт ошеломляющего
объема знаний о растениях у очень отсталых, хотя и давно вы-
шедших из первобытного состояния народов; эти знания отража-
ются в развернутой ботанической номенклатуре 70. Сходные черты
можно обнаружить в самых различных областях непосредственно
насущной практики, причем в форме, поступательно развиваю-
щейся хотя и неравномерно, но постоянно, по мере того как со-
бирательство, пройдя множество переходных ступеней, переходит
в обработку почвы и растениеводство, а охотники и рыбаки изго-
тавливают все лучшие и все усложняющиеся орудия (метатель-
ные приспособления, стрелы и лук, гарпун и т. д.). Но все это
происходит без существенных, зримых изменений «мировоззре-
ния», без обобщения опыта и знаний о внешнем мире и о чело-
веке. Здесь снова оправдывается наш эпиграф: люди «не сознают
этого, но они это делают». При всем нашем признании общей
справедливости положения о бессознательных действиях человека
85
(в указанном нами смысле), которое и в наших примерах прояв-
ляется как главная, структурно доминирующая тенденция, нель-
зя упускать из виду качественное различие, даже противополож-
ность: бессознательность действия выявляет лишь формально-
структурное сходство. Реальное познание внешнего мира и разви-
тие способностей человека, прежде всего благодаря становлению
и расширению обширной системы объективации науки и искус-
ства, создают качественную дифференциацию такого рода, что
сравнение возможно только на уровне высших обобщений.
Любая магическая система характеризуется соединением по-
стоянного роста истинных частных знаний о внешнем мире и
способностей человека к овладению ими с «первобытной бес-
смыслицей», объективно ни на чем не основанными попытками
объяснения. Это несоответствие еще увеличивается, когда магия,
знахарство, шаманство и т. д. благодаря общественному разделе-
нию труда становятся особыми «профессиями». С одной стороны,
эта социальная дифференциация, по крайней мере первоначаль-
но, происходит путем отбора самых знающих и опытных, и эле-
ментарный интерес такого слоя избранных в той мере, в которой
это может позволить кастовость, зачастую приводящая к засты-
ванию, сковыванию дальнейшего роста знаний, состоит в том,
чтобы охранять и закреплять свое привилегированное существо-
вание с помощью успехов. С другой стороны, подобная привиле-
гированность, выражающаяся прежде всего в освобождении от
физического труда, приводит к постоянному усилению тех идеа-
листических тенденций при объяснении природных явлений, ко-
торые исходят из субъективной целевой установки в труде и тол-
куют эти явления по «модели» труда, понимаемого именно таким
образом. Они возрастают тем более, что необходимо поддержива-
ются отменой непосредственно материального контроля трудового
опыта. Подобные тенденции очень долго сохраняют свое влияние
в ходе общественного развития и продолжают действовать даже
при длительном внедрении и распространении самых различных
объективации. Несогласованность между увеличением объема
частных знаний и их ирреальным мировоззренческим обобще-
нием тем самым со временем неизбежно увеличивается, даже и
после того, как стадия «первобытной бессмыслицы» давно пройде-
на, после того, как мышление от чисто непосредственной анало-
гии переходит к более или менее развитому причинному объяс-
нению, а за идеалистической, гипостазированно антропоморфной
формой все явственнее просматриваются подлинные знания о
внешнем мире и о человеке. Вико по праву характеризует это
мышление как оперирующее «фантастическими универсалиями»
или видовыми понятиями71.
Итак, человеческие знания должны достичь относительной
широты и глубины, чтобы возникла материалистическая критика
мифов, «фантастических универсалий». Энгельс метко подводит
итог этому развитию, с присущими ему трудностями преодолев
86
ния идеалистического переворачивания с ног на голову открытых
фактов и связей; хотя его высказывание относится по преимуще-
ству к достаточно высоко развитым этапам, но одновременно оно
освещает важные для нас линии развития: «Перед всеми этими
образованиями, которые выступали прежде всего как продукты
головы и казались чем-то господствующим над человеческими об-
ществами, более скромные произведения работающей руки отсту-
пили на задний план, тем более, что планирующая работу го-
лова уже на очень ранней ступени развития общества (напри-
мер, уже в простой семье) имела возможность заставить не свои,
а чужие руки выполнять намеченную ею работу. Всю заслугу
быстрого развития цивилизации стали приписывать голове, раз-
витию и деятельности мозга. Люди привыкли объяснять свои
действия из своего мышления, вместо того чтобы объяснять их
из своих потребностей (которые прн этом, конечно, отражаются
в голове, осознаются), и этим путем с течением времени возник-
ло то идеалистическое мировоззрение, которое овладело умами
в особенности со времени гибели античного мира. Оно и теперь
владеет умами в такой мере, что даже наиболее материалисти-
чески настроенные естествоиспытатели из школы Дарвина не мо-
гут еще составить себе ясного представления о происхождении
человека, так как, в силу указанного идеологического влияния,
они не видят той роли, которую играл при этом труд» 72. Здесь
отчетливо прослеживается роль субъективного момента труда в
становлении и укреплении идеалистического мировоззрения.
Начальные этапы этого развития и сейчас еще яростно диску-
тируются в науке. Но для наших целей не играет решающей
роли, когда и как из хаоса магизма, из круга представлений о
«силах» (употребляя самое определяющее слово для обозначения
этих весьма расплывчатых мыслей и ощущений) развились в ми-
фологиях и религиях «анимистические» картины мира. Нам до-
статочно увидеть, что те формы духовного разделения человече-
ского труда, которые цивилизованному человеку представляются
настолько само собой разумеющимися, что он едва ли способен
ощущать историзм их становления, и которые самыми значи-
тельными философами причисляются к вневременным, онтологи-
чески присущим человеку типам отношений и объективациям
(достаточно сослаться на Канта), приобрели эту свою сущность
лишь постепенно, в ходе длительного исторического развития.
С этой точки зрения примечательно, насколько мало были по-
знаны на ранних ступенях развития этические и собственно ре-
лигиозные типы отношения человека к миру (и к потустороннему
миру), а также к самому себе. Мы уже указывали, что это кон-
статировал Фрэзер. Линтон и Вингерт пишут о концепции мира
у полинезийцев: «Вся концепция механистична и безлична и
не включает идеи греха или предначертанной кары»; богами «ма-
нипулировали», а жрецы были «опытными ремесленниками»,
овладевшими этой техникой73. Тэйлор также считает, что церемо-
87
нии и ритуалы представляют собой «средства общения с духов-
ными существами и влияния на них» и поэтому «они имеют столь
же непосредственное практическое значение, как всякий хими-
ческий или механический процесс...»74 Что же касается этики,
то «первобытный анимизм лишен почти полностью того этиче-
ского элемента», который позднее, в религии, играет столь зна-
чительную роль. Этика возникает «на своей собственной почве,
на почве традиции и общественного мнения, и относительно неза-
висима от анимистических основ верований и ритуалов, которые
существуют наряду с ней». Он называет это состояние «не без-
нравственным, но не нравственным» 75.
В этом случае Тэйлор не просто констатирует прослеживае-
мые нами линии развития, но указывает и на другую, чрезвы-
чайно важную проблему, а именно на то, что формы отражения
действительности и реакции на нее человека, которые мы обычно
обозначаем термином «этика», также являются продуктом долго-
го исторического развития (а не прирожденными или онтологиче-
скими свойствами человека); они развивались независимо от ма-
гически-анимистически-религиозных представлений и лишь отно-
сительно поздно срослись с религией в том — крайне противоре-
чивом — союзе, рассмотрение которого не входит в число наших
задач в этой работе. Здесь следует лишь заметить (вопреки Тэй-
лору, подобно большинству буржуазных исследователей, игнори-
рующему первобытный коммунизм и его отмирание), что по-
требность в этике, хотя бы и примитивной, появляется только с
развитием классов. Лишь на этой почве возникают общественные
обязанности, отныне не совпадающие непосредственно с непо-
средственными потребностями и интересами отдельных лиц и мо-
гущие им даже противоречить. Долг, как в правовом, так и в
этическом смысле, возникает тем самым только с исчезновением
первобытного коммунизма, с возникновением классов. Энгельс
дает яркую картину такого раннего состояния, прямо связан-
ную с нашей проблемой: «Внутри родового строя не существует
еще никакого различия между правами и обязанностями; для
индейца не существует вопроса, является ли участие в общест-
венных делах, кровная месть или уплата выкупа за нее правом
или обязанностью; такой вопрос показался бы ему столь же
нелепым, как и вопрос, являются ли еда, сон, охота — правом или
обязанностью?»76. Конкретные формы, в которых может проте-
кать это развитие, здесь несущественны, но необходимо конста-
тировать, что «фантастические универсалии» Вико, которые еще
долго маскируют для людей мировые связи, перестают быть про-
стыми отражениями природы и становятся — и даже во все воз*
растающей степени — отражениями общества. Взаимодействие и
общая жизнь людей перестают быть «естественными», само собой
разумеющимися, и для их регулирования, даже в отдельных воз-
можных конфликтных ситуациях, уже недостаточно обыденной
традиции, привычки, спонтанно складывающегося общественного
8$
мнения. Они становятся проблемой, для решения которой, для
противоречивого сохранения и воспроизведения самого по себе
противоречивого общества люди должны выработать новые объ-
ективации, новые типы отношения, в том числе и этику.
Противоречивость этого развития проявляется во всем. Ин-
тересный момент отмечает Фрэзер, который считает растущее
человеческое познание основой для перехода от магического
способа представления к религиозному, причем не непосредствен-
но, а в противопоставлении тому, что с ростом познания человек
учится отчетливее видеть бесконечность природы и собственные
малость и бессилие перед ней. Параллельно с этим растет его
вера в могущество тех сил, которые, по его представлениям, уп-
равляют природой и, как мы видели, постепенно обретают все
более антропоморфный, персонифрщированиый облик. При этом
«человек оставляет надежду на управление ходом природных
событий с помощью одних лишь собственных ресурсов, то есть
посредством магии, и все больше видит единственное вместили-
ще сверхъестественных сил — которым он когда-то тоже претен-
довал быть — в богах. С развитием познания ведущее место в
религиозном ритуале занимает молитва и жертвоприношение, а
магия, которая когда-то ценилась не ниже их, постепенно оттес-
няется на задний план и опускается до уровня черной магии» 77,
Здесь Фрэзер уместно подчеркивает противоположность магии и
религии. Опираясь в этом вопросе, как и другие авторы, на бога-
тый фактический материал, он признает, что религии по большей
части сохраняют и включают в себя магию как пережиток (так
сказать, в снятом виде). Когда, например, в отношения между
человеком и богом — с целью обеспечить благосклонность боже-
ства, побудить его к выполнению просьб — включаются в каче-
стве посредующих моментов точно соблюдаемые церемонии, точ-
но предписанные слова, жесты и т. п., то яспо, что в этом про-
являются магические тенденции как органическая составная
часть религии. Чем более развита религия, чем глубже она про-
никает в проблемы этики, чем более глубоки определяемые ри-
туалом отношения, тем явственнее выказывается укоренение
религии в магических представлениях. Конечно, эти две взаимно
противоречивые тенденции не всегда могут сосуществовать мир-
но; часто —и в ходе истории во все возрастающей степени —
возникает крайне ожесточенная борьба между сторонниками
магических и «чисто» религиозных представлений. Попытки пол-
ного освобождения религии от магических пережитков зачастую
означают глубокий кризис самой религии. Мы не рассматриваем
здесь исторически крайне разнообразные формы этих кризисов,
хотя некоторые из них, например иконоборчество, затрагивают и
магические основания отношений религии и искусства. Для нас
важно только, что, несмотря на противоречия, приводящие к кри-
зисам, между магией, анимизмом и религией наличествует исто-
рический континуум, в котором в качестве доминанты развития
89
господствует постоянное углубление и распространение субъек-
тивизма в мировоззрении, растущая антропоморфизация дейст-
вующих сил природы и общества, тенденция к приложению этих
воззрений и вытекающих из них заповедей ко всем областям
жизни.
Наряду с этим, разумеется, должен постоянно совершенство-
ваться и первозданный материализм труда как таковой, не осо-
знаваемый в качестве мировоззрения. Ибо именно этот период—
один из величайших этапов в расширении власти человека над
природой. (Достаточно вспомнить о роли применения бронзы и
железа.) Чем более развиты оба направления, тем неизбежнее
представляется их столкновение, конфликт. Но только представ-
ляется: в исторической действительности конфликт большей
частью затухает, редко бывает серьезным и последовательным.
Входить в подробности — опять-таки не наша задачу, но при этом
одна черта очень важна для нашего исследования, хотя целиком
ее значимость может выявиться лишь позднее. Речь идет о непо-
средственном, сильно приближенном к обыденному мышлению
характере мыслительно-чувственной обработки отражения дейст-
вительности в религии. В случае с магией мы уже затрагивали
это структурное сходство с повседневностью [с. 83 и ел.]; углу-
бим и расширим наши наблюдения указанием на то, что перво-
бытные предварительные стадии религиозности, магия и ани-
мизм, преодолеваются ею не в форме уничтожения, но в смысле
гегелевского снятия, конкретно — в виде сохранения.
При этом, конечно, имеется в виду не просто структурная
идентификация повседневности и религии. Прежде всего, рели-
гия уже достаточно рано создает собственные объективации ин-
ституционального характера, которые простираются от фиксиро-
ванной функции знахаря до универсалистских церквей. К тому
же в ряде религий со временем образуется точно определенная
объективная система догматов, рационализируемая и системати-
зируемая теологами. Так, здесь возникают объективации, выка-
зывающие черты, формально родственные отчасти общественным
организациям, отчасти науке. Однако следует хотя бы самым
общим образом наметить основные черты специфического свое-
образия религиозных объективации, показать их структурную-
близость к повседневности. Здесь снова решающим моментом
оказывается непосредственная связь теории с практикой. Это-
существенный признак любой религиозной «истины». Научные
истины обладают, разумеется, высшей степенью практической
внедряемости; подавляющая их часть даже и возникла из практи-
ческих потребностей. Но внедрение в практику научной истины
всегда протекает как очень сложный процесс опосредовании. Чем
выше степень развития научных средств, чем интенсивнее тем
самым их влияние на практику обыденной жизни, тем более раз-
ветвленной, сложной предстает эта система опосредовании. Яв-
ное доказательство этого положения состоит в том, что развитие
90
современных естественных наук вызвало к жизни собственные
технические научные дисциплины для теоретической конкрети-
зации и практического применения чисто научных результатов.
Естественно, на окончательном этапе практического внедрения
(например, у самих рабочих) снова может возникнуть непосред-
ственное отношение к этим — объективно глубоко опосредован-
ным — результатам науки. Это совершенно определенно происхо-
дит с потребителями: рядовой обыватель, принимающий лекар-
ство, летящий на самолете и т. д., по большей части понятия не
имеет о подлинном месте того, что он использует, в цепи взаимо-
связей. Он потребляет это попросту, опираясь на «веру» в вы-
сказывания специалистов, на эмпирический опыт непосредствен-
ной проверки данного конкретного средства или приспособления.
Конечно, у активного потребителя (пилот и т. д.) уровень знаний
о взаимосвязях несравненно выше. Но но сути дела, даже и он
ни в коей мере не должен опираться на принципиально науч-
ный фундамент и в действительности опирается на него лишь в
редчайших случаях. Для заурядной практики вполне хватает
эмпирически организованного опыта, опирающегося на «веру» в
авторитеты. Из этого явствует, что расширяющееся проникнове-
ние науки во все новые жизненные сферы отнюдь не отменяет
обыденного мышления, не заменяет его научным, а, напротив,
репродуцирует его и в таких областях, где прежде обыденное
мышление оставляло место для гораздо менее непосредственного
отношения к предметам. Так, бесспорно, в наше время гораздо
меньший процент людей основательно знаком с принципами дей-
ствия используемых транспортных средств, нежели в предшест-
вующие периоды. Это, разумеется, не исключает невиданного
доселе массового распространения научных знаний, напротив:
именно живая диалектика этих противоречащих друг другу тен-
денций образует основу постоянного воспроизводства обыденного
мышления.
Термин «вера» употреблен нами не случайно. Дело в том, что
по большей части — это справедливо для подавляющего большин-
ства действий в обыденной жизни — при необходимости и воз-
можности сделать из некоторой теоретической констатации непо-
средственно-практические выводы место научного доказательства
необходимым образом заступает вера. Томас Манн, например, с
большим юмором рассказывает, что в чикагской клинике, где
его оперировали, считалось бестактным, когда больной осведом-
лялся о том, какое лекарство ему назначено, даже если это была
широко известная питьевая сода. Таким образом и воспитыва-
ется «вера», не говоря уже об известных течениях психиатрии,
намеренно вызывающих квазирелигиозные отношения. А то, что
на воспитание такой «веры» направлена вся современная рекла-
ма, не нуждается в специальных доказательствах. Побудитель-
ным стимулом подобной «веры» часто выступает наука, что де-
лает вышеупомянутую связь еще очевиднее.
91
Возможно, слово «вера» недостаточно точно для описываемого
отношения, хотя оно и подразумевает противопоставленность
знанию и познанию, а прежде всего свидетельствует об отсутст-
вии стремления, конкретной возможности и т. д. верификации,
что приближает это отношение к тем актам мышления, которые
в логике обычно обозначаются термином «суждение», противопо-
ставленным знанию. Очерчивая границы понятий суждения и
веры, Кант придает большое значение именно критерию возможн-
ости или невозможности развития знания, верификации: «...если
из объективных, хотя и недостаточных для сознания, оснований
нечто считается истинным, то тем самым это происходит по суж-
дению: однако это суждение в конце концов может стать знанием
путем постепенного расширения оснований того же рода». Вера,,
напротив, возникает, по Канту, там, где такого рода последую-
щий шаг, по существу, невозможен: «Всякая вера — это субъек-
тивно достаточное, но объективно недостаточное для сознания
признание истинности; следовательно, она противопоставлена
знанию»78. Такое лобовое столкновение понятий веры и сужде-
ния абсолютно понятно с точки зрения аксиоматики философской
системы Канта; связь и систематическое взаимоперерастаиие по-
знания, этики и религии могут конструироваться в этой системе
только таким образом. Но в обыденном мышлении важную роль
играет не только объективная возможность шага от суждения
к знанию, но и стремление к этому шагу. Неважно, какие обще-
ственные основания здесь действенны (некоторые уже были на-
званы), но их актуализованность субъективно, и причем именно
социально-психологически, трансформирует интеллектуальное со-
держание суждения, объективно выступающего как вероятная
предварительная стадия знания, в разновидность веры. Сейчас,,
например, с помощью вероятностного исчисления можно уста-
новить, что в лотерее любая комбинация из пяти чисел имеет
равные шансы на выигрыш; но отдельный игрок, основываясь
на снах и т. п., будет «верить», что выпадут обязательно его чис-
ла. Объективная возможность претворения суждения в знание
не оказывает на такую «веру» абсолютно никакого воздействия.
Правда, это крайний случай, но сходную структуру наверняка
возможно проследить на множестве фактов обыденной жизни, ш
эта структура, несмотря на упомянутое теоретико-познаватель-
ное осмысление по существу субъективных актов, все же наибо-
лее точным образом определяется термином «вера».
При этом, несомненно, явно выступает описанное выше срод-
ство между магией и повседневностью, особенно если учесть, что
маги в известной степени «технологически» оперировали транс-
цендентными силами, что и составляет структурную модель кон-
статированного для обыденной жизни смешения неизвестных
(субъективно воспринимаемых как трансцендентные) сущностей
и вошедшего в привычку бессознательного поведения в конкрет-
ных случаях. Чисто структурный характер сродства между ма-
92
гией и повседневностью не может быть очерчен достаточно чет-
ко, так как любое содержательное приближение в этой области
будет мистификацией, непозволительным аналогизированием.
И когда современный человек следует суеверным «ритуалам»
(ступать с правой ноги и т. п.), их эмоциональное содержание,
представления и т. д. при этом не имеют ничего общего с соот-
ветствующими категориями магического периода. Мир магиче-
ских восприятий и эмоций поддается воспроизведению и при на-
личии гораздо более точного знания всех обстоятельств, чем то,
которым мы располагаем. Только самые общие формы суеверий
передаются по традиции; их осуществление, их переживаемое
содержание всегда поставляется современностью. Но подлинная
проблема веры возникает только после преодоления магии ани-
мизмом, а позднее — религией. Становление этой проблемы свя-
зано со становлением определенной эмоциональной акцентуации
субъективного поведения. Но чувственная эмфаза религиозной
веры и того, что мы обозначили термином «вера» в обыденной
жизни, вряд ли сопоставимы. Если я «верю», что мой самолет не
упадет, а достигнет цели или что Христос воскрес, то этим
осуществляются два далеко отстоящих друг от друга мыслитель-
ио-воспринимательных акта. К тому же в религиозной вере эмфа-
за до некоторой степени распространяется и на мыслительный
элемент, что в повседневной практике встречается лишь как ис-
ключение: содержание веры и ее практические последствия ка-
саются человека в целом; тип восприятия этого содержания,
как и реакция на него, определяет всю его судьбу. Тем самым
здесь, в противоположность основывающимся на «вере» частным
действиям обыденной жизни, речь идет о своего рода универ-
сальной — как в субъективном, так и в объективном смысле —
интенции. Эта универсальность вкупе с содержащимся в ней
кругом обязанностей и придает религиозной вере тот эмфатиче-
ский акцент, который столь резко отличает ее акты от сходных
актов мышления обыденной жизни.
Наличие эмфазы и лежащая в ее основе связь с самым на-
сущным в судьбе человека, казалось бы, разделяют пропастью
обыденную жизнь и религию. Однако, как мы увидим, структур-
ное сродство этих жизненных сфер тем самым не уничтожается.
Так, можно констатировать близость магической и повседневной
практики хотя бы уже потому, что здесь отчетливо проявляется
самый важный, по-видимому, признак обыденной жизни — непо-
средственность связи теории с практикой. Обратившись к лежа-
щим в основе магии представлениям о существовании сил, кажу-
щихся трансцендентными, мы видим, что в этом случае транс-
цендентность означает просто-напросто нечто неизвестное, а ее
«глубина» — результат обычной модернизации, когда на началь-
ные этапы исторически необоснованно проецируются возникшие
много позже мысли и чувства, на которых, очевидно, и строится
определяемое Кантом понятие веры в собственном смысле слова.
93
в противоположность суждению; с их помощью фактически не-
известное трансформируется в принципиально непознаваемое.
Даже когда (значительно позже) возникает анимистическая ан-
тропоморфизация и отношение человека к жизненным силам при-
обретает этический оттенок, идея — а также обосновывающее и
сопровождающее ее чувство — трансцендентности в современном
понимании формируется далеко не сразу: вспомним образы бо-
гов в гомеровской поэзии. Эмфатический характер религиозного
поведения может возникнуть и развиться только тогда, когда оно
охватывает всего человека, и притом так, что это приводит к
возникновению по меньшей мере этического компонента, фона.
Ведь уже в период господства магии (а нередко и позднее в обы-
денной жизни) бывает, что действия, решения и т. п. определяют
радость и горе и даже само существование человека. В таких
случаях, естественно, значительно возрастает эмоциональная
акцентированность, но успех или неудача все же зависят от при-
менения внешне-практических правил, а у эмоций отсутствует та
направленность внутрь, та основанная на внутреннем аспекте
собственной личности рефлексия, которая составляет существен-
ный момент религиозной эмфазы. (Чтобы не слишком усложнить
изложение, мы абстрагируемся, с одной стороны, от тех событий
обыденной жизни, в которых проявляется этический компонент,
а с другой — от тех аспектов религиозного поведения, где еще
доминируют пережитки магии.) Таким образом, религиозная эм-
фаза направлена на нечто принципиально трансцендентное, по-
тустороннее относительно реальной земной жизни; и даже если
ее содержанием не является проблема смерти, спасения и судь-
бы своего «Я» после смерти, даже если исходный пункт и цель
какого-либо религиозного акта непосредственно посюстороыни,
между человеком и предметом его религиозной интенции вкли-
нивается принципиальная трансцендентность, нечто не просто
неизвестное, но принципиально непознаваемое обычными средст-
вами, нечто такое, что может, однако, благодаря правильному
религиозному поведению стать интимнейшим достоянием чело-
века. Возникшее таким путем напряжение, крайне разнообраз-
ные типы которого здесь, по понятным причинам, не могут быть
даже схематически намечены, лежит в основе эмфатического
характера религиозной веры, ибо сколь бы необходимым ни счи-
талось в ряде религий соблюдение ритуалов, церемоний и т. п.
(в чем нам видится сохранение определенных, нередко модифи-
цированных, а нередко жестко спиритуализованных структурных
форм магии), но в этих же религиях всегда сохраняется субъ-
ективная отнесенность к личности, к человеку в целом; исповедь,
например, хотя и проводится в рамках ритуала, но необходимым
условием ее трансцендентной эффективности признается субъ-
ективная искренность, чего в магии явно быть не могло.
Невзирая на явное отдаление от магии и обыденной жизни,
основная структура религиозных верований сохраняется в виде
94
непосредственного соединения теории и практики. Правда, при
этом следует конкретизировать понятие теории как содержания
и объекта веры. Выше [с. 91 и ел.] мы останавливались на ана-
лизе роли «веры» в обыденной жизни и мышлении и пришли к
выводу, что при этом имеется в виду некоторая модификация
суждения, причем ее развитию в направлении, верифицируемого
познания препятствуют самые различные социальные причины
и обусловленные ими субъективные типы поведения (как резуль-
тат непосредственного соединения теории и практики). Хотя
возможность такого развития в ряде случаев объективно наличе-
ствует, но по упомянутым причинам она зачастую реализуется
таким образом, что эволюции суждения в знание все же не про-
исходит: например, если кто-то теряет «веру» в своего врача и
переносит ее на другого врача. Конечно, в повседневной жизни
встречается и множество противоположных случаев, особенно в
трудовой сфере. Однако обе тенденции различаются тем, что во
втором случае что-то из общей массы неизвестного преодолева-
ется и делается известным, а в первом — мир неизвестного в своих
существенных чертах воспринимается как неизменный. Непосред-
ственное соединение теории и практики в повседневной жизни
является важнейшей причиной определенной консервативности
теоретического аспекта. Однако следует подчеркнуть, что именно
благодаря этому снизу, со стороны процесса труда, действуют
тенденции, направленные на познание, знание и науку, и что они
(даже там, где различные социальные силы превращают сужде-
ние в «веру») вследствие насущной необходимости верификаций-
представлений лишь очень редко допускают полное исчезнове-
ние изначальных интенций суждения.
Религиозное поведение также базируется на непосредствен-
ном соединении теории и практики. Это явственно всюду, где
господствуют пережитки магии. Но и там, где уже возникают
подлинно религиозные переживания, такая структура сохраняет-
ся: ведь речь идет о спасении или гибели человека, а также
того, в чем видится средоточие его самого сокровенного суще-
ства. Эта наиболее обобщенная формулировка охватывает как
небо и ад, так и нирвану и сансару. При подобной постановке
проблемы возникают столь же важные модификации концепции
трансцендентности, как и при преломлении применительно к этой
сфере понятия теории.
Рассмотрим понятие трансцендентности. Мы убедились, что
науке, пока она остается подлинной наукой и не превращается
в идеалистически-философскую или религиозно-богословскую
рефлексию о результатах и границах науки, о ее месте в жизни
человека, о ее значении для человеческого существования в це-
лом, свойственно рассматривать неизвестное просто как еще не-
известное; отчетливее всего это выявляется у Канта. Как фило-
соф-идеалист он рассматривает мир вещей в себе в качестве
абсолютно трансцендентного; но для него как для теоретика-сци-
95
ентиста конкретное овладение еще неизвестным безгранично.
(Для нас здесь неважно, что Кант метафизически признает эту
область миром явлений, так как его методология устремлена к
философскому обоснованию неоспоримой объективности дости-
гаемого познания.) Однако сам этот вопрос далеко не столь фор-
мален, как это представлено в «Критике чистого разума». Под-
линная вера — не дистиллированная чистой этикой вера Канта —
не допускает подобного раздвоения мира; там, где оно происхо-
дит (что встречается во многих религиях), оно не останавлива-
ется на бесстрастном соположении явления и вещи в себе, кото-
рые предстают как объект познания, — это разделение эмфатиче-
ски поднимается до противопоставления твари и божества,
■сансары и нирваны и т. д. Явление и сущность непосредственно
-отнесены к ищущей спасения личности, и только благодаря этой
соотнесенности они обретают свою религиозную% предметность.
Примат субъективных потребностей при становлении специфиче-
ской предметности объединяет религию с магией, однако с тем
значимым различием, что во втором случае высвобождающиеся
^субъективные аффекты, такие, как страх, надежда и т. д., опре-
деляются потребностями обыденного человека (голодом, физиче-
ской опасностью и т. п.), а в первом — основная тенденция фор-
мируется при этически окрашенной сублимации, которая в общем
виде определяется как спасение души. Только обусловленный
этим тип опредмечивания явлений и сущностей составляет базу
для специфического, а также порождает трансцендентность как
теорию, которая и в этом случае находится в непосредственном
отношении с практикой.
С того момента, как антропоморфное обобщение порождает
демиурга, происходит и деабсолютизация трансцендентности. Мир
может быть так или иначе, в той или иной степени познаваем
или соответственно непознаваем, но творец мыслится в общем
плане трансцендентным; между творцом и творением постепенно
образуется иерархия, в которой первому приписывается абсо-
лютное качественное превосходство над вторым. Это можно объ-
яснить как патетическое обобщение субъектом трудового процес-
са. В греческой философии, особенно у Платона и Плотина, это
отношение расценивается точно так же: творец необходимым
образом стоит над сотворенным. Требуется тысячелетний процесс
широкого развития орудий, приборов, даже машин, чтобы идеа-
листическая философия пришла, подобно гегелевской диалекти-
ке79, к реалистическому преобразованию, перевертыванию этого
отношения, ложного в любом аспекте. Это выравнивание про-
порций естественным образом ведет к разрыву с религиозной
концепцией мироздания, ибо любой окончательный разрыв с кон-
цепцией тварности реального человека означает отказ от рели-
гиозного мировоззрения. Философия Гегеля неоднозначна и в
этом вопросе, так как ясно, что его диалектическое рассмотрение
отношения субъекта труда к объективному процессу труда в
96
принципе лишает как теоретических, так и эмоциональных обос-
нований ту антропоморфизацию субъективного отношения, на
которой покоятся все концепции демиурга. Религиозное отделе-
ние явления от сущности как противоположности тварного и бо-
жественного невозможно без принятия идеи демиурга, даже и в
том случае, когда религиозная концепция выходит из русла идеи
всемогущего творящего бога (как это имеет место в отдельных
гностических сектах или в буддизме), так же как невозможно
совмещение этого мировоззрения с концепцией мира, не имею-
щего начала и конца и выступающего в форме природы и обще-
ства, движимых только имманентными им законами.
Возникшее таким образом религиозное понятие трансцендент-
ности — двуликий Янус. С одной стороны, трансцендентность
принципиально и абсолютно не познаваема «земным разумом»,
прежде всего наукой в ее имманентном саморазвитии. Но с дру-
гой стороны, в большинстве религий есть «царский путь» (или
несколько таких «путей»), способный обратить трансцендент-
ность, не затрагивая ее характера, в предмет интимного владения
индивида. В этом сосуществовании обеих экстрем, разнообразно
проявляющихся в ходе истории, и следует искать объективную
основу религиозного напряжения, пусковой механизм той эмфа-
зы, о важности которой для религиозного поведения уже говори-
лось. Это — субъективное напряжение, которое, оставаясь субъек-
тивным, предлагает соответствующие объекты для субъективных
аффектов (страха, надежды и т. д.), причем объекты, характе-
ризующиеся неизменной трансцендентностью и эмоциональной
интимностью, эмоциональной наполненностью; однако их специ-
фическая интенсивность осуществима только при нерасчленяе-
мости взаимоперехода этих двух аспектов. Тем самым в этих
аффектах (и в соответствующих им объектах) объединяются су-
щественнейшие противоречия человеческой жизни; прежде всего
происходит объединение (при сохранении противоречивости) ощу-
щения ничтожности человека, человеческого существа перед
бесконечностью физического и внематериального космоса с ощу-
щением незыблемого своеобразия сущности человека. Подобное
антагонистическое единство бессилия и всесильности, подавлен-
ности и энтузиазма в разнообразнейших вариантах конкретизи-
руется перед лицом таких жизненных проблем, как смерть и
любовь, одиночество и братское единение, греховность и внутрен-
няя чистота души и т. д. Здесь прослеживается непосредственная
связанность веры с ее практическими последствиями (теория и
практика обыденной жизни в их эмфатическом возвышении):
содержание веры, чувства, мысли, поступки и т. д., которые от-
сюда вытекают, вызывают, согласно религиозной доктрине, неиз-
меримые последствия для самого главного — для спасения души.
Этим одновременно очерчивается предметность и сфера транс-
цендентности: трансцендентное из фактически неизвестного пре-
вращается в принципиально непознаваемое; трансцендентность
7 Заказ № 683
97
приравнивается к абсолюту. К конституирующей сущности рели?-
гиозной сферы относятся претензии на достижимость более илш
менее полного преодоления трансцендентности внутри: ее самой-
и свойственными ей способами, многообразия которых, мы сейчас
не будем касаться, и восстановление между целостным челове-
ком и религиозной трансцендентностью непосредственной внут-
ренней связи,, даже единства. Только благодаря этому сохраня-
ется четкое своеобразие веры; она освобождается от иллюзорного*
сродства с отбрасываемым суждением, характеризующим объе-
денную жизнь, и становится центральным, определяющим типом^
поведения, радикально порывая с любым поползновением к объ-
ективной верифицируемое™, лежащей в конечном итоге в основе-
любого суждения; в соответствии с антропоморфным, творящим1
субъекты из объектов характером религиозной сферы исполнение-
решительно относится к области субъективности и к полю псев-
дообъектов, конституируемому как субъективно-антропоморфное^
Таким образом, в то время как суждение, даже в его обыденном^
виде, застывшем в «вере», все же может оставаться разновидно-
стью праформы сознания, вера в своем изначально религиозном5
смысле претендует на овладение познанием и знанием, на при-
знание себя высшей формой победы над - сущностной реально^
стью.
Поэтому формула Ансельма «Credo ut intelligam» («Верую*,
чтобы понимать») является классической для этих отношений:
Разумеется, здесь невозможно учесть все многообразие форм*
проявления отношений веры и знания. Однако очевидно, что*
классическая их форма исторически может встречаться скорее-
как исключение, нежели как правило, ибо прогресс науки зача-
стую крайне затрудняет интерпретацию привычной действи-
тельности в духе веры, в духе ее конкретного содержания и им-
плицитных аксиом, препятствует перенесению содержания и гра-
ниц религиозно определяемой трансцендентности как таковой на>
область временно непознанного. Правда, религия, оформившись-
в церковь, всегда образует собственную науку, теологию, чтобы
формально систематизировать основанную на вере картину ми-
ра научными средствами и защитить ее от универсалистских:
притязаний науки и научной философии. Но и в этом случае мы*
не ставим себе задачу хотя бы беглого освещения всей полноты
возникающей в этой связи проблематики. Следует лишь указать,,
что в противоположность самой науке, исходные пункты и ре-
зультаты которой всегда должны быть верифицируемы, теология
необходимым образом берет за основу (причем принципиально'
некритично) те объекты и связи, которые антропоморфирует ве-
ра; придавая им вид интеллектуального обобщения, она фикси-
рует их в качестве догм, не будучи способной и не желая сиять
их антропоморфную сущность. Как бы ни ориентировался внеш-
не-формальный, так сказать, технологически-интеллектуальный
способ рассмотрения, принятый в теологии, на логику, на науч.-
98
ную методику, но тот факт, что догмы с решающей очевидно-
стью базируются на вере, апеллируют к ней и без нее рушатся
жак интеллектуальные построения, показывает, что теология, соб-
ственно, не наука, а всего лишь составная часть религиозной
жизни, полностью от нее зависящая и никоим образом не пре-
тендующая на самостоятельную значимость. Следовательно, тео-
логия не затрагивает происхождения религии из магии, сохране-
ния магических пережитков и прежде всего структур религиоз-
ной сферы, родственных повседневности (а не науке и искус-
ству).
Эту неизменно возникающую проблематику верно описал
Николай Гартман. То, что он не ограничивается теологией, а за-
трагивает целый ряд философских систем вплоть до прагматиз-
ма,, не дмеет для нас решающего значения, так как и мы посто-
янно указываем на скрыто теологический характер ряда фило-
софских теорий. В своих предпосылках Гартман решительна
подчеркивает различие в сознании животного и человека и рас-
сматривает апперцепцию, непосредственно и неотрывно концен-
трирующуюся на «субъекте», как «бездуховное сознание», «глу-
бина» которого сковывается «дном»; эта его точка зрения выгод-
но контрастирует со множеством современных обожествлений
«первобытного». К тому же он справедливо указывает, что
освобождение от «бездуховного сознания» с наименьшим успехом
»осуществляется именно в самых возвышенных духовных сферах.
«В мистическом мышлении, — пишет Гартман, — господствует
представление о человеке как о цели творения. В религиозном и
философском мировоззрении антропоцентристская концепция
мира, зачастую связанная с недооценкой реального мира, прояв-
ляется вновь и вновь» 80. В соответствии с целями своего изложе-
ния Гартман не ютносит это утверждение исключительно к тео-
логии, но ход наших рассуждений показывает, что именно в ней
следует искать высшие формы антропоморфизации, «бездуховно-
го сознания».
Так как мы занимаемся не религиозной философией или ре-
лигиозной критикой, но анализом отношения религии к обыден-
ной жизни, то нам достаточно констатировать здесь примат веры
над засвидетельствованностью или над доказанностью объектов,
тгримат субъективности над какой бы то ни было (философской,
научной или художественной) .объективностью. Таким образом,
религия становится составной частью обыденной жизни людей
аз масштабах, обусловленных уровнем и особенностями общест-
венно-исторического развития, начиная от господства богослов-
ски-догматизированкой веры цад всей сферой познания или над
*ее значительной частью и кончая чистой, полностью свободной
ют всего внешнего сосредоточенностью на познании внутренней
жизни, когда объективное знание полностью переходит в ведение
науки. При этом само существо дела — непосредственная связь
цели (спасения души) с определяемой посредством веры «тео-
7*
99
рией» и ее непосредственно практическими выводами'—прш
iBcex изменениях такого рода остается незыблемым. Но несмотря?
на это внутреннее тождество, происходящие изменения очень.
важны в плане конкретного влияния веры на науку и искусство;
В следующей главе, где будет анализироваться распространение-
дезантропоморфирующего научного мировоззрения, конкретным
структурным модификациям уделяется лишь ограниченное вни-
мание, так как разительная противоположность антропоморфна
зации и дезантропоморфизации представляется очевидной. Одна-
ко более подробного рассмотрения требует принципиальное иг
практическое разделение обеих антропоморфных жизненных
сфер — искусства и религии; исследованию этого посвящена по-
следняя глава. Укажем лишь на один аспект — тесную связь
религиозной веры с конкретной предметностью ее антропоморф*
но конструируемых объектов; эта связь столь неразрывна, что
утрата конкретности объекта обычно влечет за собой утрату
веры. Поэтому догматический характера любого понятийного обоб-
щения (теология) не является здесь вырождением, как любого*
рода догматизм в науке и философии, но необходимо следует
именно из этой конкретности. Подлинно религиозный человек
верит не в бога вообще, но в совершенно конкретного бога с точ^
но определенными свойствами, поступками и т. д. (даже если
это deus absconditus — скрытый бот). Именно эта конкретность
теоретически фиксируется догмой, причем, пока догма действи-
тельна, с исключительной последовательностью', по необходимо-
сти не допускающей толерантности. Смягчение нетерпимости в
таких вопросах указывает на ослабление веры, а именно на то,,
что для веры спасение души более не представляется неразрыв-
но связанным с данной определенной предметностью. Ибо пока
верят живо и страстно, не может быть никакого соглашения, ни-
какого компромисса в вопросе «так, а не иначе», касающемся
объектов религии. На это справедливо указывал Гегель в рабо-
тах йенского периода: «Партия существует тогда, когда внутри
нее происходит дифференциация. Протестантизм, различные на-
правления которого должны теперь слиться в попытках объеди-
нения, сам доказывает, что он уже больше партией не является.
Ибо именно в распаде внутренняя дифференциация конституи-
руется как реальность. В момент возникновения протестантизма
прекратились все расколы внутри католицизма. Теперь все вре-
мя доказывают истину христианской религии, неизвестно только
для кого: ведь мы не имеем дело с турками»81.
Разумеется, потребность в религии не иссякает ж после таких
преобразований; она (как считает марксизм) слишком глубоко
укоренена в способе существования человека в классовом обще-
стве и в пережитках этого способа существования, чтобы отме-
реть в результате угасания интенсивности и разложения предмет-
ной конкретности. Да и возникающее таким путем преобразова-
ние иногда еще сильнее и ярче, чем во времена расцвета, выреи
100
жает в своей подлинной сущности исключительный приоритет
чисто внутренней жизни и субъективности (Кьеркегор). Однако
это исключение, так как субъективность, полностью теряющая^
способность к объективации, легко приобретает характер безлич-
ного перенесения. Это значит, что при сохранении общей по^
требности в религии религиозное поведение отчасти полностью*
претворяется в опустошенную субъективность, отчасти рассеи-
вается на самые различные области обыденной жизни и процве-
тает в них, придавая им религиозный «оттенок», причем, естест-
венно, особенно явно выступает его многократно упомянутая?'
нами близость к структуре повседневности. Зиммель, не выска-
зывая негативного отношения, точно описывает эту ситуацию::
«Отношение почтительного ребенка к родителям, патриота, пол-
ного энтузиазма, к отечеству или столь же пламенного космопо-
лита к человечеству, отношение рабочего к своему поднимающе-
муся классу или гордого своей знатностью феодала к своему
сословию, отношение подчиненного к властителю, под чьим влия-
нием он находится, или исправного солдата к своей армии — bçq
отй отношения, сколь бы бесконечно разнообразны по содержа-
нию они ни были, могут иметь, если рассматривать их в психо-
логическом аспекте, некий общий момент, который следует оп-
ределить как религиозный»82. Этими вопросами мы подробнее
займемся в последней главе.
Подводя итог всему сказанному о сродстве и различии рели-
гии и обыденной жизни, можно утверждать, что религиозное
поведение на первый взгляд отличается от повседневного эмфати-
ческим акцентом веры. Вера — это не суждение, не предвари-
тельная стадия знания, знание несовершенное, еще не верифици-
рованное, а, напротив, то единственное поведение, которое от-
крывает доступ к фактам и истинам религии и одновременно
заключает в себе готовность превратить все достигнутое таким
образом в жизненный вектор, непосредственный и соотносящийся
с целостным человеком, с его универсальной практикой. Ни
«факты», ни извлекаемые из них следствия не требуют и не выно-
сят проверки их истинности или применимости. Факты засвида-
тельствованы высшим откровением, которое предписывает и тип
реакции на них. Вера — это средство для субъекта вступить в
связь с им самим сотворенным объектом как существующим не-
зависимо от него; это средство предопределяет и непосредствен-
ность практических выводов: жизнь Христа и последствия этой
жизни непосредственно связываются верой.
Структурная близость к повседневному мышлению выражает-
ся и в том, что религиозные истины носят характер откровений.
Данное в откровении для неверующего (как и для приверженца
другого откровения) — просто эмпирический факт, требующий
свидетельств, как и всякий другой, и только благодаря вере, а не
своему содержанию как таковому и не своему отношению к дей-
ствительности он эмфатически поднимается до этого особого по-
101
ложеиия, выделяясь из бесконечного множества так или иначе
сходных с ним фактов. В силу этого одновременно выделя-
ется и уже упоминавшаяся нами конкретность статуса «именно
так, а не иначе», своеобразная фактичность содержания открове-
ния. Оно может «рационально» выводиться догматикой, теоло-
гией, или, напротив, именно его скупая фактичность может па-
радоксально выдвигаться в центр внимания, вследствие чего оно
обязательно предстает для неверующих как «безумие» или «со-
блазн»; оба случая равным образом подтверждают, что откро-
вение отличается от любого эмпирического факта только эмфа-
зой веры. Как чистая субъективность веры, так и эта эмпириче-
ская сущность выступают особенно отчетливо в те периоды,
когда противопоставление религии и науки обостряется, завер-
шаясь кризисом религии. В условиях такого кризиса, пытаясь
рационализировать содержание религии и тем самым привести
ее в некоторое соответствие с наукой и философией, поздний
Шеллинг ищет прибежища в философском эмпиризме в надежде
отыскать в нем соответствующее теоретическое обоснование для
мифологии и откровения. Он делает попытку объединить эмпи-
ризм и откровение и противопоставить их рационально-система-
тической интеллектуальной обработке действительности. Такое
намерение может быть высказано открыто, как у Шеллинга или
Кьеркегора, либо, как у Фомы Аквинского и в других ранних
теологических системах, пытавшихся объединить знание и веру,
прикрываться понятийно замкнутыми построениями, цель кото-
рых — убедить, что чистая фактичность формы и содержания
откровения не может быть взята из мира; в конечном счете здесь
сохраняется крайний эмпиризм религиозного поведения, как бы
утонченно ни прикрывалось это богословской догматикой. В этой
связи интересно, что и с другой стороны, со стороны науки,
именно эмпиризм способствует компромиссу с религией. Энгельс
критикует спиритуалистические тенденции среди современных
ему естествоиспытателей: «Мы здесь наглядно убедились, каков
самый верный путь от естествознания к мистицизму. Это не безу-
держное теоретизирование натурфилософов, а самая плоская
эмпирия, презирающая всякую теорию и относящаяся с недове-
рием ко всякому мышлению» 83. И в этом отчетливо выражается
далеко идущее структурное сродство религии и обыденной жизни.
Мы считали необходимым остановиться па этом, чтобы понять
факт, на первый взгляд ошеломляющий, мирного, параллельного
сосуществования достаточно высокоразвитой науки с магически-
религиозными представлениями, что наблюдается в течение дос-
таточно длительных периодов. Когда речь идет о чисто эмпири-
ческом накоплении опыта в охоте, земледелии и т. п., тогда —
что вполне объяснимо — неизбежная ненадежность жизни в це-
лом ведет к магическим верованиям, ритуалам и т. д. Но эта си-
туация повторяется и на высших ступенях. Так, Рубен пишет:
«Индийская астрономия была на деле удивительной смесью пред-
102
рассудков и науки. Астрономы были астрологами и брахманами
и в этом качестве тащили за собой груз отживших суеверий, без
всякого намерения от него избавиться» 84. Далее Рубен подчерки-
вает высокое развитие индийской математики, превосходившей
многие завоевания греков в этой области. О методе решения не-
определенных уравнений второй степени он пишет: «Можно на-
звать это самым утонченным достижением учения о числах до
Лагранжа; только он заново открыл и развил этот метод. Но ин-
дийские математики занимались этими проблемами, движимые
потребностями астрологии, с которой сохраняли тесную связь. От-
сюда понятно, что индийская философия столь же мало могла
вдохновляться математикой, сколь и астрономией» 85.
О негативно толкуемой здесь роли философии мы будем го--
ворить в следующей главе; теперь же добавим к вышесказанно-
му, что подобному компромиссу способствовал и эмпирический-
характер начальных этагкзв технического развития. Прежде все-
го потому, что научные результаты, возникающие из эмгшрико-
технических потребностей, несут на себе печать изолированности;'
начавшееся развитие легко завершается застоем или сводится к
нему. Производство, в силу конкуренции ориентирующееся на
максимальную рациональность, зачастую может, как показал Бер-
нэл, реализовать свою основную тенденцию лишь обходными пу-
тями. Вместе с тем примитивное ремесло (и зарождающаяся
наука) в соответствии со своим социальным характером разви-
вают свои методы и результаты в рамках традиций, привычек,
рассматривая их даже как «секреты» семьи, цеха и т. д. Послед-
няя тенденция, естественным образом господствующая уже у ма-
гов, знахарей и т. д., укрепляется всюду, где образуются свя-
щеннические касты, и вступает во взаимодействие (взаимостиму-
лирование) с вышеуказанным направлением в ремесленничестве.
Все это может служить удовлетворительным объяснением того
исторического факта, что наличествующая противоположность
науки и религии относительно редко выступает открыто. Научное
мышление (несмотря на отдельные значительные достижения)
низводится до уровня обыденного мышления и в целом прихо-
дит к застою, то есть функционирует лишь в той мере, в какой
это абсолютно необходимо для поддержания существующего
состояния общества.
Исследуемая нами тенденция к образованию под давлением
общественной потребности абстракций, которые, развиваясь по
законам внутренней диалектики, выходят за рамки обыденного
мышления, но тем не менее в ходе истории остаются в сфере
обыденных привычек и лишь очень ограниченно реализуют свои
возможности, так что их обобщения возвращаются в круг повсед-
невности, выразительнее всего, вероятно, проявляется в общест-
венном употреблении числа. Во внутренней жизни небольших
первобытных обществ вовсе не возникает потребности в числах
и числовых операциях. И даже когда речь идет о множествах,
103
которые мы соответственно привычкам нашего общественного
развития совершенно спонтанно, полностью оставаясь в пределах
обыденного мышления, обязательно выразили бы числом, то такие
множества трактуются первобытными людьми как совокупности
качественно распознаваемых индивидуальностей, качественно от-
личных друг от друга и качественно сопоставляемых. Леви-
Брюль приводит следующий выразительный пример из жизни
абипонов (по Добрицхофферу) : «...когда они собираются на охо-
ту, они, сидя уже в седле, осматриваются вокруг, и если не хва-
тает хотя бы одной из многочисленных собак, которых они содер-
жат, то они принимаются звать ее... Я часто удивлялся, каким
•образом, не умея считать, они способны были сейчас же сказать,
что среди такой значительной своры не хватает одной собаки» 86.
Вероятно, прав был Макс Шмидт, видевший общественную по-
требность, навязавшую людям употребление числа и меры, в об-
мене, в начатках товарооборота. Он замечает также, что в мате-
риально-экономической жизни первобытного общества число не
нужно; потребность в нем возникает лишь на определенной сту-
пени контактов, в ходе товарообмена. Его распространение при-
водит к тому, что определенные предметы обмениваются в (чис-
ленно) определенной пропорции. «Только благодаря тому, что в
это время всеми желаемый или, напротив, имеющийся в избытке
вид предметов вступает с различными другими видами в отноше-
ния обмена, он создает средства для того, чтобы и другие пред-
меты могли соотносительно с ним вступать друг с другом в цен-
ностные отношения. В конце концов он таким образом становит-
ся для этих других определенных видов предметов мерилом
ценности» 87. -1
То, что число, будучи однажды открытым, так же как и воз-
никшая в ходе измерений геометрия, таит в себе безграничные
возможности научного развития, ничего не меняет в том факте,
что оно столетиями и тысячелетиями беспрепятственно включа-
лось в обрисованные выше повседневно-религиозные отношения.
Когда магия или религия усваивает число и включает его в свою
систему, регрессивность этого включения выявляется благодаря
качественно обыденному способу трактовки числа. Любая «ма-
гия чисел», любое ритуальное применение числа, любое утверж-
дение о благоприятном или угрожающем влиянии определенных
чисел и т. д. вырывает нормально употребляемое число (к при-
меру, 3 или 7) из числового ряда, в котором оно обладает своим
обычным количественным значением, и переводит его в своеоб-
разное эмоционально акцентируемое качество, то есть наделяет
ето особым местом в структуре обыденного мышления.
! Может показаться, что при структурном сближении магии,
анимизма и религии с мышлением и эмоциями обыденной жизни
мы допускаем непозволительное абстрагирование. Подчеркивая
эмфатический характер возникающих здесь представлений, мы
не останавливались на том, ставится ли при этом целью и дости-
104
гается ли (а если да, то в какой степени) возвышение над повсед1-
невностью. Изначально эта тенденция не имеет слишком абст-
рактного характера, но она приобретает его во все возрастаю-
щих масштабах по мере формирования религиями собственных
представлений о мире (космогонии, историко-философских уче*-
ний, этических систем и т. д.), с целью выражения религиозного»
содержания также и в языке науки, философии. С помощью этих
учений, а также и других методов (аскезы, искусственно вызы-
ваемого экстаза и т. д.) религии пытаются поднять человека над
мыслями и чувствами обыденной жизни. Речь здесь идет в самом
общем виде о способах достижения пер ежив аемости абсолютной
трансцендентности; при этом необходимо подчеркнуть все три
слова. Практика науки знает лишь относительную трансцендент-
ность, то есть «еще не осознанное», объективно существующую
независимо от сознания действительность, которой научная мысль
еще не овладела. (Другой вопрос, что идеалистическая филосо-
фия излагает методологию науки, ее гносеологические основы в
аспекте деабсолютизации трансцендентности, уподобляясь тем
самым теологии; анализ нюансов подобного истолкования не вхог
дит в наши задачи, ибо, как мы видим у Канта, наука практиг-
чески имеет дело с относительной трансцендентностью.) Так как
действительность может быть подчинена человеческому мышле1-
нию лишь приближенно (как в количественном, так и в качест-
венном отношении), на горизонтах жизни всегда располагается
область неизвестного, изначально прежде всего как окружающая
человека природа, а после разложения первобытного коммунизм
ма, с возникновением классового общества — и как общественное
бытие, причем во все возрастающей мере. Ибо в ходе развития
цивилизации трансцендентность природы постоянно преобразу-
ется в постигаемое, воспринимаемое как закономерное знание,
тогда как собственное существование обыденного человека в клас-
совом обществе становится все менее объяснимым, все более
«трансцендентным». Это положение с возникновением марксизма
меняется лишь теоретически, а практически (применительно к
обыденной жизни также) оно меняется только с конкретным по-
строением социалистического общества.
Религия и повседневность сближаются постольку, поскольку
они обе деабсолютизируют трансцендентность. В обыденной жиз-
ни это происходит спонтанно и наивно, как в первобытной ма-
гии; «еще не узнанное», точнее, то, что при данных конкретных
условиях кажется непознаваемым, рассматривается как «извеч-
но» трансцендентное. Магия лишь в той мере отделена от повсед-
невности, в какой она нацелена на средства, способы и пути
практического овладения этой трансцендентностью, полагая воз-
можным найти эти пути и средства или выдавая их за уже най-
денные. Она создает некоторый разрыв в обыденном мышлении,
рассматривая механизмы практического овладения трансцендент-
ностью как «тайну», знание которой составляет привилегию ма-
105
гов и т. п. Однако обыденного человека этот разрыв лишь воз-
вращает к трансцендентности, к вере, к непосредственному соеди-
нению — трансцендентной — теории с повседневной практикой.
Эта структура опосредованного общения с трансцендентностью
через касту «специалистов» сохраняется и при переходе от магии
к религии, но при этом трансцендентность и отношение к ней
человека приобретают все более обогащающееся, конкретное,
связанное со всей человеческой жизнью содержание. Эта сфера,
исторически столь сильно меняющаяся, сохраняет, однако, в ка-
честве общего и постоянного момента способность трансцендент-
ности служить непосредственным ответом па непосредственные
вопросы обыденного человека, хотя наряду с этим трансцендент-
ность в ходе развития резко отграничивается от создаваемой
и созданной в повседневной жизни и в науке действитель-
ности.
Материалистическая философия от Ксенофана до Фейербаха
придерживается единого мнения об антропоморфирующем харак-
тере любой формы религиозного поведения, от самого примитивно-
го анимизма до самого современного атеизма. Поэтому здесь можно
не останавливаться на главном тезисе этого учения относительно
сотворения человеком богов по своему образу и подобию, ибо мы
исследуем не притязания религии на возвращение истины, а
структуру религиозного поведения в его соотнесенности с науч-
ным и художественным в целях выяснения генезиса и путей раз-
вития последнего. Существо дела мы сформулируем следующим
образом: в центре любой модели религиозного поведения нахо-
дится человек. Независимо от особенностей реконструируемой в
той или иной религии космологической, историко-философской
и т. п. картины мира любая такого рода система всегда ориен-
тирована на человека. Но эта ориентация имеет субъективистски-
антропоморфный характер, и построенная таким образом картина
мира телеологически центрирована на человеке (на его судьбе,
на его спасении), а его самого ориентирует непосредственно на
его отношение к себе самому, к окружающим, к миру. Даже если
религиозная картина мира возвещает бессмысленность космиче-
ского и исторического мирового процесса, как в религиозном
атеизме, даже если она исходит из радикального агностицизма,
такая телеологически центрированная на человеке, антропоморф-
ная основополагающая установка не исчезает. Пустота, богоос-
таьленность мира здесь столь же мало может считаться объек-
тивной констатацией положения вещей, сколь в теологии — иску-
пительная деятельность Христа или Будды; это, скорее, эмфати-
чески-непосредственное требование, призыв к человеку тем или
иным способом искать спасения в тем или ршым способом со-
зданном мире.
Именно в этом видится нам решающее разделение науки и
религии; даже когда систематизированная теология притязает
на научность и стремится приблизиться к науке в деталях мето-
106
дологии, в признании фактов и т. д., их сходство остается по-
верхностным, ибо наука не выводит напрямую из объективной
картины мира непосредственного требования заранее определен-
ных действий, заранее определенного типа поведения. Разуме-
ется, познание внешнего мира образует теоретическую основу
любого действия. Действие в своих объективных мотивах выте-
кает из законов и тенденций действительности; однако когда эти
мотивы объяснены научно, их познанная сущность не может слу-
жить непосредственным стимулом действий индивида. Сколь бы
решающую роль ни играло научное познание для области вопро-
сов «как и что» всякой практики, непосредственно человеческие
действия в конечном итоге определяются общественным бытием.
Научное же познание служит тому, чтобы снимать все подобные
непосредственные и априорно обусловленные субъективные след-
ствия и помогать человеку действовать на основе непредвзятого
и объективного взвешивания фактов и связей. Эта тенденция, ес-
тественно, проявляется и в повседневной жизни, и столкновение
двух позиций зачастую не отражается в сознании людей как кон-
фликт научного и религиозного, однако проблема, должно ли ов-
ладение действительностью протекать на антропоморфной, телео-
логически устремленной на человека основе или же для адек-
ватности такого овладения необходимо мыслительное отталкива-
ние от этого момента, сохраняется и на самых продвинутых
этапах реальной дивергенции обыденного мышления.
В этом вновь проявляется близость религии к обыденному
мышлению. Религия энергично стремится покинуть почву своих
обманчивых иллюзий и отыскать основания неоспоримого абсо-
люта (откровения), достижение которого дает несомненные ука-
зания для действий и поведения в целом; формирующаяся на
этой основе структура непосредственного отношения теории и
практики демонстрирует, как мы видим, теснейшее идейное срод-
ство с соответствующей структурой обыденной жизни. Это необ-
ходимо следует из антропоморфного характера разработанного
религией способа отражения действительности. Мы пытались по-
казать, что в обыденных отражении и практике отсутствует тен-
денция к познанию сущности, которая только в науке обретает
статус осознанного метода, стремящегося к четкому разделению
явления и сущности, которое в состоянии обеспечить возвраще-
ние к закономерностям мира явлений с позиции отчетливо поня-
той сущности. Чем интенсивнее развивается этот метод, тем
более резко отделяется по форме и по содержанию действитель-
ность, отражаемая наукой, от непосредственных типов отражения
в обыденной жизни. Поэтому научное отражение мира, увиден-
ное и оцененное с позиций повседневности, зачастую представля-
ется парадоксальным. Маркс убедительно обобщил этот вывод,
важный для общей методологии науки в ее отношении к повсед-
невности, доказав, что объяснить понятие прибыли можно, толь-
ко признав, что товары обычно продаются по их реальной стой-
107
мости: «Это кажется парадоксальным и противоречащим повсед-
невному опыту. Но парадоксально и то, что земля движется
аокруг солнца и что вода состоит из двух легко воспламеняю-
щихся газов. Научные истины всегда парадоксальны, если судить
на основании повседневного опыта, который улавливает лишь
обманчивую видимость вещей» 88.
Мы уже касались возврата многих результатов научного от-
ражения в сферу непосредственной повседневной практики. Он
осуществляется путем низведения до уровня непосредственности
парадоксальных отношений научно отраженного мира; собствен-
но научные категории исчезают, методы и результаты с помощью
привычки, традиции и т. д. включаются в обыденную жизнь, так
что научные результаты могут употребляться практически, не
вызывая немедленного фундаментального изменения обыденного
мышления. Разумеется, общественно-историческая кумуляция
такого усвоения научных результатов меняет сТбщую картину
мира обыденной жизни. Но по большей части это происходит по-
средством едва заметных на поверхности капиллярных измене-
ний, которые постепенно кардинально преображают горизонты,
отражение и т. п. повседневности, но вначале не модифицируют
«основополагающим образом ее сущностную структуру. (Конечно,
возможны и случаи революционного преобразования; достаточно
вспомнить крушение геоцентрической астрономии.)
Мы сказали, что путь от явления к сущности наличествует
и в религиозном отражении мира. Но именно в аитропоморфиза-
ции и состоит его своеобразие: то, что принимается как сущ-
ность, ни на миг не теряет человеческих черт. Это значит, что,
идет ли речь о свойствах природы или о человеческих (общест-
венных, этических и т. д.) проблемах, сущностное суммируется
© типических человеческих характерах и судьбах; при этом ти-
пизация (выделение сущностного) проводится в форме мифов,
представляющих это сущностное происходящим в первобытном
прошлом, в потусторонности, иногда — в истории, подобно еван-
ягелиям, благодаря чему возникает изолированный остров мифа.
Когда же дело касается природы, эти мифы оперируют персо-
инфицированными, антропоморфирующими средствами. В резуль-
тате и в этом случае возникает известное парадоксальное отноше-
ние между нормальным отражением мира в обыденной жизни и
<еш религиозными отражениями. Основополагающее отличие от
упомянутой парадоксальности научного отражения состоит здесь
в том, что непосредственно переживаемому в обыденной жизни не
противостоит объективная действительность (всегда взятая при-
ближенно).; напротив, оно контрастирует с другим непосредст-
венно переживаемым, по существу антропоморфным отражением.
Возникающую прж этом проблематику лучше всего исследовать
ка материале различных мифов о богочеловеке. Разумеется, тео-
логи изощряются в хитроумных попытках дать теоретическую
интерпретацию этой парадоксальности. Но изначально религиоэ-
108
«ное отношение может получить, таким образом, в лучшем случае
шоддержку, но никак не обоснование. Это всего лишь непосредст-
венное эмфатическое отношение к богочеловеку, характеризуе-
мое теми или иными особенностями. Возникновение такого из-
начально религиозного отношения зависит от того, в какой мере*
каждый человек будет находить в этих мифах идеализированный
яши чувственно-непосредственный отпечаток своих собственных,,
«самых близких, самых личностных жизненных проблем (жела-
аия, страхи, стремления и т. д.). Это не относится к общественно-
историческим преобразованным мифам, к вызывающим их и вызы-
ваемым ими мыслям и чувствам. Со времен господства магии их
характер обычно консервирует определенное социальное состоя-
ние, и осознаются они посредством теологических интерпретаций,
развиваемых в этом же направлении. Но случается, что они выра-
жают желание, страх, стремления и т. д. угнетенных; Вико увидел
•это уже в некоторых греческих мифах, и, несомненно, в этом же
направлении движутся религиозные ереси средневековья, от
Иоахима Флорского до Томаса Мюнцера и английских пуритан.
При всей противоположности общественно-исторических вариаций
сохраняется постоянство основной структуры: антропоморфирую-
.щей более или менее образно-чувственной «интерпретации» дейст-
вительности, претендующей на раскрытие ее сущности, непосред-
ственно и эмфатически направленной на душу отдельного челове-
чка, чтобы непосредственно преобразоваться таким путем в рели-
тиозную практику. Следовательно, в процессе отделения от обы-
денной жизни наука, по существу, сталкивается и с религиозным
типом мировоззрения, не говоря уже о содержательных противо-
речиях в отражении действительности и интерпретации такого от-
ражения. Принципиальную неразрешимость этого противоречия
нисколько не меняет то, что при определенных общественных от-
ношениях оно может быть приглушено, причем даже на длитель-
ное время.
.Другой важный аспект — возможность приписать предметам
такого антропоморфного, антропоцеитристского отражения дей-
ствительности предикат реальности. Известно, что ни одна рели-
гая не может существовать без положительного решения этого
вопроса. Конфликты с наукой в прошлом по большей части кон-
центрировались вокруг утверждения, что на путях религии может
быть достигнуто знание о более высокой действительности (или
Йолее высокое знание о ней), чем на путях пауки. В новое
время упадок или ослабление религии привели к известному
смягчению ее антагонизма с наукой; речь шла уже не о более
«высокой»., но о «другой» действительности (или о «другом» ее^
аспекте')., не превосходящей научное отражение, но сосуществую-
щей с ним; однако этот достигнутый (или желаемый) мировоз-
зренческий компромисс ничуть не влиял на существо дела, ибо«
сознательно антропоморфирующее религиозное отражение необхо-
димо стремится считать продукт своего функционирования абсо-
109
лютной реальностью. С угасанием этого стремления религия пе^
рестает существовать как религия.
Предваряя последующее подробное изложение, заметим: имен-
но здесь лежит область наиболее тесного соприкосновения, вза-
имного оплодотворения и одновременно самого непримиримого«
противоречия религии и искусства. Фейербах, оспаривающий ис-
тинность религий, признавая их всего лишь продуктом человече-
ской фантазии, пишет по этому поводу: «...Религия есть поэзия.
Да, она — поэзия, но с тем отличием от нее, от искусства вооб-
ще, что искусство не выдает свои создания за нечто другое, чем*
они есть на самом деле, то есть другое, чем создания искусства^,
религия же выдает свои вымышленные существа за существа
действительные» 89.
Ленин так резюмирует эту мысль: «Искусство не требует при-
знания его произведений за действительность»90. Если притяза-
ния на адекватность отражения действительности являются аре-
ной наиболее ожесточенных сражений науки и религии, та
общность антропоморфирующего метода можно считать областью
соприкносновения и конкуренции науки и искусства. Казалось бы,,
вышеупомянутое расхождение притязаний на реальность образов;
делает борьбу несостоятельной. Действительно, в отдельные дли-
тельные и важные периоды существовала -возмояшость относи-
тельно бесконфликтного сотрудничества, но в любом случае —
только относительно бесконфликтного. Общность антропоморфно-
го отражения свидетельствует об общественном удовлетворение
сходных по типу потребностей, но это удовлетворение происхо-
дило полностью противоположным способом, результатом чего-
и была тенденция к противопоставленности вообще-то близко со-
прикасающихся содержаний и форм. Но дело тут в чем-то боль-
шем, нежели простая потребность в персонификации, возникаю^
щая на любой примитивной стадии в начале познавательного^
овладении действительностью, в чем, как мы видели, состоит осно-
ва антагонизма между наукой и религией [с. 106 и ел.]. Ниже будет
показано, как пробуждалась фундаментальная человеческая по-
требность в антропоморфном отражении действительности искус-
ством. Она, в особенности на начальных этапах развития, очень-
близко соприкасается с той потребностью, которая удовлетворя-
ется религией, — с сотворением образа мира, в высшем смысле,,
субъективно или объективно, соответствующего человеку.
Вышеупомянутое различие, состоящее в том, что искусство в
противоположность религии не приписывает создаваемым им
образам характер объективной действительности, что его глубо-
чайшая объективная интенция направлена «всего лишь» на ан-
тропоморфное, антропоцентристское отражение этого мира, — это
различие никоим образом не означает, что искусство «знает свое-
место» по отношению к религии; напротив, эта объективная ин-
тенция содержит отрицание любой трансцендентности, независи-
мо от того, что могут думать об этом худояшик или адресаты era*
ПО
тгвррчества. По ^своим объективным устремлениям искусство так
же враждебно .религии, как и наука. «Знание своего места» в
отношении отражения этого мира включает в себя, с одной сто-
роны, суверенное право творящего переделывать действитель-
ность и мифы в соответствии с собственными потребностями. (То,
что эти потребности обусловлены и определены обществом, не
меняет сути дела.) Вместе с тем любая трансцендентность худо-
жественно переводится искусством в область этого мира и в ка-
честве изображаемого располагается на уровне собственного
мира. Мы увидим, что эти тенденции стимулируют развитие
различных теорий, направленных против искусства (ложность
*его и т. д.). Вырастающая из этого антагонизма борьба религии
m искусства в общественном сознании предстает менее современ-
ной, нежели борьба науки и религии, хотя и она часто затушевы-
вается (причем обеими сторонами). Поэтому данному вопросу
мы посвятим специальную главу [гл. 16], где уделим место и
анализу исторических противоречий, постоянно возрождающихся,
хотя и не вытекающих из объективной сущности обеих областей.
Ясно, что подобный объективный антагонизм не мог проявить-
ся на начальной стадии существования человечества. В магии
<еще не дифференцированные зародыши научного, художествен-
ного и религиозного поведения смешаны воедино, а возникаю-
щие на основе труда научные тенденции еще не могут осозна-
ваться. Разделение, происходящее относительно поздно и крайне
неравномерно, обусловлено особенностями общественных отно-
шений. Мы уже указывали, что в отдельных ' культурах могли су-
ществовать и высокое искусство, и достаточно высокоразвитые
ютрасли и проблемы науки, но при этом не могло быть и речи
ю художественном или научном духе, о субъективном осознании
объективных интенций этих областей. В дальнейшем мы вкратце
•ознакомимся с принципами становления науки и завершим рас-
смотрение аналогичного процесса в искусстве описанием его
борьбы за своё освобождение..
Глава 2
ДЕЗАНТРОПОМОРФИЗАЦИЯ ОТРАЖЕНИЯ
В НАУКЕ
1. ЗНАЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕННОСТЬ
ТЕНДЕНЦИЙ ДЕЗАНТРОПОМОРФИЗАЦИИ В АНТИЧНОСТИ
Запросами самой жизни, и прежде всего запросами труда, дик-
туется, как мы видим, потребность в таком познании действи-
тельности, которое возвышалось бы над уровнем повседневных
знаний, и не только в том, что относится к отдельным фактам,.
к отдельным случаям — то есть в известной мере случайно, — но»
принципиально, методологически, качественно. Наряду с этим в
той же повседневной жизни мы постоянно наблюдаем тенденции,,
затрудняющие широкое обобщение трудового опыта, препятст-
вующие его претворению в науку. Успехи человечества на началь-
ных стадиях его развития (и, заметим, не только на начальных*
но и на более высоких, хотя и в гораздо меньшей степени) вы-
зывают к жизни такие формы отражения и осознания, которые*
вместо того, чтобы радикально преодолеть стихийно-наивные*
олицетворения и формы антропоморфизации, рожденные повсе-
дневностью, воспроизводят их на более высокой ступени, препят-
ствуя тем самым установлению научного мышления. Энгельс так
характеризует подобное положение: «Уже верное отражение при-
роды — дело трудное, продукт длительной истории опыта. Сильь
природы представляются первобытному человеку чем-то чуждым*,,
таинственным, подавляющим. На известной ступени, через кото-
рую проходят все культурные народы, он осваивается с ними пу-
тем олицетворения. Именно это стремление к олицетворению со-
здало повсюду богов, и consensus gentium [единогласное мнение-
народов. — Ред.], на которое ссылается доказательство бытия бо-
га, доказывает именно лишь всеобщность этого стремления к оли-
цетворению как необходимой переходной ступени, — а следова-
тельно и всеобщность религии. Лишь действительное познание-
сил природы изгоняет богов или бога из одной области вслед за
другой... В настоящее время этот процесс настолько продвинулся
вперед, что теоретически его можно считать законченным» К Эта
борьба между высшими олицетворяющими формами мышления*
и наукой на ранней стадии человеческой истории развернулась
по-настоящему лишь в Греции; только здесь она возвысилась до-
столкновения принципов и породила методологию научного мыш-
ления. Тем самым была создана предпосылка того, чтобы этот
тип отражения действительности благодаря обучению^, привычке^
112
традиции и т. п. стал всеобщим, постоянно функционирующие
способом поведения человека, чтобы не только его непосредст-
венные достижения обогащали обыденную жизнь, но и самый:
метод воздействовал на повседневную практику и даже мог отча-
сти ее преобразовать.
Решающее значение имеет именно этот сознательный, всеоб-
щий, принципиальный характер отмеченного противопоставления..
Ибо, как мы уже могли убедиться, развитие трудового опыта>
способствует в ряде случаев возникновению отдельных и даже^
высокоразвитых научных дисциплин (математики, геометрии^
астрономии и т. п.), но все же если научный метод не будет'
философски обобщен и противопоставлен антропоморфистским воз-
зрениям на мир, его единичные достижения могут быть приспо-
соблены к самым разнообразным магическим или религиозными
взглядам, стать частью их, и тогда воздействие научного про-
гресса отдельных дисциплин на повседневную жизнь сведется к;
нулю. Подобная возможность еще усиливалась тем, что наука*
в таких случаях обычно попадала в монопольное владение, стано-
вилась «тайной» узкой и замкнутой касты (чаще всего жрече-
ской), которая искусственно, используя общественные установле-
ния, не допускала обобщения научного опыта, превращения его*
в мировоззрение.
Особое положение, сложившееся в Греции, то, что именно
эта страна стала, по словам Маркса, воплощением «нормального*
детства» рода человеческого, объясняется вполне определенными-
социальными причинами, и прежде всего особой формой разло-
жения здесь родового общественного строя. Маркс дает подроб-
ный и глубокий анализ этого процесса, наиболее существенные-
моменты которого мы выделим. Самым важным представляется:
нам то, что отдельный человек был в Древней Греции частным
собственником (а не только владельцем) своей парцеллы, но в
то же время эта частная собственность была сопряжена с era
принадлежностью к общине: «Предпосылкой для присвоения-
земель здесь продолжает оставаться членство в общине, но, как
член общины, каждый отдельный человек является частным соб-
ственником» 2. Для производственных отношений это имело то-
естественное следствие, что в Греции не возникло (как на
Востоке) государственного рабства — рабы всегда принадлежа-
ли частным собственникам. Ясно, что такое общественное бы-
тие должно было также и сознательно развиваться в направле-
нии нарастающего и гораздо более дифференцированного форми-
рования субъектно-объектного отношения, нежели в формациях^.
где, с одной стороны, сохранились еще первобытнокоммунистиче-
ские общинные формы социальной жизни, а с другой — вместо-
возникшей в Греции свободы и самостоятельности отдельных
общин, на Востоке общины попали под централизованную тирани-
ческую власть. Развитие в таком направлении еще ускорялось«
тем, что оно было теснейшим образом связано с возникновением?
8 Заказ № 683
113
ни'быстрым ростом грродов, городской культуры. Эта выработан-
ная в Греции форма «предполагает в качестве своего базиса не
земельную площадь как таковую, а город, как уже созданное
место поселения (центр) земледельцев (земельных собственни-
ков). Пашня является здесь территорией города, тогда как в пер-
вом случае село выступало как простой придаток к земле» 3. Не-
разрешимые цротиворечия этой исторической формации мы здесь
исследовать не станем. Добавим лишь, что Маркс рассматривал
»сохранение относительного равенства имуществ как основу рас-
цвета подобных общин: «Предпосылкой дальнейшего существо-
вания такой общины является сохранение равенства между об-
разующими его свободными и самостоятельно обеспечивающими
свое существование крестьянами, а также собственный труд как
^условие дальнейшего существования их собственности» 4.
Эти главные черты экономического развития имели крайне
важное для нашей проблемы следствие: возникшая на этой осно-
ве политическая демократия (разумеется, демократия рабовла-
дельцев) распространилась также и на сферу религии, благодаря
чему стала возможной ранняя и широко развернувшаяся эманси-
шация развития науки от социальных и идеологических требова-
ний религии. Якоб Буркхардт избрал эту новую ситуацию с ее
важными последствиями центральным пунктом своего исследо-
шания: «Прежде всего духовенство здесь не превращало религию
ж философию в нечто единое, а главное, религию здесь не обслу-
живала какая-либо каста, которая в качестве признанной храни-
тельницы знания и веры могла бы одновременно стать моно-
польной владелицей мышления» 5. Но это лишь одна, негативно-
освобождающая сторона, способствующая развитию научного
метода и мировоззрения. Те же тенденции развития греческого
юбщества, которых мы вкратце уже коснулись, выдвигают, с дру-
гой стороны, общественное презрение к труду, и последствия
этого прослеживаются на протяжении всей истории греческой
атауки и философии. Маркс, иронизируя над Нассау-старщим за
то, что тот назвал Моисея «производительным работником», рез-
жо противопоставляет отношение к труду в античности и при ка-
питализме: ««Кто это: Моисей Египетский или Моисей Мендель-
сон? Очень поблагодарил бы Моисей господина Сениора за при-
знание его смитовским «производительным работником». Эти
«люди до такой степени порабощены своими буржуазными навяз-
чивыми идеями, что по их мнению Аристотель или Юлий Цезарь
^обиделись бы, если бы их назвали «непроизводительными работ-
никами». А между тем Аристотель и Цезарь сочли бы оскорбле-
нием уже само название „работники'4» 6. Именно этим путем бы-
ли созданы социальные предпосылки для первого отчетливого
отделения научного отражения действительности от отражения
повседневного и религиозного. Завоеванная наукой самостоятель-
ность обеспечивает постепенную выработку единой научной
методологии и научного мировоззрения, обусловливает познание
114
категорий в их научном своеобразии и чистоте, обобщение и си-
стематизацию отдельных достиялении практики и результатов^
научных исследований и т. п.
Разумеется, достигнутая таким образом свобода саморазвития^
науки не означает ее бесконфликтной эволюции. Эта свобода
позволяет четко выразить, научно сформулировать содержатель-
ную и методологическую противопоставленность науки и религиш
(и обыденного мышления), поэтому неправильно и недопустимо
ее абсолютизировать. Говоря о том, что греческая религия и ду-
ховенство не могли подчинить себе науку, мы отнюдь не утверж-
дали, что их взаимоотношения были мирными. Разработка спе-
цифических категорий и методов науки неизбежно означала все-
более решительную борьбу против любого рода персонификации*
и вместе с тем — против тех мифов, в которых объективировалась,
греческая религиозность. (Из описанной нами исторической си-
туации столь я^е необходимо следует, что искусству — в особенно-
сти поэзии — выпала доселе небывалая роль изображения и из-
лоя^ения этих мифов, чем и объясняется бросающаяся в глаза;
враждебность философии и поэзии как характерная черта грече-
ской истории.) Что касается религии, то отсутствие касты свя-
щеннослужителей не может рассматриваться просто как знак ее?
социального бессилия. Этому противоречит вся структура поли-
са, доминирующая роль общественной жизни, нашедшая свое?
выражение уже в правилах земельной собственности, согласна
которым только гражданин полиса мог иметь земельный надел в<-
частной собственности. Религиозный культ, храмы и т. п. изна-
чально находились под юридической законодательной защитой, а.
еще раньше — под защитой обычая. По мере обострения нападок:
на персонифицирующее, антропоморфное отражение действитель-
ности эти законы распространились и на теоретические возраже-
ния против религии. Так возник в Афинах «закон против нече-
стия»: «Должны предстать перед судом те, кто не придержива-
ется религии или преподает астрономию»7. В этом были обвинены,,
например, Анаксагор, Протагор и др. Примечательно, что как в-
самом законе, так и в обвинении против Анаксагора астрономия;
играет решающую роль. Она стала и долгое время еще остава-
лась полем битвы, где прежде всего сталкивались антропоморф-
ные и дезантропоморфирующие модели отражения действитель-
ности. Но вместе с тем ясно, что научное в деталях, основанное на
точных наблюдениях и математике исследование еще не в силах
устоять в принципиальном столкновении с религией. Восточная
астрономия, высокоразвитая во многих отношениях, оказалась,
включенной в персонифицирующую систему понятий. На при-
мере методологического и мировоззренческого обобщения у гре-
ков мы видим, что пути познания могут и должны расходиться
именно в этом вопросе, и греческим процессам нечестивцев со-
звучны процессы, возбужденные инквизицией против Джордано-
Бруно и Галилея.
8*
115-
Таким гобразом, особенности греческой истории создали осно-
шу для научного мышления. Впрочем, следует тут же добавить,
•что законы древнегреческою способа производства воздвигли на
пути науки также препятствия^ не допускавшие ее последова-
тельного развития, доведения его до конца: мы имеем в виду
.возникшее на основе рабовладельческого хозяйства презрение к
производительному ТРУДУ, которое Якоб Буркхардт называет
чшещанством».
Поскольку и этим вопросом — даже ограничиваясь важней-
шей его стороной: .взаимным оплодотворением производства и
теории — мы также не можем здесь заняться подробнее, нам ос-
тается лишь сослаться ла то, как Плутарх обрисовал это поло-
жение в биографии Марцелла.
Плутарх рассказывает, что попытка применить законы гео-
метрии для сооружения машин натолкнулась на резкое сопро-
тивление Платона, который считал, что достоинство этой науки
45удет принижено, если механика использует ее в своих практи-
ческих целях и тем самым низведет геометрию в чувственно-те-
лесный мир. Под воздействием подобных мнений механика отде-
лилась от геометрии и сделалась одной из военных наук. Даже
Архимед, как подчеркивает Плутарх, презрительно относился к
.ремесленному использованию механики, и лишь патриотизм мог
«побудить его помочь обороне Сиракуз своими изобретениями.
Презрение к производительному труду является, конечно, лишь
^идеологической оборотной стороной того положения, что в рабо-
владельческом хозяйстве применение машин (научная рациона-
лизация труда) было экономически невозможно. Вследствие это-
зго в греческой истории результаты теоретического исследования
ше могли оказать решающего влияния на технику производства,
•а проблемы производства не могли оказать на науку своего пло-
дотворного воздействия, способствовать ее дальнейшему росту.
Примечательно, что большинство вдохновенных открытий Герона
m древности считались забавными пустяками, и честь извлечения
шг них практических, а затем и теоретических результатов при-
шадлежит науке Возрождения8. Эта ограниченность ощутима во
шеей греческой науке и философии; она препятствует последова-
тельному, детальному построению научных принципов и науч-
шого метода в разработке отражения действительности, созданию
«единой понятийной системы в науке и философии в их противо-
поставленности обыденному мышлению и религии и одновремен-
но — укреплению всесторонних связей науки и повседневной
практики.
И тем не менее в пределах этих границ греческая философия
не только наметила решающую проблему своеобразия научного
отражения действительности, но и разработала некоторые аспек-
ты этой проблемы во всей полноте. Способствуя этим возведению
диалектики на более высокую ступень, она теоретически выра-
ботала формы отделения и противопоставления научного мыш-
Ï.I6
ления обыденному (и религиозному) мышлению, а также опре-
делила функцию научного отражения в повседневной жизни —
его плодотворное возвращение в повседневную жизнь. Описанная
же выше ограниченность привела лишь к тому, что взаимоотно-
шения между наукой и жизнью в области общественного позна-
ния (например, в этике) выявились гораздо конкретней, чем в
методологии естественных наук, где, в особенности на поздней-
ших этапах развития натурфилософии, в центр вновь выдвину-
лись антропоморфистские категории. Несмотря на это, главной ли-
нией развития оставалось обоснование подлинной объективности
познания, очищение его от субъективизма, который в повседнев-
ной жизни остается непреодолимым: при этом в центре внимания
оказалась критика обмана чувств, ложных заключений, порождае-
мых непосредственностью обыденного мышления. С этой точки
зрения философию досократиков можно считать поворотным
пунктом в истории человеческого мышления. Выступает ли огонь
или вода в качестве наиболее универсальной субстанции, из ко-
торой следует выводить и посредством которой следует объяс-
нять все явления действительности, будет ли выявлена объективно
существующая диалектическая противоречивость покоя и дви-
жения — во всех этих случаях философия стремится преодолеть
рамки человеческой субъективности с ее предрассудками, суеве-
риями и ограниченностью, чтобы с максимальной верностью ото-
бразить объективную действительность как таковую, по возмож-
ности не замутненную домыслами человеческого сознания. Это
движение достигло своего кульминационного пункта в атомисти-
ке Демокрита и Эпикура, где уже весь человеческий мир явлений
[рассматривается как закономерный продукт соотношений и дви-
жений элементарных частиц материи. И хотя здесь постоянно,
а на этой духовной вершине в особенности все снова и снова
©сплывает уже отмеченный нами недостаток — невозможность
«претворить философски правильно понятый принцип в действи-
тельный метод науки, распространив его вплоть до единичных
исследований, — несомненно все же, что греческая философия об-
рела в этих системах свою окончательную методологическую мо-
дель отображения природы, хотя и нуждающуюся еще в уточне-
нии многих деталей.
Исследуя методологические основы достижений философии от
Фалеса до Демокрита и Эпикура, можно сделать два основных
вывода. Во-первых, подлинно научное понимание объективной
действительности стало возможным лишь после решительного
разрыва с олицетворяющим, антропоморфным способом мышле-
ния. Научный тип отражения действительности связан с дезан-
тропоморфизацией как объекта, так и субъекта познания: объек-
та, поскольку его бытие-в-себе елико возможно очищалось от
всякой примеси антропоморфизма, и субъекта, поскольку он
строил свое отношение к действительности так, чтобы непрерыв-
но контролировать свои собственные наблюдения, представления.
117
понятия везде, где только могут возникнуть антропоморфные?
искажения объективного восприятия действительности. Конкрет-
ная разработка стала уделом позднейшего времени, но методо-
логические основы были заложены уже на этом этапе: было*
принято, что субъект познания сам создает свои инструменты,
собственные методы исследования, с помощью которых он, с од-
ной стороны, делает восприятие действительности независимым
от ограниченности человеческих чувств, а с другой стороны, так
сказать, автоматизирует самоконтроль. Во-вторых, к вопросу о
дезантропоморфизации мышления следует добавить, что она шла-
об руку с осознанием философского материализма. Изначальный,
стихийный материализм обыденной жизни в философском отно-
шении никак не защищен от натиска отстаивающей свои пози-
ции идеалистически-религиозной персонификации [с. 35 и ел.]. По-
этому выступающий на относительно высокой стадии развития*
культуры философский материализм нельзя считать его непосред-
ственным продолжением и развитием. Он, разумеется, может
опираться на то же восприятие действительности, но подходит к
ним критически и диалектически: с одной стороны, он рассмат-
ривает непосредственные чувственные впечатления как основу,
отстаивает их от идеалистического переосмысления, с другой сто-
роны, он подвергает их тщательной критической проверке. Сти-
хийная убежденность в существовании внешнего мира, незави-
симого от человеческого сознания, претерпевает, таким образом,,
благодаря философскому осознанию качественное изменение*,
качественное возвышение и обретает всеобщность как мировоз-
зрение. Только на этой ступени возникает в философии созна-
тельная борьба материализма и идеализма, только тут эта борь-
ба становится центральной философской проблемой. А высота
этого материалистического обобщения, которая в то же время*
обусловливает широту и глубину проникновения в науку дезат-
тропоморфирующего отражения реального мира и формирования'
понятий, очерчивает одновременно границы поля боя между мате-
риализмом и идеализмом. В нашу задачу, разумеется, не входит
хотя бы даже самое общее изображение этой борьбы. Отметим
лишь, что в ходе истории материализм завоевывает все более*
обширные области человеческого знания, которые идеализм по-
неволе вынужден ему уступать, что часто приводит к еще боль-
шему обострению борьбы, хотя и в иных условиях. Недостатки
греческого материализма объясняются рабовладельческой основой
греческой экономики. Новые формы материализма возникли
большей частью уже в эпоху Возрождения, но и тогда не закон-
чились споры по поводу антропоморфистского характера познания
в целом (Флюдд против Кеплера и Гассенди).
Греческой культуре закономерно соответствовал тот факт, что«
у досократиков тенденция к дезантропоморфизации достигает
своей вершины в критике мифов, которыми определялись форма и
содержание религиозной картины мира. А так как в выработке-
118
этой картины мира, в ее развитии и переосмыслении поэзия иг-
рала более значительную роль, чем когда бы то ни было в позд-
нейшей истории, то наряду с религией была задета и поэзия.
Здесь и кроются истоки пресловутой враждебности греческой
философии искусству, начиная с досократиков и кончая Плато-
дам. При оживлении дезаытропоморфирующей тенденции Воз-
рождения эти нападки на искусство исчезают или, во всяком
случае, не играют более столь существенной роли. Это объясня-
ется развитием точных и естественных наук и конкретизацией
категорий дезантропоморфизма, что позволяет признать в искус-
стве вторую., специфическую форму отражения действительности
(напомним об отношении к искусству Галилея, Бэкона и др.).
Кроме того, мифотворчество и интерпретация мифов в средние
века стали достоянием церкви, поэтому искусству пришлось вести
освободительную борьбу против нее рядом с наукой.
С полной ясностью и принципиальностью эта борьба против
любой антропоморфизации выражена в известных изречениях
Ксенофана: «Но смертные думают, будто боги рождаются, имеют
•одежду, голос и телесный образ, как они»; «но если бы быки, ло-
шади и львы имели руки и могли бы ими рисовать и создавать
произведения [искусства], подобно людям, то лошади изображали
■бы богов похожими на лошадей, быки же — на быков, и прида-
вали бы [им] тела такого рода, каков телесный образ у них самих
[каждый по-своему]»; «эфиопы говорят, что их боги курносы и
черны, фракиапе же [представляют своих богов] голубоглазыми
и рыжеватыми» 9. Возник крайне важный поворот в человеческом
мышлении: то, что до этого времени, начиная с первобытной ма-
гии и вплоть до развитых форм религии, служило основой для
«объяснения явлений природы и общества, было центральным
принципом подлинно объективной действительности, становится
отныне субъективным явлением человеческого общества и само
«нуждается в объяснении. При нашей постановке вопроса не иг-
рает решающей роли, ведет ли такой поворот проблемы к пол-
ному отрицанию существования мира богов, к действительному
обезбоживанию (дезантропоморфизации) космоса, или же здесь
сохраняется признание социальной необходимости религии и
(констатируется, что ее источник коренится в человеческой по-
требности, в деятельности человеческой фантазии; однако это
различие весьма значимо для общего развития культуры, тем
более что такая защита религии на основе consensus gentium
(общего согласия) очень мало способствует апологии той рели-
гаи, которая нуждается в защите. Исходя из этого, Протагор
пришел — если можно использовать подобную терминологию при-
менительно к античной Греции — к полному историческому ре-
лятивизму, согласно которому каждый народ имеет и почитает
соответствующих ему богов ш. Но эта тенденция может быть про-
должена, и у Крития она приобретает завершенную цинически -
119
нигилистическую форму; религия идейно оправдывается ка>к
духовная полицейская мера установления порядка:
«...Затем, когда от явных дел насилья
Удерживать законы стали их,
Но люди тайно злое совершали,
Вот-то, думаю, какой-нибудь
С умом глубоким мудрый муж впервые
Боязнь богов для смертных изобрел,
Чтоб страх у злых какой-нибудь, да был, />
Начнут ли делать, говорить иль думать,
Хотя бы тайком. Затем про божество
Он стал учить, что бог есть вечно сущий,
Который мыслью слышит все и видит,
Высокомудрый, преданный сей цели
И облеченный божеской природой.
Он слово каждое людей услышит,
Деянье всякое он будет силен
Увидеть. Если ж ты, хоть про ceovi,
Замыслишь злое что, не утаится
То от богов: так разум их высок» п.
Наряду с этой критикой антропоморфизации в религии раз-
вертывается в греческой философии и критика ее в обыденном
мышлении. Она становится сквозным мотивом всего философского-
развития, наличествует уже в диалектике бытия и становления
у элеатов и Гераклита, а в позднейшей философии принимает все>
более развернутые формы. При этом —что представляется неиз-
бежным на данной стадии — критика обыденного мышления пере-
ходит здесь в полурелигиозный или даже полностью религиозный
идеализм: общественное развитрге, все отчетливее выявляющее*
безвыходные противоречия рабовладельческого хозяйства, в план©
разбираемой нами проблемы обнаруживает прежде всего, что объ-
ективное знание о природе, достигшее в этот период в отдельных
науках своих вершин, меньше влияет на утвердившийся всеобщий
антропоморфизм мировоззрения, чем гораздо более отрывочные'
сведения собственно философии старого времени. Гегель ясно по-
нимал возникшее вследствие этого положение. Он видел различие1
между античным и современным скептицизмом (а также различие'
между ранним и поздним периодами самой античности) в том,,
что первый был связан с критикой обыденного мышления, тогда*
как второй прежде всего направлял удар против объективности
философского мышления. По поводу первого он писал: «Однако»
содержание этих тропов еще в большей мере доказывает... что<
они направлены исключительно против догматизма обычного че-
ловеческого рассудка; ни один из них не затрагивает разума ев
его познания, зато все они устремлены на конечное и на познав
120
ние конечного, на рассудок... Поэтому этот скептицизм... обра-
щен против обыденного человеческого рассудка или обыденного
сознания, которое фиксирует данное, факт, конечное (это конеч-
ное зовется явлением или понятием) и задерживается на нем,
как на чем-то известном, определенном, вечном; эти скептические
тропы показывают непостоянство подобной достоверности таким
способом, который понятен обыденному сознанию» 12. Достаточ-
но прочесть высказывания Секста Эмпирика о его первых тро-
пах, чтобы увидеть, как он анализирует коренящуюся в субъек-
тивности возможность ошибок человеческих чувств и обращает
внимание на неизбежно возникающие при этом противоречия.
Гегелевское понимание этого типа скептицизма состоит в том,
что «он может рассматриваться как первая ступень к философии»,
ибо антиномии здесь бросают свет на неистинность обыденного
сознания. Гегель говорит при этом о «конечном» и выразительно
подчеркивает, что неважно, идет ли речь о явлении или о поня-
тии. Следовательно, решающее значение для него имеет диалек-
тика, которая посредством антиномий разрушает догматизм
(антропоморфически привязанную к субъекту непосредствен-
ность) и в результате такого высвобождения приводит к объек-
тивности, к познанию мира, как он есть. Так, касаясь той же
проблемы, хотя и на гораздо более высокой стадии, Гегель пока*
зывает на примере антиномии геометрии в соотношении с обы-
денным мышлением, что «мы, не задумываясь, допускаем суще-
ствование точки, как простой единицы в пространстве, и, соглас-
но этому нашему допущению, она не обладает измерением. Но
если она не обладает измерением, то она не находится в прост-
ранстве и, таким образом, уже не является точкой. Она есть, с од-
ной стороны, отрицание пространства, но, с другой стороны, по-
скольку она есть граница пространства, она соприкасается с прост-
ранством. Это отрицание пространства, следовательно, причастно
пространству, само является пространственным, и? таким обра-
зом, точка есть нечто в себе ничтожное, но тем самым она есть
также и нечто диалектическое внутри себя» 13. Заметим при этом,
что та же проблема возникает уже у Протагора, трактуется она
и у Платона в его седьмом письме, равно как и у Аристотеля в
'«Метафизике». Констатация противоположности между геомет-
рией в обыденном мышлении и ее объективной истинностью, ко-
торая выявляется лишь тогда, когда геометрия освобождается от
моментов нашей чувственности, нашего опыта и т. п., является,
следовательно, достоянием греческой философской мысли.
Величие первопроходцев и неразрешимая для того времени
противоречивость дезантропоморфирующих тенденций в грече-
ской философии ближайшим образом сказываются на судьбах
теории отражения. То, что познание основано на правильном
отражении объективной действительности, представлялось грече-
скому мышлению самоочевидным. Именно поэтому у досократи-
ков не ставился вопрос об отражении как о чем-то требующем
121
особого доказательства. Положение не изменилось и при пере-
ходе к диалектическому отражению в связи с постановкой проб-
лемы объективного характера сущности. Но и переход от фило-
софского истолкования объективной действительности к преобла-
данию гносеологических проблем не вытеснил теорию отражении
из сферы главных интересов, напротив, она еще прочнее завла-
дела вниманием философов. Хотя Платон и Аристотель трактуют
отражение по-разному, оно у обоих является — в противополож-
ность современной философии — центральным моментом всей си-
стемы. Однако, так как еще до них стремление объяснить бы-
тие-в-себе привело к вопросу о познании сущности, а не только-
о познании непосредственно-чувственного внешнего: мира, пово-
рот к теории познания закономерно было связать с поисками
ответа в сфере постижения сущности; в частности, максимально«
точного отражения действительности в вопросе образования по-
нятий Платой искал на пути выяснения проблем созерцания и
представления.
Однако этот поворот к теории познания проложил дорогу и
философскому идеализму. Возникающая отсюда проблематика
противоположности Аристотеля и Платона и в еще большей мере-
Аристотеля и позднего неоплатонизма, прежде всего Плотина,
выходит за рамки нашего рассмотрения. Для нас сейчас важна
то, что идеалистическое удвоение отражения (замещение про-
стого отражения действительности двойным отражением — мира
идей и мира эмпирических явлений) наносит удар достигнутой
ранее дезаытропоморфизации познания. Правда, целый ряд фун-
даментальных завоеваний на этом пути остался неприкосновен-
ным — например, отношение Платона к математике и геометрии.
Но все же расчленение мира на мир идей и мир явлений дейст-
вительности, образование особой метафизической реальности, ко-
торой Платон отдавал предпочтение перед миром явлений,
возвращало человеческое мышление вспять, к уже преодоленному
уровню антропоморфизма. Это с самого начала понял Аристо-
тель, выступавший с резкой критикой платоновского учения об
идеях. Он считал особенно нелепым «утверждать, с одной сто;-
роны, что существуют некие сущности, помимо имеющихся я
[видимом] мире, а с другой — что эти сущности тождественны
чувственно воспринимаемым вещам, разве лишь что первые веч-
ны, а вторые преходящи». Далее Аристотель показывает, что, не
говоря уже об этой антиномии, подобное раздвоение мира неиз-
бежно возвращает нас к антропоморфизму и, следовательно,, к
религии. Развивая свои доводы, он пишет: «...Утверждают, что.
есть сам-по-себе-человек, сама-по-себе-лошадь, само-по-себе-здо-
ровье, и этим ограничиваются, поступая подобно тем,, кто гово-
рит, что есть боги, но что они человекоподобны. В самом деле,.
и эти придумывали не что иное, как вечпых людей, и те при-
знают эйдосы не чем иным, как наделенными вечностью чувст-
венно воспринимаемыми вещами» и.
122
Отсюда видно, что антропоморфизация мира идей возникает
непосредственно из того факта, что идеалистическая философия
признает самостоятельное существование сущности наряду с ми-
ром явлений или, точнее, над этим миром. Такое существование,
неизбежно должно отличаться особыми чертами, з так как эти
черты не являются отображениями материального мира, его не-
расторжимой всеобщей связи и одновременно диалектической
(противоречивости, чем иным могут они быть, как не тем или
иным соотношением характеристик человеческой сущности? Это,
разумеется, лишь самое общее основание наличествующего здесь
(сложного положения (идеалистическая тенденция в данном слу-
чае влечет за собой гораздо более конкретные последствия), од-
нако все они без исключения порождаются тем же источником.
Мы уже ранее указывали — тогда еще весьма абстрактно —- на
то, что психология трудового процесса, взятая изолированно, в
той же мере служит моделью для идеалистических образов мира,
© какой труд, понятый в его истинной конкретной целостности,
•образует исходный пункт для правильного отражения действи-
тельности, способствуя тем самым отходу от антропоморфистских
взглядов. Это противопоставление яснее всего выражается со-
отношением между субъективностью (активностью) и материей.
Здесь достаточно, вероятно, пояснить его на примере Аристотеля
m Плотина. Аристотель прежде всего строго различает порожде-
ние природы и произведение рук человеческих. «А через искус-
ство возникает то, форма чего находится в душе... Так [врачева-
тель] размышляет все дальше, пока наконец не придет к тому,
■что он сам в состоянии сделать. Начинающееся с этого времени
движение, направленное на то, чтобы [телу] быть здоровым, на-
зывается затем созданием. И, таким образом, оказывается, что
в некотором смысле здоровье возникает из здоровья и дом — из
дома, а именно дом, имеющий материю, из дома без материи,
<ибо врачебное искусство есть форма здоровья, а искусство до-
мостроителя — форма дома» 15.
Четкое разделение природного и искусственного по проис-
хождению не только делает возможным познание сущности тру-
да, но и препятствует ее ложному обобщению, некритическому
применению категорий труда для внечеловеческой действитель-
ности. Между тем у Плотина как раз и происходит такого рода
ложная генерализация. К сущности труда относится то, что в
трудовом процессе свойства материи выступают для работника
как возможности в отношении поставленных им конкретных це-
лей. Плотин же обобщает эту в каждом данном случае кон-
кретную и определенную возможность, превращая ее в абстракт-
ную и абсолютную; он противополагает эдеу возможность духов-
ному участию в труде, которое в этой связи, столь же абстрактно
обобщенное, выступает в противовес возможности как действи-
тельность. «Ибо, — говорит он, — возможное никак не может пе-
рейти в действительнее если возможное занимает первую сту-
123
пень в царстве сущего (полемика против материализма! — Д. Л.)„
Ибо оно не сможет само привести себя в движение, вот почему
ему должно предшествовать действительное... Ведь материя на-
верняка не способна произвести форму, она бескачественна и
не может произвести определенного качества. Поэтому и из воз-
можного не может появиться действительное» lü. Тем самым все,
что существует в объективной действительности, и прежде всего»
все произведенное природой, уподобляется продукту человече-
ского труда, а это неизбежно ведет к тому, что производитель
мыслится наделенным антропоморфными чертами. Аристотель
уже ясно видел искусственность учения Платона о независимо-
сти идей от предметов, искажение реального мира в этом учении.
Аристотель возражал против мнения тех, «кто причинами при-
знает идеи». «Если эйдосы и существуют, — писал он,— то вещи,,
им причастные, все же не возникли бы, если бы не было тогау
что приводило бы их в движение... Если эйдосы суть числа, то
каким образом они могут быть причинами?.. Ведь если и считать,
что одни вечные, а другие нет, то это не будет иметь значения»17.
Отделив мир идей от мира явлений, сделав мир идей незави-
симым и превратив его в реальную основу действительности:,
объективный идеализм античности не мог объяснить установ-
ленную таким путем причинную связь иначе, чем мифологиче-
ски, антропоморфно; он уподоблял возникновение, становление
и бытие мира процессу человеческого труда, лишая тем самым
действенности завоевания философии предшествующего периода
в сфере дезантропоморфизации познания, разрушая заложенные
ею основы научного познания мира.
Однако эта функция трудового процесса как модели для воз-
рождения антропоморфизма в философии гораздо органичнее
обусловлена исторически, чем это можно заключить из нашего
краткого и отвлеченного изложения. Речь шла не просто о прое-
цировании абстрактного труда вообще на реальные причинные
взаимосвязи в объективной действительности, но, кроме того, о
специфически античном отношении к труду; это отношение было
связано с презрением к труду, в особенности труду физическо-
му, и чем резче выявлялись противоречия в обществе, основан-
ном на рабовладении, тем отчетливее выступала эта тенденция.
В философском плане это означало, что мифологи зированно-ан-
тропоморфистское отношение мира идей и материальной действи-
тельности неизбежно превращалось в иерархическое, причем
идеи как творческий принцип онтологически должны были стать
выше того, что ими порождено. Плотин утверждал: «И все уже
завершенное рождает и производит нечто мепыпее, чем оно само
есть...»18 Эта иерархия, в которой творение неизбежно ниже
творца, произведение — ниже производителя, отражает греческую
оценку труда. Она не вытекает с безусловной необходимостью
из существа философского идеализма, хотя он и предполагает
возврат к религиозному мировоззрению. Гегель, например, тоже
124
был объективным идеалистом, но, живя- в-условиях капиталисти-
ческой экономики, мыслил эту взаимосвязь совершенно по-иному/
О трудовом процессе и его продукте он1 говорит следующее: «По*
стольку средство выше, чем конечные цели внешней целесообраз-
ности; плуг нечто более достойное, нежели- непосредственно те-
выгоды, которые доставляются им и служат целями. Орудие со-
храняется, между тем как непосредственные выгоды преходящие
и забываются. Посредством своих орудий человек властвует надо
внешней природой, хотя по своим целям он скорее подчинен-
ей» 19. (Тот факт, что Гегель тоже выдвигает антропоморфный^
миф о демиурге, не имеет отношения к нашей теме.)
В более поздней философии эта возникшая в античном мире"
иерархия приобретает решающее значение-. S плане общего со-
держания речь идет о возврате к первобытным религиозным.
представлениям, но, поскольку этот поворот совершается на бо-
лее развитой философской основе, поскольку частично усваи-
ваются достижения научно-методологического прогресса, теорети-
ческой основой для поддержания религии соответственно болеем
развитой ступени цивилизации становится наука. Нет необходи-
мости подробно объяснять идеологическое значение этой тенден-
ции — сохранять и использовать, а в иных случаях даже разви-
вать отдельные научные достижения и самый метод научного^
исследования, столь необходимый практически (включая и дез-
антропоморфизацию), и вместе с тем коренным образом притуп-
лять мировоззренческую направленность материализма, возвра-
щая философию на новый лад к антропоморфизму в исследова-
нии «последних вопросов». Возможность такого приспособления
материалистических по их сути научных открытий к нуждам фи-
лософского идеализма содержится уже в учении Платона. Сход-
ные попытки отстоять научный метод для практики, но отрезать»
ему пути влияния на вопросы (религиозного) мировоззрения,,
разумеется, появляются и на Востоке. Но так как духовенство^
здесь по большей части гораздо сильнее влияет на духовную*
жизнь, нежели в Греции, то и включение конкретных наук в ан-
гропоморфистскую мистику произошло гораздо раньше, радикаль-
нее и без таких конфликтов, как в классической античности, когда
этому процессу предшествовал период принципиальной дезантро^
поморфизации, причем научные тенденции сдавали свои позиции
не без боя. С другой стороны, обусловленный Платоном мировоз-
зренческий возврат к антропоморфизму определил судьбы евро-
пейского научного мышления почти на тысячу лет и эпизодиче-
ски способствовал почти полному забвению действительных дол
стижений античности.
Поскольку этот процесс возводит дезантропоморфирующее>
мышление на недосягаемую высоту и демонстрирует значительные^
философские достижения (развитие диалектики Платоном), нам?
не достаточно ни простой констатации того факта, что он придает"
миру идей антропоморфность, ни вскрытия его социальных ос--
12S
iiob; возникающее противоречие следует рассмотреть более при-
стально.
Двойственность платоновского мира идей заключается в том,
г:что он должен неразделимо совмещать высочайшую абстракт-
ность, чистую сверхчувственность с самой живой конкретностью;
мир идей — это обособившаяся от вещей, ставшая самостоятельной
-сущность и творческая, действенная сила, порождающая мир яв-
лений; таким образом, у Платона идеи воплощаются в чувствен-
но-мистических формах. Правда, у самого Платона зта двойствен-
ность еще в значительной мере латентна, зато в неоплатонизме
юна уже совершенно открыто развивает все свои противоречия.
Поэтому мы и сосредоточим наше внимание на Плотине. Этот
^философ характеризует мир идей следующим образом: «Когда
речь заходит о внечувствеииой субстанции и присущих ей кате-
гориях и принципах, то принимают и внечувственную предмет-
ность, и притом как истинно сущую и в еще большей мере еди-
ную, за вычетом собственно становления в телах, а также чув-
ственного восприятия и размеров...» 20 Иными словами, мир идей—
это сама действительность, которая должна выступать как ото-
бражение и продукт мира идей, за вычетом таких сфер, как ста-
новление и количество. Обе эти абстракции — именно как аб-
стракции, как чисто мыслительные операции, — могут существо-
вать сами по себе, хотя и доказано, что исследование количест-
венных соотношений совершенно необходимо для рационального
познания мира объектов. Как, однако, должно строиться требуе-
мое Плотином отношение к этому миру, если он — а это было
предварительным условием — рассматривается не как чистая аб-
стракция, но как извлечение из чувственно данного? Существую-
щий мир, мир идей — а он должен, как установлено Плотином,
быть высшей действительностью в противоположность всего лишь
потенциальному бытию материи, — воспринимается в одно и то
эке время и в чувственио-иечувственио-сверхчувственной непо-
средственности, и как чистая сущность, как единственная суб-
станция и движущая сила собственно действительности; как же
.должен быть сформулирован метод его восприятия? Ради этого
пришлось придумать концепцию «интеллектуального созерцания».
(Речь идет о самом понятии, а не о том, когда и как был сфор-
мулирован словесно этот термин.) Эта концепция восприняла
ют науки — хотя и в искаженном виде — некоторые моменты дез-
-знтропоморфизации, ибо ясно, что такая действительность — соот-
ветствующая непосредственно-чувственной, но лишенная станов-
ления и количества — непостигаема средствами обыденного мыш-
ления. Однако выход за его пределы не может в данном случае
стать прямым продолжением научной дезантропологизации в по-
знании: не только потому, что в научной абстракции решаю-
щее значение имеют количественные пропорции и понимание
законов становления, но еще и потому, что в науке господствует
тенденция при ласледовянии чистого бытия-в-себе явлений ис-
l.2ß
ключать как можно больше свойств человеческого восприятия^
в противоположность «внечувственной действительности» плато-
ников, неразрывно связанной со свойствами человека как че-
ловека. Таким образом, возникает требование симультанно возвы-
ситься над антропологическим уровнем человека и в то же время-
сохранить — в очищенном виде — этого человека и даже, как раа-
благодаря этому очищению, возвести человека ввысь, чтобы тем
самым возвратить его к истинной его сущности. В этом и заклю-
чается глубокая родственность с религиозным подходом: сохра-
нение свойственной обыденному мышлению непосредственной
связи субъекта с объектом в повседневной жизни при эмфатиче-
ском возвышении над повседневностью, патетическом уходе от
нее, ее отрицании. Акт подобной симультаыности сохраняет, таким
образом, с одной стороны, присущую повседневности непосредст-
венную связь теории с практикой, со всей свойственной ей огра-
ниченностью проникновения в подлинную объективность, а с дру-
гой стороны, постулирует отказ от нормального человеческого»*
отношения к действительности, ибо, поскольку объект («внечувст-
венная действительность», мир идей) превышает человеческое, то
и субъект — человек — должен возвыситься над собой, чтобы быть
способным принять его в себя.
Казалось бы, речь идет об акте подлинного становления
человека: учение об идеях утверждает (заодно с религией), что-
человеческая душа только здесь и может обрести самое себя, в^
противовес научному подходу, при котором якобы человеческая
сущность отвергается, насилуется, опустошается и извращается.
(Это резкое противопоставление, несомненно, является плодов
гораздо более позднего развития. Для Платона математика ж
геометрия — необходимые предпосылки «посвящения», вступления7
на путь, ведущий в мир идей; у неоплатоников противопостав-
ление представлено несколько яснее, но все еще в латентной:
форме; открыто оно предстает только в новое время, причем
«обезбожение» мира представляется как ущерб человечности-
бытия людей, их человеческой целостности, как мы это видим у
Паскаля.) На самом же деле происходит как раз обратное. Дез-
антропоморфизация науки есть орудие, с помощью которого*
человек овладевает миром: она делает осознанным, возвышает
до уровня метода тот подход, который, как мы видели, зарож-
даясь в процессе труда, поднимает человека над животным и по-
могает ему стать человеком. Труд и вырастающая из него выс-
шая сознательная форма — научное отношение к действительно-
сти — тем самым оказываются не просто орудием для овладения
объективным миром, но, в нерасторжимой связи с этим, и одним
из путей, который ведет благодаря более широкому и глубокому
раскрытию действительности к обогащению самого человека, его*
совершенствованию, делает человека человечнее, чем он был:
прежде. Возвышение же над повседневностью, к которому стре-
мятся теория интеллектуального созерцания и религия,, напро-
L22T
тгив, исходит из того, что природа человека так же трапсцендент-
ша для него самого с точки зрения объективного земного мира,
«как и мир идей или религиозная «действительность». Все предла-
гавшиеся в этом плане методы —от учения об Эросе до аскезы,
экстаза и т. п. — служат лишь тому, чтобы пробудить в человеке
стремление к этой «трансцендентной сущности» и противопоста-
вить ее действительному человеку, безоговорочно отвергая по-
следнего и враждебно устраняя его.
Таким образом, освобождение от антропоморфизма оказывает-
ся здесь мнимым, причем мнимым вдвойне — как объективно,
так и субъективно. Объективно — ибо утверждается, что сущест-
вует «сверхчеловеческий», «потусторонний» для человека мир, и
ше просто существует независимо от человеческого сознания, по-
добно действительному миру, но в буквальном смысле слова
представляет собой нечто потустороннее, нечто качественно от-
личное и более высокое, нечто противостоящее всему восприни-
маемому и мыслимому; однако, рассматривая этот мир в совокуп-
ности его признаков, мы находим в нем черты той же самой
■антропоморфизации, спроецированные на сферу потустороннего.
Субъективно — ибо субъект вынужден радикально порвать со
своим прирожденным человеческим бытием и со своей нравствен-
но сформированной личностью ради того, чтобы завязать плодо-
творный контакт с миром идей. Хотя у самого Платона в его
\учении об Эросе восхождение от человеческой этики к интеллек-
туальному созерцанию мира идей обнаруживает значительно
больше переходов, чем разрывов и скачков, можно считать оп-
равданным резкое подчеркивание в качестве субъективного мо-
мента этого восхождения его субъективную противоположность
/внутричеловеческой этике, тем более что и тут последователи
Ялатона не замедлили превратить скрытое у него противоречие
га явное.
Любая подлинная этика отличается тем, что, как бы ни было
велико расхождение между этическими установлениями и сред-
ним уровнем повседневной практики, она апеллирует к той че-
ловеческой сущности, которая принадлежит любому человеку и
.делает его собственно человеком, личностью; и с какой бы глубо-
кой внутренней борьбой, с какими бы тяжелыми кризисами ни
(было связано его развитие, имманентная сфера человеческой
личности ыеуничтожима; устанавливаемая этикой (и столь труд-
но достижимая) глубинная сущность человеческой личности —
это именно та сущность каждого человека, благодаря которой он
м является человеком. Но субъективный момент восхождения
и миру идей предполагает перелом: человеческое существо, даже
удовлетворяющее этическим требованиям, остается насквозь зем-
ным, материальным, «тварным» сравнительно с субт>ектом, до-
стойным и способным интеллектуально созерцать мир идей.
Следовательно, и здесь, то есть в той сфере, сущность которой со-
стоит в привязанности к человеческому, речь идет о дезантропо-
i28
морфизации, эта сфера также отмечена печатью ложной дезан-
тропоморфизации, так как вместо реального, конкретного прео-
доления того в человеке, что приковывает его к поверхностности
обыденной жизни и мешает ему развить собственными силами
самое в себе существенное, выступает абстрактно-трансцендент-
ное требование полного выхода за пределы всего человеческого.
По существу, этические течения, исходящие из необходимости
определения и развития имманентно человеческой сущности че-
ловека, глубоко связанной с общественным развитием и в нем
коренящейся, сосредоточиваются в своих воззрениях и эксплика-
циях на подлинно объективной научной системе понятий. Напро-
тив, абстрактно-трансцендентный выход за пределы обыденного,
теоретически и практически обобщенный, влечет за собой при-
ближение к магическо-религиозным обычаям, ритуалам и т. д. или
даже их осуществление. Это происходило уже с неоплатонизмом,
неопифагорейством и т. д., задолго до того, как данная филосо-
фия воплотилась в христианском религиозном учении. Итак, как
мы убедились, чисто субъективно освобождение от антропомор-
физма также оказывается ложным.
Отметим здесь вкратце — позднее об этом будет сказано по-
дробнее, — что, переходя в антропоморфизм, концепции потусто-
роннего мира идей с неизбежностью включают в себя широко,
хотя часто и неосознанно, заимствования из области эстетиче-
ского. Это и понятно: сверхчувственно-чувственный характер
мира идей сближает его в некоторых существенных чертах с ис-
кусством, или. лучше сказать, с проецируемым в трансцендентное
мнимым осуществлением принципов художественного творчест-
ва: совершенный или, во всяком случае, сверхчеловеческий де-
миург, естественно, должен быть также и сверххудожником. Ре-
шительный отказ от искусства у Платона или сопряженный с ого-
ворками отказ у Плотина являются лишь следствием этой пози-
ции. Таким образом, содержание подобной враждебности искусству
диаметрально противоположно тому, что мы установили у досо-
кратиков.) Чтобы пояснить читателю общие черты этой пробле-
мы и ее постановки, мы приведем довольно обширный отрывок
из рассуждений Плотина об «умопостигаемой красоте». (Выво-
ды из этого, относящиеся к самой эстетике, мы сделаем в ходе
последующего изложения.) Плотин говорит: «И всякий содержит
все в себе и, в свою очередь, видит все в другом, так что все
находится везде и все есть все и каждое все, и [потому] сияние —
беспредельное... В каждом светиле восходит иное, видится же в
каждом все.
Существует [там] и чистое движение. Действительно, движу-
щееся, отличное от движения, не сливается с ним, когда послед-
нее происходит. И покой [здесь] не нарушается никаким движе-
нием, так как он не причастен тому, что не устойчиво. И пре-
красное — прекрасно потому, что оно не находится в прекрасном.
Каждый [бог] движется по земле, которая была бы [ему] как бы
9 Заказ № 683
129
чуждой [как это было бы в чувственном мире], но в том мире
для каждого то, в чем он находится, и является тем, что он есть.
И конечный пункт для него как бы совпадает во время движе-
ния с отправным, но не так, что сам он — одно, а пространство—
иное, чем он... Здесь (в материальном, чувственном мире.—Д. Л.)
одна часть появляется из другой, и она может быть только от-
дельною частью. Там же каждая часть появляется всегда из це-
лого, отдельное есть одновременно и целое. То, [что тут] пред-
ставляется как часть, изощренному же зрению видится как
целое...
Для тамошнего созерцания нет ни утомления, ни наполнения,
которое приводило бы к прекращению его для созерцающего.
И нет пустоты, чтобы приходить к наполнению и удовлетворить-
ся таким концом. И не так происходит там, что одно есть одно,
а другое — другое, чтобы одному из того, что в неу, не нравилось
то, что принадлежит другому. И тамошнее — несокрушимо»2I.
Совершенно очевидно, что здесь все категории и категори-
альные соотношения перенесены из эстетики — хотя и в экстати-
чески преувеличенном виде.
Нам пришлось довольно подробно остановиться на этих ре-
грессивных тенденциях греческой философии на пути к дезантро-
поморфизации, ибо их принципиальное значение для судеб науч-
ного отражения действительности исключительно велико. Осо-
бенно же потому, что этот кризис наступил не под давлением
извне, не как прямое следствие воздействия круга тех магиче-
ски-религиозных представлений, которые греческая философия
стремилась преодолеть с самого начала и в преодолении которых
она одержала имевшие всемирно-историческое значение успехи,—
кризис возник внутри самой философии. Это означает, как мы
видели, что борьба между антропоморфными и дезантропоморфи-
рующими тенденциями по всем вопросам выработки и изложения
учения об отражении действительности в соянании велась здесь
на гораздо более высоком уровне, чем раньше. Речь отныне шла
не просто о попытке преодолеть первобытные антропоморфистские
воззрения; начиная с этого поворотного пункта, приходилось ре-
шать проблему противоречивости развития этих тенденций в вы-
сокоразвитых философии и науке. Эта борьба не затухает и в
античной греческой философии более позднего периода. Мы уже
говорили вкратце о сопротивлении Аристотеля антропоморфному,
объективно враждебному науке духу учения об идеях [с. 122],
но достаточно назвать имя Эпикура, чтобы увидеть и другую
сторону создавшейся ситуации. Эпикур ведет решительную борь-
бу против религиозной веры; Лукреций подчеркивает в этой
связи всемирное значение его философии, и даже Гегель, не-
приязнь которого к Эпикуру доходила часто до полного непони^
мания этого философа, отмечает, имея в виду его физику,
«что она противодействовала суеверию греков и римлян и под-
нимала людей выше его»22.
130
2. ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ДЕЗАНТРОПОМОРФИЗАЦИЙ
НОВОГО ВРЕМЕНИ
Можно считать установленным, что, несмотря на сопротивле-
ние, антропоморфирующие тенденции на исходе античности одер-
жали верх: именно они господствовали в средневековом мышле-
нии. Новое наступление на этот принцип начинается, и притом с
большим размахом, лишь в эпоху Возрождения, когда все проб-
лемы приобретают тот основной характер, который — хотя и со
многими немаловажными изменениями — сохранится до наших
дней. То, что это новое развитие обнаруживает существенно от-
личающие его черты, объясняется особыми историческими при-
чинами. Причины эти в рамках интересующей нас проблемы раз-
деляются на два главных направления.
Во-первых, широта, глубина, интенсивность и т. п. дезантро-
поморфирующей тенденции зависят от того, насколько труд и наука
в данную эпоху способны овладевать объективной действитель-
ностью. Мы уже указывали, что античное рабовладельческое
хозяйство с самого начала суживало научную базу философии,
стремящейся освободиться от антропоморфизма в отражении дей-
ствительности, и что общественные предпосылки не позволяли
последовательно расширять эту базу. Это в свою очередь приво-
дило к тому, что гениальные обобщения начального периода в
науке не могли проникнуть в детали объективной действительно-
сти, оплодотвориться ее особенными фактами, взаимосвязями,
особенными закономерностями и т. п., чтобы возвыситься до
конкретной всеобщности, до уровня всеобт>емлющей методологии.
Положение изменилось после крушения рабства, в средние века.
Энгельс показывает, что эти «мрачные столетия» Еызвали к жиз-
ни множество научных и технических открытий, которые и обус-
ловили новый поворот к научности в эпоху Возрождения23. Прав-
да, открытия эти были разрозненными и не имели глубокого влия-
ния на порабощенное теологией мышление своей эпохи.
Понадобилось известное накопление, медленное нарастание
количества, чтобы оно перешло в новое качество нового научного
подхода и совершился переворот.
Во-вторых, эта тенденция, ведущая свое происхождение от
«обмена веществ» между природой и обществом, перекрещивает-
ся с другой, не менее важной: дело не только в том, насколько об-
ширен материал познания и в связи с этим насколько глубокую
постановку вопроса общество предлагает науке и философии, но
также и в том, в какой мере это общество способно идеологически
воспринять, вытерпеть те обобщения, те истины, которые наука
может извлечь из данного материала. Конкретное исследование
этого комплекса проблем в античности, средневековье и в новое
время не входит в наши задачи. Перед нами стоит проблема, со-
стоящая из вопросов и ответов, переходящих из области диалек-
тического материализма в область исторического материализма,
9*
131
вскрывающего и изучающего те конкретные социальные законо-
мерности, которые определяют, почему данная общественная фор-
мация на определенной ступени развития отбрасывает тот тип
отражения объективной действительности, который осуществля-
ется в ее рамках в соответствии с уровнем развития производи-
тельных сил; почему определенная формация на определенной
ступени еще не испытывает потребности в обобщении единично
совершающегося, единично необходимого и полезного опыта; нако-
нец, почему в определенных социальных условиях эта потреб-
ность пробуждается с непреоборимой силой, и т. д. и т. п. Для
нас при обсуждении диалектико-материалистической проблемы
развития дезаитропоморфных моментов научного отражения дей-
ствительности очень важно общее ознакомление с перечисленны-
ми вопросами, так как они сосредоточивают наше внимание на
социальных причинах неравномерного развития в интересующей
нас области, определяют конкретные соотношения, характерные
для прогресса и регресса; однако эти вопросы следует рассмат-
ривать в первую очередь с позиций самой диалектико-материали-
стической проблемы отражения.
Переходя теперь к анализу борьбы против антропоморфизма
в новое время, мы должны будем прежде всего указать, какие
главные моменты отличают этот период от античности, каковы —
разумеется, в самых общих чертах — его характерные особен-
ности, вызвавшие новый и в известном смысле окончательный
поворот в историческом процессе выработки подлинно научного
отражения действительности. Первичным и значительнейшим
фактором следует признать возникновение капиталистического
способа производства. Эта экономическая формация не случайна,
а по самой сути своих закономерностей и, следовательно, в соот-
ветствии с историко-систематической необходимостью является
последним классовым обществом. Капитализм, с одной стороны,
производит материальные предпосылки общества, свободного от
эксплуатации, с другой же стороны, он сам порождает и своего
«могильщика» — пролетариат, тот класс, для которого «условие
освобождения... есть уничтожение всех классов»24. Это противо-
речие капитализма задолго до того, как оно выявило себя откры-
то, обусловило его своеобразие как экономической формации, его
принципиальное отличие от всех предшествующих формаций.
Маркс определяет это отличие следующим образом: «Все преж-
ние формы общества погибали с развитием богатства, или, что
одно и то же, — с развитием общественных производительных
сил. Поэтому у древних, сознававших это, богатство прямо об-
личалось как разложение общества. Феодальный строй, в свою
очередь, погубили городская промышленность, торговля, современ-
ное земледелие (и даже отдельные изобретения, такие, как порох
и печатный станок).
Вместе с развитием богатства, а потому также с развитием
новых сил и расширявшегося общения индивидов разлагались те
132
экономические условия, на которых покоилось общество, те поли-
тические отношения различных составных частей общества, ко*
торые этому соответствовали, религия, в форме которой общества
воспринималось в идеализированном виде (как общество, так и
религия, в свою очередь, покоились на некотором данном отно-
шении к природе, к которой сводится всякая производительная
сила), характер, взгляды и т. д. индивидов... Разумеется, развитие
имело место не только на старом базисе, но являлось развитием
самого этого базиса. Наивысшее развитие самого этого базиса
(тот цветок, в который он превращается: однако это все тот же
данный базис, данное растение в виде цветка, поэтому после рас-
цвета и как следствие расцвета наступает увядание) есть тот
пункт, где сам базис приобретает такую форму, в которой он
совместим с наивысшим развитием производительных сил, а по-
тому также — с наиболее богатым развитием индивидов [в усло-
виях данного базиса]. Как только этот пункт достигнут, дальней-
шее развитие начинается на новом базисе»25. Капитализм, на-
против, не знает подобных пределов. Он, конечно, также имеет
известный предел, более того, он производит и воспроизводит его*
непрерывно, однако, как указывает Маркс, этот предел и осозна-
ется как постоянно устраняемый предел, а не как некая «свя-
щенная грань»: «Пределом для капитала служит то обстоятель^
ство, что все это развитие протекает антагонистично и что сози-
дание производительных сил, всеобщего богатства и т. д., знания
и т. д. происходит таким образом, что трудящийся индивид от-
чьоюдает себя самого; к тому, что выработано им самим, индивид
относится не как к условиям своего собственного, а как к усло-
виям чужого богатства и своей собственной бедности. Но сама эта
антагонистичная форма преходяща и создает реальные условия
своего уничтожения» 26. Прослеживать, как это своеобразие капи-
талистического развития связано с неизбежностью и своеобразием1
пролетарской революции, в задачи нашего исследования не
входит.
Для нас здесь важны два момента: первый — развитие про-
изводительных сил не имеет «священной грани» в отличие от
предыдущих формаций; оно, взятое само по себе, обладает имма-
нентной тенденцией к безграничности; второй — процесс безгра-
ничного расширения производительных сил протекает в постоян-
ном взаимно оплодотворяющем обмене и взаимодействии со столь
же безграничным совершенствованием научного метода; вместе
с устранением препон росту производства исчезают и все препо-
ны распространению и углублению научного метода. Лишь теперь
развитие науки теоретически и практически обретает характер
бесконечного процесса. С этим тесно связано и то, что достиже-
ния науки все сильнее проникают, прежде всего благодаря пре-
образованию трудового процесса, в повседневную жизнь и, не
изменяя ее основную структуру, существенно модифицируют спо-
собы ее проявлений. Сюда относится, например, все более углуб-
133
Ляющийся разрыв тысячелетиями сохранявшейся связи между
^ремеслом и искусством, проникновение науки в такие сферы жиз-
а-ш и труда, которые до этого были весьма далеки от ее воздейст-
вия, и т. п.
Это положение, в корне новое, влияет и на второй социаль-
ный момент, сковывавший развитие научного духа: по-иному
обстоит дело с осуждением неприемлемых в силу классовых со-
ображений обобщающих выводов науки. Само по себе такого ро-
да осуждение или отклонение — явление общее, такая нетерпи-
мость свидетельствует о том, что положение господствующего
класса становится затруднительным. Наука, возникшая с помо-
щью освобожденных данным строем от оков производительных
сил, если ее выводы методологически и идеологически последо-
вательны, вступает в противоречие с идеологическими предпо-
сылками его классового господства. Новая ситуация при капита-
лизме заключается в раздвоении интересов господствующего
класса: с одной стороны, он не желает терпеть ни малейшей
трещины в мировоззрении, поддерживающем его господство; с
другой стороны, он вынужден под угрозой гибели все дальше
развивать производительные силы и тем самым поддерживать
науку. Эта социально-исторически обусловленная двойственность
роли господствующего класса в том, что относится к обсуждае-
мой нами проблеме — дезантропоморфизации научного отраже-
ния, — придает новую окраску движениям идеологической ре-
акции.
Конечно, господствующий класс, особенно на первых порах,
пытается еще по-старому реагировать на новшества научного
метода и на его новейшие завоевания. Это видно яснее всего по
великим битвам в связи с переворотом в астрономии, произведен-
ным Коперником. Не вдаваясь в детали, отметим, что идеологи-
ческие силы тогдашней реакции были вынуждены в конце концов
признать новые достижения, по крайней мере терпеть дальней-
шее развитие науки на основе новых методов, хотя и отклоняя
и даже преследуя идеологические выводы (вспомним о позиции
кардинала Беллармина). В позднейших столкновениях науки с
реакционной идеологией мы еще ясней видим ту же картину.
Из этого, однако, вовсе не следует, что метод науки и ее до-
стижения, в которых все более сознательно и энергично утверж-
дается принцип дезантропоморфизации, стали идеологически
приемлемыми для господствующего класса. Напротив, его сопро-
тивление научному методу усиливается. Но он вынужден прибе-
гать к новым средствам борьбы. Эти средства не должны препят-
ствовать нормальному, практически действенному развитию нау-
ки (включая, разумеется, и ее дезантропоморфизацию), но долж*
иы притупить острие идеологических обобщений, выведенных из
научных завоеваний, извлекая из них лишь те, что укрепляли бы
охранительные тенденции существующего строя. Плацдарм фи-
лософских сражений сужается. Объективный, идеализм поздней
134
античности сумел противопоставить конкретной дезаитропомор-
фистской картине мира в научной философии свою, тоже кон-
кретную, но антропоморфистскую картину (Демокрит — Платон*
Эпикур — Плотин) ; новые реакционные тенденции устремляются
обычно вспять, к гносеологически ориентированному субъектив-
ному идеализму. Смысл такого рода попятных движений очеви-
ден. Коль скоро невозможно более противопоставить научной
картине мира конкретную картину мира в духе антропоморфиз-
ма, остается «критически» отвергнуть претензию человеческого
познания вообще на проникновение в объективную действи-
тельность. Среди эмпирических явлений наука может отныне
царить и править, как ей угодно, ибо на этой основе нельзя
сделать каких-либо выводов относительно в-себе-сущего мира
и вообще относительно объективной действительности. Став субъ-
ективным, философский идеализм отступает назад — на пози-
ции чисто гносеологического недопущения объективной карти-
ны мира.
Не беремся даже наметить сферу вариативности возможных
вытекающих отсюда установок. Они образуют область возможно-
стей, простирающуюся от простой «теоретико-познавательной» ре-
конструкции религий до религиозного атеизма, от полного агно-
стицизма позитивистов до свободного мифотворчества и т. д. От
дальнейшего рассмотрения этого множества форм следует отка-
заться хотя бы потому, что в аспекте нашей проблемы все они
демонстрируют одно — антропоморфизацию. Естественно, эта тен-
денция отчетливее выступает там, где налицо попытки философ-
ского «спасения» старых религиозных представлений или новое
мифотворчество. Однако и здесь древняя ложная вера в объек-
тивность создаваемых людьми образов расшатывается все силь-
нее. У Шлейермахера или Кьеркегора осознание субъективности
становится принципом новой религиозности; эта ориентация про-
слеживается и в других, менее явных случаях. В целом тенден-
ция к сохранению или воссозданию религии как явного противо-
поставления науке переживает новую эмфазу. Уже у Паскаля мы
находим идею о том, что «богооставленность» мира в результате
натиска дезантропоморфирующей науки являет картину кошмара,
против которого следует настойчиво мобилизовать все «человече-
ские» (то есть антропоморфирующие) силы религии. Этот при-
зыв с течением времени обретает все новые силы. Чем менее
выносим для правящего класса подлинный облик действительно-
сти, тем интенсивнее его идеология приписывает науке черты
бесчеловечности, античеловечности. Если в пафосе такой миро-
воззренческой полемики против научности ее клеветнически об^-
виняют в том, что метод науки, ее приближение к объективной
действительности как таковой, ее дезантропоморфное отражение
бесчеловечны, то ясно, что в философском аспекте предпочтем
ние отдается антропоморфирующему — явно или неявно — ме-
тоду.
135
В то же время возрастающее значение субъективизма в этом
'процессе должно — сознательно или бессознательно — усиливать
тенденцию возврата к антропоморфизму. В чисто философских
системах нового времени это можно, по-видимому, увидеть еще
:яснее, чем в системах религиозных или направленных на укреп-
ление и обоснование религиозности; чисто философские системы
вынуждены выступать с претензией — пусть порой заметно мень-
шей — на объективность, как бы ни мало последняя поддавалась
философскому доказательству. Если при этом вспомнить о субъ-
ективизации категории времени в философской литературе от
Бергсона до Хайдеггера или категории пространства от Шеллера
;до Ортеги-и-Гасета, то становится ясно, что здесь с философской
осознанностью переживание и переживаемое выдвигаются в ка-
честве «истинной» действительности объективного мира; то, что
.^привносится субъектом, своеобразие его непосредственного вос-
гприятия действительности объявляется подлинным и противопо-
лагается «мертвой» объективности научного познания. Так у
Шелера в результате современного общения «расширившийся
физический мир стал менее реален и менее субстанциален»27.
Юртега-и-Гасет видит великий философский прогресс в том, что
<«на деле с того места, где я нахожусь сейчас, все прочие мест-
ности мира организуются в живую, динамическую в своих вол-
нующих дух напряжениях перспективу, — перспективу: близ-
кое — далекое»28. Здесь в отношении пространства, как ранее у
Бергсона в отношении времени, антропоморфирующая субъектив-
ность как некий высший принцип открыто противостоит дезаы-
тропоморфирующей науке. -i
Таким образом, очевидно, что идеологическая реакция высту-
пает в наше время не менее явственно, чем во времена антич-
ности. Существенное различие состоит, однако, в том, что потря-
сение основ научного духа реакционной философией совершенно
по-иному, а именно гораздо слабее воздействует на методологию
и практику самой науки. Мы вправе утверждать, что прогресс в
познании действительности и его влияние на повседневную жизнь
продолжают в основном неудержимо развиваться. Разумеется,
лишь в основном, ибо нет никакого сомнения, что практическая
методология науки не отделена китайской стеной от мировоззре-
ния и от теории познания. К тому же современная антропомор-
физация столь абстрактна, столь обесцвечена и так усиленно
сублимируется, что вполне может проскользнуть в научную ме-
тодологию, не оставляя на поверхности видимых следов измене
ния в методе. (Стоит только вспомнить об отношении неопреде-
ленности Гейзенберга). Однако именно в таком изменении функ-
ции антропоморфистского мировоззрения ясно ощущается, как
переменились времена: дезантропоморфизация одержала реши-
тельную победу в научном отражении действительности, и ее влия-
ние— невзирая на идеологическую реакцию — неудержимо рас-
пространяется в научной и повседневной практике.
136
Ниже на неопровержимых фактах процесса труда детальна
прослеживается необходимость дезантропоморфизации важней -
шей области человеческой деятельности в эпоху капитализма;
этот процесс неудержимо ширится с развитием производитель-
ных сил, охватывая все новые и новые стороны человеческой
практики, постоянно возрастая внутренне и внешне. Такая си-
туация обусловливает своеобразие мировоззренческого сопротив-
ления, типологию его сущности, его объем и границы; благодаря
ей (и вопреки всем усилиям) наступление регресса, подобное от-
меченному нами во времена античности, невозможно, так как
постоянно расширяющаяся область человеческой практики все
интенсивнее захватывается категориями дезантропоморфизации^
и сами идеологи антропоморфизма не только не могут, но и на
хотят пресечь процесс проникновения практической дезантропо-
морфизации в вопросы мировоззрения, ибо она стала основой
силы того класса, идеология которого формировалась поборника-
ми антропоморфизации. Поэтому идеологическая борьба этого»
класса — в противоположность ситуации поздней античности m
средневековья — ограничивается, как мы видели, реинтерпрета-
цией мировоззренческих приложений прогрессирующей дезантро-
поморфизации науки без малейших попыток изменения суг№
самого процесса. Представление о «свободной воле» элементарных:
частиц могло бы внести сумятицу в круг физических проблем ж
парализовать движение физической мысли к разумному един-
ству интерпретации явлений; однако интеллектуальный аппарат
в этой области должен оставаться в своей методологической при-
ложимости (и вопреки привносимой антропоморфной мифологии)5
дезаытропоморфным в такой же степени, как и у побежденного«
противника. Итак, антропоморфирующая реакция на новые вея-
ния в науке представляет собой скорее не отвоевывание утрачен-
ных территорий, как это происходило начиная с Платона и вплоть»
до схоластов, а субъективно-религиозную <лирическую» песнь
утешения. Своеобразие мышления нового времени, состоящее-
в том, что научный принцип требует внедрения универсализации!
в неслыханных доселе масштабах, причем небывало обостряются:
и противоречия науки с мировоззренческой философией, полу-
чает свое объяснение в приводимых выше положениях: та кар-
тина мира, которая навязывает человеку дезантропоморфирующее
отражение действительности, хотя и неизбежна практически и
экономически, но все менее приемлема идеологически для бур-
жуазии и буржуазной интеллигенции.
Как общее явление этот феномен, бесспорно, связан с возра-
станием кризисности буржуазного существования, с ростом era
бесперспективности. Страх перед крушением религии, перед «бо-
гооставленностью» объективной действительности при восприя-
тии ее с чисто научной точки зрения в единичных случаях про-
являлся уже достаточно давно. Паскаль — первый великий тому
пример; он мог бы как математик и физик быть провозвестником
Ш
нового не только по отдельным результатам своих работ, ею и в
методологии в целом; несмотря на это, он оказался не в силах
противостоять духовному шоку, возникшему при его собственной
разработке системы овладения миром. Конечная причина этого—
социальная. Изгнание из картины мира антропоморфных рели-
гиозных представлений может, как учит нас история мышления,
оказать на отдельного человека как воодушевляющее, так и угне-
тающее вплоть до отчаяния впечатление. Это воздействие коре-
нится глубоко в особенностях жизни каждого конкретного чело-
века, в его существовании в целом, в качестве живого Человека,
в повседневности; следовательно, в каждом единичном случае оно
но большей части не аргументируется ни научными, ни общими
логико-методологическими, ни конкретными фактами, ни перво-
причинами, объясняющими некоторые совпадения, но проявляет-
ся как жизненное ощущение целостного человека, коренящееся
в его переживаниях, эмоциях, опыте. Однако объективно это
^существование обусловлено общественным бытием данного чело-
века, общей структурой, уровнем развития и т. п. общества, в
котором он живет, местом, которое он в нем занимает; и в основ-
ном не всякий способен это увидеть. Томас Манн в «Волшебной
горе» блестяще описывает такую обычно остающуюся неосознан-
ной основу жизнеощущения капиталистической повседневности,
решающую для данной проблемы. О Гансе Касторпе, кстати ска-
зать, инженере, он говорит: «Человек живет не только своей лич-
ной жизнью, как отдельная индивидуальность, но — сознательно
или бессознательно — также жизнью целого, жизнью современной
ему эпохи; и если даже он считает общие и внеличные основы
своего существования чем-то безусловно данным и незыблемым
и далек от нелепой мысли критиковать их, как был далек наш
Ганс Касторп, то все же вполне возможно, что он смутно ощу-
щает их недостатки и их воздействие на его нравственное само-
чувствие. Перед отдельным человеком могут стоять самые раз-
нообразные задачи, цели, надежды и перспективы, и он черпает
в них импульсы для более высоких трудов и усилий; но если в
том внеличном, что окружает его, если, несмотря на всю внеш-
нюю подвижность своей эпохи, он прозревает в самом существе
ее отсутствие всяких надежд и перспектив, если ему открывает-
ся ее безнадежность, безвыходность, беспомощность и если на
все — сознательно или бессознательно — поставленные вопросы о
высшем, сверхличном и безусловном смысле всяких трудов и уси-
лий эта эпоха отвечает глухим молчанием, то как раз у наиболее
честных представителей человеческого рода такое молчание поч-
ти неизбежно вызывает подавленность, оно влияет не только на
душевно-нравственный мир личности, но и каким-то образом на
ее организм, на ее физический состав. Если эпоха не дает удов-
летворительных ответов на вопросы «зачем», то для достижений,
превосходящих обычные веления жизни, необходимы либо мо-
ральное одиночество и непосредственность — а они встречаются
Л 38
весьма редко и по существу героичны, —- либо мощная жизнен^
ная сила» 29.
Это общественное бытие в условиях капитализма, в особенно-
сти в период его упадка, характеризуется растущей неопределен-
ностью общественной жизни в целом, что составляет резкий кон-
траст' возрастанию ясности отдельных научных событий и мето-
дологии науки. Так, даже такой представитель естественных
наук, как Планк, страстно оберегавший методологическую систе-
му своих исследований от всех современных попыток мифологи-
зации, мог провозгласить общность религии и науки, хотя и ясно
осознавал дезантропоморфирующую тенденцию второй и антропо-
морфистскую сущность первой. При этом характерно, что он про-
водит границу менаду познанием (наукой) и действием (религией),
исходя во втором случае из неполноты, несовершенства познания,
«так как мы не можем ждать с нашими волевыми решениями, по-
ка познание не станет совершенным или мы — всеведущими. Мы
находимся в центре жизни и зачастую должны отвечать на ео
многочисленные требования и нужды мгновенными решениями
или реализацией убеждений; правильному оформлению этих ре-
шений или убеждений помогает не длительное размышление, но
определенное и ясное указание, получаемое нами в непосредст-
венном контакте с богом» 30. Здесь ясно подразумеваются жизнен-
ные условия повседневности. Позиция Планка не меняется от
того, что он не осознает общественный, экономически и социаль-
но обусловленный характер среды и допустимых в ней форм дей-
ствия. Эта позиция только подтверждает наше вышеприведенное
высказывание о том, сколь тесно связаны структуры религии
и повседневной практики, равно как и основополагающий тезис
Маркса об условиях существования и отмирания религии: «Рели-
гиозное отражение действительного мира может вообще исчез-
нуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной
жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных свя-
зях их между собой и с природой. Строй общественного жизнен-
ного процесса, т. е. материального процесса производства, сбро-
сит с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда, когда
он станет продуктом свободного общественного союза людей и
будет находиться под их сознательным планомерным контролем.
Но для этого необходима определенная материальная основа об-
щества или ряд определенных материальных условий существо-
вания, которые представляют собой естественно выросший про-
дукт долгого и мучительного процесса развития» 31.
Мы упоминаем Планка как пример беспристрастного, стихий-
но-материалистического применения в науке метода дезантропо-
морфизации; рост независимости отражения действительности от
органов человеческого восприятия он рассматривал как нечто само
собой разумеющееся: «Исключение специфического чувственного
восприятия из числа фундаментальных понятий физики естест-
венным образом повлекло за собой вытеснение органов чувств
139
специализированной измерительной аппаратурой. Глаз отступил
перед фотографической пластинкой, ухо — перед колеблющейся
мембраной, ощущающая тепло кожа — перед термометром. Вве-
дение саморегистрирующих аппаратов обеспечило далеко идущую
^независимость от источника субъективных ошибок» 32. В этих рас-
суждениях полностью отсутствует страх перед тем, что дезантро-
поморфизация научного познания как рефлекс «богооставленно-
го» мира субъективно превратится в принцип бесчеловечности.
Напротив, у Планка не вызывает сомнений, что возникающий
процесс бесконечного приближения к миру, который существует
сам по себе, независимо от нашего сознания, —- это единственное
реальное средство человеческого познания и вместе с тем господ-
ства человека над объективной действительностью. Поэтому столь
примечательно допускаемое им мировоззренческое сосуществова-
ние крайне широко практикуемой дезантроиоморфизации науч-
ного отражения действительности с религией (к'ак принципом
действия, но не познания мира, как элементом обыденной жиз-
jhïï, но не руководством в науке).
Воззрения, подобные точке зрения Планка, — ненадежная пло-
тина, слабо препятствующая проникновению антропоморфистски-
мистических тенденций в мировоззрение и через него, опосредо-
ванно, зачастую и в науку. Для отстаивания новых принципов
«отражения действительности, для точного и аргументированного
разделения антропоморфизации в обыденной жизни и в религии
необходим пафос совсем иной мировоззренческой правоты; вспом-
ним продолжение и конкретизацию великих начал древнегрече-
ской мысли в эпоху Возрождения и в последовавшее за ней вре-
мя. Не для анализа истоков этой правоты, но для разъяснения
субъективной стороны подобного типа отражения необходим
краткий экскурс в антропологию и этику. Так как соображения
«объема не позволяют заняться здесь этой проблематикой с долж-
ной степенью полноты, ограничимся вопросом, очевидно состав-
ляющим ее ядро, подчеркнув — на этот раз в положительной пер-
спективе — общественно-исторический характер как спонтанного,
так и осознанного повседневного поведения в его взаимосвязи с
дифференцированными, производимыми человеком, но обретаю-
щими самостоятельность объективациями; это следует делать
даже тогда (и особенно тогда), когда отдельные мыслители (как
в разбираемых нами случаях) никоим образом не желают при-
знавать подобной социально-исторической детерминированности и
даже — имплицитно или эксплицитно — придерживаются мнения,
что следует стоять выше подобных определений.
Наиболее отчетливо проведена научно-дезантропоморфистская
точка зрения и акцентировано достигнутое таким путем философ-
ское обоснование господства человека над его жизнью в обществе
у Гоббса и особенно у Спинозы. Оба философа стремились ис-
пользовать созданный для овладения природой «геометрический»
метод при построении антропологии, психологии и этики33. Здесь
/;140
ие место критиковать возникшие при этом методологические ил-
люзии; к рассмотрению мотивов, предопределивших эти иллюзии,
мы еще вернемся. Теперь же важно лишь подчеркнуть, что для
господства человека над его собственными аффектами, для дости-
жения им свободы в том смысле, который имеет это слово у Гобб-
са и Спинозы, решающую роль играло непризнание какой бы то
пи было трансцендентной (следовательно, и религиозной) силы.
Великая мысль Спинозы: «Аффект может быть ограничен или
уничтожен только противоположным и более сильным аффектом,
чем аффект, подлежащий упрощению» 34, имеет в качестве образ-
ца (это легко подтвердить) наблюдение за трудовым процессом.
Но в то время как в обыденном и религиозном мышлении об-
разец планирующей телеологии проецировался на самое объек-
тивную действительность, в данном случае телеологически приме-
няемая каузальная закономерность трудового процесса исполь-
зуется для прояснения внутреннего поведения человека и его
отношений с другими людьми. (Напомним: Гегель говорил, что
посредством орудий труда природа «обрабатывает» самое себя
для самой себя.) Таким образом, познание независимых от чело-
веческого сознания законов в-себе-сущей действительности ука-
зывает человеку путь к свободе, ибо свобода раскрывается для
него как прояснение подлинных объективных сил, которые он
может использовать лишь с помощью адекватного познания, и
как разоблачение тех воображаемых, бессознательно им самим
порожденных сил, которые он также может преодолеть лишь с
помощью подобного же прояснения их сущности. Эти мысли,
разумеется, являются результатом длительного, тысячелетнего
развития.
Мы рассмотрели в общих чертах становление дезантропоморф-
ного принципа в плане изменения объективной картины мира в
человеческом представлении и рационализацрш человеческой
практики. Мы исходили из того, что этот преобразовательный
процесс и его последствия вырая^ают действительно первичные и
решающие стороны научной дезантропоморфизации. Не следует,
однако, сбрасывать со счета и субъективной стороны воздействия
этого процесса, его влияния на личное мировоззрение, на этику,
на образ жизни и т. п., тем более что идеологическое сопротив-
ление этому подлинно научному принципу постоянно концен-
трирует свои усилия на одном и том же: отказ от антропомор-
физма якобы равнозначен бесчеловечности, обесчеловечиванию
(обезбожению) мира, превращению человека в автомат, стира-
нию его личности, уничтожению смысла его деятельности и т. п.
Подобная аргументация в последнее время появляется даже у тех
людей, которые признают эту методологию не только чисто прак-
тически, но и в сфере знания. Так, например, Гелен, при всей
несомненности его научных заслуг, говорит об отношениях чело-
Бека в «архаический» (по Гелену — домагический) период: «Так
жак человек по сути своей существо культурное, то природа его
141
вплоть до самых ее глубин — «культурная природа»; даже саму
объективную природу он односторонне обедняет теоретически и
практически в той степени, в какой он ее вообще постигает, так
что любая «картина природы» представляет собой тенденциозно
выбранный фрагмент, ибо как минимум момент художественного
(даже фиктивного) выбран безусловно априорно. Вследствие
этого реальность как таковая и внутри и вокруг него полностью
трансцедентна, когда же ее, как в науке, например, тем не менее
удается^ хотя бы приблизительно постичь, она выказывает черты
бесчеловечности, так что у современного человека отнята архаи-
ческая возможность понять в природе себя»25. Так и многочитае-
мый и многоцитируемый теперь писатель Роберт Музиль гово-
рит: «Боюсь, что эта мысль (после обеда на софе) относится не
к моему творчеству, а к моей биографии: бог по обычному пред-
ставлению — это соотношение вращающегося электрона и физи-
ческого целого; тогда что ему до того, строят ли * готическом
стиле или как-нибудь еще? Духовные расхождения не имеют си-
лы законов природы; следовательно, если человек не избыточнее
отвеса, то вышестоящее целое духовно. И даже, может быть, уже
непосредственно вышестоящее» 36. Подобные высказывания можно
было бы привести во множестве.
На это можно возразить, что со времен античности, с первого
же сознательного проявления дезантропоморфирующего принципа
в греческой науке вырастающая из него, сама по себе неизбежно
антропоморфистская этика непрерывно и настойчиво, хотя и не без
отступлений — быть может, порой непоследовательно, зигзагооб-
разно, — развивает такой тип человеческого поведения, который
стоит в полном противоречии с изложенными выше установками
адептов антропоморфизма; в освобождении от этого последнего
она ищет опору для истинно гуманистического, подобающего че-
ловеку и его достоинству мировоззрения. Такая этика начинается
в человеке и достигает в нем своей вершины, но именно поэтому
она постулирует внешний мир, независимый от антропоморфист-
ского мышления о нем. Мы уже прослеживали выше [с. 126 и сл.1;
эти тенденции в греческой философии. Маркс пишет в этой связи:
«...Он увидит там, что не стоик есть воплощенный мудрец, а муд-
рец, sophos, есть лишь идеализированный стоик; он увидит также,,
что sophos выступает не только в образе стоика, но и встречается
точно так же у эпикурейцев, ново-академиков и скептиков. Вооб-
ще же sophos есть первый образ, в котором предстает перед нами
греческий philosophos [любитель мудрости; философ. — Ред.]; он
выступает мифологически в семи мудрецах, практически — в Со-
крате и как идеал — у стоиков, эпикурейцев, ново-академиков и
скептиков. Каждая из этих школ имеет, конечно, своего собст-
венного aocpoç [мудреца. — Ред.]... Более того, святой Макс можег
найти «le sage» [мудреца. — Ред.] в XVIII веке, в философии про-
свещения, и даже у Жан-Поля в лице «мудрых людей», вроде-
Эммануила и т. д.» 37. При всех различиях, которые могут наличест-
142
вовать внутри этих типов мышления в силу исторических, соци-
альных и личностных причин, в них выражается одна общая
всемирно-историческая черта: именно научное отношение к дей-
ствительности является для них основой высшей гуманности,
этического поведения. Хотя Аристотель и критикует как натяж-
ку сократическое отождествление знания и морали, порицание
здесь относится лишь к тому, что он считает преувеличением, но
отнюдь не к самому принципу.
Понимаемая таким образом общность, при всем несходстве
даже в важных деталях, охватывает два круга вопросов. Во-пер-
вых, имманентность мировоззрения этическому поведению, то
есть ту взаимосвязь свободы с правильным (научным, дезантро-
поморфистским) познанием объективной действительности, о ко-
торой мы говорили. Эта имманентность исключает какие бы
то ни было трансцендентные связи и отношения также и для
моральной позиции человека: живя в мире, который он стремит-
ся постичь по возможности адекватно в соответствии с тем, каков
этот мир сам по себе, свободный от каких бы то ни было челове-
ческих интроекций, он берет на себя задачу самостоятельно по-
строить свою жизнь, введя ее в русло социально-исторического
развития человечества, и обрести смысл жизни в самой жизни, в
своей собственной жизни. Во-вторых, человек как «микрокосм»
должен вместе с тем рассматриваться также имманентно, по его
собственным законам, без мифологизации его силы и слабостей,
отнюдь не как нечто производное от потустороннего мира идей.
Упоминавшаяся уже нами теория аффектов Спинозы показывает,
куда ведет такой путь.
Подобные теории, конечно, сильно варьируют, они обусловле-
ны устройством общества, в котором должен действовать человек
как «микрокосм». Мы могли наблюдать, как в наше время фор-
мировались концепции «вечной» непознаваемости человека имен-
но в соответствии с сущностью современного капитализма, на
основе присущего ему гипостазирования «космической трансцен-
дентности». Такого рода ложные взгляды, однако, вовсе не фа-
тальны. Стоики и эпикурейцы тоже жили в обществе, которое
отвергали; но, отвергая общество, они не отказывались от взгляда
на человека как на вполне имманептный самодовлеющий «мик-
рокосм», напротив, они углубили это воззрение: невозможность
осуществления в данном обществе истинно гуманной жизни яв-
ляется силой, побуждающей еще более решительно, еще более
страстно и убежденно искать подлинно человеческой мудрости.
Таким образом, теоретическое и чувственное освоение дезантро-
поморфистски рассматриваемого мира не означает нигилистиче-
ского или релятивистского разложения действительной человеч-
ности, не лишает действующего человека цели и направле-
ния. Там же, где это происходит реально, мы неизбежно сталки-
ваемся с реакционным мифотворчеством.
При исследовании этой проблемы для наших целей доста-
143
точно ограничиться анализом аффектов страха и надежды. (Ра-
зумеется, речь пойдет только об аффектах в точном смысле сло-
ва. Когда же мы говорим о страхе и надежде на более высоком
духовном уровне, если, скажем, человек, принимая важное реше-
ние, «боится», что ему не хватит сил и упорства для его осущест-
вления, то здесь мы имеем дело с отражением в чувстве мораль-
ных соображений, а отнюдь не с аффектами.) Страх и надежда
как аффекты полярно противоположны друг другу, и в то же вре-
мя в них есть нечто общее — оба они могут быть вызваны не
только реальным стимулом: достаточно веры в этот стимул. Это
признавал уже Декарт38. Гоббс подчеркивал при этом, что их
объект — лишь «образы» блага или зла, и, следовательно, объект
этот носит чисто субъективный характер, являясь скорее пово-
дом, чем причиной. Такой аффект, следовательно, может быть
вызван и чем-то «недоступным представлению, ecjra только это
можно выразить посредством речи». При этом Гоббс указывает
на «панику», когда «мы пускаемся... в бегство, не зная даже, что
нас побуждает к этому» 39. Весьма сходным является анализ этих
аффектов у Спинозы. Он также отмечает их субъективный харак-
тер, то, что их объект возникает «из образа сомнительной вещи»;
следовательно, они по самой своей природе не что иное, как «не*
посредственное удовольствие» или «непостоянное неудовольст-
вие». Поэтому Спиноза подчеркивает, что эти аффекты «не могут
быть хороши сами по себе», они лишь показывают «недостаток
познания и бессилие души», вследствие чего также, «чем более
мы будем стремиться жить по руководству разума, тем более бу-
дем стремиться возможно менее зависеть от надежды сделать
себя свободными от страха, по мере возможности управлять своей
судьбой и направлять наши действия по определенному совету
разума»40.
Эти взгляды Спинозы имели большое влияние. Достаточна
сослаться на Гёте. Он выводит в «Фаусте» среди участников мас-
карадной процессии в императорском дворце Боязнь и Надежду
в цепях; Разумность говорит о них:
От Надежды и Боязни
Отступите в глубь прохода.
Худших нет бичей и казней
Человеческого рода.
(Перев. Б. Пастернака)
Весьма характерно для Гёте, что в дальнейшем он конкрети-
зирует эту мысль. В «Фаусте» он пишет об опасности страха w
надежды для общества; в «Изречениях в стихах» он рассматри-
вает оба эти аффекта как черты, наиболее характерные для
буржуа:
А кто такой филистер?
Подобие кишок,
144
Набитых страхом и надеждой.
От этого избавь нас бог!41
(Перев. А. Айхенвальд)
Здесь следует выявить связь между открытием и методологи-
чески точной разработкой понятия дезантроломорфного отраже-
ния, с одной стороны, и гуманизмом, защитой свободы и незави-
симости человека — с другой, отметив при этом, насколько вса»
эти тенденции антиаскетичны. Историческая обусловленность
форм проявления одной из них, а именно тенденции к отстаива-
нию свободы и независимости человека, самоочевидна, как и то,,
что социально-историческая обусловленность постановки проб-
лем и их решения в этнографии, этике и т. д. не остается на по-
верхности, но глубоко пронизывает содержательный и структур-
ный аспекты основополагающей проблемной сферы. Призвание-
основной гуманистической тенденции в приведенных высказыва-
ниях отнюдь не означает, что мы имеем дело с «вечными исти-
нами». «Геометрический метод» Гоббса или Спинозы столь же»
обусловлен временем, как и стоически-эпикурейская атмосфера
их этики. Обе формы могут оказаться конкретно преодоленными!
в ходе исторического развития общества и вместе с тем — науки,,
но при этом они не теряют своей фундаментальной значимости:
так, в эпоху империализма аффект страха, лишенного всякого
проблеска надежды, становится — в согласии со взглядами Кьер-
кегора — универсальной базой буржуазной фплософии и основой'
религиозного мировоззрения (включающего и религиозный:
атеизм) ; но если, как это было уже во времена Великой фран-
цузской революции и на качественно более высоком уровне строи-
тельства социализма, надежда обретает научную основу и кон-
кретную реальность, то это знаменует новый этап в развитии?
человечества; речь идет не просто об аффекте надежды, но о чув-
ственном отображении научно — философски, экономически w
т. д. — обоснованной перспективы. Нам остается сделать еще не-
сколько замечаний относительно основ этой взаимозависимости'
между последовательной дезантропоморфизаиией научного отра-
жения действительности и поведением человека в повседневной'
жизни, предполагающим решительное отклонение тенденции ус-
матривать в научной деятельности, в последовательно проводи-
мом научном мировоззрении нечто «бесчеловечное», считать чис-
то научное понимание мира враждебным сущности человека.
Необходимо прежде всего четко осознать и постоянно помнить,,
что дезантропоморфирующее отражение действительности являет-
ся условием и фактором дальнейшего поступательного развития
человеческого рода, орудием, с помощью которого он овладевает
окружающим миром.
Процесс дезаитропоморфизации ведет к высшему расцвету
самого человека, к расширению и углублению всех его способно-
стей, их действенной концентрации, влияние этого процесса на
10 Заказ № 683
Н£
личность человека безмерно велико. Мы вкратце говорили уже
о том, что в своем отношении к им же созданным высшим си-
стемам объективации — науке и искусству — целостный человек,
действующий в рамках обыденной жизни, превращается в цель-
ного человека, устремленного к какой-либо конкретной системе
объективации [с. 57]. Вопрос о роли в этом искусства будет еще
нами разбираться подробно [см. т. 2, гл. 8, § 2], в отношении же
к науке план настоящей работы позволяет нам сделать только
краткие и весьма общие замечания.
Высшая форма объективации возникает лишь тогда, когда все
ее объекты, обработанные и освоенные посредством отражения,
равно как и их отношения, приобретают гомогенность, единство,
отвечающее данному виду отражения. Не вдаваясь в подробно-
сти эстетического значения этого акта, которое будет анализиро-
ваться ниже, можно указать, что тот или иной из типов гомоге-
низации, соответствующей научной постановке задачи, имеет ме-
сто всюду, где требуется такого рода познание действительности.
Математика является чистейшей формой в таком смысле: в ней
достигается требуемая гомогенность содержания и формы отобра-
жаемой действительности; она также наиболее последовательно
выражает в своем преобразовании субъективного отношения тен-
денцию к свободе от антропоморфизма. Однако было бы ошибкой
не учитывать того, что все науки, в том числе общественные,
всегда создают единую посредующую систему для более полного
постижения и передачи свойств, отношений, закономерностей ис-
следуемого с определенной познавательной целью фрагмента
в-себе-сущей действительности. При этом речь всегда идет о бы-
тии-в-себе существующей независимо от человека действительно-
сти. Даже когда исследуют — биологически или социально-исто-
рически — самого человека, в конечном счете его рассматривают
■как своего рода объективную предметность или объективный
процесс. Дезантропоморфистский характер научного мышления в
отличие от художественного сказывается и в том, что оно стремит-
ся по возможности сохранить внутреннюю связность, бесконеч-
ную целостность исследуемого объекта — в-себе-сущей действи-
тельности—и в том случае, когда из него преднамеренно, с мето-
дологической целью, выделяется изолированно рассматриваемый
фрагмент. Такой фрагмент ни как объект, ни как аспект никогда
не обретет в науке — в противоположность художественному от-
ражению — абсолютной, замкнутой в себе, самодовлеющей само-
стоятельности; он не может превратиться в свой особый «мир» и
всегда сохраняет как предметно, так и методологически свой час-
тичный характер. Отсюда следует, что научное отражение дей-
ствительности может и даже должно, непосредственно и ничего
не меняя в них, использовать достижения других исследований,
тогда как в эстетическом мимесисе гомогенное посредующее
звено в каждом произведении представляет собой нечто непов-
торимое и окончательное, а поэтому заимствование элементов
146
формы или содержания — даже из своих собственных произведе-
ний — может быть опасным для художника. Напротив, основой;
гомогенной системы опосредования научного отражения в конеч-
ном счете (впрочем, только «в конечном счете») является нечто
единое для всех отраслей знания. Этим не снимаются различия
между отдельными научными дисциплинами, а также отдельны-
ми учеными, однако по сравнению с художественной сферой этш
различия носят относительный характер. Ибо, как бы ни были
своеобразны пути, избираемые различными дисциплинами и раз-
личными исследователями, в тенденции существует лишь одна«
наука, одно общее конвергирующее приближение к единому бы-
тию-в-себе объективного мира, и никакое единичное отражение?
не добьется истины, а следовательно, и устойчивости, если эта
тенденция — сознательно или бессознательно — в них не присут-
ствует. Это не лишает многие открытия индивидуального харак-
тера, но индивидуальность здесь приобретает совсем иной отпе-
чаток, чем в области эстетического.
Следует помнить об этом структурном различии предметно-
сти— в рамках объективного единства отражаемого мира, — если;
мы хотим правильно понять своеобразие цельного человека как
субъективный тип поведения, способствующий дезантропоморфи-
зации в человеке. Уже предыдущее изложение показывает лож-
ность утверждения о бесчеловечности дезантропоморфиой карти-
ны мира и соответствующего ей поведения. Самый процесс дезан-
тропоморфизации, как мы видели на примере труда, связан глу-
бокими корнями с повседневной жизнью целостного человека, ш
даже ее инструментарий обнаруживает часто столь незаметные
переходы, что установить границу порой бывает нелегко. Ибо
любое орудие труда объективно имеет дезантропоморфную осно-
ву: чтобы с его помощью можно было выполнить полезные для
человека операции, необходимо предварительно раскрыть era
свойства, возможности его применения и т. п., отказавшись от
привычного, повседневного метода наблюдения, свойственного-
целостному человеку. Однако поскольку средство труда, инстру-
мент для того только и служит, чтобы усилить прирожденные
или социально обусловленные человеческие способности либо
исправить допущенные человеком промахи, их применение вновь
возвращает целостного человека к повседневной жизни. При всей
плавности переходов существует тем не менее качественный ска-
чок к подлинной дезантропоморфизации науки; очки всего лишь
восстанавливают нарушенные нормальные отношения в повсед-
невной жизни целостного человека, тогда как телескоп или мик-
роскоп открывают одному из человеческих чувств дотоле недоступ-
ный ему мир и, следовательно, освобождают этот хмир от уподоб-
ления человеку. Таким образом, граница, практически постоянно
сглаживаемая промежуточными явлениями, устанавливается в
зависимости от того, возвращает ли средство познания целостного1
человека в обыденную жизнь или раскрывает качественно новый
10*
147
зиир, нечто в-себе-сущее, независимое от его сознания. Такой ска-
чок способствует формированию типов поведения цельного чело-
века. Когда речь идет о материалышх средствах познания, этот
»переход кажется весьма простым; сложнее обстоит дело, когда
.инструментарий носит преимущественно духовный характер; так,
например, обстоит дело с использованием математики там, где
перед человеческим мышлением возникают новые, ранее неиз-
вестные задачи, которые обыденное мышление решало бы каче-
ственно иными методами. Мир чисто количественных математи-
ческих соотношений отражает объективную действительность,
но, поскольку процесс абстракции создает гомогенную посредую-
,щую систему познания в чистом, единственно принимаемом во
внимание количественном виде, возникают такие понятия и их
сочетания, которые не имеют аналогов в повседневной жизни
целостного человека. Между тем они могут быть весьма плодо-
творно использованы для более полного познания в-себе-сущей
.действительности.
В противовес повседневной жизни дезантропоморфирующее
мышление ставит совершенно иные требования также перед нау-
ками, изучающими человека и человеческие отношения. И здесь
также речь идет о том, чтобы извлечь явления определенного каче-
ства из непосредственного и, казалось бы, неупорядоченного комп-
лекса данной действительности и соответственно гомогенизировать
их с целью выявления в-себе-сущих взаимосвязей, которые в про-
тивном случае остались бы скрытыми, и объективного исследо-
вания их имманентных закономерностей и взаимоотношений с
труппами предметов, иных по своей природе. Политическая эко-
номия может в некотором смысле служить наглядным примером
подобной гомогенизации. Конечно, эта наука редко достигает
завершенности и точности чистой математики; встречались и
встречаются в общественных науках примеры неправильного в
научном отношении отбора явлений действительности и непра-
вильной их группировки, но эти ложные применения, по сущест-
ву, не опровергают необходимости и плодотворности подобного
•подхода. (Не следует забывать, что спорные решения могут воз-
никнуть и возникают также и в случае применения чистой ма-
тематики, скажем, к области физических явлений.)
Характерные особенности дезантропоморфистского отражения
действительности цельным человеком возникают из диалектическо-
го единства постепенного перехода и скачка к такой гомогенной
системе опосредования, с одной стороны, и к целостному челове-
ку повседневности — с другой. В этом скачке происходит извест-
ная десубъективация, но благодаря ей многие решающие качест-
ва и свойства целостного человека снимаются лишь в той мере,
в какой они препятствуют воспроизводству данным субъектом
-соответственного гомогенного посредующего элемента. Все прочие
способности человека, включая, разумеется, и моральные, сохра-
няют свою действенность и играют большую роль в выработке
148
дезантропоморфного отражения мира. (Мы имеем в виду не толь-
ко проницательность, наблюдательность, комбинаторную способ-
ность и т. п., но и такие качества, как выдержка, мужество, стой-
кость и т. п.) Существо такого скачка заключается в том, что
для достижения результата решающую роль играют не столько
величина или интенсивность отдельных способностей, сколько то,
в каком сочетании и соотношении применяются они для соот-
ветствующего гомогенного опосредования, а в его границах к тому
или иному конкретному заданию. Эта диалектика особенно четко
выступает в общественных дисциплинах. Страстная тенденциоз-
ность, участие в теоретических битвах своего времени может при-
вести к раскрытию совершенно новых взаимосвязей и к их дезан-
тропоморфирующему, объективному истолкованию; это подтвер-
ждает пример Макиавелли, Гиббона, Тьерри, Маркса и др. Однако
^нетрудно также заметить, что содержание, направление, род
31 т. п. предвзятых установок и ориентации могут препятствовать
постижению взаимосвязей социально-исторической действитель-
ности и нарушать, а то и вовсе разрушать их дезантропоморфное
отражение. В образе профессора Корнелиуса из рассказа «Непо-
рядки и раннее горе» Томас Манн с тонкой иронией описывает
подобное поведение, отмечая склонность профессора упиваться
неразрешимостью стоящих перед ним проблем, общую для лю-
дей такого типа, когда он задается вопросами во внутреннем
монологе: «Но «взять сторону», — думает он, — неисторично, ис-
торична только справедливость. И конечно, под этим углом и по
здравом размышлении... Справедливость — не юношеский пыл,
не бравая, бездумная скоропалительность, а меланхолия; и пото-
му, что она — по самой своей природе — меланхолия, то и тяго-
теет ко всему, что отмечено меланхолией, и втихомолку держит
сторону того, что не имеет перед собой будущего, а не бравой
скоропалительности. Словом, она возникла из тяготения к бес-
перспективности и без такого тяготения была бы невозможна.
Что же, справедливости вообще не существует? — спрашивает
себя профессор...»
Скачкообразный характер этого перехода от целостного чело-
века к цельному человеку выявляется также, если проследить
отказ от дезантропоморфизации в жизни известных ученых. Как
часто они не делают закономерных выводов из результатов соб-
ственных исследований и даже из своих эпохальных открытий
и их позиция в повседневной жизни и в других областях науки
не только не соответствует их научным достижениям, но порой
диаметрально им противоречит. Конечно, подобное наблюдение
не ставит здесь задачи систематического или исторического ана-
лиза таких противоречий; мы лишь намечаем основные типы
проблематики, чтобы очертить в самом общем виде связь цель*
ного человека с целостным человеком повседневности в сфере
дезантропоморфного отражения. Но даже столь беглый очерк
■показывает, что было бы предубеждением рассматривать акт дез-
149
антропоморфизации в его всемирном поступательном движении-*
характерном прежде всего для нашей эпохи, как нечто направ-
ленное против человечности. Антигуманные тенденции всегда
возникают на социально-исторической почве, из социальной струк-
туры, из классовой ситуации, складываются внутри определен-
ной формации; эти тенденции могут проявляться и в науке, ноу
вообще говоря, в той же мере, что и в жизни или в искусстве;
конкретное рассмотрение этих проблем составляет предмет исто*
рического материализма и выходит из круга задач данной ра-
боты.
Обо всем этом следовало упомянуть хотя бы в общих чертах,
чтобы правильно понять вторую в истории великую и решающую
идейную битву за истинное понимание дезантропоморфизации
научного отражения. Так как нас прежде всего интересуют не
чисто исторические, а методологически-философсще проблемы,
мы снова ограничимся рассмотрением лишь некоторых осново-
полагающих типичных позиций. С наибольшей ясностью выска-
зался Галилей: «...Книгу философии составляет то, что постоян-
но открыто нашим глазам, но, так как она написана буквами^
отличными от нашего алфавита, ее не могут прочесть все: буква-
ми такой книги и служат треугольники, четырехугольники, круги,,
шары, конусы, пирамиды и другие математические фигуры...»42"
С нашей точки зрения, здесь наиболее важным является тор-
жественное провозглашение нового языка с его новым алфави-
том, означающего ясное и однозначное понимание новых форм
отображения действительности, сознательное, возведенное на уро-
вень метода отчетливое отмежевание от непосредственного, пол-
ностью обусловленного человеческой чувственностью способа
познания форм повседневной действительности. Не случайно этот
метод развивался в борьбе за астрономию Коперника, ибо именно
она стала первым решающим разрывом с геоцентрическим и, в
непосредственной связи с этим, аитропоморфистским взглядом на
космос. Здесь не место хотя бы вкратце излагать историю
борьбы за новую картину мира против господствовавших ранее
религиозных представлений. Однако поскольку выше мы отмеча-
ли тесную связь обыденной жизни с релрггиозным восприятием
действительности, небезынтересно указать на то, что новая кон-
цепция Галилея находилась в осознанно резком противоречии с
формами отражения действительности обыденным мышлением,
что резкое размежевание с этими формами является централь-
ным тезисом его методологических рассуждений: «Представления
о большом и малом, о верхе и низе, о полезном и целесообраз-
ном — это перенесенные на природу впечатления и привычки
повседневной человеческой жизнц». Вот почему следует преодо-
леть «ограниченную силу представления, натыкающуюся на свои
границы уже в случае больших чисел»; величина космоса также
выходит за границы обыденного мышления43.
С точки зрения методологии науки и с философской точки
150
зрения совершившийся переворот охватывает куда больший круг
вопросов, чем те, которые мы можем здесь отметить. Но каким
•бы иным вопросом мы ни занялись — отклонением ли телеологи-
ческого метода (в связи с проблемами «полезности»), или экспе-
риментальной методологией и т. п., — мы всегда будем возвра-
щаться к дезантропоморфирующему способу отражения, к отходу
от непосредственности обыденного мышления. Обратимся в заклю-
чение к области эстетики. Изучепие греческой философии пока-
зывает, как часто тенденция к дезантропоморфизации сталкивала
философию (науку) и искусство и приводила к осуждению искус-
ства; на более высокой стадии аптропоморфизации философии,
у Платона, враждебное отношение к искусству еще более усу-
губляется. Галилей и тут знаменует собой новое направление.
Именно потому, что он яснее, чем его предшественники, осозна-
вал специфику научного отражения, он намного превзошел их и
в правильном понимании эстетической сущности искусства44.
Дело здесь не только в индивидуальной особенности Галилея — с
подобным же отношением к этому противоречию мы встретимся
ж у Бэкона. Мы не можем в этой связи рассматривать причины
поздних рецидивов устаревших взглядов.
Бэкон дал наиболее разностороннее и универсальное описание
и обоснование новых, свободных от антропоморфизма методов.
Для того чтобы правильно понять значение Бэкона как мысли-
теля в анализируемом нами процессе самоутверждения мышле-
ния в качестве приближенно адекватного отражения объективной
действительности, прежде всего следует отказаться от возникшего
•еще до Гегеля, Гегелем же философски «углубленного» ошибоч-
ного представления о нем как о чистом эмпирике, духовном отце
позднейшего эмпиризма. Разумеется, центральным моментом его
•философии была практика, изменение мира с помощью правиль-
ного познания. Однако подобного рода целевая установка сама
по себе отнюдь не идентична эмпиризму вообще, и, как мы уви-
дим далее, не идентична именно у Бэкона. Один из его современ-
ных биографов, английский марксист Фарриигтои, формулирует
этот вопрос так: «Его особым стремлением было определить ме-
сто науки в человеческой жизни» 45. Это, однако, означает лишь,
что Бэкон, как и другие значительные мыслители того времени,
не желал рассматривать науку и философию обособленно от жиз-
ни человека, а пытался обосновать ее сущность именно во взаи-
мосвязи с жизнью. Сколь мало он при этом был эмпириком, пока-
зывает его классификация экспериментов. Он резко отграничи-
вает область эксперимента от — действительно эмпирической —
ремесленной практики своего времени и добавляет при этом: «На-
дежду же на дальнейшее движение наук вперед только тогда
можно хорошо обосновать, когда естественная история получит
и соберет многочисленные опыты, которые сами по себе не при-
носят пользы, но содействуют открытию причин и аксиом. Эти
опыты мы обычно называем светоносными в отличие от плодо-
151
носных»46. Следовательно, цель правильного эксперимента со-
стоит в том, чтобы порвать непосредственную связь теории и
практики повседневности (в данном случае — ремесла), преодо-
леть ее непосредственность путем открытия и включения как:
можно более значительных опосредовании. Впрочем, Бэкон вовсе
не стремился при этом воздвигнуть китайскую стену между нау-
кой и повседневной практикой (труд, ремесло и т. п.). Ссылаясь
на Цельса, он указывает, что чрезвычайно часто повседневная
практика порождает важные результаты, хотя «как бы случайно
и мимоходом», но, во всяком случае, без помощи теории, на ко-
торую влияла бы философия47.
Очевидное здесь ироническое отношение к философии опять-
таки не является аналогией враждебного теории эмпиризма. Это
была просто полемика против философии его предшественников
и современников, у которых он не находил искомого взаимодей-
ствия дезаитропоморфного отражения с установкой на обобщен-
ный, систематизированный, не ограниченный более непосредст-
венностью подход к практике. Полемика его была, следовательно,
направлена как против чисто ремесленного практицизма, так m
против чуждающегося практики теоретизирования; в обоих этих
направлениях он обнаруживал отсутствие системы планомерно-
сти в исследованиях, прежде всего в экспериментах, пустое аиа-
логизирование в поисках взаимосвязей. В обоих направлениях
следовало преодолеть случайность и поверхностность обыденного
мышления (Бэкон говорит о «мышлении толпы»). Оба, по его
мнению — как и по мнению Галилея, — блуждали в темном лаби-
ринте. «Здание этого нашего Мира и его строй представляют со-
бой некий лабиринт для созерцающего его человеческого разума,,
который встречает здесь повсюду столько запутанных дорог,
столь обманчивые подобия вещей и знаков, столь извилистые и
сложные петли и узлы природы. Совершать же путь надо при
неверном свете чувств, то блистающем, то прячущемся, проби-
раясь сквозь лес опыта и единичных вещей. К тому же (как
мы сказали) вожатые, встречающиеся на этом пути, сами сби-
ваются с дороги и увеличивают число блужданий и блуждаю-
щих» 48.
Бэкон подчеркивает методологическое значение математики
и геометрии далеко не столь решительно, как Галилей, Декарт
и Спиноза; с ожесточением нападает он на схематическое мыш-
ление, возникшее из схоластических традиций аристотелизма, и
с великой страстностью сражается за создание дезантропоморфи-
рующего исследовательского и общефилософского аппарата,,
обусловленного в-себе-бытием объекта, а не субъективным чело-
веческим мышлением. Основа этой решимости в том, что Бэкон
глубже своих великих современников, запимавшихся теми же-
проблемами, осознал диалектическую связь объективного позна-
ния с производительной практикой, реальным освоением при-
роды.
152
Разграничение между обыденным мышлением и научно-объ-
ективным отражением в-себе-сущей действительности Бэкон
устанавливает гораздо полнее и систематичнее, чем кто-либо иной
б эту великую эпоху обоснования дезантропоморфного мышле-
ния. В его учении об «идолах» возникает систематизированное
исследование тех видов обыденной жизни и обыденного мышле-
ния, которые затрудняют и искажают адекватное отражение ми-
ра. Это — своеобразная теория познания. В то время как в ходе
развития буржуазной философии отдельные исключительно гно-
сеологически ориентированные ее представители пытались уста-
новить пределы адекватной постижимости в-себе-сущего, способ*
ствуя тем самым субъективизации мышления; в то время как
убежденные в возможности познания объективной действитель-
ности философы не удостаивали вниманием подобного рода гно-
сеологические сомнения или же попросту отбрасывали их (Ге-
гель о Канте), Бэкон направил свои усилия на то, чтобы путем
критического анализа непосредственных отображений повседнев-
ности, их слабостей и ограниченности обосновать возможность
беспредельного приближения познания к истинному постижению
действительности. Его теория познания отличается также от позд-
нейших, сугубо дидактических педантски-философских гносеоло-
гии тем, что главную причину критикуемой им ограниченности
и искажений обыденного мышления он ищет в области явлений
антропологических и социальных. «Границы» познания здесь рас-
сматриваются, следовательно, не как вневременные пределы,
структурно обусловленные рамками субъектно-объектного отно-
шения, но как порожденные антропологическим либо социальным
развитием препятствия и заблуждения, вполне преодолимые для
человеческого разума, способного возвыситься над антропоморфи-
рующим уровнем обыденного мышления, что Бэкон считал и воз-
можным и необходимым. Таким образом, по своему характеру
его критический анализ границ познания значительно ближе —
даже если он и извлекает из него совершенно иные выводы — к
древнегреческому скептицизму, чем к современной буржуазной
субъективно-идеалистической гносеологии.
Чтобы несколько подробнее осветить сущность бэконовского
учения о познании, рассмотрим вкратце понятие «идолов», или
призраков, предрассудков. Бэкон различает четыре их вида. Во-
первых, idola tribus — идолы рода, имеющие преимущественно
антропологический характер. В их критике Бэкон отвергает
«здравый человеческий разум», непосредственное мышление обы-
денной жизни как недостаточное и антропоморфное: «...Ложно
утверждать, что чувства человека есть мера вещей... Ум человека
уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к при-
роде вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обе-
зображенном виде»49. Второй вид — idola specus, идолы пещеры
(здесь обыгрывается платоновское понятие «пещеры», но с про-
тивоположным смыслом), — обусловливает ошибки в мышлении
153
отдельных людей, причем их критика в антропологическом плане
перерастает в социальные обличения. «Ведь у каждого помимо
ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пе-
щера, которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит
это или от особых прирожденных свойств каждого, или от вос-
питания и бесед с другими, или чтения книг и от авторитетов;,
перед какими кто преклоняется, или вследствие разницы во вне*
чатлениях, зависящей от того, получают ли их дунш предвзятые
и предрасположенные или же души хладнокровные и спокойные,
или по другим причинам. Так что дух человека, смотря по тому,,
как он расположен у отдельных людей, есть вещь переменчивая,
неустойчивая и как бы случайная»50. Третий вид — idola fori,
идолы площади, возникает как результат всесторонних взаимоот-
ношений и общности человеческого рода. Здесь Бэкон выдвигает
на первый план социальную роль языка, но отвергает его непо-
средственно-обыденную форму и проявляющийся в ней способ
мышления как недостаточные для объективного познания: «...Сло-
ва же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому
плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаж-
дает разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли
вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не
помогают делу»51. Бэкон детально исследует опасность обиход-
ного слова, слова толпы, для однозначной научной терминологии,,
соответствующей объективной действительности. Люди считают,
что владеют своим способом выражения, «но бывает и так, что
слова обращают свою силу против разума... Большая же часть
слов имеет своим источником обычное мнение и разделяет вещи
в границах, наиболее очевидных для разума толпы. Когда же бо-
лее острый ум и более прилежное наблюдение хотят пересмот-
реть эти границы, чтобы они более соответствовали природе*
слова становятся помехой» 52. Так возникают два опасных «идо-
ла»; в рамках обиходного языка происходит становление двояко-
ложной системы наименований: «Одни — имена несуществующих:
вещей (ведь подобно тому как бывают вещи, у которых нет име-
ни, потому что их не замечают, так бывают и имена, за которыми
нет вещей, ибо они выражают вымысел); другие — имена суще-
ствующих вещей, но неясные, плохо определенные и необдуман-
но и необъективно отвлеченные от вещей» 53. Здесь критика сло-
ва переходит в критику непосредственного — и по большей части
аиалогизирующего — обыденного мышления. В другом месте Бэ-
кон предостерегает: «Человеческий разум в силу своей склонно-
сти легко предполагает в вещах больше порядка и единообразия,
чем их находит. И в то время как многое в природе единично и
совершенно не имеет себе подобия, он придумывает параллели,
соответствия и отношения, которых нет»54. Этому в обыденном
мышлении соответствует презрительное игнорирование привыч-
ного, причем о причинах того, что часто случается, не считают
нужным задуматься55. Столь же цепко держится в обыденном
154
мышлении все то, что издавна признано правильным, и все то,
что можно под это подвести, и, даже если число контрпримеров
очень велико, на них не обращают внимания, и т. д. Наконец, чет-
вертый вид —idola theatri, идолы театра, — порождается верой в
ложные «истины» предшествующих философских систем, обви-
няемых Бэконом (если исходить из смысла его критических за-
мечаний) именно в антропоморфизме, «превращающем мир в вы-
мысел и подмостки». При этом он настоятельно подчеркивает,
что его критика относится не к философии в узком смысле сло-
ва, а к практическим принципам отдельных паук.
Бэкоыовская критика обыденного мышления направлена так-
же против возможных аитропоморфистских погрешностей эмо-
ций и рассудка. «Недостаточность чувств двояка: они или
отказывают нам в своей помощи, или обманывают нас. Что ка-
сается первого, т. е. множества вещей, которые ускользают от
чувств, хотя бы и хорошо расположенных и нисколько не затруд-
ненных, это происходит либо вследствие тонкости тела, либо
вследствие малости его частей, либо вследствие дальности рас-
стояния, либо вследствие замедленности или быстроты движения,
либо вследствие привычности предмета, либо по другим причи-
нам. С другой стороны, и тогда, когда чувства охватывают пред-
мет, их восприятия недостаточно надежны. Ибо свидетельство и
осведомление чувств всегда покоятся на аналогии человека, а
не на аналогии мира; и весьма ошибочно утверждение, что чув-
ство есть мера вещей» 56. Приборы и прежде всего эксперимен-
ты — вот средство преодоления этого барьера: «Ведь тонкость
опытов намного превосходит тонкость самих чувств, хотя и поль-
зующихся содействием изысканных орудий... Таким образом, не-
посредственному восприятию чувств самому по себе мы не при-
даем много значения, но приводим дело к тому, чтобы чувства
судили только об опыте, а опыт о самом предмете» 57.
Мы уже касались бэконовской критики разума (обыденного
мышления). Созерцание изолированных простых фактов внеш-
него мира сковывает и ослабляет разум, а созерцание их сово-
купности оглушает и разлагает его. Итак, Бэкон бросает вызов
метафизической односторонности и окостенелости обыденного
мышления. Он требует такого типа созерцания, который способен
придать разуму как проницательность, так и восприимчивость.
Но в действительности острие его полемики обращается в этом
случае на проблему опосредования. Он критикует философию —
выделяя при этом Пифагора, Платона и его школу — за то, что в
ней «вводятся абстрактные формы, конечные причины, первые
причины, где очень часто опускаются средние причины, и т. п.»53
И здесь он ведет борьбу на два фронта, против абстракции и не-
посредственности, которые объединяет именно пренебрежение
опосредованием, апелляция к спонтанным реакциям на действи-
тельность человека как субъекта познания и невнимание к фак-
там, указывающим на существование мира скрытого опосредова-
155
ния, противоречащего непосредственно наблюдаемому. По Бэко-
ну, при этом возникает недопустимое соединение отдельного с
«глубокими и самыми общими принципами», и не только в уна-
следованной от схоластики силлогистике и т. п., но и в обыден-
ном мышлении, которое издавна имеет обыкновение с помощью
аналогий и выводов по аналогии извлекать из единичного общие
следствия. Бэкон противопоставляет этому требование ступенча-
того восхождения от наблюдения единичпостей к самым общим
закономерностям. Первые он рассматривает как смешанные с не-
посредственным опытом повседневности (сейчас предполагается
корректировка их в эксперименте), а последние находит «бессо-
держательными и ненадежными». «Средние же аксиомы истинны,
тверды и жизненны, от них зависят человеческие дела и судьбы.
А над ними, наконец, расположены наиболее общие аксиомы —
не абстрактные, но правильно ограниченные этици средними
аксиомами»59. В заключение можно сказать: обобщенный глу-
бинный смысл теории познания Бэкона при некоторых расхож-
дениях совпадает с направленностью методологических устремле-
ний Галилея: так сформировать человека как субъект познанияу
так преодолеть его непосредственно задапную ограниченность,,
чтобы сделать его способным читать книгу действительности.
Теория познания Бэкона выражает тенденцию, общую для его
эпохи, хотя и проявлявшуюся в то время в весьма разнообразных
формах. В этом можно убедиться на примере раннего произве-
дения Спинозы «Трактат об усовершенствовании разума». Здесь
в ряде мест обнаруживается поразительное совпадение с Бэко-
ном, несмотря на то что исходная философская позиция автора.,
а тем самым и его метод существенно иные. Смысл «усовершен-
ствования» заключается в отходе от обыденного мышления с его
непосредственностью и его антропоморфизмом; целью является
преобразование, перевоспитание субъекта в таком духе, чтобы он
был способен воспринимать закономерности действительности без
искажений, вносимых человеком как субъектом познания, осмыс-
ливать эти закономерности и приводить их во взаимосвязь в со-
ответствии с их собственной природой, а не с человеческими
аффектами. Спиноза решительно подчеркивает, что (правильно
понятый) порядок идей равнозначен порядку вещей, что следует
остерегаться иллюзий и не приписывать действительности того,,
что на деле обретается лишь в человеческом разуме60.
Спиноза исходит из того, что многое нужное в жизни человек
усваивает различными способами, из слухов, из непроверенного
опыта и т. п. Как и у Бэкона, речь при этом идет о критике
обыденного мышления.
Интересно, что уже здесь начинается борьба Спинозы против
абстракций этой сферы. Подобные абстракции исходят из заклю-
чений, основанных преимущественно на ощущениях, не улавли-
вают подлинной объективной сущности вещей, и выводы из них
«обманываются воображением»61; этим путем можно постичь
156
лишь акциденции, но никогда не субстанцию62. Серьезная опас-
ность такого абстрактного мышления, остающегося на уровне*
повседневности, заключается в том, что оно направлено на вы-
мышленные идеи63; чем более всеобщий характер оно носит, тем
запутаннее его выводы64. Поэтому Спиноза считает решающе-
важным тщательно разграничивать способность воображения и
способность познания. Подлинное познание достигается лишь,
тогда, когда «объективные действия в душе происходят в соот-
ветствии с формальной сущностью самого объекта»65. Лишь в~
этом случае — то есть в результате дезаитропоморфизации —
устраняется опасность «смешения ложных, фиктивных и сомни-
тельных идей с истинными» 66; лишь тогда проясняется, почему
«мы понимаем некоторые вещи, никоим образом не подвержен-
ные воображению, а что другие вещи присутствуют в воображе-
нии, будучи совершенно противны разуму...» п.
Параллелизм основных тенденций в плане изучаемой нами'
проблемы здесь тем очевидней, что философские воззрения на-
многие важные вопросы у Бэкона и у Спинозы различны, а за-
частую прямо противоположны. Историческое развитие, истоки*
которого следует искать в сфере производства, совершало в ту
эпоху переворот как в жизни, так и в мышлении. Мы выдвинули
на передний план полемику против обыденного мышления по-
тому, что оба великих мыслителя по отношению к собственно
религии часто держались весьма дипломатично (Гассенди, на-
пример, в большей мере, чем Бэкон) ; еще не изгладились из па-
мяти костры, на которых были сожжены Бруно и Ванини, не-
забыт допрос Галилея инквизицией. Наряду с этим в концепциях
и Бэкона и Спинозы сохранялись еще пережитки старых идеа-
листически-метафизических взглядов, которые, правда, в тезисе
Спинозы «deus sive natura» («бог или природа») низводятся до
уровня всего лишь терминологического отголоска прежних воз-
зрений. При этом резкое отграничение научного отраясения объ-
ективной действительности от чувственно-духовной непосредст-
венности и неупорядоченности обыденной жизни содержит импли-
цитно все принципы размежевания с любым религиозным по-
ниманием мира, отрицание какой-либо его ценности. По суще-
ству, речь здесь идет прежде всего о четко определившемся раз-
личии между антропоморфистским и дезантропоморфистским от-
ражениями. Когда человек возвышается над непосредственными
и в своей непосредственности связанными с традицией и освящен-
ными привычкой чувственными данностями, тогда он стремится
овладеть земным миром, целиком отдаваясь независимому от него
объективному в-себе-бытию этого мира и формируя свои чисто»
человеческие, свободные от всего трансцендентного силы, он тем,
самым делает решающий шаг и в сфере мировоззренческой..
Борьба за освобождение человеческого мышления, столь револю-
ционно начатая греками, возобновляется теперь на более высо-
кой стадии.
157
Тем самым de facto провозглашено было сопротивление идеализ-
му и религии: дезантропоморфное отражение действительности не
знает трансцендентности в точном смысле слова. Конечно, добытое
..этим путем знание достигает лишь определенной границы объек-
тивной действительности. Однако подобное отношение к сущему-
в-себе постулирует временность этой границы, ибо в принципе
всегда сохраняется возможность переступить ее при благоприят-
ных обстоятельствах, при должных усилиях и т. д. Вместе с тем
именно поэтому то, что лежит по ту сторону ее, не имеет харак-
тера трансцендентности. Как бы качественно ни отличалось вновь
познаваемое от прежде познанного (например, мир квантовой
-физики от мира физики классической), это различие остается кон-
кретным различием в исследовании новой области, оно не является
гносеологическим: существующая граница знания не есть предел
познания вообще. И напротив, там, где метод познания определя-
ется субъектом, эта граница неизбежно имеет специфически антро-
поморфную чувственную акцентированность как граница его ны-
нешних способностей в их отнесенности к миру, к уровню овладе-
мшя им объективной действительностью. Если же отношение
человека к миру отличается субъектной соотнесенностью, как это
имеет место в обыденном мышлении, в религии, в субъективном
идеализме, тогда граница познания — понимаемая в ее непосред-
ственности, а не в соответствии с ее местом в исторически разви-
вающемся процессе познания — неизбежно оказывается гранью,
«отделяющей нас от лежащего по ту ее сторону трансцендентного
мира. Чувственная окраска подобных воззрений — смирение,
страх, резиньяция и т. п.— является естественным следствием не-
посредственного отношения к жизненным фактам, самим по себе
весьма опосредованным и требующим обычно еще большего опос-
редования. Такое столкновение гносеологических подходов отра-
жается и на теоретическом осознании образа жизни целостного
человека. Выше мы уже приводили отдельные примеры из области
антропологии и этики рассматриваемого периода [с. 142 и ел.],
^подтверждающие, что процесс дезантропоморфизации мышления
диаметрально противоположен дегуманизации, так как его целью
является именно развитие и укрепление жизнеспособности чело-
веческого рода, возведение ее на более высокий уровень. Ориенти-
; рованность мышления на мир — как следствие его дезантропомор-
физации — означала рост человеческого могущества в этом все бо-
. лее открывающем свое богатство, все интенсивнее завоевываемом
: мире, а вовсе не пустоту или пропасть, которая ужасала Паскаля,
а вслед за ним и многих других мыслителей.
Непреодолимость, неминуемость и необратимость этого движе-
ния, отличающие его от аналогичных течений в Древней Греции,
связаны с тем, что оно коренится в ином общественном бытии. Мы
уже отмечали, что во времена античности рабовладение препят-
ствовало рациональному преобразованию производства даже там,
? где развитие науки само по себе делало такое преобразование воз-
1*58
можным; неотделимое от рабства презрительное, «мещанское», как
говорил Якоб Буркхард, отношение к труду мешало плодотворному
взаимодействию между материальным производством и наукой;
многие величайшие завоевания развивающегося мышления обре-
чены были оставаться оторванными от жизни, отвлеченно-фило-
софскими, далекими от повседневности и обыденного мышле-
ния. Средневековье показало, что с упразднением рабства стали
возможными на первых порах спорадические, но результативные
выступления науки против подобной изолированности от жизни.
На этой основе, реализуя и умножая это наследие, капиталисти-
ческая экономика сумела развернуть свое победоносное наступ-
ление.
Мы не будем даже бегло останавливаться на самом этом про-
цессе, нам важно лишь раскрыть тенденции дезантропоморфиза-
ции познания. Поэтому мы говорим здесь не о подготовительных
переходных стадиях, а только о решающих поворотных момен-
тах — о машине, и притом, как подчеркивал Маркс, о машине*
производящей машины. Маркс пишет о прядильной машине Джона
Уайетта, цитируя его программу, в которой говорилось о машине-
для того, «чтобы прясть без помощи пальцев» 68. Он отмечает в
этой связи принципиальную противоположность мануфактуры
(даже с высоким уровнем разделения труда) и машинной инду-
стрии: «В мануфактуре рабочие, отдельные или соединенные в
группы, должны выполнять каждый отдельный частичный процесс
при помощи своих ручных орудий. Если рабочий и приспосабли-
вается здесь к процессу, то и процесс, в свою очередь, уже зара-
нее приспособлен к рабочему. При машинном производстве этот
субъективный принцип разделения труда отпадает. Весь процесс
разлагается здесь объективно, в зависимости от его собственного»
характера, на свои составные фазы, и проблема выполнения каж-
дого частичного процесса и соединения различных частичных про-
цессов разрешается посредством технического применения механи-
ки, химии и т. д.» 69 Понятно, что, освобождая человека от роли:
движущей силы, эти процессы значительно ускоряются. Для нас:
существенней, однако, то, что трудовой процесс все менее зависит
от субъективной одаренности и других личных качеств рабочего и;
регулируется в зависимости от объективных принципов и законо-
мерностей: «Деятельность рабочего, сводящаяся к простой абстрак-
ции деятельности, всесторонне определяется и регулируется дви-
жением машин, а не наоборот» 70. Лишь этим способом был создан
материальный базис для неограниченного развития науки — прин-
ципиально неограниченное взаимное обогащение и стимулирова-
ние науки и производства; впервые в истории в основу и науки и:
производства был положен один и тот же принцип, принцип де-
зантропоморфизации.
Разумеется, этот новый принцип осуществлялся в высшей сте-
пени противоречивым образом. Однако рассмотрение его внутрен-
них и внешних противоречий не входит в наши задачи. Мы уже-
159^'
^говорили, что взаимоотношения между экономической выгодой
(при капитализме — прибылью) и научно-техническими усовер-
шенствованиями постоянно приводят к противоречиям, которые
-затрудняют и тормозят осуществление главной тенденции. Здесь
следует указать еще на одно из фундаментальных противоречий.
В противовес романтической, обращенной в прошлое критике на-
учного развития мы неоднократно подчеркивали, что принцип
.дезаитропоморфизации в существе своем есть принцип прогресса
и гуманизации. Но так как движущая сила при капитализме —
стремление к прибыли — несет в себе необходимые противоречия,
то это постоянно сказывается даже в самых основополагающих
проблемах; принцип гуманизации проявляется как принцип вели-
чайшей негуманности и даже антигуманности. Маркс, полемизи-
руя с апологетами капитализма, пытавшимися игнорировать это
•противоречие, самым решительным образом подчеркивал его не-
однозначность при характеристике машины: «Противоречий и ан-
тагонизмов, которые неотделимы от капиталистического примене-
ния машин, не существует, потому что они происходят не от
»самих машин, а от их капиталистического применения! А так как
машина сама по себе сокращает рабочее время, между тем как ее
капиталистическое применение удлиняет рабочий день; так как
сама по себе она облегчает труд, капиталистическое же ее при-
менение повышает его интенсивность; так как сама по себе она
знаменует победу человека над силами природы, капиталистичес-
кое же ее применение порабощает человека силами природы; так
как сама по себе она увеличивает богатство производителя, в ка-
питалистическом же применении превращает его в паупера и т. д.,
то буржуазный экономист просто заявляет, что рассмотрение ма-
шины самой по себе как нельзя убедительнее доказывает, что все
;эти очевидные противоречия суть просто внешняя видимость ба-
тиальной действительности, сами же по себе, а потому и в теории
юпи вовсе не существуют» 71. Однако подчеркивание одного лишь
этого враждебного человеку проявления экономического прогресса
шри капитализме создает одностороннюю картину. Мы уже указы-
вали, что Маркс критикует такой подход [с. 51 и ел.]. Речь идет об
основном внутреннем противоречии капиталистического общества,
выражающем своеобразие этой формации, а именно о том, что она
одновременно — и притом в нерасторжимом единстве — является
ги высшей формой классового общества вообще, в которой произ-
водство и наука способны максимально развернуть созданные
:здесь при антагонистических отношениях распределения объектив-
ные возможности развития, и в то же время — последней формой
^классового общества, которое само порождает своего «могилыци-
1ка». Двойная функция дезантропоморфизации труда и мышления
1Б ее капиталистической форме показывает на своей развитой ста-
дии, что практический прогресс в экономике и реакция в идеоло-
гии неразрывно связаны с разрушением объективных основ раз-
витого гуманизма и отбрасыванием гуманности в экономической
Д60
практике. На более ранних этапах, скажем во времена Сисмондиг
буржуазные ученые анализировали это противоречие достаточна
объективно и критически, однако по мере развития капитализма
самые лучшие побуждения оказывались не в состоянии найти себе
адекватное выражение в романтической критике. Как это ясно
показал Маркс в цитированном выше отрывке [с. 53], такого рода
дилемма неразрешима для буржуазного сознания на любой его
стадии. Новейшие тенденции к возрождению религии [с. 135 и ел.]
отражают это противоречие в полной мере; теперь, однако, перед
лицом неизбежности капиталистического развития со всеми его
последствиями, в том числе и для науки, к этому добавляются по-
пытки возродить посредством стилизации свойственную перво-
бытным историческим стадиям духовную атмосферу, чтобы ис-
пользовать ее в качестве противовеса идеологическим выводам из
всеобщей дезантропоморфизации трудовой практики и науки.
Идеология всеобщего отчаяния, страх перед «богооставленностью»
мира, перед «технизацией» души, жизни и мышления, перед «об-
ретшей самостоятельность» техникой, установившей тиранию над
человечеством, призрак стандартизации, «массовидности», духов-
ной жизни и т. п. — таковы современные буржуазно-апологетичес-
кие вариации той темы, которую в ее основных чертах охаракте-
ризовал Маркс.
Противоречивость общественного бытия затрудняет для буржу-
азного сознания конкретное и плодотворное применение дезантро-
поморфйстского учения об отражении в области общественных
наук. Важные выводы философов XVII—XVIII веков, классиче-
ских экономических учений нивелируются обилием неискоренимых
абстракций и прежде всего тем — это следует из вышеобозначенной
дилеммы, — что возведение их в ранг всеобщности не соответствует
динамически-прогрессивному, противоречивому и неравномерному
историческому развитию. В результате для них оказывается не-
возможным до конца последовательное методологическое приме-
нение принципа дезантропоморфизации в области наук о человеке.
В XIX—XX веках широко развивается дуализм метода: либо све-
дение общественно-исторического процесса с помощью ложных и
поверхностных абстракций к застывшему, мертвому формализму
(социология, субъективистские экономические учения и т. д.), ли-
бо стремление «спасти» историческую «жизненность», иррациона-
лизируя внешние проявления жизни человека, сводящееся в позд-
небуржуазной мифологизации истории к прокламации религиозно-
го антропоморфизма. Это, конечно, не исключает применения
дезантропоморфирующих методов в отдельных областях общест-
венных наук, например статистики и даже высшей математики в
экономике и социологии и т. д., что ничуть не меняет их методоло-
логических и мировоззренческих оснований; поворот же к антро-
поморфистскому иррационализму становится тем резче и непо-
средственнее, чем более сложно и имманентно разворачивается
математический аппарат. Здесь не место повествованию о цреодо-
11 Заказ № 683
161
лении этого ложного дуализма диалектическим и историческим ма>-
териализмом, где дезантропоморфирующее учение об отражении
стало основой и методом и для общественно-исторической дейст-
вительности как таковой. В нашу задачу не входит рассматривать
проблематику теории познания и методологии научного мышления;
мы стремимся лишь очертить важнейшие этапы отделения дезан-
тропоморфного отражения от обыденной жизни и обыденного мыш-
ления. И даже это — не самоцель, а скорее предпосылка для того^
чтобы адекватно поставить и решить собственно нашу проблему —
проблему отделения от этой общей основы эстетического отраже-
ния. Значению неравномерности и противоречивости процесса это-
го отделения, с одной стороны, и его необратимости — с другой»
будет уделено особое внимание в ходе дальнейшего изложения.
Прежде чем перейти к обсуждению самой проблемы, мы долж-
ны сделать еще два замечания. Во-первых, следует оценить, как
победа дезантропоморфного научного отражения воздействует на
обыденное мышление. Ибо мы уже упоминали вначале о том, что
дифференциация и превращение в самостоятельные сферы дея-
тельности таких явлений, как наука и искусство, отнюдь не обры-
вает, не обедняет их взаимодействия с повседневностью, а напро-
тив, интенсифицирует его. Притом в двояком смысле: с одной
стороны, вследствие того, что вопросы, обращенные к науке, воз-
никают из потребностей повседневной практики, и, с другой сто-
роны, вследствие обратного- воздействия завоеваний науки на по-
вседневную практику. О сложной неравномерности первого рода
взаимодействия мы уже вкратце сказали в связи с проблемой ка-
питалистической экономики и технического прогресса. При социа-
лизме эти отношения приобретают принципиально иной характер:
стимулы «снизу» не возникают совершенно стихийно и не подчи-
няются преходящим интересам извлечения прибыли, но могут шь
ощряться в организованном порядке; принципиально и целесооб-
разно проводимая демократизация воспитания приближает все
более широкие слои рабочего класса к деятельности на уровне
конструктора и инженера. Это развитие на практике иной раз за-
держивается другими тенденциями, что отнюдь не затрагивает
основной линии нашего анализа. Сравнение с аналогичными, по
видимости, явлениями в капиталистическом обществе мы отверга-
ем, так как там мы имеем дело с антагонистическими противоре-
чиями, коренящимися в самой сущности формации, в то время
как при социализме можно говорить лишь об искажении истинных
принципов его развития, которые поэтому — хотя и не всегда лег-
ко и быстро, но тем не менее в принципе — поддаются сознатель-
ному исправлению.
Обратное воздействие завоеваний науки на объективную мето-
дику и субъективное поведение также представляет собой весьма
сложный процесс. Нет сомнения, что в этом отношении капитализм
означает нечто качественно новое по сравнению со всеми предше-
ствующими формациями — не только потому,, что научно-техниче-
162
ский прогресс последних столетий (в особенности последних деся-
тилетий) проходит несравненно быстрее и воздействует революци-
оннее, чем црежде на цротяжении целых тысячелетий, но и
потому, что происходивший таким путем переворот в производстве
л науке столь же равноценно влиял и на повседневную жизнь.
Не останавливаясь на этом подробнее, отметим только, что струк-
тура повседневной практики и обыденного мышления даже в этом
♦бурном цреобразовании не изменяется в своей основе. Правда,
.наука и техника перестали быть секретом какой-либо касты, их
достижения — практически и еще больше пропагандистски — в
значительной мере превратились во всеобщее достояние. Однако
можно ли из этого сделать вывод, что в результате подобного про-
гресса в его самых разных формах, от любительских научных эк-
спериментов до чтения научно-популярной литературы и т. д.,
действительно полностью изменился общий характер человека на
уровне повседневности? (А ведь всякий человек в чем-то всегда
остается человеком повседневной жизни.) Превратилась ли его
деятельность в научную? Макс Вебер высказывает по этому по-
воду довольно верные соображения: «Прежде всего уясним себе,
'что же собственно практически означает эта интеллектуалистиче-
*ская рационализация с помощью науки и научно ориентированной
техники. Значит ли это, что ныне мы — скажем, каждый из нас,
сидящих в этом зале, — располагаем большим запасом знаний о
жизненных условиях, в которых мы живем, чем индеец или гот-
тентот? Вряд ли. Тот из нас, кто едет на трамвае, если он не спе-
циалист-физик, не имеет ни малейшего представления о том, как
действует эта машина. Да ему это и не требуется знать. Ему до-
статочно того, что он может «положиться» на поведение трамвая
ш его собственное поведение сообразуется с этим; как устроен
трамвай, чем он движется, об этом ему ничего не известно. Дикарь
о своих инструментах знает несравненно больше» 72. Общая спра-
ведливость этого утверждения — разумеется, лишь в «среднем»,
лбо индивидуально бывает множество исключений, а большое их
число также означает нечто новое, — подтверждается хотя бы ве-
дущей тенденцией современной техники: чем сложнее машина,
тем проще ею управлять, тем меньше требует она подлинных зна-
<ний своего устройства. Применительно к аппаратам ежедневного
употребления пользуются английским выражением «fools proof» в
качестве критерия саморегулируемого автомата, который самостоя-
тельно контролирует управление, не требующее от человека ни
размышления, ни знания дела. Так субъективная практика повсе-
дневной жизни поглощает ту огромную посредующую работу, ко-
торая породила подобные приспособления, и человек подчиняется
.непосредственной, обычной для повседневной жизни связи теории
л практики, цели и ее достижения. Разумеется, техническому раз-
витию нашей эпохи все же отвечает глубокое изменение повсе-
дневной жизни, но это ле коренной переворот в существе ее струк-
туры. Мы ле будем здесь обсуждать, в какой мере изменит это
М*
16а
положение всеобщее распространение политехнического образовав
ния и снятие противоречия между физическим и умственным тру-
дом при коммунизме; вероятно, в этих условиях в жизни и мыш-
лении каждого индивида займет гораздо большее место научное
отношение к миру, а также к предметам и приспособлениям по-
вседневной жизни. Однако сегодня нельзя предсказать, будет
ли оно воздействовать универсально и превратит ли практи-
ку повседневной жизни сплошь " в сознательно применяемую
науку.
С другой стороны, при социализме возникает нечто принципи-
ально новое в сравнении с капитализмом. Мы уже упоминали о
препятствиях применению дезантропоморфирующего метода в нау-
ке в буржуазном обществе. Они проявляются прежде всего в том,,
что достижения науки лишь с большим трудом могут мировоззрен-
чески обобщаться в обыденной жизни, и теории типа коперникан-
ской астрономии или дарвинизма не в силах сломить власти чисто
суеверных представлений, а множество людей относится к своему
социальному окружению совершенно некритически, непосредствен-
но в духе описанной нами повседневной практики. Социализм
обеспечивает возможность изменений в этом отношении; на по-
следствия этого в том, что касается религиозных верований (ко-
торые оказывают, разумеется, и при этих условиях только тенден^
циозное влияние), мы уже указывали. Но и прояснение общест-
венных отношений означает не в последнюю очередь модификацию
повседневного поведения человека, осуществимую благодаря науч-
ному отражению действительности. То, что ложные теории могут
порой сдерживать и тормозить этот процесс, не будет здесь рас-
смотрено в подробностях. Хотя оба вида специализированно-усо-
вершенствованного отражения (наука и искусство) могут в зна-
чительно большей мере пронизывать и обусловливать мир повсе-
дневной практики человека, чем это было раньше, сохраняется,
однако, мир непосредственных реакций на еще не обработанную
действительность. Он существует благодаря экстенсивной и интен-
сивной бесконечности объективной реальности, содержание кото-
рой никогда не может исчерпаться и самыми совершенными нау-
кой и искусством. Существование такой неосвоенной области од-
новременно составляет основу дальнейшего развития науки и
искусства, в субъективном плане — отчасти как необходимой реак-
ции на описанное положение вещей, а отчасти потому, что эта
экстенсивная и интенсивная бесконечность объективной реально-
сти влечет за собой (на все более высоких ступенях) соответст-
вующую неисчерпаемость жизненных проблем каждого конкрет-
ного индивида. Свободный распорядок жизни на высшей, коммуни-
стической фазе развития не означает ни возврата к первобытному
коммунизму, ни — в области идеологии — возврата (в смысле
ricorso — циклического повтора Вико) к недифференцированному
смешению научного и художественного отражения действительно-
сти с отражением непосредственной повседневной практики, то
164
есть их обновленного смешения в магии высшего порядка. Прогресс
невозможен без дифференциации и специализации. Но социали-
стическое снятие антагонизма этого развития не уничтожает ус-
ловий для дальнейшего прогресса. Как будут выглядеть конкретно
возникающие взаимовлияния, представляется сегодня досужим
любопытством.
Второе замечание относится к историческому развитию самой
дезантропоморфизации: к открытию новых категорий объективной
действительности, их соотношения с другими типами отражения
этой действительности. Мы уже неоднократно возвращались к во-
просу о единстве и многообразии этих форм отражения. Без даль-
нейших пояснений понятно, что определенные основные катего-
рии предметности, взаимоотношения предметов, закономерности
их движений и т. п. должны образовать основу всякого адекватно-
го отражения действительности. Но мы должны были установить,
что в способе применения категорий конкретные типичные цели
людей и общества играют чрезвычайно важную роль, благодаря
чему возникает история категорий также и в субъективном плане
[с. 43 и ел.]. Здесь особое значение получают качественный подъ-
ем дезантропоморфизации в новое время и ее теоретические
завоевания. Чисто абстрактное противопоставление антропо-
морфного искусства дезантропоморфной науке сделало бы их
противоположность метафизически жесткой. Но уже то значение,
которое имело для искусства, скажем, открытие геометрии (далее
мы подробно займемся этим вопросом), наглядно опровергает та-
кое упрощенное толкование, а сотрудничество науки и искусства
при разработке законов перспективы в эпоху Возрождения служит
еще большим предостережением против схематических выводов.
При всех оговорках нельзя не видеть, что скачок, который про-
изошел за последние столетия в результате дезантропоморфизации
научного отражения действительности, имеет специфические осо-
бенности, знаменующие появление нового качества. Так, например,
геометрия Евклида представляла собой уже высокую ступень
дезантропоморфирующего познания мира. Тем не менее она
неотделима от человечески-визуального восприятия действительно-
сти. Дальнейшее развитие науки разрывает эту связующую нить.
Процесс высвобождения научного отражения от человеческой чув-
ственности достаточно хорошо известен, и нет необходимости его
здесь описывать. Незачем перечислять, как при этом возникают в
отдельности новые категории и категориальные взаимосвязи, ко-
торые приобретают значение для научной выработки понятий,
причем эти понятия уже не имеют ничего общего с непосредствен-
ностью повседневной жизни и ее эстетическим отражением: доста-
точно вспомнить недавно обнаруженные проявления закона при-
чинности в теории статистической вероятности. Сферы науки и ис-
кусства расходятся ныне уже и категориально. Для науки, скажем,
вполне доступно точно вычислить величину риска людских по-
терь в сражении; для искусства же и в рамках такого рода взаи-
165
мосвязей отдельный человек, хотя бы он и был возведен на высоту
типизации, остается и объектом, и средством воплощения. Попытки
«вмонтировать» в поэзию статистическое начало эстетически не-
избежно терпели жалкое крушение, так же как и попытки отдель-
ных сюрреалистов или абстракционистов использовать в живописи
новейшие достижения физических исследований внутренней струк-
туры атомного мира.
Правда, сложившаяся новая ситуация породила наряду с вы-
шеупомянутыми ошибками в искусстве также и эпизодическое
проникновение субъективно-идеалистических воззрений в науку
(отрицание причинности в статистическом исчислении вероятно-
стей, фетишистски-формалистическая переоценка значения мате-
матики для любой области знания и т. п.). Однако эти недоразу-
мения нимало не снижают огромной роли процесса обособления
этих двух видов отражения. Для нас при этом главное заключается
в том, что, чем успешнее продвигается вперед наука, отдаляясь
от антропоморфистского принципа в своих методах и в понятийной
обработке данных, тем дальше расходятся научное и эстетическое
отражения. Вслед за разложением их недифференцированного
единства в магическую эпоху наступает длительный период парал-
лельного развития, взаимного обогащения, непосредственно зримо-
го проявления того, что обе эти сферы отражают одну и ту же
действительность. Разумеется, это и сегодня не перестает быть
истиной; однако наука продвинулась в такие области, которые
уже вообще недоступны для выражения средствами художествен-
ного антропоморфизма. Тем самым прекращается участие искус-
ства (как это было в эпоху Возрождения) в научных открытиях,
равно как и непосредственный переход научных достижений в ху-
дожественную картину мира. (Последнее стало проблематичным
уже во второй половине XIX столетия: вспомним хотя бы о проб-
леме наследственности у Ибсена и Золя.) Однако взаимосвязь
науки и искусства не прервалась; многие современные тенденции
даже интенсифицируют ее. Конец непосредственных взаимоотно-
шений (которые, кстати сказать, при более тщательном изучении
оказывались большей частью не столь уж непосредственными)
вовсе не исключает наличия других отношений, более плодотвор-
ных, хотя и более опосредованных. Эти отношения определились
на основе обогащения общей картины мира в искусстве благодаря
науке и обогащения научной картины мира с помощью искусства.
Не останавливаясь более на этой проблеме, мы ограничимся опре-
делением методологического значения сложившейся новой ситуа-
ции.
Глава 3
ПРИНЦИПЫ ОТДЕЛЕНИЯ ИСКУССТВА
ОТ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Обращаясь теперь к эстетическому отражению действительно-
сти и его дифференциации, мы должны будем признать, что ее
общий принцип сходен с аналогичным принципом в науке: обе
эти сферы очень медленно, противоречиво и неравномерно отде-
лялись от повседневной жизни, обыденного мышления и восприя-
тия. Понадобился весьма длительный процесс развития, прежде
чем они конституировались как особые формы человеческой дея-
тельности, обрели самостоятельность (разумеется, в рамках обще-
ственного разделения труда), прежде чем выработались специфи-
ческие виды отражения объективной действительности и их зако-
номерности были осознаны сначала на практике, а затем и в
теории. Разумеется, подобное обособление включает в себя и об-
ратный процесс: те завоевания, которые были обретены в условиях
обособления, возвращаются в повседневную жизнь, влияя на нее,
способствуя ее дальнейшему развитию. Мы могли, однако, при
анализе научного отражения заметить, что воздействие научного
мышления на повседневную жизнь как экстенсивно, так и интен-
сивно тем сильнее, чем энергичнее соответствующая сфера спо-
собна разрабатывать свою специфику.
Несмотря на то что в обеих сферах процесс отделения от по-
вседневности обнаруживает в наиболее общем плане однородность,
в нем проявляются и весьма существенные для них различия.
Причины этого мы постараемся выяснить позднее, путем конкрет-
ного исследования вопроса о своеобразии эстетического отраже-
ния. Здесь же мы, забегая вперед, укажем лишь на один фактор —
на возникающее иногда в истории неожиданное, порой даже оше-
ломляющее совершенство в некоторых областях художественной
деятельности уже на начальных стадиях развития (пещерная жи-
вопись на юге Франции, некоторые первобытные орнаменты
и т. п.). Эти факты тем более значительны, что они находятся в
неразрывной связи с развитием определяющей тенденции, в соот-
ветствии с которой художественная деятельность в целом консти-
туируется как таковая гораздо позднее, чем наука, искусство зна-
чительно труднее и медленнее отделяется от общей основы повсе-
дневной магической (религиозной) практики.
Для этого различия имеются вполне осязательные материаль-
ные причины. Добывание знаний об окружающем мире, начальное
постижение их вазимосвязей настолько неотделимы от повседнев-
167
ной практики, что даже на самой примитивной ступени истории
люди не могут в той или иной мере не заниматься этим под угро-
зой гибели. Как бы глубоко ни была погружена зарождающаяся
наука в повседневность магической эпохи, как бы медленно ни
осознавали люди объективный смысл того, что они делали, движе-
ние в эту сторону было неотвратимым, ибо коренилось оно в со-
хранении и воспроизводстве самого существования человека.
Общественная необходимость искусства не имеет таких проч-
ных и неоспоримых основ. Дело не в том, что любое занятие ис-
кусством предполагает наличие определенного досуга, какую-то,
пусть даже относительную свободу от повседневных забот, от не-
обходимых непосредственных реакций на элементарные потребно-
сти человека в обыденной жизни: подобного досуга требовали
также и самые первые зачатки науки, далекие еще от осознания
их таковыми, однако их более тесная и очевидная связь с теку-
щими заботами вынуждала людей уделять им время. Требования
повседневной жизни оказывали свое влияние на общину и вынуж-
дали хотя бы к примитивному разделению труда (с досугом для
осмысления подобных проблем) ; зарождающееся таким путем по-
знание закладывало основы господства над окружающим, над ве-
щами и т. п., но прежде всего открывало путь к господству чело-
века над самим собой: создавались технически все более совер-
шенные орудия труда, а вместе с тем происходило известное
возвышение самого работающего человека над прежним уровнем
владения своими физическими и духовными способностями.
Все это — некоторый, пусть еще очень низкий уровень разви-
тия техники и перевоспитание пользующегося этой техникой че-
ловека — является предпосылкой также и для самых ранних на-
чатков еще эстетически не осознаваемой художественной деятель-
ности. Если мы обратимся к каменному веку, то увидим, что пе-
риод поисков и сохранения нужных в производстве камней уже
включал в себя зачатки такого отражения действительности, из
которого позднее выросла наука, — ибо требуется определенный
уровень развития абстрагирующей способности, обобщения тру-
дового опыта, требуется выход за пределы чисто субъективных,
слабо упорядоченных впечатлений для того, чтобы ясно раз-
личать взаимосвязь формы данного камня с его пригодностью для
определенных операций. Однако на этой стадии стимул развития
искусства еще отсутствует. Для этого прежде всего нужно,
чтобы камень не только превращался человеческой рукой с по-
мощью обтесывания и соскабливания в инструмент, но и чтобы
используемая при этом техника достигла достаточно высокого
уровня, побуждала к чисто бессознательному восприятию худо-
жественных мотивов. Боас правильно замечает, что нужна отно-
сительно высокая техника скобления и обтесывания, чтобы камень
приобрел правильную форму, чтобы его обработанная поверхность
обнаруживала не хаотическую беспорядочность частей, но их ра-
венство, параллельность и т. п.1 На первых порах здесь еще вовсе
168
нет художественной цели — это всего лишь более удачное техни-
чески-ремесленное приспосабливание к непосредственно практиче-
ским целям труда. И все же ясно, что, прежде чем человеческий
глаз не разовьет способности точно воспринимать формы и струк-
туры, прежде чем рука не научится тщательно наносить на ка-
мень нужную параллельность граней, соблюдать равные расстоя-
ния и т. п., не может возникнуть условий для создания даже самой
примитивной орнаментики.
Объективный уровень развития техники оказывается, таким
образом, и уровнем развития работающего человека. Энгельс ха-
рактеризует решающие черты этого развития: «Прежде чем пер-
вый кремень при помощи человеческой руки был превращен в
нож, должен был, вероятно, пройти такой длинный период вре-
мени, что в сравнении с ним известный нам исторический период
является незначительным. Но решающий шаг был сделан, рука
стала СФободноЯ ü могла теперь усваивать себе все новые сноров-
ки, à приобретенная этим большая гибкость передавалась по на-
следству и возрастала от поколения к поколению. î
Рука, таким образом, является не только органом труда, ouœ
также и продукт его» 2. Далее Энгельс указывает, что развитие^
оказало важное воздействие на весь организм (о взаимосвязи тру-
да, формирующихся в процессе трудовой деятельности навыков,,,
возникающего таким путем более высокого уровня общения и-
языка мы уже говорили выше [с. 45, 70 и ел.]), он подчеркиваем
специфически человеческую утонченность и дифференцировахг-
ность чувств. Речь идет в меньшей мере об их физиологическом
совершенствовании: в этом отношении многие животные далеко
превзошли человека; важно здесь в первую очередь то, что спо-
собность к восприятию вещей благодаря трудовому опыту качест-
венно изменяется, углубляется, становится более утонченной. На
этот факт мы указывали в другой связи [с. 65 и ел.]. И здесь Эн-
гельс подчеркивает взаимовлияние этого развития и труда, языка,
способности к абстрагированию и умозаключениям и т. д.
Дальнейшую конкретизацию происходящего процесса диффе-
ренцирования чувств мы находим в антропологии Гелена. Его
правильный анализ некоторых фактов и их связей тем более це-
нен для нас, что его философские предпосылки и выводы зачастую
диаметрально противоположны нашим собственным; что же ка-
сается выявления конкретной тенденции развития, то по этому
поводу мы не станем вступать с ним в полемику. Сущность про-
тиворечий между новейшей, идеалистической антропологией и ан-
тропологией диалектико-материалистическои как в принципе, так
и в деталях позволяет понять уже сама терминология Гелена.
Гелен говорит о постепенно возникающем в сфере чувств разде-
лении труда. При этом для нас несущественно, что он прослежива-
ет этот процесс в ходе развития ребенка, тогда как, согласно на-
шим взглядам, сущность этого процесса раскрывается на уровне
детства рода человеческого. Согласно Энгельсу (и Гегелю), мы
169
следуем здесь за «отображением индивидуального сознания на
различных ступенях его развития, рассматриваемых как сокращен-
ное воспроизведение ступеней, исторически пройденных человече-
ским сознанием...» 3. Итак, Гелен утверждает, что «в результате
процесса, в котором всякого рода движения, в особенности движе-
ния рук, взаимодействуют со всеми нашими чувствами, и особен-
но со зрением, окружающий мир «осваивается» нами в направлении
его налаживания и лучшего использования: вещи одна за другой
вводятся в обращение и исключаются из него, но в ходе этого их
изучения они незаметно приобретают глубокую символичность,
так что в конце концов достаточно одного только зрения, этого не
требующего напряженных трудовых усилий чувства, чтобы их ос-
мотреть и различить в них не только внешнюю форму, но и их
ценность в обиходе и применении, которую прежде приходилось
устанавливать кропотливым лично добываемым ♦ опытом» 4. Не
останавливаясь здесь на критике идеалистической концепции и
терминологии Гелена, поясним, однако, что когда он говорит о
символике, то за этим понятием стоит существенная проблема
возникновения специфически человеческой визуальности, которая
ведет в дальнейшем к созданию изобразительного искусства.
К этому остается добавить, что понятие и термин «символика»
вовсе не означает некий «домысел», вносимый субъектом в объек-
тивный способ проявления предмета, но лишь дальнейшее разви-
тие, разработку, совершенствование его отражения. Если, напри-
мер, говорится, что развитое человеческое зрение может визуально
определять тяжесть, структуру материала и т. п., так что не при-
ходится для этого пользоваться осязанием, то причина этого кро-
ется в том, что визуальные признаки этих качеств не бросаются в
глаза непосредственно и потому недоступны человеческому глазу
на примитивных стадиях развития. Вот почему на первых порах
они обычно постигаются осязанием. Тем не менее объективно они
являются составными частями визуального постижения предметов.
Открытия, благодаря которым постигается суть процесса труда и
вытекающего из него разделения труда, идеализм выражает словом
«символика» и тем самым сужает область визуального отражения,
объективную основу разделения труда. Сфера действия эстетики,
разумеется, гораздо более широка. Ниже, рассматривая такие из-
вестные теории, как теория Конрада Фидлера, мы увидим, что
философский идеализм сужает и область чувственного восприятия
е целях отвоевывания площади для своих субъективистских кон-
струкций [с. 186 и ел.].
Важнее всего в рассуждениях Гелена то, что он настойчиво
подчеркивает разделение функций между зрением и осязанием в
процессе работы; его высказывание относительно этой проблемы
мы также уже цитировали [с. 66]. Такой анализ ценен не только
применительно к общему принципу, но и в деталях; он позволяет
ясно увидеть дистанции) между формирующимися в процессе тру-
да и постоянно лаьшпддо&ющщ^ с .одной
m
стороны, и высокоразвитыми животными— с другой, причем ди-
станция эта как раз и определяется этим разделением труда меж-
ду чувствами и их кооперацией. Описания Гелена точны, но нуж-
даются в дополнении, прежде всего потому, что дистанция между
человеком и животным представлена у него как метафизическая,
извечно существовавшая пропасть между ними, антропологичес-
кая сущность человека, противополагаемая сущности животного,
не выступает поэтому как продукт труда; таким образом, след-
ствие процесса труда — очеловечивание человека — изображается
Геленом не как результат этого процесса, а как его предпосылка.
В рамках отмеченной нами ограниченности своих описаний Ге-
лен приводит очень важные плодотворные наблюдения над харак-
тером человеческой визуальности. Позднее мы еще вернемся к это-
му вопросу и расскажем о значении его наблюдений для искусства.
Здесь же приведем лишь один весьма существенный отрывок из
его книги, говорящий о разделении труда между чувствами в тру-
довом процессе и о том, как зрение принимает на себя функции-
осязания. Гелен пишет: «Разглядывая какой-либо предмет, на-
пример чашку, мы обычно либо вовсе не всматриваемся в отблески .
света и тени на ее поверхности, равно как и в изображенный на
ней орнамент, либо наш глаз лишь частично воспринимает эти.
явления. Они служат ему при определении объема и формы чашки
вспомогательным указанием, с помощью которого он «улавливает»-
скрытую от нас заднюю сторону чашки и ее внутреннее простран-
ство. Так же оцениваются и линии пересечения плоскости дна с;
бортами. Структура же материала («тонкий фарфор») и тяжесть
чашки, напротив, полностью учитываются зрением, хотя как бы
более «предикативно», в качестве прежде всего оцениваемого на-
ми характера чашки как «сосуда», то есть ее полого пространства
и круглой формы, и опять-таки не так, как некоторые дополнитель-
ные оптические данные, например ручка или «удобное» очертание
общей формы, создающее представление о воображаемых переме-
щениях чашки при ее употреблении. При этом все эти данные
глаз охватывает одним взглядом. Следует подчеркнуть, что наш
глаз поразительно равнодушен ко многому из того, что находится
в поле его зрения, даже к тому, что иногда воспринимается как
фон, зато он в высшей степени чувствителен даже к самым слож-
ным признакам, если они возбуждают его интерес» 5. Гелен также
совершенно правильно оценивает роль привычки в этом процессе,
хотя и тут не учитывает труд работника, а на более поздней ста-
дии и труд художника.
Впрочем, мы слишком опередили реальный исторический ход
развития, и теперь нам следует вернуться к его начальной фазе,
чтобы попытаться представить себе эту неведомую и в отношении
фактов, видимо, навсегда сокрытую от нас стадию дифференциа-
ции художественного отражения, его постепенного отделения от
отражений повседневной жизни, обособления не только да. них, но,
и от отражений научных, а также от отражений магических и ре-
471
лигиозных. Речь снова идет о марксистском методе исследования,
согласно которому анатомия человека дает ключ к анатомии
обезьяны и сами по себе неизвестные и недоступные для научного
исследования начальные стадии поддаются реконструкции с по-
мощью возникающих в них и видимых на более поздних этапах
развития импульсов, с их качеством, направлением, тенденцией
и т. д., благодаря их познаваемым последствиям. При этом мы
ретроспективно прослеживаем весь ход развития по его конечному
пункту, с учетом промежуточных этапов, и по типу дифференциа-
ции делаем обратный вывод о примитивном недифференцирован-
ном состоянии, о его началах, о зародыше будущего, который в
нем скрыт.
Столь трудно поддающийся исследованию процесс дифферен-
циации художественного отражения обнаруживает особую слож-
ность даже по сравнению с аналогичным процессом в науке. При-
чина тут прежде всего в том, что он осознается на гораздо более
поздней стадии. Уже на примере Греции мы могли убедиться, что
наиболее сознательно стремящаяся к выработке мировоззрения
форма научной деятельности — философия — выступает в роли
пионера по отношению к отдельным собственно научным дисцип-
линам. Конечно, необходим определенный уровень развития про-
изводительных сил, а также известная техническая развитость
отдельных наук, чтобы вообще могло начаться подобное осмысле-
ние и осознание. Но, раз возникнув, оно, как обобщение опыта
(как это очевидно на примере Греции), намного превосходит до-
стигнутый и достижимый при существующих производственных
отношениях уровень и техники, и отдельных научных дисциплин.
Эта функция философии сохраняется и в периоды ее расцвета в
эпоху Возрождения и позднее. Энгельс говорит о роли философии
в развитии естественных наук: «Нужно признать величайшей за-
слугой тогдашней философии, что, несмотря на ограниченность
современных ей естественнонаучных знаний, она не сбилась с тол-
ку, что она, начиная от Спинозы и кончая великими французскими
материалистами, настойчиво пыталась объяснить мир из него са-
мого, предоставив детальное оправдание этого естествознанию
будущего» 6.
Философия искусства — эстетика — никогда не играла подобной
роли в самосознании искусства. Даже у таких крупных мыслите-
лей, как Аристотель, она выступала лишь post festum и в своих
даиболее значительных достижениях, к которым принадлежат
труды Аристотеля, лишь фиксировала в понятиях уже достигну-
тую искусством стадию развития. Это не может быть случай-
ностью, ибо, каким бы противоречивым и медленным ни был про-
цесс отделения научного отражения от отражений повседневности,
;а также магии и религии, разрыв.между ними был все же доста-
точно явным, чтобы при благоприятных социальных условиях мож-
ро было философски обобщить этот факт сравнительно; рано и в
основцых чертах верно. Между тем^своерйрдзие худол^^рервдго
m
отражения — если говорить о непосредственном восприятии — го-
раздо менее резко отделяется от общего базиса, сопровождается
на протяжении длительного периода множеством промежуточных
явлений и даже на высокоразвитой стадии может поддерживать
теснейшие связи с повседневностью, магией и религией, а внешне,
по видимости, полностью сливаться с ними.
Поучительно рассмотреть это положение на более развитом
этапе, обратившись, например, к греческому типу развития. С од-
ной стороны, мы видим, что литература и искусство (сравнитель-
но с их развитием на Востоке) могли формироваться относитель-
но автономно, свободно от теократических предписаний. Но имен-
но поэтому ясно, как поздно осуществляется отделение искусства
от религии, реализуется его возможность стоять на собственных
ногах. Как бы рано ни датировались пачала греческого искусства,
мы не находим такого разделения вплоть до Софокла, а подлинное
его осознание встречается только у Еврипида. В другой связи мы
уже указывали [с. 119], что здесь следует искать духовные основы
критически-отвергающей позиции ранней философии, стремящей-
ся к освобождению себя и науки, по отношению к искусству и
художникам (Гераклит и др.). Эти философы — не без основа-
ния — видят в эстетическом принципе антропоморфное начало, а
так как антропоморфизм религии, мифа и т. д. для них главный
духовный враг, то в этой связи эстетическое — без всякого основа-
ния— клеймится как его союзник, как орудие антропоморфного
суеверия. Трудность самостоятельного становления, аналогичного
тому, за которое борются философия и наука, состоит здесь в том,
что эстетический принцип (о чем в дальнейшем будет сказано
подробно) действительно антропоморфичен по своему характеру.
Как мы видели, разделение дезантропоморфистского принципа на-
учного отражения действительности и антропоморфизма протекало
трудно и потребовало многих тысячелетий, но в результате этих
усилий стало ясно, что хотя художественное отражение по сути
своей и антропоморфно, но представляет такую разновидность это-
го принципа, которая фактически и методологически, содержатель-
но и формально резко отличается от отражения в обыденной жиз-
ни, как и в магии или религии.
Чтобы пояснить это, добавим еще одно замечание. Как мы уже
неоднократно говорили, для нас решающую роль играет противо-
положность между принципами антропоморфного и дезантропо-
морфного отражения. Сущность первого уже была ' однозначно
определена нами, о диалектической противоречивости связанных с
этим методологических вопросов мы уже говорили. Антропомор-
физм вносит значительно больше неопределенности. Например,
существуют исследователи, которые признают антропоморфиза-
цию лишь в том случае, когда человек проецирует на космос свои
собственные формы и качества. Так мыслит в последнее время:
Гелен, который пишет по этому поводу: «Магия в основном стро-
ится на групповом эгоизме и ни в коем случае не требует, для сво-
т
ей техники гуманизированных антропоморфных сущностей.
В частности, предзнаменования почти никогда не связаны с обра-
зом человека. Для колдовства охотно призывают животных ду-
хов, привлекают дождь, облака, охотничью добычу, эмблемами?
шаманов служат птица, конь, древо жизни и т. п. Лишь на стадии
политеизма положение меняется; только приняв человеческий:
образ, боги оказываются действительными богами, то есть стано-
вится ясно, что правят они... Человекообразный бог — именно тот,,
который больше не действует антропоцентрически...» 7 Гелен пута-
ет здесь объект антропоморфизации с ее методом. (Мы не останав-
ливаемся на причинах этого смешения, которые связаны со всей
его философией истории.) Не подлежит сомнению, что религии,,
признающие богов, а в особенности монотеизм, представляют*
собой более развитые, более высокие формы антропоморфизма,
чем магия. Когда мир управляется богом или богами, воображае-
мое непосредственное влияние магии, несомненно, *вытесняется;,
независимое от человека функционирование мира теперь миро-
воззренчески установлено. Но действительно ли этим преодолено*
магическое «мировоззрение»? Гелен и сам вынужден, вслед за?
Эдуардом Мейером и Якобом Буркхардтом, согласиться с тем, что*
это не так: «Повсюду, рука об руку с этическим углублением,,
происходит рецидив, возвращение к самым примитивным формам:
религии, которые, казалось бы, уже полностью изжили себя» 8.~
Это сохранение существенных моментов магии в религиях нельзя?
считать случайным. Оно имело место не только в античности и в-
восточном политеизме, но и в монотеистических: религиях; и толь-
ко кальвинизм сделал серьезную попытку радикально ликвидиро^-
вать пережитки магии. Поэтому установленные Мейером и Бурк-
хардтом «рецидивы» являются таковыми лишь количественно; ш
до них существовали весьма значительные пережитки магии, кото-
рые большей частью прекрасно уживались с новыми представле-
ниями о богах. Гелен явно преувеличивает противоположность,
магии и религии, а в отношении к антропоморфистскому прин-
ципу видит даже не существующую между ними противош>
ложность. Допустим, объектами магии являются животные сти-
хии и т. п.; откуда же магия черпает свои представления о сущ-
ности этих явлений природы? Нет сомнения, что она заимствует-
их из опыта людей, из того, что они тогда знали о самих себе^ о*
своих отношениях с окружающей природой. И если такие отноше-
ния не столь открыто «олицетворяются», как в позднейших рели-
гиях, то объясняется это тем, что человеческая личность была тог-
да еще гораздо менее развита, гораздо меньше осознавала себя.
Если, скажем, образ демиурга проявляется лишь позднее, то m
это вполне естественно: в период простого собирания плодов, пре-
обладания охоты, рыбной ловли и т. п. безличным силам приписы-
вается более значительная роль в процессе борьбы человека за*
существование, чем на позднейших стадиях, когда большее уча-
стие в процессе самосохранения принадлежит труду. Перемена^
174
однако, затрагивает лишь объекты, которые проецируются на
внешний мир, как его причины, но не самый акт проецирования
внутреннего опыта человека на объективную действительность.
Здесь и намечается линия раздела между антропоморфирующим
мышлением и дезантропоморфизацией; при этом не имеет значе-
ния, исходят ли жз объективной действительности, внося в созна-
ние ее сущее-в-себе содержание, категории и т. п., либо проекция
«осуществляется изнутри вовне, от человека на природу. С этой
точки зрения культ животных или сил природы так же антропо-
морфичен, как и создание человекоподобных богов.
В соответствии с важностью вопроса об антропоморфизации
ему будет принадлежать главная роль в нашем последующем из-
ложении. Здесь же мы поневоле исследуем его еще в весьма отвле-
ченной форме, чтобы, забегая вперед, можно было хотя бы в
«самых общих чертах обрисовать некоторые стороны обособления
эстетического. Во-первых, следует подчеркнуть сложность и труд-
ность объективного процесса его отделения, в частности вопрос,
каким образом — независимо от степени участия сознания —
© художественной практике возникает специфически эстетическая
предметность, которая, являясь также антропоморфистской, по
своей сущности качественно отличается от предметных форм
повседневности, магии и религии. Во-вторых, уже на этом
абстрактном уровне рассмотрения подтверждается высказанное
нами соображение относительно того, что этот род отражения осо-
знается лишь post festmn [с. 172]; общий принцип начинающейся
практики: «Они не сознают этого, но они это делают» —проявля-
ется здесь в особом, предельно широком масштабе. Специфиче-
ский род эстетической: предметности и эстетическое отношение к
ееи сформировались практически задолго до возникновения
сколько-нибудь серьезных попыток мыслителей теоретически обо-
сновать и в четких понятиях отделить друг от друга различные
«формы антропоморфного отражения действительности, как это
имело место при решении дезантропоморфистских противоречий в
•философии. Более того — если не считать некоторых исключений,
<к которым, правда, относилась и философия Аристотеля, — пона-
добилась тысячелетняя борьба, чтобы удалить из критериев эсте-
тической «истинности» элементы научных критериев, чтобы «ис-
тинность» эстетического отражения перестали измерять — как по-
ложительно, так и отрицательно — этим масштабом.
Дело осложнялось также тем, что первые формы выражения
научного и философского отражения действительности в значи-
тельной мере были соединены с эстетическими элементами. Нет
сомнений, что это берет свое начало непосредственно из магиче-
ской эпохи, когда позднее разделившиеся тенденции выступали
^ще в переплетении друг с другом. Вспомним древневосточную
гсоэзию, в которой эта, по существу, неорганичная для нее тенден-
ция сохраняется еще весьма долго. Но и в Греции, где сравнитель-
но рано происходит разделение йауки и искусства в содержатель-
Ш5
ном отношении и даже конституируется художественная предмет-,
ность, мы часто находим научные либо философские произведе-
ния, написанные поэтическим языком, а порой и с поэтически об-
разным восприятием мира, — таковы философские стихотворения,
досократиков, таковы же ранние диалоги Платона. Отсюда проис-
текает двойственность развития, весьма замедленная и неравно-
мерная дифференциация, продолжающаяся в течение ряда веков:
с одной стороны, появляется философское стихотворение как
особый лирич окий жанр (Шиллер), с другой стороны, происхо-
дит вторжение поэтического способа выражения в науку и фило-
софию. Даже в столь обширном произведении, как поэма Лукре-
ция «О природе вещей», мы не находим завершенной дифферен-
циации, да и у Данте все еще обнаруживаются следы взаимо-
проникновения научного и поэтического отражения действитель-
ности.
Еще упорнее сохраняется эта изначальная неразделенность во
многих явлениях социальных наук и общественной жизни. Доста-
точно сослаться на античную риторику, которую греки, вне всяко-
го сомнения, считали искусством. Здесь неуместно в подробностях
сопоставлять все возникающие из этого противоречия. Может
быть, достаточно указать, что, с одной стороны, риторика благо-
даря такой своей основной концепции приобретает подчас внешне
парадоксальный формализованный характер, так как при этом
отсутствуют такие формальные особенности, которые исходят и&
содержания и объективно наличествуют в поэзии, хотя это и не:
всегда осознается, и которые обеспечивают однозначную опреде-
ленность конкретных проблем формы благодаря соотнесенной с
жанром детерминированности конкретного содержания. С другой
стороны, завоевывающая таким образом позиции чисто форма-
листская «эстетическая» концепция риторики приводит к тому,,
что ее аргументационно-«научные» элементы приобретают харак-
тер софизмов, односторонне рассматриваясь с точки зрения их
непосредственного (эмоционального) воздействия, а их собственное-
истинностное содержание, точность их совпадения с фактами вы-
тесняется на задний план, а иногда и полностью исчезает.
Четкая теоретическая дифференциация не доведена до конца
даже и в наши дни, и это становится камнем преткновения дл*
всякой эстетической системы, которая хочет жестко, без перехо-
дов — то есть метафизически, — отграничить свою область от жиз-
ненных явлений, выходящих за ее пределы. Однако наши — до«
сих пор высказываемые в абстрактной форме и постепенно кон-
кретизирующиеся — взгляды строятся на подвижном взаимодей-
ствии повседневности с искусством; жизненные проблемы преобра-
зуются в эстетические формы и в соответствии с этим получают
свое художественное решение, а завоевания, достигнутые в про->
цессе эстетического овладения действительностью, вливаются в<
повседневную жизнь, обогащая ее субъективно и объективно, блат
годаря чему вышеуказанное противоречие разрешается естествен-
176
ным путем. Очевидно, что судебные речи, равно как и публицисти-
ка репортажа и т. п., представляют собой часть практической по-
вседневной жизни. Их принадлежность к сфере повседневной;
жизни, их неспособность кристаллизоваться в определенные, хотя;
и изменчивые закономерности эстетического жанра основаны на.
том, что здесь как для построения целого, так и для оформления,
деталей решающее значение имеет целевая установка, требующая
непосредственного единства теории и практики. Судебная или ора-
торская речь предназначена прежде всего для того, чтобы добить-
ся определенной конкретной единичной цели: убедить в том, что^
такой-то обвиняемый должен быть осужден или оправдан, что<
такой-то проект закона должен быть принят либо отвергнут-
Подобный подход противостоит, с одной стороны, научной юрис-
пруденции, исследующей общие законы, под которые может быть
подведен данный частный случай, а с другой стороны, драме или
роману, где автор, воплощая единичный случай, стремится худо-
жественно разработать содержащиеся в нем типические характер
ры и ситуации. Этот двойной разрыв не может быть преодолен?
применением ни художественных, ни научных средств; для сущ--
ности целого решающим принципом остается определенная целе--
вая установка: непосредственная мобилизация самых разнообраз-
ных и разнородных средств ради непосредственно практическое
цели.
В этот вопрос путаницу вносит обычное возражение, что ведь^
и искусство также исходит из принципа непосредственности воз-,
действия. Однако смысл непосредственности в обоих случаях;
совершенно различен. В риторике высшая цель — добиться непо-.
средственного практического результата; всегда ли ее средства
обращены прямо к непосредственному восприятию — это роли не
играет. В искусстве, напротив, акцент делается как раз на нешк
средственное воздействие, достигаемое средствами воплощения, з^
претворение художественной деятельности в практическую — вое-,
питательное воздействие искусства, о котором мы позднее скажем^
подробнее, — это процесс сложный и неравномерно опосредован-.,
ный. Конечно, это разграничение отнюдь не исключает промежу-
точных явлений. С одной стороны, в речи или в публицистической ;
статье может преобладать научный метод, а материал, в согласии,
с этим методом понятый и сгруппированный, может оказаться,
настолько убедительным, притом новым в научном отношении, что*
все произведение окажется научным, а его риторическая или пуб-
лицистическая форма отойдет на второй план. С другой стороны,
риторическое произведение или публицистическая статья могут-
с такой силой разработать типические стороны данного случая,
что они, став в значительной мере независимыми от вызвавшего
их повода, будут оказывать прежде всего художественное воздейт
ствие. Тем не менее совершенно ясно, что в обоих случаях речь,
идет о промежуточных явлениях, в которых — ив этом здесь вся
суть —масштаб был заимствован из научной методологии или,
12 Заказ № 683
и*
соответственно, из эстетики; такие случаи возникают как резуль-
?тат нарушения нормальных границ риторики, а не соблюдения ее
-законов; следовательно, они не снимают данного противоречия, а
-лишь еще раз — именно как промежуточные явления — подчерки-
вают тот основной факт, что между повседневностью и наукой либо
жскусством происходит непрерывное взаимодействие.
Столь же медленно формируется собственно научный способ
«отражения в исторических работах. В течение всего античного пе-
риода их границы в отличие от эстетического воплощения были
в высшей степени зыбкими и зачастую эстетический момент пре-
валировал. Хотя изначально (у Геродота) господствовавшие анек-
,дотическитНовеллистические группировки и изложение событий
■ впоследствии исчезают, влияние псевдоэстетических риторических
элементов сохраняется; мы видели, что оно исключительно сильно.
-Решающее преобразование истории в науку происходит поздно,
лишь в новое время. Оно основывается на том, что крепнущая
-тенденция научного отражения действительности со все большей
энергией направляется не только на верное воспроизведение в об-
щих чертах фактов исторического процесса, но и на абстрагиро-
ванное от субъективности историков постижение их исторической
-обусловленности как необходимости9. В этом, как легко увидеть,
: выражается победа принципа дезантропоморфизации в отражении
.действительности: стремление передавать действительные факты в
их объективном своеобразии, по возможности исключить личную
с субъективность исследования, отбора и расположения фактов. Эта
тенденция основывается на распространении воззрения, согласно
.которому за качественными изменениями фактов жизни, челове-
ческих отношений, условий труда, психологии, морали кроются
^объективные, научно познаваемые и объяснимые социальные си-
лы, а именно структура соответствующих общественных форма-
ций, ее преобразования и их причины. Качественное своеобразие
:этих фактов предстает тем самым уже не как простая непосред-
ственная данность, как абстрактное свойство, но как узловой мо-
мент, как взаимосвязь объективных закономерностей. Античная
г историография была недостаточно знакома с тем и с другим и
уделяла им соответственно мало внимания; поэтому в изображе-
нии своеобразия фактов и событий столь важную роль играли
: художественные элементы. Художественная свобода речей истори-
ческих персонажей — только явный симптом такого положения.
Сравнение Аристотелем обобщений в поэзии и истории, проводи-
мое не в пользу последней, проясняет суть античного этапа раз-
вития различения. Здесь мы не будем останавливаться на пробле-
ме связи философии истории и истории, сыгравшей важную роль
в;качестве переходного этапа, так как эта проблема, по существу,
целиком принадлежит области научного отражения действитель-
ности. :История последовательно формируется как наука только
ттогда, когда, как замечено выше» рассматривает факты не только
.#ак таковые (то есть перестает их эстетически типизировать или
£78 UJ - йьйй£ **\
стилизовать), а отражает и изображает их как способы проявле-
ния, узловые моменты, пересечения, взаимосвязи и т. д. законо-
мерностей исторического развития. То, что литературное отобра-
жение этих закономерностей зачастую пользуется художественны-
ми средствами, является лишним подтверждением выдвинутого«
нами принципа взаимовлияния (в четвертом томе при анализе-
художественных произведений и типов творческого поведения мы.
детально рассмотрим роль научных элементов в искусстве).
Но это взаимовлияние не решает проблемы структурно опреде-
ляющего разграничения областей. Историческая наука может
оставаться чисто научной (то есть дезантропоморфной) при широ-
ком использовании эстетических средств выражения в литератур-
ном изложении, а искусство как таковое нисколько не пострадает;
в чистоте своего воздействия, если его отношение к жизненному;
материалу опирается на методы и результаты науки. Первую воз-
можность демонстрируют нам и исторические, и экономические
труды Маркса, который в методологии достиг максимума теоретит
ческого обоснования и практического применения объективно-
дезантропоморфирующего принципа. Замечательный пример вто^
рой возможности являют поздние сочинения Томаса Манна.
Следует отметить сложность этой ситуации, чтобы яснее предста-
вить себе все препятствия при отграничении эстетической сферы;
от обыденной жизни, религии и науки.
Мы не случайно пытались обсуждать такие взаимоотношения
и взаимопереходы, обращаясь к словесному выражению типов
мышления на относительно развитой культурной стадии. Правда,,
и тут трудность теоретического разграничения различных сфер:
велика, но рост их осознания, особенно в области науки и руково-
димой наукой практики, делает подобный разбор все же возмож-
ным. Однако попутно мы показали с достаточной наглядностью,;
насколько усложняется эта задача, когда речь идет о примитив-
ных стадиях. Разумеется, мы должны и при этом руководствовать-
ся разработанными здесь принципами, и прежде всего различать,
объективно, фактически состоявшееся (или начавшееся) разде-
ление сферы даже там, где различия еще не осознаются. Напом-
ним в виде примечания ранее отмеченное нами обстоятельство:
гораздо легче выделить, по крайней мере в общих понятиях,,
типы отражения, имея дело с порожденными общественной:
жизнью смешениями научного и художественного принципов, чем>
сделать это применительно к явлениям взаимного срастания ис-
кусства с магией или религией. В первом случае, как уже было-
показано [с. 172], противостоят дезантропоморфистский и антропо-
морфистский типы отражения действительности, тогда как во>-
втором речь идет о двух ответвлениях антропоморфирующего
отражения, которые принципиально противоположны друг другу
в конечном счете, но на практике тысячелетиями пребывали слит-
но и их постепенное разделение происходило не только как мед-
ленный, противоречивый и неравномерный проиесс, но и как про-
12*
Ш
f/цесс, чреватый для самого искусства опасностями и внутренними
кризисами.
Прежде чем перейти от этих вводных соображений к философ-
скому анализу процесса выделения искусства из первоначально
^недифференцированной человеческой практики, сделаем еще одно
/предварительное замечание. Мы привлекали для примера только
•словесные формы выражения, прекрасно сознавая, конечно, их
.недостаточность для характеристики всей сферы эстетического.
Но даже и в этой сознательно ограниченной области можно ви-
деть, каким препятствием для философского постижения сущно-
сти и генезиса искусства является принцип, пронизывающий
большую часть эстетического как чего-то исконного, первичного и
изначально единого, — особенно если мы при этом вспомним об
•орнаментике, изобразительных искусствах, музыке и архитектуре.
Эта оговорка отнюдь не означает, что мы отказываемся при-
знать конечное принципиальное единство эстетического. Напро-
тив, наши размышления как раз к тому и ведут, чтобы обосновать
это принципиальное единство более верно и надежно, чем это бы-
ло возможно с помощью надысторически-априорного допущения
«исконной» эстетической способности человека. Такое допущение
ine может не господствовать во всех идеалистических концепциях
эстетического. Всякий идеализм закономерно и некритически ис-
ходит из современного состояния человеческого сознания, нарекая
с4бго «вечным», и если он даже не оспаривает факт его историче-
ского возникновения, то лишь конструируя некое мнимо истори-
ческое развитие. С одной стороны, исторический процесс наличе-
ствует в лучшем случае для того, чтобы эмпирически «реализо-
вать» то, что уже было априорно установлено анализирующим со-
знанием; по сравнению с априорной дедукцией он оказывается
.поверхностным и случайным. Поскольку субъективный идеализм—
жакой бы терминологии он ни придерживался — исходит из про-
тивоположности бытия и сущности, понимая ее как недоступную
^воздействиям бытийно-исторического процесса, то тем самым он
постулирует невозможность взаимодействия между бытием и сущ-
ностью в смысле конституирования и модификации сущности.
•*С другой стороны, и объективно-идеалистическая философия —
даже если она, подобно философии Гегеля, ставит в центр методо-
логии историческое становление, очеловечивание человека — при
рассмотрении науки и искусства вынуждена исходить из уже су-
ществующего понятия о человеке (в его современном смысле или,
во всяком случае, имея в виду уже сформировавшегося социально-
исторически человека). У Гегеля, правда, так называемый симво-
лический период частично рассматривается как пролог собственно
художественного развития. Однако уже и тут предполагаются
имплицитно существующими все категории позднейшего зрелого
искусства, развитие сводится лишь к тому, что они выражаются
эксплицитно, и, следовательно — в соответствии с гегелевским
общим диалектическим понятием развития, — оно характеризует-
€80
ся лишь мнимым движением и не способно осуществить ничего
существенного, качественно нового. Механистический же материа-
лизм оперирует столь надысторическим понятием человека, что
для него подобные проблемы генезиса и вовсе не возникают. Ес-
ли, как это было принято Дарвином, готовые категории эстетиче-
ского существуют уже у высокоразвитых животных и, таким обра-
зом, оказываются для человека наследием его дочеловеческого про-
шлого, то и это не меняет дела. Догма «исконности» столь глубоко
укоренилась во всех предшествовавших марксизму эстетических
учениях, что — хотя именно марксизм порвал с нею — даже такой
видный марксист, как Франц Меринг, видел «первую задачу на-
учной эстетики» в том, чтобы «доказать... что искусство представ-
ляет отличительную и первичную способность человечества»10.
Не случайно Меринг при этом ссылается на Канта.
Основа подобных представлений долгое время коренилась в от-
сутствии знаний об истории очеловечивания человека и в связи
с этим в стилизации первобытного периода, начала человеческого
развития, как «золотого века». Здесь не место разбирать соци-
альные основы подобного рода отличающихся друг от друга, а
порой и противоположных воззрений. Для нас важны прежде все-
го сами эти взгляды, очень часто возникающие как оппозиция по
отношению к капиталистическому обществу, характер которого
враждебен искусству, и поэтому ищущие исконно эстетический
«золотой век» в далеком прошлом; перед цивилизацией, выросшей
на развалинах этого «золотого века», стоит задача сознательно осу-
ществить для своего времени те принципы, которые некогда воз-
никли стихийно и неосознанно. Для иллюстрации этого рода взгля-
дов достаточно привести широко известный афоризм Гамана из
<его «Эстетики» : «Поэзия — исконный язык рода человеческого,
подобно тому как садоводство старше, чем земледелие, живопись—
чем письмо, пение — чем декламация, сравнение — чем умозаклю-
чение, обмен — чем торговля. Глубоким сном был покой наших
пращуров, а их движение — упоительным танцем. Семь дней пре-
бывали они в молчании, размышляя и удивляясь; и раскрывали
уста — ради крылатых изречений» п.
Не представляет особого труда доказать, что Гаман заблуж-
дается. Если бы даже действительно садоводство оказалось стар-
ше земледелия, то и тогда речь шла бы лишь о разных видах сель-
скохозяйственного труда: сад здесь еще не имеет ничего общего
с садом в эстетическом смысле слова. Живопись у Гамана (иеро-
глифы и т. п.) есть образное выражение мысли, магический ком-
плекс знаков, и, следовательно, она весьма далека от того, чтобы
стать прообразом современной живописи, и т. п. Даже если неко-
торые аналоги в языке и мышлении выступают в образной форме,
то они содержат в себе зародыши как сравнений, так и умозаклю-
чений, но никак не содержат «поэзию» как господствующий спо-
соб выражения «дологического», эстетического периода. Относи-
тельно мнимо спонтанной образности примитивных языков (хотя
(81
мы узнали все эти языки на сравнительно развитой стадии) мъе
уже говорили. Видеть в них поэтический изначальный язык чело-
вечества — то же, что проецировать наше позднейшее восторжен-
ное восприятие живописности древних высказываний на те старин-
ные слова, которые по своему характеру были столь же абстракт-
ны, как и более поздние, не будучи еще способными к подлинно--
обобщающему синтезу. Прославленная простая красота старинных:
народных песен, которыми мы справедливо восхищаемся, считая
их образцами, родилась гораздо позже, на более развитом этапе,,
когда предложение, взаимосвязь единичного — но уже более со-
вершенного в плане понятийной обобщенности слова — стала гос-
подствующей и могла вызывать благодаря охватывающему нас
настроению поэтические, живописные и т. п. эффекты.
В высказываниях Гамана можно уловить отзвук идей Вико l2'r
однако у Вико эстетическая стилизация древности гораздо более-
критична. Хотя он также говорит о «поэтическом» веке в истории
человечества, но в понимании этого периода колеблется, то реа-
листически признавая его действительно примитивный характер,,
его недифференцированность по сравнению с позднейшими эпо-
хами, то отождествляя эту чувственно выраженную примитив-
ность с развитой поэзией и развитым искусством. Вико требует,,
чтобы философы и филологи исходили от подлинного «первого
человека», то есть от неразвитого, тупого, страшного зверя; ов-
привлекает для сравнения с примитивной древностью записи
путешественников об индейцах, сообщения Тацита о древних гер-
манцах 13. Во всем этом наличествуют весьма серьезные задатки-
правильного понимания исходного периода человеческой культу-
ры. Вико видит также, что в начале этого периода позднейшие фор-
мы деятельности содержались лишь в зародыше, но тем не менее
в это время уже существовали. Так возникает у Вико его концеп-
ция древности: «И так как при своем возникновении все вещи
должны быть по своей природе грубыми, мы в силу всего этого
должны считать началом поэтической мудрости грубую метафизи-
ку. От нее, как от единого ствола, ответвляются в качестве одной
ветви логика, мораль, экономика и политика — все они поэтиче-
ские; в качестве другой ветви — также поэтическая физика, став-
шая матерью космографии, а потому и астрономии и сообщившая
достоверность двум своим дочерям — хронологии и географии» 14.
Однако и для Вико остается непреодолимым препятствием необ-
ходимость выводить диалектику развития человеческой деятель-
ности из изменения структуры субъективности. Так возникает у
него чрезмерный контраст между абстрактными рассудочными
реакциями людей позднейших эпох и реакциями первых людей,
которые «были совершенно лишены рассудка, но обладали силь-
ными чувствами и могущественной фантазией» 15.
Это чисто субъективистское противопоставление также ведет
к идеализации примитивного состояния, хотя Вико — надо отдать
ему должное — никогда столь последовательно, как Гаман, не до-
182
водил эту теорию до конца; то, что для Вико было гениальной
идеей периодизации истории человеческой культуры, выродилось
позднее у Гамана в мифотворчество, в субъективистский метод.
Так, в «Сократических достопримечательностях» Гаман писал:
«Однако, вероятно, вся история такова, как думает о ней этот
философ (Болингброк. — Д. Л.), и, подобно природе, она останет-
ся для нас книгой за семью печатями, таинственным свидетель-
ством, загадкой, которую не разгадать, если не впряжешь в плуг
иного вола, чем наш разум» 16.
Тот факт, что у очень многих философов провозглашение эсте-
тического «изначальной способностью человечества» не предпола-
гает сознательной мифологизации, ничего не меняет в том отно-
шении, что сам по себе, объективно этот тезис является мифом.
Только открытие роли труда в процессе очеловечивания чело-
века могло повлечь за собой существенный поворот к реальности.
Как известно, эту мысль впервые высказал Гегель в своей «Фено-
менологии духа» 17. Однако идеализм Гегеля помешал ему развить
плодотворную концепцию во всей ее полноте. Маркс писал по
поводу этой гегелевской теории, которая, по его мнению, состави-
ла основу величия «Феноменологии духа»: «Гегель знает и при-
знает только один вид труда, именно абстрактно-духовный
труд» 18. Большая часть заблуждений Гегеля, связанных с дан-
ным кругом вопросов, восходит к этому определяющему недостат-
ку его концепции. Возникновение, формирование и развитие всех
видов человеческой деятельности могут быть правильно поняты
лишь в связи с историей труда, с покорением окружающего мира,
с трансформацией самого человека благодаря труду. Мы уже
касались принципов этого взаимодействия, показав, что теперь и
те антропологи и психологи, которые либо остаются вне марксиз-
ма, либо отвергают его, все больше склоняются к признанию этой
преобразующей человека функции труда, даже если они (в силу
своего отношения к марксизму) не в состоянии полностью охва-
тить этот комплекс в его исторически подвижной всеобщности.
Здесь нам достаточно отметить, что Маркс настойчиво подчерки-
вал такое понимание очеловечивания — формирования человече-
ского в человеке до его нынешней стадии — также прменительно
к области эстетического. Он писал: «С другой стороны, со стороны
субъективной: только музыка пробуждает музыкальное чувство
человека; для немузыкального уха самая прекрасная музыка не
имеет никакого смысла, она для него не является предметом, по-
тому что мой предмет может быть только утверждением одной
из моих сущностных сил, следовательно, он может существовать
для меня только так, как существует для себя моя сущностная
сила в качестве субъективной способности, потому что смысл
какого-нибудь предмета для меня (он имеет смысл лишь для со-
ответствующего ему чувства) простирается ровно настолько,
насколько простирается мое чувство. Вот почему чувства общест-
венного человека суть иные чувства, чем чувства необщественна:*
m
го человека. Лишь благодаря предметно развернутому богатству
человеческого существа развивается, а частью и впервые порожда-
ется, богатство субъективной человеческой чувственности: музы-
кальное ухо, чувствующий красоту формы глаз, — короче говоря,
такие чувства, которые способны к человеческим наслаждениям
и которые утверждают себя как человеческие сущностные силы.
Ибо не только пять внешних чувств, но и так называемые духов-
ные чувства, практические чувства (воля, любовь и т. д.), —од-
ним словом, человеческое чувство, человечность чувств, — возни-
кают лишь благодаря наличию соответствующего предмета, бла-
годаря очеловеченной природе. Образование пяти внешних
чувств — это работа всей предшествующей всемирной истории.
Чувство, находящееся в плену у грубой практической потребно-
сти, обладает лишь ограниченным смыслом. Для изголодавшегося
человека не существует человеческой формы пищи, Ъ существует
только ее абстрактное бытие как пищи: она могла бы с таким же
Успехом иметь самую грубую форму, и невозможно сказать, -чем
отличается это поглощение пищи от поглощения ее животным».
Таким образом, необходимо опредмечивание человеческой сущно-
сти — как в теоретическом, так и в практическом отношении, —
чтобы, с одной стороны, очеловечить чувства человека, а с другой
стороны, создать человеческое чувство, соответствующее всему
богатству человеческой и природной сущности» 19,
Мы столь подробно процитировали Маркса прежде всего по-
тому, что приведенное высказывание, ясно и недвусмысленно
характеризуя его взгляды на интересующий нас вопрос о соци-
ально-историческом развитии человеческих чувств и духовной дея-
тельности, тем самым вполне отчетливо определяет и его точку
зрения по поводу «исконного», «вечного» и т. п. художественного
чувства у человека. Маркс полагал, что все эти способности и
соответствующие им объекты возникали лишь постепенно, исто-
рически. При этом для эстетического отражения в отличие от
научного важен еще и тот факт, что не только восприимчивость,,
но и самые объекты художественного восприятия суть продукты
общественного развития. Природные объекты существуют сами:
по себе, независимо от человеческого сознания, от его обществен-
ного развития; однако преобразующая сознание деятельность это-
го развития учит человека превращать посредством научного
отражения действительности в-себе-сущие предметы в предметы
сущие-для-нас. Музыка, архитектура и т. п. возникают — также
объективно — лишь в ходе этого процесса. Поэтому их взаимоот-
ношения с продуцирующим и воспринимающим сознанием долж-
ны обнаружить и иные черты, а не только те, которые предназ-
начены для превращения в-себе-сущего в сущее-для-нас.
Хотя при научном познании общества объект предстает обще^-
ственно возникающим, но, единожды возникнув, он уже имеет
некоторое внутреннее своеобразие, подобно объектам природы.
Как бы ни были различны их предметная структура и закономер*-
184
ности функционирования, их научное отражение всегда идет пря-
мым путем от бытия-в-себе к бытию-для-нас. То, что в данном
случае гораздо труднее достигается чистая форма объективности,
а отклонения от нее обусловлены именно общественным развити-
ем, не меняет существенно ситуации в целом. Марксизм уделяет
равное внимание как сходствам, так и различиям. С одной сторо-
ны, методологический аспект общественно-научных трудов Марк-
са показывает, что он рассматривает объект изучения как про-
цесс, функционирующий при полной независимости от человече-
ского сознания. С другой стороны, Маркс подчеркивает, приводя
слова Вико, что «человеческая история тем отличается от истории
природы, что первая сделана нами, вторая же не сделана нами» 20.
Рассматривая продукт художественной деятельности как частный
результат ее развития (это, несомненно, соответствует истинному
положению вещей), то есть исключительно как часть обществен-
ного бытия человека, мы убеждаемся, что для научного отраже-
ния этого бытия действительны уже указанные нами закономер-
ности.
Но в этом общественном бытии, взятом само по себе, выказы-
ваются и новые своеобразные черты, анализ которых становится
для нас главной задачей, Попытка перечислить их теперь же озна-
чала бы абстрактное представление того идейного процесса, кото-
рый может быть постигнут с полной осмысленностью только кон-
кретно, только в рамках истинных теоретических и исторических
связей. Мы можем здесь лишь предварительно отметить, что взаи-
моотношения между объективностью и субъективностью связаны
с предметной сущностью художественного произведения. Речь
идет не о воздействии на того или иного человека, но о предметной
структуре художественного произведения, воздействующего тем
или иным образом. Утверждение, что ни один объект не может
существовать без субъекта, в применении к любой другой области
человеческой жизни признанное бы философским идеализмом, в
сфере эстетического является существенной особенностью его спе-
цифической предметности. (Разумеется, обработанная скульпто-
ром глыба мрамора, как кусок мрамора, существует столь же не-
зависимо от всякого сознания, как и до ее обработки, как всякий
предмет в природе или в обществе. Но только благодаря труду
скульптора и исключительно в связи с ним возникает интересую-
щее нас субъектно-объектное отношение, которое в дальнейшем
будет рассмотрено нами подробнее.)
Приведенные выше высказывания Маркса объясняют эту спе-
цифическую предметность эстетической сферы, ее взаимодействие
с возникновением эстетической субъективности. В противовес бур-
жуазному историзму, который в лучшем случае признает истори-
ческое развитие человеческого интеллекта, Маркс особо подчер-
кивает, что развитие наших пяти чувств есть результат всей
предшествующей всемирной истории. Это развитие охватывает,
естественно — ив этом основа концепции Маркса, — гораздо более
.185
широкую сферу, чем развитие восприимчивости к искусству. При-
мер с пищей как раз и показывает, что вначале речь- идет здесь об
элементарных жизненных проявлениях, а их дальнейшее форми-
рование (как объективное, так и субъективное) также является)
продуктом развития труда. Это не прямолинейный прогресс; при-
меры Маркса показывают, как производственные отношения, об-
щественное разделение труда даже на высших стадиях могут пре-
пятствовать правильному субъективному отношению к объектам.
История возникновения искусства и как области продуктивной
способности художника, и с точки зрения художественного»
восприятия может, следовательно, рассматриваться лишь в этих
пределах, в пределах всемирной истории пяти чувств. Тем самым,,
однако, эстетический принцип превращается в результат социаль-
но-исторического развития человечества.
Из всего этого следует, что не может быть- и речи об изначаль-
ной художественной способности человека. Эта способность — как
и все прочие его способности — формировалась лишь постепенно.
Теперь, в результате длительного культурного развития, ее уже*
нельзя мысленно отделить даже от антропологического образа!
человека. Однако разрыв с философским идеализмом состоит в чис-
ле прочего еще и в том, чтобы не превращать в абстрактные-
надысторические сущности те свойства человека, которые ныне
стали для него «естественными» и как бы сами собой разумеющи-
мися.
Мысль Маркса не сводится для нас лишь к признанию корен-
ного историзма искусства, художественной восприимчивости и
т. п. Разрабатывая вопрос о взаимоотношении между человечески-
ми чувствами и их объектами, Маркс не забывает обратить наше
внимание на то, что качественно различные чувства должны иметь
и качественно различные отношения (а следовательно, и взаимо-
отношения) с миром предметов. «Глазом, — говорит Маркс, —
предмет воспринимается иначе, чем ухом, и предмет глаза — иной,,
чем предмет уха» 21. Сам по себе этот факт никто не станет опро-
вергать. Но из него следует сделать выводы. А выводы эти таковы,
что точки возникновения искусства неизбежно различны, так же
как различны и источники его возникновения. Философский идеа-
лизм в эстетике и тут все ставит с ног на голову: единый, «искон-
ный» (априорный) эстетический принцип предстает как логичен
ски дифференцируемый, превращаясь в систему искусств и тем
обретая систематичность. На самом же деле из качественно раз<-
личных отношений к действительности, в основе которых, с одной
стороны, лежит единая объективная действительность, а с другой
стороны, качественно различные органы восприятия и их социаль-
но-историческое развитие, возникают различные виды художест-
венной деятельности, предметности, восприимчивости и т. п. Toy
что они благодаря единству объективной действительности, а так-
же вследствие общности социальных оснований, общественных
функций и т. п. в такой сильной степени сближаются, что их
186
принципы могут восприниматься как общеэстетические, ничего в
атом не меняет. Если мы не станем исходить из этого факта, то
•окажемся совершенно беспомощными перед вопросом о философ-
ской постижимости генезиса искусства.
Нельзя сказать, чтобы эта проблема не ставилась иногда и в
идеалистической философии искусства, однако в таких случаях
она подвергалась весьма характерному искажению — диалектика
подменялась метафизикой. Некогда весьма влиятельный немецкий
эстетик Конрад Фидлер писал в предисловии к своему главному
ТРУДУ «О происхождении художественной деятельности»: «По-
скольку нет искусства вообще, а есть лишь отдельные искусства,
вопрос о происхождении художественной способности также мо-
жет быть поставлен лишь в каждой частной области определенно-
го искусства» 22. Фидлер оставляет открытым вопрос о том, способ-
ствуют ли результаты его исследования решению проблем в других
областях; но само его изложение указывает, что он отрицает такую
возможность. Он проводит две абстрагирующие операции, которые
вследствие своей идеалистически-антидиалектической сущности
запутывают проблему до неразрешимости, точнее, вытесняют ее
в область иллюзорных решений. Во-первых, он оспаривает отраже-
ние объективной действительности нашими чувствами и мышле-
нием; в этом он видит предрассудок, который следует опроверг-
нуть: «В обычной жизни, и не только в ней, но и в многочислен-
ных областях высшей духовной деятельности, часто успокаива-
ются на том, что предметные отношения вполне соответствуют
предметам реальности...»23 Следовательно, речь у него идет не о
внешнем мире и его взаимосвязи с нашими органами чувств, а
исключительно о чистой субъективности: «Тем скорее становит-
ся заметным весь абсурд поисков во внешнем мире того, что преж-
де всего находишь в себе...»24 Здесь конкретная полемика Фидле-
ра обращена против неизбежной недостаточности языкового выра-
жения конкретности явлений. Даже если бы он не ошибался в
частностях, он все равно полностью упускает из виду процесс
бесконечного приближения языка ко все более адекватному отра-
жению действительности, а вместе с тем — сложное диалектиче-
ское взаимодействие между объективным миром и стремящейся
к его познанию и овладению им субъективностью. Поэтому он не
только субъективирует, но и фетишизирует высказывание. Язык,
по словам Фидлера, не означает бытие (не отражает бытия), но
является смыслом: «И так как то, что смогло возникнуть в языко-
вой форме, вне этой формы вообще не представлено, то язык всег-
да может означать только себя самого» 25. Так как Фидлер исполь-
зует это утверждение, чтобы вплотную и без переходов категори-
чески противопоставить визуальное выражение языковому, то та-
кая изоляция и фетишизация второго распространяется и на пер-
вое.
Во-вторых — и в самой тесной связи с вышеприведенным, —
Фидлер стремится возможно строже отграничить визуальность как
187
основу изобразительных искусств от отражения действительности
всеми прочими чувствами, равно как и мышлением, ощущением
и т. п. Ему хотелось бы обосновать для изобразительных
искусств — вернее, даже не самих искусств, а для изолированной
художественной деятельности — некий столь же изолированный
мир чистой зримости. Этот разрыв и изоляция направлены преж-
де всего против чувства осязания. Фидлер категорически требует
элиминировать все, что могло бы быть постигнуто человеком с
помощью этого чувства. Если вообразить, что такая изоляция вы-
полнена, человек, по мнению Фидлера, «оказывается в совершен-
но новом положении к тому, что он обычно называет реальностью;
у него отнято все телесно прочное, ибо телесная прочность незри-
ма, и единственное, на чем может сосредоточиться его осознание
действительности, есть ощущение света и красок, которые достав-
ляет ему зрение. Все огромное царство зримого мира%раскрывает-
ся теперь перед ним, ограничиваясь в своем составе нежнейшим,
как бы бестелесным материалом, а в своих формах такими творе-
ниями, которые могут сплетаться только из этого материала» 2\
Конечно, эта идея отмечена крайним субъективизмом, ибо воа-
никающий таким путем зримый образ добыт субъектом не с помо-
щью обычной переработки, синтеза и т. п. отражаемой чувствами^
объективной реальности, а должен быть неким продуктом «чис-
той» деятельности субъекта в духе кантовской теории познаниям
В то же время зрительное отражение реального мира сводится
здесь к тому, что Фидлер как раз и считает «чистой» (очищенной),
визуальностью.
Чтобы показать, насколько такой взгляд на визуальность про>-
тиворечит диалектике, нам придется сослаться на высказанные
ранее соображения по поводу возникающего благодаря трудовому
процессу разделения функций между чувствами [с. 65 и ел.].
Метафизическое обособление визуальности и чувства осязания
возможно лишь с позиций докантовской и кантовской «рациональ^
ной психологии». В том и состоит значение труда — и притом уже
на повседневном уровне, — что в рабочем процессе зрение широ-
ко перенимает функции осязания. В результате такие качества,
как тяжесть, вещественность и т. п., воспринимаются именно зри-
тельно, становятся органической составной частью визуального
отражения действительности. Разумеется, художественная дея-
тельность еще более развивает и усиливает эти тенденции, возник-
шие уже в трудовом процессе. Формируется универсальность
художественного зрения и воплощения, его всеобъемлющий
характер, вопреки Фидлеру, который теоретически приводит изо-
бразительные искусства к предметному и духовному обнищанию,
ибо в вопросе об универсальности Фидлер еще резче устанавлива-
ет неодолимую грань. Если мы хотим, утверждает он, «хотя бы
приблизительно» пережить чисто визуальный вид художественно^
го созерцания, «мы должны отказаться от всякого осознания чего-
то целостного и обобщенного» 27.
Ш8
В стремлении верно понять реальное явление эстетического в>'
его становлении и сущности диалектический материализм в рав-
ной мере отрицает обе метафизические крайности и порывает как
с априорным выведением искусств из их мнимо изначального ис^
точника, из «сущности» человека, так и с абсолютной изоляцией
искусств друг от друга. Философски исследуя генезис искусства,,
мы исходим из множественности его реальных источников и рас-
сматриваем единство эстетического — общего в этой множествен-
ности — как результат социально-исторического развития. Эта
совершенно иное, чем у философов-идеалистов, понимание един-
ства эстетического и его дифференциации, самостоятельности от-
дельных искусств (а в их рамках — отдельных я^анров).
Мы решительно отклоняем всякий априорный принцип един-
ства эстетического. Энгельс подчеркивает это основное положение
диалектического материализма: «Общие результаты исследованиям
мира получаются в конце этого исследования; они, следовательно^
являются не принципами, не исходными пунктами, а результата-
ми, итогами» 28. В нашем случае это положение особенно важно.
Энгельс в приведенном высказывании имел в виду прежде всего,
общие проблемы естественных наук, где принципы, подлежавшие?
раскрытию с помощью человеческого сознания, сами по себе давно»
уже существовали и действовали, до того как мышление получило*
возможность отразить, исследовать и систематизировать их взаи-
мосвязи, единство и т. д. В нашем же случае недостаточность,
принципа заложена не только в бытии-для-нас, но и в бытии-в-
себе: единство принципа в эстетическом возникает постепенно,,
социально-исторически — естественно, что и познано как таковое
оно может быть лишь еще позже, в соответствии с реально до-
стигнутыми стадиями единства.
Уже сам по себе этот факт ориентирует нас на проблемы со-
держания. Хотя чувства и восприятия кажутся гетерогенными по-
отношению друг к другу и даже в своей непосредственности явля-
ются таковыми, тем не менее они не изолированы друг от друга^
герметически, как это представлялось Канту и кантианцам типа
Фидлера. Они всегда являются чувствами и т. п. целостного чело-
века, который живет в обществе, как другие, ему подобные люди,.
и даже простейшие жизненные проявления этого человека имеют*
место в том же обществе и неминуемо содержат элементы и тен-
денции, родственные тем же проявлениям у прочих людей. Разде-
ление труда между чувствами, облегчающее и совершенствующее
труд, взаимоотношения между отдельными чувствами, обусловлен-
ные процессом все более дифференцированного совместного труда,,
все большее овладение внешним и внутренним миром в результате^
все более сложной кооперации чувств, расширение и углубление-
картины мира —все это создает материальные и духовные пред-
посылки для возникновения и развития различных искусств; как
только появляются эти искусства, в каждом из них начинает раз-
виваться тенденция к более своеобразному формированию своих-
18а
имманентных качеств. Но наряду с этим, без ущерба для самосто-
ятельности каждого отдельного искусства, растет и универсаль-
ность, всеобъемлющий размах этих имманентных качеств, выраба-
тывается постепенно нечто общее для всех искусств, посредующая
-система эстетического.
Обе эти тенденции образуют противоречивое единство; дейст-
вующий в обществе целостный человек в пределах своей субъек-
тивности все более усложняет и специализирует свои реакции на
^природу и общество, но специализированное этим путем разделе-
жие труда между чувствами постоянно вновь соотносится с его
личностью в целом и делает ее более богатой и емкой. Это кажу-
щееся слишком обстоятельным определение необходимо нам для
того, чтобы возможно отчетливей размежеваться со всеми теория-
ми, утверждающими, что полноценная и цельная личность челове-
ка могла существовать только в первобытных условиях, позднее
же ее ограничивает и даже начисто стирает неудержимо прогрес-
сирующее разделение труда. Трудно отрицать, что общественное
и техническое разделение труда (особенно в эпоху капитализма)
действительно затрудняет развитие разносторонней личности. Тем
не менее в масштабах истории человеческого рода побеждает про-
тивоположная тенденция; выше мы уже приводили в этой связи
-«слова Маркса, подтверждающие этот вывод [с. 52].
Сказанное не имеет еще отношения к искусству как таковому:
все описанные нами явления прослеживались в истории человече-
ства задолго до того, как эстетический принцип обнаружил свою
самостоятельность. (В развитии отдельного индивида также зача-
стую встречаются эти общие тенденции осмысления эстетическо-
го. Но повторение индивидом развития человеческого рода не
механическая копия-или аббревиатура. Факт существования и об-
щего воздействия произведений искусства означает нечто боль-
шее, нежели просто сокращенное протекание этого процесса.)
Специфически эстетическое предполагает, с одной стороны, объек-
тивно и субъективно достаточно высокий уровень развития, а с
другой стороны, оно все же медленно выделяется в особый способ
выражения социального человека, ибо в каждом отдельном прояв-
.лении эстетическое имеет хотя и относительный, обнаруживаю-
щийся лишь в тенденции, но все же тотальный характер и стре-
мится быть отражением целого.
Основой единства подобных тенденций может быть лишь мате-
риальность, субстрат их бытия. Это, разумеется, высший всеобщий
^закон для всякого подлинного (а не просто субъективно измыш-
ленного) единства. Слова Энгельса о единстве мира29 справедливы
также и для отдельных его фрагментов, и для всех разнообразных
способов, с помощью которых мы осваиваем эти фрагменты, отра-
жая их в человеческом сознании; в равной мере это моя^ет быть
отнесено и к искусству. Свойственный ему способ освоения дейст-
вительности потому и возвышается над обычными формами ее
освоения в повседневной жизни, что материальной основой чело-
190
веческого существования и деятельности является общество в про-^
цессе его «обмена веществ» с природой (Маркс); это общество в»
конечном счете целостно и все же чувственно-наглядно отражается
в его реальной соотнесенности с целостным человеком. Слова «в-
конечном счете» следует подчеркнуть особо. Ибо, с одной стороны,,
художественное воспроизведение действительности в общем непо-
средственно отражает по большей части производственные отно-
шения того или иного общества, но самым непосредственнейшим
образом — вырастающие из них общественные отношения между:
отдельными людьми. Только в качестве основы этих отношений —
то есть «в конечном счете» — возникает также и отражение «обме-
на веществ» между обществом и природой. Чем экстенсивнее w
интенсивнее он развивается, тем отчетливее выступает в искусст-
ве и отражение самой природы. Это отражение не есть некое на-
чало— напротив, оно появляется как продукт наиболее развитой*
стадии такого «обмена веществ». С другой стороны, отражение-
«обмена веществ» между обществом и природой есть заключитель-
ный, действительно конечный объект эстетического отражения;
Этот обмен как раз и охватывает в-себе-сущее отношение каждого
индивида к человеческому роду и его развитию. Такого рода им-
плицитно содержащееся в искусстве отношение раскрывается
эксплицитно — скрытое обычно бытие-в-себе обнаруживает себя:
как наглядное бытие-для-себя.
Естественно, это имеет место — до известной степени в эле-
ментарном, спонтанном виде —и в обыденной жизни, прежде все-
го в труде. Его нельзя представить без такого единства двойной:
соотнесенности с природой, существующей независимо от челове-
ка и одновременно с человеком, с его социально сложившимися1
целевыми установками, с его социально разработанными способ-
ностями и т. д. Здесь возникает материальный «обмен веществ».
В самом же труде это единство действует перманентно и одновре-
менно непрерывно осознается, то есть субъективные и объектив-
ные компоненты образуют (относительно) самостоятельную взаи-
мосвязь, (относительно) самостоятельно развиваются, причем в;
непрекращающемся взаимовлиянии. Дальнейшее развитие субъек-
тивных компонентов понятно и без комментариев; развитие
объективных компонентов природы, ее «обмен веществ» с челове-
ческим обществом состоит в том, что этот «обмен веществ» откры-
вает человеку все новые стороны, свойства, закономерности и т. д.
природы и тем самым все сильнее вовлекает природу — как интен-
сивно, так и экстенсивно — во взаимосвязь с обществом. А осозна-
ние единства означает переход, восхождение с одной определенной
ступени развития на другую, более сложную, глубже опосредован-
ную, выше организованную. Этот процесс находится в теснейшей'
взаимосвязи с непосредственным и очевидно движимым им разви-
тием субъективных компонентов. Взаимоотношения людей, их
непосредственное и вместе с тем столь глубоко опосредованное об-
щественное взаимодействие в труде и жизни должно преобразо-
19h
вываться в ходе интенсивного и экстенсивного роста «обмена ве-
ществ» общества и природы в соответствии с потребностями этого
роста. Осознание степени единства, следовательно, всегда являет-
ся моментом, и причем подвижным моментом, самого этого един-
ства.
Понятно, что научное отражение действительности представля-
ет собой ваяшый момент этого диалектического движения;
поскольку оно направлено на интеллектуальное постижение само-
го этого процесса, оно доляшо стремиться к постижению важных
для него категорий в их реальных объективных соотношениях, в
их истинном подвижном равновесии. Эстетическое отражение
должно идти другим путем. Во-первых, научное отражение дале-
ко не всегда направлено непосредственно на сам процесс «обмена
веществ». Сколь ни значительно определяет он в конечном итоге
развитие научного отражения действительности, ено в зависимо-
сти от степени своей развитости выбирает и собственные пути,
которые зачастую снова перекрещиваются с общим путем только
при очень сложном опосредовании. Напротив, художественное
отражение всегда базируется на общественном начале в его взаи-
модействии с природным и только на такой основе способно пости-
гать и изображать природу присущими ему средствами. Какой бы
непосредственной ни казалась связь художника (и того, кто вос-
принимает его творчество) с природой, но объективно она глубоко
и сложно опосредована. Правда, эта непосредственность, о кото-
рой конкретнее будет сказано ниже, не просто иллюзия, во всяком
случае, не ложная иллюзия. Она представляет действенную со-
ставную часть эстетического отражения, ставшего образом, произ-
ведением искусства, эстетической непосредственностью sui gene-
ris. Но констатированная выше объективная опосредованность
этим и не отрицается, и не подтверждается. Дело касается одного
из существенных, фундаментальных и творчески плодотворных
противоречий эстетического отражения действительности. Но, во-
вторых, из этой непосредственно неразрешимой связи эстетическо-
го отражения с его бытийной базой следует своеобразие содержа-
ния и формы отрефлектированного и образно представленного
объекта. Научное отражение, даже если оно и сосредоточивается
на отдельной проблеме, должно всегда по возможности стремить-
ся приблизиться к интенсивной и экстенсивной целостности обще-
го определения любого своего объекта. Напротив, эстетическое
«отражение всегда направлено непосредственно лишь на частный
объект. Эта непосредственная частность подкрепляется тем, что
любое искусство — а в непосредственной эстетической реальности
существуют только отдельные искусства и даже только отдельные
ппроизведения, эстетическая же их общность ощущается лишь
-понятийно, но не непосредственно-художественно — в состоянии
оотразить объективную действительность только с помощью своих
•собственных посредующих элементов (изображение, слово и т. д.).
Разумеется, содержание действительности в целом вливается в эту
192
систему опосредования и художественно перерабатывается в ее
рамках в соответствии с собственными закономерностями; при
обсуждении духовного разделения труда мы коснулись того, как
это происходит, и еще вернемся к этой проблеме. Но объект эсте-
тического отражения не может быть всеобщим и в другой связи:
эстетическое обобщение есть возвышение единичного до типич-
ного, в то время как научное — открытие связи между отдельным
случаем и общей закономерностью. Применительно к нашей про-
блеме это означает, что в произведении искусства экстенсивная
всеобщность его объекта не проявляется прямо, а выражается
лишь опосредованно (этот механизм приводится в движение эво-
кативно-эстетической непосредственностью) в его интенсивной
всеобщности. Из этого следует, что подлинный базис, основа всего
отражения — общество в его взаимодействии с природой — может
проявляться лишь указанным опосредованно-непосредственным
образом. И будет ли конкретным объектом изображения непосред-
ственность объекта природы (как в пейзажной живописи) или
чисто внутренние события человеческой жизни (как в драме), эта
сущность проявляется в равной степени, так как в обоих случаях
конечная основа одна и та же, и меняется, в том числе полярно»
только соотношение первого и второго планов, прямо высказывае-
мого и только намеченного, и т. д.
Все это показывает, что развитие эстетического отражения
именно в отношении своего принципиального базиса — общества
во взаимосвязи с природой — весьма отдалено от способа прояв-
ления этого принципа в повседневной жизни, в первую очередь в
труде. Прежде всего здесь выпадает осознание и реконструкция
фундаментального единства, и в первую очередь потому, что это
свойство труда напрямую обосновано его взаимосвязью с научным
отражением30. Правда, эта тенденция труда наиболее явным обра-
зом выступает только на самых развитых его ступенях, когда он
отвоевывает самостоятельность у возникшей из него науки и начи-
нает оказывать на нее влияние. Тогда дезантропоморфирующие
силы научного отражения действительности воздействуют на оба
компонента труда; его научный анализ, как представляющий
самостоятельную научную задачу, так и проводимый в рамках
взаимовлияния, нацелен на конкретно достижимый оптимум ре-
зультативности, на применение объекта как такового, возможно
более освобожденного от специфики свойств, способностей и т. д.
участвующих в трудовом процессе людей.
Хотя в основе любого подобного анализа труда и лежит «обмен
веществ» между обществом и природой, определяющий его уровень
и направленность, методы и результаты, но в субъективных реф-
лексах эта соотнесенность менее всего заметна непосредственно.
Так необходимым образом проявляется снятие природных огра-
ничений. Эта структура отчетливо предстает только на высоких
ступенях развития, хотя тенденция к подобной дезантропоморфи-
зации спонтанно, неосознанно заложена в самом труде. Но долгое
13 Заказ № 683
193
время она перекрещивается с другими тенденциями, или перекрыв
вается ими. Среди них в определенное время наиболее значитель-
ную роль играет художественная. При попытке мысленного резко*-
го обособления обеих этих тенденций часто возникают трудности^,
которые нельзя не принимать во внимание. Так, воздействующие
на труд художественные тенденции часта раскрывают доселе не-
известные свойства в-себе-бытия, стимулируют как трудовые спо-
собности (овладение материалом, совершенствование инструмен-
та и его использования и т. д.), так и научные. Искусство и труд,
могут даже находиться в состоянии осознаваемого союза, как,
например, в эпоху Возрождения.
Несмотря на это, теоретическое размежевание между произ-
водительным трудом и искусством остается необходимым и воз-
можным. Оно может быть выведено и непосредственно из самих
объективации, а не из их отражений в человеческом сознании.
Разграничительная линия пройдет — на примитивных стадиях,,
скажем при украшении самого человека, при: отделке инстру-
ментов и т. п., — там, где кончается непосредственная полезность,
В то время как развитие дезантропоморфирующего отражения
действительности открывает все более опосредованные возмож-
ности использования и тем самым повышает непосредственную-
эффективность труда, эстетические элементы являют собой изли-
шество, ничего не прибавляющее к его фактической полезности.
(Ниже мы скажем о важной роли воображаемой пользы, возник-
шей из магических представлений, в возникновении и развитии
художественных образов; но именно этим и прикрывается объек-
тивный эстетический характер предметов или обстановки.) Уже и&
одного этого понятны причины столь позднего отделения эстетиче-
ского элемента от производительного труда: оно требует и возрос-
шего уровня техники, и определенного досуга для производства)
«излишнего», который дается лишь повышением производитель-
ности труда.
Если рассматривать первые — эстетически далеко еще не од-
нозначные — проявления принципа, близкого к художественному,.
в продуктах труда, целиком или в каком-то отношении не пред-
назначенных для удовлетворения материальных потребностей, та
уже на этой стадии будет ясно, что этот принцип не основывается
на дезантропоморфирующем отражении действительности. Ибо»
даже самая примитивная установка на полезный: эффект приводит
в движение систему опосредовании, которая исключает соотнесен-
ность с человеком ради лучшего осуществления ето целей. В ис-
кусстве же такого рода исключения не происходит. Впрочем, в
этот тезис следует понимать диалектически. Художественная дея-
тельность сохраняет, и притом не только в архитектуре, пластике-
или художественных промыслах, некоторые черты обычного труда
и связанного с ним исследования объективной действительности;
и пока существует этот момент, неизбежно имеет место; элимини-
рование соотнесенности с человеком. Д,а и за; пределами этого»
194
момента, в субъективном созидании художественных произведе-
ний полезность остается неотъемлемой стороной многих искусств,
так что они, даже чисто эстетически, не могут реализоваться, не
имея в то же время практической пользы. И все же, чем полнее
»определяется художественная деятельность как таковая, тем боль-
ше снимаются подобные дез антропоморфические моменты, превра-
щаясь в простое средство реализации существенно иных
целей.
Это противоречие в процессе созидания и в субъективном
отношении к этому процессу его участников в самом общем виде
может быть выражено проще всего как «сознание (осознание)»
чего-либо и «самосознание» кого-либо, причем слово «Selbstbe-
wußtsein» — «самосознание» — имеет в повседневном употребле-
нии двоякое значение, но примечательно то, что как раз эта двой-
ственность смысла и помогает прояснить, что мы в данном случае
имеем в виду. Это слово означает, с одной стороны, чувство соб-
ственного достоинства, уверенное, надежное положение человека
в его конкретном окружении. С другой стороны, оно означает са-
мопостижение — раскрытие человеческого сознания (и определя-
ющего это сознание бытия) с помощью направленной на это
сознание деятельности его собственных духовных сил. Такое пони-
мание, согласно которому в самосознании следует видеть нечто
.исключительно внутреннее, отъединенное от мира и соотнесенное
лишь с самим субъектом, есть продукт позднейшего времени, и
суть данного явления в нем совершенно затушевывается. Первое
же из приведенных нами значений — наверняка более старое —
совершенно немыслимо вне соотнесения с окружающим человека
миром. Но даже и самосознание во втором смысле слова способно
по-настоящему развиться лишь тогда, когда субъективное, с самим
собой соотносимое отражение по возможности полно включает в
себя содержание конкретного окружающего мира. Еще Гёте неод-
нократно возражал против понимания самосознания в духе фор-
мулы «Познай себя!». То, что он сказал по этому поводу в одной
из бесед с Эккерманом, пояснит наше понимание самопознания:
«Во все времена говорилось и повторялось, что надо стараться
познать самого себя. Странное требование, которое до сих пор
никого не удовлетворяло, да и не может, собственно говоря, удов-
летворить. Все чувства и все стремления человека направляют его
к окружающему его внешнему миру, и ему приходится изучать
его и пользоваться им постольку, поскольку это соответствует его
целям. О самом себе человек знает только то, что он наслаждается
или страдает, и он по себе узнает только страдание или радость,
чего он должен избегать и к чему стремиться» 31.
Разумеется, Гёте исходит здесь не столько из художественно-
го принципа, который у него вполне спонтанно был обращен к
миру, сколько из обыденной жизни. В другом отрывке он выска-
зывает это с абсолютной ясностью: «Возьмем затем столь важное
изречение, как «познай себя»; его ни в коем случае нельзя истол-
13*
195
зювывать в смысле аскетическом. Тут нет и намека на «самопо-
знание» наших новейших ипохондриков, юмористов и самоистяза-
телей. Изречение значит просто-напросто: не забывай о самом-
себе, следи, каковы твои отношения с себе подобными и с миром!
Для этого не нужно никаких психологических мучений; каждый
здравый человек понимает и знает на опыте, что/ это значит. Сло-
ва эти — добрый совет, приносящий каждому и всякому величайг
шую практическую выгоду» 32.
Даже в этом описании повседневного поведения человека, не-
смотря на все резко отрицательное отношение Гёте к уходу во»
внутреннюю жизнь, отчетливо заметна соотнесенность с субъек-
том — реальным, целостным человеком. Однако в повседневной
жизни самосознание так же относится к непосредственной прак-
тике, как и постепенно освобождающееся от антропоморфизм»
осознание внешнего мира. Мы уже проследили в общих чертах,,
как это последнее отделяется от непосредственной практики, обре-
тает собственную форму, вырабатывает собственные методы хотв
бы для того, чтобы с помощью широких и разветвленных опосре-
довании влиять на непосредственную практику, преобразовывать
ее и поднимать на более высокий уровень.
Возникновение эстетического является таким же самообособле-
нием самосознания от повседневной практики, как и самообособ-
ление «осознания» чего-либо в процессе становления научного
отражения действительности. Из вышеизложенного ясно, что обо-
собление эстетического является не снятием антропоморфирующе-
го отражения, а лишь его своеобразной, самостоятельной, качест-
венно иной разновидностью. Впрочем —и в этом объективно в
субъективно кроется одна из величайших трудностей (в том чис-
ле и для последующего изучения) обособления эстетического от
основы обыденной жизни — тенденция антропоморфирующег©
мышления является настолько всеобщей, что коренной разрыв
с нею осуществляет лишь научное отражение. «Человек никогда
не поймет, насколько он антропоморфен» 33, — говорит Гёте.
Антропоморфична как стихия повседневной жизни, так — как
уже говорилось — и религия. Философское рассмотрение весьма
сложного процесса отделения эстетического от обеих этих сфер
станет в дальнейшем главной темой настоящей работы. Мы не
будем здесь останавливаться на последовательных этапах разви-
тия этой темы; сухой перечень даже наиболее существенных точек
зрения, моментов и т. п. на этой стадии изложения может привес-
ти лишь к путанице, а не к прояснению нашей позиции. Нам
хотелось бы лишь предварительно обратиться к понятию само-
сознания. Его объект — окружающий человека конкретный мир,
общество (человек в обществе), «обмен веществ» между общест-
вом и природой, опосредованный производственными отношения-
ми; но все это — опосредованное восприятием целостного челове-
ка. Иными словами, всякая художественная деятельность таит в
себе вопрос: насколько этот мир действительно является миром
196
человека, который он в состоянии принять как свой собственный,
соразмерный с его человечностью? (Позднейший, более конкрет-
ный анализ покажет, что ни украшение и орнаментирование, ни
даже резкая и ожесточенная критика окружающего мира не про*
тиворечат этому определению, а лишь углубляют его, и конкретш-
зируют.)
До известной степени подобные тенденции можно, разумеется;,
обнаружить как в повседневности, так и в религии. В повседнев-
ности они выступают как спонтанные потребности, которые жизнь*
либо удовлетворяет, либо отвергает. И это понятно, ибо неустра^
нимо случайный характер обыденной жизни, случайность жела*-
ний, возникающих из присущей ей единичности, частности и т. п.,,
допускает лишь случайное исполнение этих желаний, хотя (объ-
ективно-социально, в среднем), конечно, не является случайным;,
какого рода субъективные потребности в конкретном состоянии»
общества, при определенной расстановке классовых сил, могу-Е"
удовлетворяться и какие должны оставаться неудовлетворенными".
(Объективное познание таких общих возможностей, такого мас-
штаба исполнения желаний, разумеется, не снимает той случай-
ности, которая может воздействовать на любого частного индиви-
да.) Поэтому в обыденной жизни желания и их исполнение сосре-
доточены вокруг индивида, иными словами, они возникают, с одной
стороны, из его реального и частного индивидуального суще-
ствования, с другой стороны, они направлены на реальное практи-
ческое исполнение конкретных личных желаний. Несомненно,
художественное изображение первоначально вырастает из этой
почвы. Украшение человека (будь то самостоятельный пред-
мет или разрисовывание собственного тела, первобытный танец,
песня и т. п. магического периода), основывается, по существу, на
личном желании определенного человека или столь же определен-
ного коллектива, где каждый человек непосредственно лично
заинтересован в общем успехе. Магический, религиозный антропо-
морфизм сохраняет только эту связь реального или воображаемо-
го исполнения с желанием индивида как индивида или как члена
конкретного коллектива. То, что исполнение — иногда, особенно»
на первобытном уровне, — переносится в сферу потустороннего,
не меняет существа этой структуры, ибо даже такая более чем
отдаленная цель, как спасение души в потустороннем мире, как
раз и связана у частной личности с ее частностью.
Из этой структуры естественно следует, что переход в область
искусства предметов, событий, действий и т. п. может быть резуль-
татом лишь бессознательной деятельности (в ранее [с. 72 и ел.]
принятом нами смысле). При этом возникает особый тип ебобще^-
ния и вместе с тем особый род предметности, которые объективно
отделяют подобные продукты повседневности от магии и рели-
гии — даже в таких случаях, когда и творящий, и воспринимаю-
щий искренне убеждены, что они действуют в рамках повседнев^-
ности, магии или религии. Позднее эти вопросы будут разобраны
m
более конкретно, сейчас же мы вынуждены говорить лишь кратко
и отвлеченно.
Обобщение в искусстве — в противоположность дезантропомор-
физации в науке -— заключается в том, что художественно обра-
ботанный предмет освобождается от частной индивидуальности и
тем самым от фактуально-практического удовлетворения потреб-
ности (безразлично, ожидается ли такое удовлетворение в земной
либо в потусторонней жизни), не утрачивая способности пере-
живаться индивидуально и непосредственно. Более того, художе-
ственное обобщение может усиливать и углублять именно это
свойство. Искусство, сохраняя индивидуальность объекта и его
восприятия, акцентирует родовое начало и тем самым снимает
чистую частность, благодаря чему, не превращаясь в отвлеченные
понятия, оно значительно более отчетливо, чем это возможно в
обыденной жизни, выявляет также соотнесенность объекта с об-
ществом и с природой. Вместе с тем на более высокий уровень
возводится и определение самосознания: поскольку причастный к
сфере эстетического человек — и творящий, и воспринимающий —
соизмеряет себя с родом, как в том, что касается объекта, так и в
том, что касается субъекта, самосознание отделяется от узкой сфе-
ры частного и чисто повседневного и обретает всеобщность, имею-
щую, конечно, иной характер, нежели дезантропоморфически-
научная обобщенность; это — чувственно-наглядное обобщение
целостного человека, в основе которого лежит осознанно антропо-
морфический принцип.
Противоречивость этого обобщения, которая в дальнейшем
будет рассмотрена более подробно, неизбежно приводит к тому, что
удовлетворение потребностей, желаний, стремлений и т. п. утра-
чивает свой фактуально-практический характер. С точки зрения
непосредственной фактичности повседневной жизни это удовле-
творение является чисто фиктивным, вернее, удовлетворение, пере-
живаемое в типичном случае, отделяется от соответствующей ему
в самой жизни фактической реальности. Здесь возникает кажуще-
еся сходство между искусством и религией: возвещенное и изобра-
женное религией удовлетворение, исполнение желаний может быть
в отношении жизненной реальности в лучшем случае суггестив-
ным, пробуждающим соответствующие переживания будущего
(потустороннего) удовлетворения желаний. (В этом аспекте мы
видим различие между магией и религией в том, что первая пред-
принимает попытки исполнения обыденно-практических желаний,
в то время как вторая, по меньшей мере как правило, ориентирует
на исполнение «потусторонних» желаний, причем относящихся не
к отдельным моментам, а к судьбе человека в целом; в этом мире
проявляется лишь субъективный рефлекс трансцендентного испол-
нения, как, например, исцеления в кальвинизме. Конечно, во мно-
гих религиях сохраняются пережитки магии как веры в «посюсто-
роннее», практическое удовлетворение потребностей.) Родствен-
ность искусства и религии кажется еще более близкой благодаря
198
тому, что лежащий в основе искусства принцип также может быть
только антропоморфичным. Не удивительно, что на протяжении
тысячелетий художественные произведения рождались и вызыва-
ли наслаждение в связи с верованиями, как если бы они служили
лишь чувственным пояснением к религиозной догме, возвещают
щей исполнение желаний.
Однако, несмотря на общность антропоморфичной основы, раз-
личие, более того — противоположность между религией и искусст-
вом выражена с не меньшей резкостью, чем различие, констати-
рованное нами ранее [с. 106 и ел.] между религиозной антропомор-
физацией и научной дезантропоморфизацией. В данном случае?
противоположность сосредоточена на определении «фиктивности»-
желаемых объектов в искусстве и соответственно в религии. Мы
уже кратко охарактеризовали в общих чертах эту противополож-
ность в отношении реальности объектов; в частности, следует от-
метить, что «фиктивность» искусства всегда безусловна, радикаль-
но доведена до конца, тогда как в религии «фиктивность» сохраняет
притязания на присущую ей якобы трансцендентность, пытаясь
предстать более истинной действительностью, чем действитель-
ность обыденной жизни [с. 109]. Вытекающие отсюда конкретные
проблемы будут разъяснены позднее, на более углубленном уров-
не нашего изложения.
Здесь же мы рассмотрим лишь еще один вопрос: мы имеем в
виду принципиальную «посюсторонность» искусства, его обращен-
ность к миру, его ценностную акцентированность, его человече-
ски-земной характер, вытекающий из самой его сущности. Речь
идет, разумеется, об объективном смысле эстетически воплощен-
ной действительности; субъективно художник может иметь в виду
трансцендентность, и адресат его творчества может воспринимать
эту трансцендентность; может случиться и так, что объективный
замысел художника, коренящийся в общественно-человеческой
сущности искусства, выявится лишь спустя века и даже тысяче-
летия.
Отказ творений искусства от претензий на свою действитель-
ность объективно предполагает отрицание трансцендентности,
потусторонности; искусство, перерабатывая отражения действи-
тельности, творит специфические формы, которые возникают из
этой действительности и в процессе воздействия на нее возвра-
щаются в ту же действительность. Даже когда искусство выходит
за пределы фактуальиости действительности, непосредственно
данной в повседневной практике, оно делает это—в данном случае
как и научное отражение — для того, чтобы воспроизвести и по-
стичь действительность, чтобы овладеть этой действительностью
во всем ее своеобразии более полно, чем это может быть доступно
повседневной практике с ее непосредственной субъективностью.
Следовательно, искусство столь же чуждо потусторонности, как и
наука; оно, подобно науке, является лишь отражением этой дейст-
вительности. Однако в других важнейших вопросах, касающихся
199
отражения, наука и искусство идут своими путями. Путь к дезан-
тропоморфизации в научном отражении мы уже охарактеризова-
ли. Нам предстоит определить специфику эстетического, антропо-
морфирующего отражения как в отношении самой эстетически
отображаемой в произведении искусства действительности (обще-
ство в его «обмене веществ» с природой), так и в отношении раз-
виваемых в человеке этим видом отражения новых способностей,
группирующихся, как мы попытаемся доказать, вокруг формиро-
вания самосознания в вышеуказанном смысле слова.
Определив эстетическое в его наиболее общих чертах, необхо-
димо пояснить, что антропоморфирующее эстетическое отражение,
чтобы оставаться таковым, не должно утрачивать непосред-
ственного контакта с чувственной апперцепцией мира; эстетиче-
ские обобщения осуществляются в пределах человеческой чувст-
венности; более того, чтобы процесс обобщения проходил эстети-
чески успешно, он должен повлечь за собой своего рода усиление
чувственной непосредственности. И поскольку область эстетиче-
ского не дает материала для каких бы то ни было аналогий с той
ролью, какую играет математика среди других наук, отсюда сле-
дует также принципиально иной, чем в науке, тип подразделения
искусства на роды и виды. В науке разделение на отдельные на-
учные дисциплины (физику, биологию и т. п.) определяется в-се-
бе-сущими свойствами объекта. В эстетике же антропоморфичный
тип отражения приводит к тому, что деление искусства на виды
и подвиды (отдельные искусства, отдельные жанры) связано с
возможностями формирования человеческих чувств — разумеется,
в самом широком смысле слова. Мы решительно возражаем против
механического обособления отдельных человеческих чувств, как
это имеет место, например, у Фидлера; в дальнейшем мы пока-
жем, что эстетическое формирование каждого отдельного чувства
движется в направлении универсального отражения действитель-
ности; вместе с тем мы уже сейчас считаем нужным подчеркнуть,
что овладение действительностью с помощью отражения, ставше-
го эстетическим, развивается для каждого чувства самостоятель-
но, относительно независимо от других чувств. Универсальный
принцип в рамках эстетической субъективности, который кажется
нам ныне, в результате тысячелетнего развития, чем-то само собой
разумеющимся, все же является по своей сущности именно резуль-
татом. Он обогащается и углубляется в процессе взаимодействия
чувств, ощущений и мыслей, обогащаемых и углубляемых различ-
ными искусствами. Но предпосылкой для подобных плодотворных
взаимоотношений была и остается самостоятельность отдельных
искусств и жанров, самостоятельность в развитии отдельных
чувств в направлении к универсальности. Эстетический принцип,
единство разных типов эстетического отражения является, следо-
вательно, итогом длительного процесса, а самостоятельный гене-
зис разных видов и подвидов искусства, соответствующей им субъ-
ективности в творчестве и восприятии — это не просто историче-
200
ский факт: генезис этот коренится, как мы увидим в дальнейшем
[см. т. 2, гл. 8], в глубочайшей сущности эстетического отражения
действительности, и игнорирование этого момента ведет к невер>-
ному пониманию сущности проблемы.
При этом мы должны были в интересах основополагающей яс-
ности представить это разделение более простым, чем в действи-
тельности. Наивным упрощением было бы полагать, что каждому
человеческому чувству соответствует только один вид искусства.
Достаточно указать на глубокую внутреннюю гетерогенность изо^-
бразительных искусств, архитектуры, пластики, живописи и т. д.
Конечно, изначально и здесь наличествуют взаимосвязи, и в ходе
развития они становятся все более специфическими и воздейству-
ют все глубже и существеннее. Достаточно сослаться хотя бы на
проникновение живописных принципов в пластику и архитектуру
при определенных исторических обстоятельствах.
Сложности возрастают еще и оттого, что историчность эстети-
ческого отражения действительности, его обусловленность местом
и временем качественно совершенно иные, чем в научном отраже-
нии. Любая субъективность несет на себе социально-исторический
отпечаток; это очевидно, и это, разумеется, играет немаловажную
роль в истории науки. Все же объективная истина научного вы-
сказывания зависит исключительно от ее — приближенного —
совпадения с тем в-себе-бытием, которое этим утверждением
превращается в бытие-для-нас. Поэтому вопрос об истинности
никак не связан здесь с проблемами генезиса. Генезис может в
лучшем случае объяснить, почему в данных социально-историче-
ских условиях попытки приблизить научное отражение к объек-
тивной реальности оказывались более или менее успешными.
Совершенно по-иному обстоит дело в искусстве. Поскольку основ-
ным объектом эстетического отражения является общество в его
«обмене веществ» с природой, здесь мы также, безусловно, имеем
дело с реальностью, существующей независимо от общественного»
и индивидуального сознания, подобно реальности в-себе-бытия
природы; однако в отличие от последней в этой реальности обяза-
тельно и всегда присутствует человек, притом и как объект, и как
субъект. Эстетическое отражение постоянно осуществляет обоб-
щение, причем высшей ступенью такого обобщения является че>-
ловеческий род и то, что типично для его поступательного разви-
тия; но род человеческий никогда не выступает здесь в форме
абстракции. Глубокая верность жизненной правде в эстетическом
отражении не в последнюю очередь основана на том, что, всегда
стремясь отразить судьбу человеческого рода, оно никогда не от-
деляет эту судьбу от творящих ее индивидов, никогда не пытается
превратить ее в независимую от них сущность. Эстетическое отра-
жение всегда показывает человечество через индивидов и индиви-
дуальные судьбы. Его своеобразие, о котором позднее мы будем
говорить весьма подробно, именно в том и выражается, что. этиг
индивиды, с одной стороны, обладают чувственной непосредствен,-
201
ностыо (отличающейся от непосредственности обыденной жизни),
а с другой, сохраняя эту непосредственность, включают в себя
родовые типичные черты. Уже из этого следует, что эстетическое
отражение не может быть простым воспроизведением непосредст-
венно данной действительности. Более того, ее переработка не
ограничивается отбором существенного в явлениях (такой отбор
должно обеспечивать также научное отражение природы), но
включает в самый акт отражения как неразрывно связанный с
ним момент положительной либо отрицательной оценки эстетиче-
ски отражаемого объекта.
Было бы, однако, совершенно неправильно видеть в этом эле-
ментарном, лишь относительно поздно осознанном неизбежном
моменте — в художественной оценке — субъективизм или субъек-
тивистское дополнение к объективному воспроизведению действи-
тельности. Во всяком другом виде отражения действительности
подобный дуализм существует и корректируется практикой; но
только в эстетическом отражении его основополагающий объект
(общество в его «обмене веществ» с природой) в его соотнесенно-
сти с вырабатывающим самосознание субъектом включает в себя
неразрывное единство воспроизведения действительности и ее
оценки, объективности и партийности. Единовременность и сов-
местность существования обоих этих моментов сообщает всякому
произведению искусства неотъемлемо исторический характер.
Искусство не только фиксирует некий в-себе-сущий факт, подоб-
но науке, оно увеличивает определенный момент в историческом
развитии человечества. Сохранение индивидуального в типичном,
оценки в объективном факте и т. п. формирует этот художествен-
ный историзм. Следовательно, художественная истина — именно
как истина — всегда исторична; ее адекватное становление проис-
ходит как процесс срастания с ее ценностной значимостью, ибо
самая эта ценность заключается в том, чтобы раскрыть и сде-
лать ощутимыми, непосредственно переживаемыми те моменты в
развитии человечества, которые по содержанию и форме заслужи-
вают такого запечатления.
В дальнейшем мы конкретно покажем, что это взаимопроник-
новение субъективности и объективности, возникающее из аытро-
поморфирующей сущности эстетического отражения, из его объек-
та и субъекта, не разрушает объективности художественного про-
изведения, а напротив — порождает его специфическую объектив-
ность. Мы убедимся, что возникновение эстетического из различ-
ных и даже непосредственно разнородных источников приводит
не к распаду его принципиального единства, а к его постепенно-
му конституированию как конкретного единства, причем это един-
ство должно, конечно, и здесь пониматься диалектически.
Гегель называет единство наук «кругом кругов», «ибо каждый
отдельный член, как одухотворенный методом, есть рефлексия-в-
себя, которая, возвращаясь в начало, в то же время есть начало
нового члена. Звенья этой цепи суть отдельные науки, из коих
202
каждая имеет нечто до себя и нечто после себя или, говоря точнее,
имеет только то, что ей предшествует и в самом своем заключении
показывает свое последующее» 34.
Эта структура «круга, состоящего из кругов», еще отчетливей
выражена в эстетическом. Каждый род искусства (а в конечном
счете даже каждое отдельное произведение искусства) получает
относительно самостоятельное существование благодаря своему
объекту, который, прежде чем стать предметом искусства, подверг-
ся обработке в качестве объекта человеческой деятельности, а так-
же благодаря своему субъекту, функция которого не ограничива-
ется тем, чтобы возможно более точно отражать независимое от
сознания бытие-в-себе в осознанном бытии-для-нас, но состоит
скорее в том, чтобы каждому элементу объекта (не говоря уже об
объекте в целом) сообщать соотнесенность с собой и выражать
как в целом, так и в деталях свое к нему отношение. Гегелевские
«до себя» и «после себя» применимы здесь лишь с весьма слож-
ными опосредованиями и перестановками. (О связанных с этим
проблемах мы еще не раз и более подробно будем говорить в даль-
нейшем.)
Следовательно, если дифференциация научного отражения
действительности по отдельным наукам существенно определяет-
ся объектом, то в возникновении отдельных искусств и отдельных
жанров существенная роль принадлежит также субъективному
моменту. Речь идет не просто о произволе отдельного частного
субъекта — искусство во всех его фазах есть явление обществен-
ное, его объектом является общество в его «обмене веществ» с
природой, опосредованном, разумеется, производственными отно-
шениями и сформировавшимися на их основе взаимоотношениями
людей. Такой социально всеобщий объект не может получить
правильного отражения в субъективности, пребывающей в своей
чистой партикулярности; чтобы добиться здесь уровня прибли-
зительной адекватности, эстетический субъект должен выработать
в себе способность к всечеловеческому обобщению, способность
соизмерения с человеческим родом. Эстетически, однако, речь
здесь может идти не об абстрактном понятии рода, но о конкрет-
ном, чувственном, индивидуальном человеке, в характере и судь-
бе которого особые качества и достигнутый уровень развития
выступают конкретно и чувственно, индивидуально и имманент-
но. Отсюда проистекает проблема типического как один из цен-
тральных вопросов эстетики, к которому мы еще будем возвра-
щаться. Разделение эстетического на отдельные виды и жанры
искусства или точнее, синтез в эстетическом этих видов и жанров
может сложиться лишь на основе диалектики этого субъектжь
объектного отношения: лишь когда определенный тип отношения
людей к обществу и в нем к «обмену веществ» с природой приоб-
ретает (или стремится приобрести) устойчивый и существенно
типичный характер, может сформироваться определенное искус-
ство (или жанр).
203
Как следует из вышеизложенного, первоначально эта пробле-
ма является вопросом содержания, эстетического отношения. Но
тгак как — что также следует из наших наблюдений—эстетическая
форма не обладает степенью обобщенности, позволившей бы в рав-
ной мере охватывать множество содержаний, как это происходит
JB науке (где единичная, частная форма, тесно связанная с част-
ным содержанием, считается непосредственностью, которую сле-
дует преодолеть), а, напротив, является эстетической постольку,
поскольку постоянно проявляется как специфическая форма опре-
деленного содержания, своеобразие различных искусств и жанров
должно рассматриваться и как вопрос формы. Задача будет состо-
ять в раскрытии становления из эстетического отражения суще-
ственно схожих субъектио-объектных отношений в вышеуказан-
ном смысле, форм, которые, несмотря на все исторические и инди-
видуальные варьирования, выказывают — именно »как существен-
ные формы — определенное постоянство. Этот вопрос является
одновременно и принципиально эстетическим, и неизбежно исто-
рическим: не только потому, что вследствие нашего определения
формы каждое подлинное произведение искусства единократно
творит заново и общую форму; не только потому, что значимые
повороты в общественном развитии выдвигают качественно новые
типы внутри старых жанров (греческая, английская, французская,
испанская и т. д. драматургия) ; не только потому, что обществен-
но-историческое развитие радикально реформирует отдельные жан-
ры (роман или буржуазный эпос) — все это в отдельности могло
бы привести лишь к радикальному историческому релятивизму, —
шо потому, что проблемы исторического преобразования примени-
тельно к искусству остались бы непонятыми, если устойчивые эле-
менты форм не выводились бы из сущности эстетического отраже-
ния, то есть из основного принципа эстетического. Правильное
решение этого вопроса, возникающего обычно в эстетиках, систе-
матизР1рующих искусства, может быть удовлетворительно освеще-
но только на единой основе диалектико-материалистического объ-
яснения эстетического вообще и историко-материалистических
законов его исторических модификаций в их своеобразии.
¥же эти общие, предварительные и отвлеченные соображения
показывают, что проблема «системы искусств» выступает в новом
освещении. Речь здесь может идти не о дедукции искусств из
принципа эстетического, не об эмпирическом выстраивании в ряд
известных нам искусств, но лишь об историко-систематическом
способе рассмотрения. Этот способ требует отказа от всякого «сим-
метрически» упорядоченного размещения искусств и жанров, со-
храняя их теоретическое обоснование. Он оставляет открытой воз-
можность отмирания отдельных устаревающих видов искусства,
равно как и возможность возникновения новых видов; опять-таки
IB обоих этих случаях не ограничиваясь одним лишь социально-
историческим анализом и не отказываясь от теоретической дедук-
ции. Цри этом уже прежние наши рассуждения показывают, что
2D4
имеется в виду не ретроспективный синтез двух раздельно суще-
ствующих самостоятельных точек зрения, а скорее тот факт, что
шсякий диалектико-материалистическии анализ наталкивает на*
проблему исторического материализма и vice versa. В каждом от-
дельном случае речь идет лишь о преобладании той или иной точ-
ки зрения.
Здесь мы могли лишь в общих чертах определить методологи-
ческое значение этих вопросов и метод их разрешения. Выведение
•форм из повторяющихся, постоянных и относительно стабильных,
моментов отражения впервые было сформулировано Лениным.
Отмечая глубокую мысль Гегеля о том, что логическим формам
умозаключения соответствует объективная действительность, он
писал: «Для Гегеля действование, практика есть логическое
«заключение», фигура логики. И это правда! Конечно, не в
том смысле, что фигура логики инобытием своим имеет практику*
человека ,(^абсолютный идеализм), a vice versa: практика челове-
ка, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека
•фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка,
аксиоматический характер именно (и только) в силу этого милли-
ардного повторения» 35. Эта ленинская мысль — методологический
образец для всякой исторической теории искусств и жанров. Ко-
нечно, ленинскую формулировку нельзя просто «перенести» в об-
ласть эстетики: множественность возможных и необходимых вари-
аций внутри одной формы являет собой нечто качественно новоф
сравнительно с логикой, и великая мысль Ленина о том, что науч-
ные (логические) формы отражают пребывающее и повторяющее-
ся в явлениях, .должна быть основательно конкретизирована при-
менительно к эстетике в соответствии со своеобразием этого типа
отражения действительности 36.
Глава 4
АБСТРАКТНЫЕ ФОРМЫ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Напомним еще раз, что нам практически ничего не известно об
истинных истоках возникновения искусства. Для многих искусств,,
таких, как поэзия, музыка, танец и т. д., было бы с самого начала
бесперспективно пытаться найти документальные свидетельства
их «происхождения». Все то, что нам может предоставить этно-
графия — даже если речь идет о самых древних цивилизациях, —
относится к периодам, далеко отстоящим от момента появления?
того или иного вида искусства. Но и в тех случаях, когда в распо^
ряжении археологии и этнографии имеются памятники матери-
альной культуры, невозможно провести хотя бы приблизительную»
с исторической точки зрения границу между тем, что относится
к периоду* предшествовавшему возникновению художественного*
творчества как такового, и собственно произведениями искусства.
Процесс отделения эстетического от повседневного в период гос-
подства магии в философском плане может быть прослежен толь^
ко в обратном направлении, исходя из того, что уже сформировав
лось с эстетической точки зрения.
Здесь мы вновь сталкиваемся с трудностями, о которых гово-
рили выше: они связаны с многообразием и разнородностью источ-
ников генезиса отдельных форм искусства, подлежащих исследова-
нию, причем, как мы уже подчеркивали [с. 200],. эта гетерогенность,
генезиса ни в коей мере не означает, что отдельные факторы были
оторваны друг от друга, и, уж во всяком случае, она ие помешала
зарождению на более поздних этапах единого эстетического цело-
го. Эта общая проблема приобретает еще более острый характер в>
силу того, что мы будем заниматься не вопросами становления раз-
личных искусств и их различных жанров, а основными принцип
нами, структурными элементами произведений искусства, которые*
в различных его видах играют совершенно разные роли и кото-
рые даны нам только как внешне различные функции на гораздо-
более поздних этапах развития (ритм, пропорция и т. д.); они;
лишь в исключительных случаях сохранили свою первичную само-
стоятельность относительно культуры в целом (орнаментика), но,,
разумеется, им уже нельзя приписывать то значение, которое бьг-
ло им присуще на некоторых начальных стадиях развития.
1. РИТМ
Несмотря на перечисленные выше трудности, мы можем с фило-
софской точки зрения воссоздать в основных чертах с достаточг-
206
ной степенью достоверности процесс отделения эстетического от
повседневного, если возьмем в качестве отправной точки наших
исследований труд, занимающий центральное место в обыденной
жизни человека. Именно поэтому мы будем рассматривать попыт-
ку Бюхера определить ритм через труд, а также обширные и убе-
дительные данные, которые он приводит в качестве иллюстрации,
как важный вклад в выявление этой зависимости. Разумеется, и в
наши дни нередки попытки отыскать более «глубокие», более есте-
ственные, природные истоки 1. Несомненно, в биологическом бы-
тии человека (и животных), так же как и в окружающем его мире,
мы можем проследить ритмическое начало. Но здесь надо четко
различать два различных ряда явлений. С одной стороны, мы име-
ем дело с теми ритмическими элементами окружающей человека
природы (день и ночь, времена года и т. д.), которые на гораздо
йолее поздней и развитой стадии, уже после того как сформиро-
ванный в процессе труда ритм стал существенным моментом чело-
веческого бытия, были призваны сыграть важную роль как в по-
вседневной жизни человека, так и в художественном творчестве.
Древние мифы, однако, указывают на то, что в более отдаленную
эпоху такая ритмическая последовательность событий не была
ютоль самоочевидной, как позднее. Леви-Брюль пишет: «К такого
рода церемониям принадлежат те, которые призваны обеспечить
правильную смену времен года, нормальное количество урожая,
достаточное изобилие плодов, насекомых и идущих в пищу живот-
ных и т. д.»2 Фрэзер также отмечает это обстоятельство: «Траги-
ческий конец предания о Бальдере, если принять мою гипотезу,
«явился, так сказать, записью священной мистерии, из года в год
разыгрываемой для того, чтобы заставить солнце сиять, деревья
расти, посевы подниматься, а также оградить людей и животных
ют гибельных чар фей, троллей, ведьм и волшебников» 3. Вполне
вероятно, что изначально такие мифы, как миф об Исиде и Осири-
се, Персефоне и Деметре и т. д., имели сходное содержание. Совер-
шенно очевидно, что ритм в подобных явлениях может быть осоз-
нан как таковой только в том случае, если последовательность этих
явлений, их переход из одной фазы в другую воспринимаются как
нечто в полном смысле слова объективное, абсолютно не завися-
щее от наших поступков. Осознание ритмической основы в жизни
окружающей нас природы вызывает ощущение «безопасности»,
•чувство уверенности, обусловленное упорядоченностью ее бытия.
С другой стороны, в биологической жизни человека мы также
«сталкиваемся с определенными ритмическими проявлениями (ды-
хание, биение сердца и т. д.). Они, разумеется, в большой степе-
ни влияют на все наше поведение, несмотря на то что в течение
.долгих периодов могут существовать помимо нашего сознания.
И эти свойства никак нельзя приписывать только человеку. Пав-
лов, описывая опыты с собаками, неоднократно подчеркивал «об-
легчающую» роль ритма, тот факт, что ритм используется для
упрощения любых движений и вообще для упрощения жизни в
207
делом4. Он упоминает о собаке, у которой был прекрасно выра-
ботан ритмический условный рефлекс, а это значит, что постоян-
ная смена положительного и отрицательного стимулов очень быст-
ро приводит к образованию системы5. Для нас не так важно здесь
то, что в своих опытах Павлов искусно демонстрирует эту ритмику.
Этот факт свидетельствует лишь о том, что у животных имеется
потенциальная способность к облегчению некоторых процессов и
эта предрасположенность может проявиться только благодаря
контакту с человеком, который уже овладел трудовыми навыками
и сознательно использует результаты своего труда. Решающей
здесь является возможность облегчения некоторых процессов при
помощи их ритмизации, а это может происходить — неосознанно—
как у человека, так и у животных. Таким образом, ритм являете»
частью физиологического бытия любого живого существа. Выше
мы уже указывали на то, что некоторые функциональные процес-
сы протекают нормально только в том случае, когда они подчине-
ны определенному ритму: аритмия свидетельствует о нарушении
той или иной функции или даже о болезни. Более того, в течение-
жизни вырабатываются двигательные навыки, на основе которых
постепенно формируются безусловные рефлексы. Они почти авто-
матически приводят к выявлению наиболее удобного и наименее
утомительного способа движения; примером может служить рит-
мизация полета птиц, ходьбы животного и человека. Разумеется,,
все это еще не имеет прямого отношения к ритму как составной
части искусства. Шелтема правильно и остроумно замечает, что
«мы шагаем ритмично, потому что неритмичный способ ходьбы»
требовал бы от нас слишком большого напряжения, и именно по-
этому следы наших ног образуют на мокром песке упорядоченный
узор, хотя здесь никому и в голову не придет говорить об орна*-
менте» 6.
Однако признание роли такого рода физиологических факторов
не должно отвлекать нашего внимания от основной проблемы ге-
незиса, и прежде всего от специфически человеческого, обуслов-
ленного материальной культурой характера ритма, берущего нача*-
ло в трудовой деятельности человека. Человек сам по себе, так же
как и представители животного мира, живет в природных услови-
ях; взаимодействие человека и природы сводится к равнодействикк
И следовательно, возникающие при этом ритмические моменты
неразрывно связаны с естественной природой. В процессе работы
тем не менее человек изымает предмет труда как часть природы
из естественной природной среды, подвергает его обработке, в ходе
которой законы природы используются телеологически, то есть в.
соответствии с поставленными человеком задачами. Этот момент
выступает еще более отчетливо, когда орудие труда также предо-
ставляет собой телеологически преобразованную «природу». Таким»
образом, мы здесь имеем дело с процессом, который подчиняется
законам природы, но не вписывается целиком в ее рамки и в ко-
тором все виды взаимодействия «природны» только в. части сырья^
208
то есть предмета обработки, и социальны в том, что касается ору-
дий труда и трудового процесса. Этот способ существования накла-
дывает свой отпечаток на возникающие в таких условиях ритмы,.
Если у животных ритмическое начало проявляется при определен-
ных обстоятельствах в связи с проблемой приспособляемости к:
окружающей среде, то в процессе трудовой деятельности ритш
возникает из материального взаимодействия между обществом ш
природой. При этом, разумеется, не следует забывать о том, чта»
общая взаимообусловленность наименьшей затраты усилий и рит-
ма берет свое начало именно в природе, а в трудовом процессе оиа>
«лишь» сознательно используется. Это «лишь», однако, свидетель-
ствует о колоссальном скачке в масштабах мировой истории. Физи-
ческие движения человека в процессе труда — один из решающих:
факторов, обусловливающих наличие ритма, — ясно указывают на>
это различие: чем сложнее работа, тем они «искусственней», темз
меньше они отражают непосредственную физиологическую реак-
цию. Это различие четко сформулировал Гёте: «Животных учат
их органы, говорили древние; я прибавлю к этому: также людей,,
хотя последние обладают тем преимуществом, что могут в свою*
очередь учить свои органы» 7. В данном случае для Гёте «чело-
век» — это, вне всякого сомнения, человек трудящийся, формирую-
щийся и ставший человеком благодаря труду.
Здесь следует еще раз подчеркнуть большую заслугу Бюхера^
который не просто упоминал о труде, но исходил конкретно иф
трудового процесса и анализировал действующие в нем субъектив-
ные факторы, связанные с ритмом. Самым важным из них являет-
ся для нас облегчение трудового процесса вследствие ритмизации*.
Бюхер считает, что усталость появляется прежде всего от дли-
тельного умственного напряжения во время работы. "Умень-
шить его можно прежде всего путем доведения движений до пол-
ного автоматизма, превращения их в машинальные, непроизволь-
ные. Именно в этом и заключается функция ритма. Облегчение-
«наступает в том случае, когда удается так отрегулировать затра-
ту сил во время работы, что в ней появляется некая соразмерность,,
связанная с тем, что начало и конец движения всегда находятся в«
одних и тех же пространственно-временных рамках. Движение
одних и тех же мускулов с одинаковым напряжением, повторяю-
щиеся через одинаковые интервалы, приводят к появлению того,,
что обычно называют навыком; физическая функция, являющаяся!
составной частью трудового процесса, действующая в рамках опре-
деленных временных и динамических соотношений, механически*
продолжает действовать, не требуя новых волевых усилий, до тех
пор пока не будет принято новое волевое решение: прекратить,
действие этой функции или в зависимости от обстоятельств уско-
рить или замедлить его» 8. Здесь мы не будем более подробно оста-
навливаться на вопросах, связанных с навыками. Для нас сущест-
венно то, что управление собственными движениями, владение-
собственным телом является для представителей отдельных видов
|4 Заказ № 683
20Ф
«искусства (драматическое искусство, танец) технической предпо-
сылкой их деятельности в той же самой степени, в какой владение
«сырьем обусловливает возможность труда в других случаях. Мы
вновь убеждаемся в том, что вообще рассматривать вопросы, свя-
занные с генезисом искусства, целесообразно только на определен-
ном уровне развития трудовой деятельности человека. Но Бюхер
«подходит еще ближе к сути рассматриваемой нами проблемы.
Навык появляется и закрепляется только при условии регулярной
трудовой деятельности, и Бюхер здесь совершенно справедливо
.замечает, что «тренировкой выработать движение легче, когда оно
жороче по времени. При этом его количественная оценка в значи-
тельной мере упрощается тем, что любое движение в процессе
работы распадается по крайней мере на две составные части —
сильную и слабую: поднимание и опускание, отталкивание и при-
тягивание, растягивание и стягивание и т. д. Регулярный повтор
движений, направленных на преодоление содержащегося в них
-самих препятствия, характеризуемых одинаковой интенсивностью
ж протекающих в одинаковых временных рамках, всегда должен
восприниматься нами как ритм» 9.
Таким образом, очевидна взаимосвязь, существующая между
трудовой деятельностью человека и самим фактом существования
ритма, который на этом уровне, разумеется, выступает всего лишь
как явление повседневной жизни и сам по себе не несет даже не-
осознанных эстетических интенций. Бюхер справедливо указывает
.на то, что разнообразные ритмы, соответствующие разным видам
трудовой деятельности, запечатлеваются в нашем сознании в виде
звуков, и «тон при этом задается соприкосновением орудия
труда с материей» 10. Мы видим, сколь важную роль играет это
разнообразие ритмов, обусловленных не только свойствами челове-
ческого тела, но и их взаимодействием с общественными произво-
дительными силами, а также объективными требованиями, кото-
рые в свою очередь определяются конкретными видами трудовой
деятельности, что Бюхер доказывает на целом ряде примеров. Все
зто позволяет нам более четко осознать общественную суть явле-
лния. Нет никакой необходимости подробно останавливаться на про-
блемах совместного труда двух или большего числа рабочих, хотя
Бюхер приводит в этой связи несколько наглядных примеров: так,
шри совместной работе двух кузнецов наблюдается не только чет-
жая ритмизация координированных физических движений, но и
ритмизация возникающих при этом звуков. Однако важно здесь
то, что этот ритм нельзя считать чем-то естественно заданным при-
родой, как, например, некоторые движения в животном мире, в
которых мы при помощи органов чувств, опираясь на трудовой
опыт, улавливаем ритмическое начало; он, скорее, является всегда
разной, постоянно совершенствующейся составной частью именно
человеческой практики. В основе ритма лежит, таким образом, не
ч<инстинкт», не бессознательный, безусловный рефлекс, а вырабо-
танный практикой условный рефлекс, о котором говорил Павлов.
210
И именно разнообразие ритмов, возникающих на сравнитель-
но неразвитых стадиях, привело к тому, что ритм стал неотъемле-
мой составной частью повседневной жизни человека, что он про-
является в самых разнообразных формах, среди самых разнообраз-
ных объектов.
Выявление различия между ритмизацией, обусловленной тру-
довой деятельностью, и «естественной» ритмизацией в жизшк
животных (а также людей) субъективно сводится к признанию
того, что последняя действует совершенно спонтанно, без подклю-
чения сознания субъекта, поскольку она выступает как органиче-
ская, врожденная составная часть жизни животного (или челове-
ка), в то время как первая для каждого индивида — результат обу-
чения и тренировки. Обратное воздействие на самосознание состо-
ит в том, что благоприобретенное, «выученное» становится бессоз-
нательным, но эта бессознательность не есть нечто само собой^
разумеющееся, как в рассмотренном выше случае, поскольку tov
что получено через опыт, упражнения, привычку и т. д., всегда^
чувственно воспринимается как благоприобретенное, полученное
извне. Разумеется, существует множество сложных случаев. Так,,
например, после продолжительной болезни надо вновь учиться
ходить и т. д. Однако внутреннее отношение к ходьбе тем не менее^
отличается от установки по отношению к гребле или игре
в теннис.
Объективно же здесь речь идет, с одной стороны, о большом*
разнообразии ритмов вообще, а с другой — о ритмах, возникающих
из взаимодействия трудового процесса и предмета, подлежащего
обработке; они обладают гораздо более сложной структурой и бо-
лее четко осознаются как таковые. Эти объективные характеристи-
ки относятся к описанным ранее субъективным факторам. Вполне-
вероятно, что определяемый физиологическим фактором ритм жиз-
ни обусловливает возможность возникновения иных ритмов, и эта
потенциальная возможность в процессе трудовой деятельности
актуализируется, находит реальное воплощение в рамках действи-
тельности. Этот вопрос до сих пор не получил окончательного
решения. Примеры Дарвина, касающиеся «эстетических» прояв-
лений в животном мире, неубедительны. Бернхард Ренш11 в своих
последних опытах, пытаясь доказать наличие у обезьян «эстети-
ческого чувства», очень некритично подходит к конкретным усло-
виям проведения эксперимента. Дело здесь не в том, что в значи-
тельных расхождениях реакций он усматривает явление, анало-
гичное колебаниям «моды» у людей; как известью, даже у людей
такого рода расхождения наблюдаются только на достаточно-
высоких уровнях развития, и эстетические реакции представите-
лей древних цивилизаций не менялись в течение столетий. Мы;
говорим о том, что Ренш не учитывает специфических условий экс-
перимента. Животные, находящиеся в неволе, ощущают «безопас-
ность» своего положения, что совершенно невозможно в естествен-
ных условиях (это касается как избытка пищи, так и отсутствия
14*
21К
^угрозы их жизни) ; внимание, таким образом, распределяется у них
«совершенно иначе, чем у их собратьев на воле. Кроме того, им
шредлагаются заранее изготовленные человеком предметы, кото-
рые они никогда не смогли бы сделать сами. В самом интересном
«эксперименте Ренша исследуется реакция на упорядоченный и
.неупорядоченный узор. Однако предпочтение, отдаваемое первому,
в лучшем случае указывает на наличие у животного некой специ-
фической потенциальной способности, но отнюдь не доказывает,
что у нормального, живущего на воле животного имеется «эстети-
ческое чувство». Эта потенциальная способность является, безус-
ловно, интересной проблемой (также и в связи с первобытным
человеком), и она должна быть подробно изучена. Но вместе с тем
ж конкретным условиям эксперимента следует подходить совсем
по-иному, их ограниченность должна быть критически осознана
-экспериментатором, а этот момент отсутствует не только в работах
Ренша, но и в ряде многих других. Здесь речь идет не только о
специфике жизни в неволе, но и о способе существования домаш-
них животных: в таких случаях прямые обобщения на весь жи-
вотный мир в целом с методологической точки зрения вообще не-
допустимы.
Мы совершили этот экскурс для того, чтобы с самого начала
четко сформулировать наиболее важные методологические прин-
ципы, необходимые нам при изучении стоящих перед нами про-
блем. Если мы теперь вернемся к проблеме ритма и труда, то убе-
димся в том, что эта стадия развития сама по себе не имеет еще
щичего общего с искусством. Эстетический характер ритма в по-
вседневной жизни первобытного человека рассматривается лишь в
той мере, в какой он связан с вариантом трудовой деятельности,
обеспечивающим оптимальные результаты при относительно
.небольшой затрате сил и вызывающим положительные эмоции как
следствие облегчения труда, свободного владения собственным
телом и обрабатываемым предметом, управления всем трудовым
^процессом, что ведет к укреплению самосознания человека в том
шервом значении этого слова, о котором мы говорили выше [с. 195].
До тех пор пока такие эмоции выступают только в роли непосред-
ственного сопровождения соответствующего трудового процесса,
это зачаточное бытие-в-себе эстетического существует как с объ-
ективной, так и с субъективной точек зрения в скрытой форме, и
для его дальнейшего развития необходимо наличие дифференциру-
ющих факторов, которые позволили бы отделить ритм от конкрет-
ных, неразрывно связанных с ним видов трудовой деятельности,
определить его самостоятельную функцию в жизни человека и
обеспечить ему таким образом достаточную степень общности и
возможность применения в самых разных областях уже безотноси-
тельно к трудовому процессу.
Первым таким опосредующим фактором следует считать чув-
ство радости, связанное с улучшением результатов труда и облег-
чением трудового процесса, и прежде всего вырастающее на осно-
Ш2
w такого рода переживаний и такого жизненного опыта самосозна-
ние его участников. Это чувство, которое может присутствовать
также и на гораздо более продвинутых относительно момента за-
рождения трудовой деятельности стадиях при том условии, что
трудовой процесс совершенствуется и облегчается пропорциональ-
но достижениям работающего 12, выступает, как и все важнейшие
жизненные проявления в этот период, в обличий магического. Для
наших целей совершенно несущественно, насколько глубока эта
©вязь с магией, насколько она — опосредованно — сама определяет
поведение или же, напротив, является в полном смысле слова толь-
ко магической оболочкой чуждого всякой магии содержания. Гор-
дон Чайлд, с нашей точки зрения, в целом правильно настаивает
на формальном характере таких связей: так, например, он пишет
о том, что на гораздо более высокоразвитой стадии письменность
была, по всей видимости, изобретена именно шумерскими священ-
нослужителями, однако главную роль здесь сыграло отнюдь не то,
что они были жрецами или колдунами, а то, что это изобретение
было необходимо для осуществления их светских и административ-
ных обязанностей. Таким же образом развивались события в Егип-
те и на Крите 13. В каком-то смысле это относится и к более ран-
ним периодам, хотя тогда влияние магии было гораздо более ощу-
тимым и реальное взаимодействие между опытом, приобретенным
в процессе труда, и магическим аналогизированием в качестве его
обобщения ощущалось, по-видимому, как нечто гораздо более
естественное для человеческого восприятия. Это субъективное сме-
шение не снимает, однако, существующего расхождения между
действием и намерениями. На этом этапе разделение произошло,,
очвидно, гораздо раньше и было более радикальным, чем в период
становления искусства как такового. И в заключение Гордон
Чайлд с полным основанием указывает на то, что наука не могла
вырасти непосредственно из магии и религии и, когда медицина
и астрономия были аннексированы религией, они оказались в силу
этого бесплодными в научном отношении14. Бесспорно, наука
только тогда является наукой в полном смысле слова, когда она
вырабатывает специфический — дезантропоморфирующий — метод
в борьбе с магией и религией. То же самое, как мы убедились,
можно сказать и об эстетическом, но здесь процесс отделения — по
рассмотренным выше причинам — еще более сложен и затруднен,
чем в науке. В вопросе о труде и ритме следует придерживаться
того мнения, что зарождение ритмического движения — результат
улучшения самого процесса труда, а также развития производи-
тельных сил, и, таким образом, нельзя считать, что оно прямо и
непосредственно определяется магией. Обращаясь к решающим
факторам в процессе становления эстетического, главным объек-
том нашего исследования мы считаем не столько сам объективный
процесс, сколько (и в гораздо большей степени) его субъективное
отражение в сознании, формирование нового специфического ви-
да отражения действительности.
213
Когда мы раньше говорили о начальных этапах становлении
самосознания в результате повышения производительности труда,,
сопровождающегося меньшим напряжением в ходе трудового про-
цесса, то имплицитно речь шла и о тенденции отделения ритма от
его конкретной роли в каком-то определенном трудовом процессе.
Чем больше разнообразился ритм в силу объективных различий
между трудовыми процессами, тем легче шло его отделение от
конкретных видов трудовой деятельности; ритм все определеннее
становился относительно независимой от исходных обстоятельств;
составной частью повседневной жизни. Подобные процессы, свя-
занные с отделением и обобщением, для повседневной жизни —
вещь вполне обычная. Гелен дает исчерпывающее описание таких
процессов. Существо образования упомянутых абстракций он ви-
дит в том, что определенная чувственная характеристика предме-
тов или событий, формы или цвета, «которая является признаком
некоторой совокупности предметов, ...становится в %собственном
смысле «абстрактной», то есть «отторгнутой», поскольку сосуще-
ствующие с ней равновероятные впечатления отходят на второй
план, и если мы рассмотрим с той же самой точки зрения другую
вещь, сходную с первой только в отношении этого признака, то мы
опять абстрагируемся, но на сей раз от различий этих двух вещей,
в которых нам важен только этот признак». Он рассматривает та-
кого рода абстрагирование не как некое действие, вид активного
поведения, а, скорее, «как центральное торможение других аспек-
тов» 15. Коль скоро такие аналогические абстракции имеют место>
на относительно ранних стадиях развития, их распространение
там, где речь идет о фиксированных с самого начала самим инди-
видом условных рефлексах, естественно, проходит без: всяких за-
труднений.
В дальнейшем мы неоднократно будем возвращаться к вопро-
су о том, каким образом осуществляется разнообразный по форме
перенос изначального, связанного с конкретным трудовым процес-
сом ритма на самые различные области человеческой деятельно-
сти. Здесь мы только вкратце упомянем о том — и этот факт будет
играть немаловажную роль, когда мы перейдем к рассмотрению
орнаментики, — что исходный пространственно-временной ритэд
труда на определенном уровне развития техники может превра-
титься в чисто пространственный ритм продукта труда. Боас опи-
сывает этот процесс следующим образом: «Другим основным
элементом декоративной формы является ритмический повтор.
Физическая деятельность, в которой регулярно используются по-
вторяемые движения, приводит к ритмическим повторам в том
направлении, куда ведет движение» 16. Разумеется, здесь объяс-
няется лишь формальная связь между исходным пространственно-
временным ритмом и чисто пространственным ритмом; тот факт*,
что она превратилась в эстетически значимый элемент, мы не за-
трагиваем. Заметим только, забегая вперед, что в спонтанном те-
чении окружающей нас обыденной жизни отсутствует привычное
21:4
для буржуазного сознания фетишизированное, четко фиксирован«
ное разделение и противопоставление пространства и времени.
И это не случайно. Ибо именно вследствие непосредственного
характера повседневной практики каждый предмет и каждое собы-
тие воспринимается в ее рамках как нечто цельное в пространст-
венно-временном отношении. В противовес этой стихийной диа-
лектике повседневной жизни метафизическое, застывшее разделе-
ние пространства и времени, с которым мы нередко сталкиваемся
и в наши дни, свидетельствует об отсталости мышления, о несо-
вершенном отражении объективной реальности. Распространен-
ность таких метафизических представлений частично объясняется
тем, что в некоторых случаях методологическое разделение про-
странства и времени представляется необходимым, плодотворным
с научной точки зрения; достаточно в этой связи упомянуть гео-
метрию — одну из самых древних наук. Что касается конкретных
вопросов, связанных с ритмом, то очевидно, что в процессе труда
он должен был проявиться в пространственно-временной форме.
Это относится и к ритмам движений в животном мире и у перво-
бытных людей, и в еще большей степени — здесь речь идет о гораз-
до более осознанном явлении — к ритмам, связанным с трудовым
процессом. Поскольку общая эстетическая тенденция требует, что-
бы фетишизация — будь то в стихии обыденной жизни или в уко-
ренившихся в ней метафизических предрассудках — заменялась
некоторой новой данностью, функция замены осуществляется и в
сфере ритма. Связанные с этим вопросы мы рассмотрим позднее.
Ссылки на Боаса поучительны в том отношении, что он иллюстри-
рует этот спонтанный переход к чисто пространственному ритму
примерами, относящимися к сравнительно ранним периодам. На
гораздо более высоком уровне, уже с позиций мимесиса, мы опять
сталкиваемся с исходной пространственно-временной формой рит-
ма в танце. Именно на более высоком уровне, поскольку здесь
музыка и, возможно, пение объединены с ритмами движений.
Гелен точно описывает этот процесс: «В свободном рисунке танца
движение взаимодействует с музыкой, которая в хорошем танце
не является простым «сопровождением», она предстает как бы
звучащим переложением внутренней музыки движений, и, наобо-
рот, движение как будто впитывает лишенную пространственных
характеристик музыку и проецирует ее на визуальную сферу» 17.
Мы вслед за Бюхером уже обращали внимание на ритмические,
разнящиеся друг от друга по силе звуки, возникающие в ходе
некоторых трудовых процессов. Обрывки древнейших преданий
указывают на то, что ритмическая суть труда еще на очень при-
митивном уровне часто находила свое выражение в неартикули-
рованиых, но подчиняющихся четкому ритму выкриках, которы-
ми сопровождались ритмические физические движения. У Бюхера
мы находим следующее описание этого процесса: «Таким образом,
первый шаг, сделанный первобытным человеком на пути от тру-
да к пению, заключался не в том, чтобы построить подчиняющую-
215
€я определенным законам слогосложения последовательность
осмысленных слов и выразить тем самым в приятной и понятной
для окружающих форме свои мысли и чувства, а в том, что ов
начал издавать различные полуживотные выкрики и выстраивать
их в подходящую для хода работы последовательность, с тем что-
бы усилить чувство облегчения, которое ему обеспечивали эти
звуки, и даже, может быть, ощутить от этого радость в полном
смысле слова. Первобытный человек создавал свои первые трудо-
вые песни из того же звукового материала, из которого складыва-
лись слова членораздельной речи, то есть просто из естественных
звуков. Так зарождались первые песни, о которых мы уже неод-
нократно говорили выше. Они состояли из бессмысленных звуко-
вых последовательностей и основывались исключительно на»
музыкальном воздействии, музыкальном ритме, выступавшем в
качестве сопровождения ритма движения. Необходимость приве-
дения обоих видов ритма во взаимное соответствие была вызвана
общей для них зависимостью от дыхания»18. Эти наблюдения
еще раз показывают, как приводятся в действие «естественные»
природные элементы. Бюхер совершенно прав, когда указывает
на связующую роль дыхания.
Мы, разумеется, не располагаем никакими подлинными доку-
ментами, относящимися к этому начальному периоду, а также и
к этапу, когда при помощи этих нечленораздельных звуков были
образованы эмоционально окрашенные слова, а затем связные
в смысловом отношении песни. Правда, в нашем распоряжении*
имеются трудовые песни, и среди них такие, которые построены
на «трудовых» ритмах и для которых эти ритмы являются отправь
ной точкой. Подавляющее большинство этих песен относится к
периоду уже распавшегося первобытного коммунизма; поющий
трудовой человек в этот период уже подвергался эксплуатации^
очень часто он был просто рабом. Для эмоционального содержа-
ния подобных песен характерна определенная степень сложно^
сти (работа как принуждение, работа как вид эксплуатации!,
страх перед хозяином или надсмотрщиком, жалобы, возмущение
и т. д.), что было принципиально невозможным для простых нея-
сен, сопровождающих труд в бесклассовом обществе. Более?
примитивное содержание этих первых трудовых песен объясня-
ется, конечно, не только тем, что они были менее дифференциро-
ваны в качественном отношении, но и тем, что разнообразие рит-
мов, соответствующих способам производства неразвитого обще*
ства, было более ограниченным.
Если мы попытаемся теперь заполнить этот зияющий пробел-,,
то даже с учетом всех упомянутых выше оговорок нам все же
придется обратиться к магии. Тот факт, что между зарождаю-
щимися из трудовых ритмов песнями и кругом магических пред-
ставлений существует тесная связь, был проиллюстрирован
Бюхером несколькими примерами19. И не случайно один изг
этих примеров — песня женщин о бросании серпа; ибо среди
216
женщин, так же как и в сельской местности, такие традиции по
понятным причинам удерживаются дольше, чем в какой бы то ни
было другой среде. Разумеется, здесь речь идет не о трудовом
напеве в собственном смысле слова, а о песенном сопровождении
игры, рожденной в рамках трудовой деятельности. Но живучесть
напевов с подобным содержанием, основанная на соответствую-
щих ритуальных церемониях, совершающихся под канонизиро-
ванное пение со строго определенным ритмом, указывает на то,
что развитие собственно трудовых песен, исходя из трудовых
ритмов, было тесно связано с их магическим содержанием. Имен-
но с содержанием, поскольку бесконечное множество фактов,
касающихся иных жизненных проявлений, указывает на то, что
представители древних цивилизаций воспринимали свою власть
над внешним миром, так же как владение своими собственными
возможностями, как проявление сверхъестественной силы; они
привыкли объяснять высокие результаты труда и вызываемое ими
чувство радости действием сверхъестественного начала. Эта
содержательная связь ритмики и магии углубляется и усиливает-
ся еще и за счет упомянутого повышенного эмоционального воз-
действия любого четко заданного ритма как на физическое со-
стояние, так и на самосознание личности.
Коль скоро мы обнаружили эту взаимообусловленность ритма
и магии, перенесение ритма из одной сферы в другую предстает
теперь как совершенно естественное явление. Роль ритма в риту-
альных церемониях подчеркивалась неоднократно. Последние же
были универсальным средством управления в самых различных
областях жизни. С того момента, как появился и укрепился спо-
соб переноса и ритм тем самым обрел самостоятельность относи-
тельно конкретного вида трудовой деятельности, в рамках кото-
рого он зародился, ничто уже не препятствовало дальнейшему
■обобщению этого явления, его более широкому приложению. Ко-
нечно, сюда относится исходно определенное магией подражание
гподлинным событиям жизни, ибо именно таков был путь ритуа-
.листического сознания, когда речь шла о достижении какой-либо
.цели. Уже сам факт такого безусловно лишенного всякого прак-
тического смысла или, точнее, ориентированного на фантасмаго-
рическую цель подражания несовместим с наличием связи между
.ритмом и конкретным видом трудовой деятельности и придает
ему эмоционально-обобщенный характер. Здесь мы не будем под-
робно обсуждать этот факт, поскольку сложный комплекс про-
блем, связанных с мимесисом, будет рассмотрен нами в следую-
щих главах. Самая значительная роль при этом принадлежит
танцу. Здесь мы коротко отметим только, что танец как в перво-
бытных обществах, так и в эпоху античности, когда он уже
выделился в самостоятельный вид искусства, не утерял своей
изначальной связи с трудом, с практическими навыками и игра-
ми, с обычаями повседневной жизни. Во всяком случае, Бюхер
\наряду с многочисленными примерами из жизни первобытных
217
обществ приводит примеры из античности, ссылаясь в числе про-
чего на «Пир» Ксенофана20.
Но в самом процессе отторжения ритма от конкретного вида
трудовой деятельности, его перехода на более высокий уровень,,
его относительного освобождения от труда, в процессе его чув-
ственного обобщения в самых различных сферах жизненных про-
явлений существенным с философской точки зрения является
то, что в результате он из фактора реальной жизни превратился
в отражение этого фактора. «Отражающий» характер даже са-
мых абстрактных эстетических факторов следует подчеркнуть
особо. Ибо современная буржуазная эстетика, усматривающая в
любом учении об отражений реального мира признаки нена^
вистного ей материализма, всегда стремится четко противопоста-
вить простые и абстрактные — прежде всего имеющие математи-
ческое выражение или геометрическое воплощение — формы и
формальные элементы художественного воспроизведения дейст-
вительности. Простое воспроизведение трактуется чаще всего как:
примитивный натурализм, и в этом качестве оно должно быть,
полностью дискредитировано или по крайней мере сведено к че-
му-то второстепенному; абстрактные формы оказываются носите-
лями художественного начала, данного «свыше», результатом
действия трансцендентной силы или чаще всего материальным!
проявлением парящей над землей мировой души, обреченной по)
сути своей на вечное одиночество. В противовес такой концеп-
ции следует со всей трезвостью признать, что любое проявление
ритмического начала в тех случаях, когда речь не идет о его не-
посредственной, конкретной исходной форме, связанной с опре-
деленным видом трудовой деятельности, уже следует рассматри-
вать как отражение той функции, которую ритм выполняет в ре-
альной жизни.
Отсюда становится очевидной тесная связь двух наших кон-
статации: того, что ритм есть отражение объективной реальности
и что его генезис уходит своими корнями в процесс трудовой
деятельности. Утверждение о том, что ритм есть производная от
физиологических особенностей человека, не просто полностью1
стирает его специфические, общественные и человеческие особен-
ности, как это в свое время часто наблюдалось у дарвинистов,,
но и приводит, особенно в последние десятилетия, к механисти-
ческому отрыву человека от его социального окружения. Наибо-
лее законченно эта мысль была сформулирована Кодуэллом. Он
пишет: «Поэзия ритмична. Ритм оберегает сосредоточенность
нашего физиологического сознания, для того чтобы оградагть на-
ше чувственное восприятие от воздействия окружающей среды.
Под действием ритма танца, музыки, пения наше сознание сосре-
доточивается исключительно на нас самих, и мы теряем способ-
ность к осознанному восприятию окружающего. Ритм сердца,,
дыхания, физиологических циклов отрицает физический ритм
окружающего мира. В этом смысле сон тоже? ржтмичен. Сяяпщи
218
уходит в крепость своего тела и закрывает за собой двери»21.
Здесь, вероятно под влиянием Фрейда, поэзия ставится в один
ряд со сновидениями: точно так же, как у Фрейда сновидения
являются хранителями сна, ритм становится хранителем солип-
сической замкнутости собственного «Я»; и все это рассматрива-
ется как явление «космических» масштабов и проецируется в
глубь веков. Нельзя не отметить при этом, что Кодуэлл, кото-
рый во всех остальных вопросах всегда и везде энергично под-
черкивал социальный характер искусства и даже усматривал в
наличии ритма проявление равновесия между эмоциональным
содержанием поэзии и теми общественными отношениями,
в рамках которых оно себя реализует, в этом вопросе до такой
степени впадает в противоречие со своими собственными воззре-
ниями, что лирика в его представлении выступает в качестве ме-
тафизической противоположности эпическому и драматическому.
Однако более важно, на наш взгляд, то, что все связи с миром,
с окружающей действительностью исчезают у него из самосозна-
ния человека; основанную на практике связь между отражением
действительности и человеком он заменяет бегством от реально-
го мира, теоретическим обоснованием герметической отгорожен-
ности человека от внешнего мира. Здесь, безусловно, отражено
мировоззрение большой части буржуазной интеллигенции перио-
да империализма, однако выдавать это положение за некий «веч-
ный» принцип развития человечества — значит войти в прямое
противоречие с законами истории. Возникшая на этой основе
мистификация усиливается еще и тем, что Кодуэлл пытается
подкрепить свою теорию данными из области физиологии. Мы
уже указывали на то, что в этих вопросах нельзя недооценивать
роль физиологического фактора. Действительно, ритм, возникаю-
щий в процессе труда, является результатом взаимодействия
физиологических возможностей человека и необходимости доби-
ваться наивысшей производительности труда, при этом постоян-
ная связь с физиологией проявляется именно в стремлении об-
легчить труд человека. Как мы уже подчеркивали выше, на более
поздних стадиях влияние физиологически обусловленных ритмов
(дыхание в поэзии, пении и т. д.) является немаловажным фак-
тором дальнейшего развития различных видов искусства, их
совершенствования. Однако отсюда никоим образом не следует,
что эти факторы сами по себе могут привести к отрицанию любо-
го «внешнего» ритма, будь то в поэтическом тексте или в
музыкальном произведении. Осознание ритмического начала
ïb некоторых явлениях природы, например в смене времен года,
•требует уже более высокого уровня культуры. Гордон Чайлд со-
вершенно правильно указывает на то, что первые попытки
составления лунного календаря были сопряжены с большими
трудностями22. Сам Кодуэлл, вполне обоснованно полемизируя
с Витгенштейном по поводу его теории «невыразимого в сло-
весной форме», в рамках которой возникала метафизическая
219
дилемма семантической выразимости и метафизической интуи-
ции, справедливо подчеркнул роль искусства как выразителя то-
го, что не может быть выражено в словесной форме. Но поскольг-
ку в данной ситуации он мог апеллировать только к солипсиче-
скому самосознанию, его противопоставление: «Музыкант — это
интровертированный математик»23 — столь же метафизично m
мистично, как и сама теория Витгенштейна, которую он совер-
шенно справедливо подверг критике.
Утверждая это, мы не только заявляем о своем неприятии»
мистического генезиса искусства, уходящего корнями в обособ-
ленное «Я», но также о неприятии тех концепций, в которых
отражение сводится к мгновенной фотокопии непосредственно»
данной нам в ощущениях действительности. Здесь мы, рассматри-
вая вопросы, связанные с эстетикой, сталкиваемся с общей огра-
ниченностью современного буржуазного мышления, которое отри-
цает диалектический материализм, подменяя его * в качестве
объекта полемики более примитивными механистическими и ме-
тафизическими разновидностями материализма. Однако диалек-
тический материализм, чтобы выработать свой собственный ме-
тод, должен бороться не только с философским идеализмом, но и
со своими механистическими предшественниками. Ленин провоз
дит четкую границу между диалектическим и метафизическим
материализмом, «основная беда коего есть неумение применить
диалектики к Bildertheorie [теории отражения. — Ред.], к про>-
цессу и развитию познания» 24.
Интересно отметить в этой связи, что, когда речь идет не а
философской теории отражения, а о трактовке некоторых жиз^
ненных явлений, многие исследователи на практике используют
диалектическую теорию отражения (употребляя при этом другую
терминологию). Здесь можно упомянуть антропологические;
исследования Гелена, где он практически признает существова-
ние обобщения и выделения при отражении действительности и
трактует их в конкретных случаях с диалектических позиций, ноу
находясь под влиянием общепринятых буржуазных предрассуд-
ков периода империализма, он ошибочно характеризует как сим-
вол правильно описанные им явления [с. 214]. Сходным образом«
используется ритм вне конкретного трудового процесса. При от-
ражении действительности, данной нам в чувственных ощущени-
ях, выделяется один из наиболее важных факторов — ритм, при-
чем сначала в своем первозданном, непосредственном виде, и
именно благодаря этому «выделению» он вырывается из той кон-
кретной среды, где зародился, и как отдельно взятый (отражен-*
ный) фрагмент действительности присоединяется к накопленному
опыту, хранится там, чтобы быть использованным в новых обсто-
ятельствах. С такого рода процессами мы часто сталкиваемся в;
обыденной жизни: по большей части в их основе лежат какие-
либо аналогии или выводы по аналогии. Если в них содержится
лечто имеющее прямое отношение к объективной реальности,
220
то есть если они являются относительно точным отражением дей-
ствительности, они могут стать долговременным достоянием
повседневности и даже послужить поводом для научных обобще-
ний; когда же они таковыми не являются, то они либо отмирают*,
либо продолжают жить в обличье предрассудков, суеверий и т. п..
(Так, существует распространенное предубеждение по отноше-
нию к рыжеволосым.) Эстетические «полуфабрикаты» повседнев-
ной жизни живут и действуют аналогичным образом, например«
tioдлинные и ложные достижения практического познания чело-
века. Обычно при этом не упоминается или недостаточно подчер-
кивается, что отражение действительности является неизбежными
посредником при переходе к каждому следующему этапу расши-
рения практических знаний.
Поэтому нас интересует здесь не столько это повседневное-
явление человеческой практики, сколько вопрос о том, как в этом?
случае обычное отражение перерастает в эстетическое. Диалек-
тически — не механически — фиксирующий характер отражения«
проявляется во всей своей сложности только тогда, когда мы име-
ем дело с непосредственно миметическим воспроизведением дей-
ствительности, и в этой ситуации встают такие проблемы, как~
преобразование экстенсивной и интенсивной бесконечности окру-
жающей действительности в ограниченное отображение, которое^
тем не менее способно передать ее интенсивную бесконечность...
Трудности сопряжены именно с относительной простотой сложив-
шейся ситуации. Речь идет о том, что тот или иной фактор, вхо-
дящий в определенный комплекс, чтобы быть примененным в-
каком-то новом сочетании, должен отражаться обособленно. Это,,.
как мы уже подчеркивали, — естественное явление повседневной
практики, не требующее дальнейших обсуждений после того, как
мы осознали посредующую функцию диалектического отражения..
Трудности, перед лицом которых мы теперь оказались, имеют-
двоякую основу: во-первых, речь идет только об отдельном фак-
торе эстетического целого, своеобразие которого именно в том,.,
что, даже будучи обособленным, — в каком-то смысле — от цело-
го, он может рассматриваться как эстетический. Подобное (эсте-
тическое) обособление других факторов вряд ли осуществимо, а*
если и осуществимо, то сопряжено с большими трудностями.
Если мы попытаемся обособленно рассмотреть отдельно взятый
поэтический образ, то это будет возможно только в очень относи-
тельной степени. Образ литературного героя в своей глубинной*
сути вплоть до мельчайших черт определяется его судьбой, ситу-
ациями, которые он переживает, другими взаимодействующими
с ним образами и т. п. Изолирующий анализ осознанно или не-
осознанно учитывает эти связи, и изучение образа независимо от-
нашего желания всегда приводит к рассмотрению произведения-
в целом. Разумеется, существует колоссальная литература, посвя-
щенная отдельно взятым литературным героям, будь то Гамлет^
или Фауст, Эмма Бовари или Дон Кихот, Но анализ такого рода!
22Г
-правомерен с эстетической точки зрения только в той степени, в
:которой он принимает во внимание связи литературного героя с
окружающей его средой. В противном случае мы имеем дело с
.явлением проникновения художественного образа в повседнев-
ную жизнь, а это уже никак не относится к тому, что нас здесь
^интересует. Однако мы уже убедились в том, что с ритмом все
•обстоит иначе. Это, естественно, связано с тем, что при анализе
ритма речь идет не о системе типа содержание—форма, но—и тут
мы переходим ко второму аспекту нашего вопроса — о чисто фор-
мальном факторе, который сам по себе не имеет никакого содер-
жательного наполнения. При этом различение такого рода касает-
*ся не только систем типа содержание — форма, но и связей типа
*форма — содержание. Ибо и такие формальные категории, как
композиция, гипербола и т. д., безусловно, нельзя рассматривать
в отрыве от целого, в рамках которого они фигурируют. Во второй
части нашей «Эстетики» мы предполагаем подробно заняться во-
просом уточнения системы понятий, соответствующих этим важ-
ным и продуктивным для эстетики категориям. Здесь, однако, речь
тидет не о понятиях, а о самом явлении, о его непосредственном,
-конкретном чувственном отражении и таком же приложении.
Различие между самим предметом и соответствующим ему
шонятием имеет большое значение для эстетики. Особую роль оно
« играет в тех случаях, когда — как и выше — речь идет о факторе,
жоторый может функционировать самостоятельно и в силу этого
;в противовес конкретному целому обретает в какой-то мере
..абстрактный статус. В конкретной целостности художественного
произведения ритм подчиняется общеэстетическому закону о
<форме, то есть он также является формой относительно некото-
рого (особого) содержания. Но в то же время он сохраняет — при
/постоянном конкретном носителе — свой абстрактный характер.
Поэтому ничто не препятствует тому, чтобы обе эти его стороны
йыли отражены обособленно — естественно, с оговоркой об их про-
тиворечивом единстве в конкретном контексте художественного
шроизведения. С этой нерасторжимостью единства и раздвоения
тиы сталкиваемся в обыденной жизни уже с того момента, как пе-
сенное сопровождение (подчеркивание) трудового ритма обретает
гв какой-то степени конкретную форму. Готфрид Келлер с тонким
юмором описывает в новелле из цикла «Изречения» подобный слу-
чай. Сапожник, готовя дратву, напевает мелодию на стихи Гёте
«И цветочки и листочки...». «Он переложил эти стихи на полную
^чувства старомодную мелодию с музыкальными отступлениями в
духе народной музыки, которые естественным образом вписыва-
лись в его шагание взад и вперед: они то замедлялись, то, наобо-
рот, убыстрялись в соответствии с необходимыми для его работы
/движениями».
Все вышесказанное становится еще более ясным, когда мы
«обращаемся к стихосложению, где элементы разговорного ритма
гвыступают в качестве понятий, необходимость которых для нау-
222
ки — и для теории и практики эстетики — не вызывает сомнению..
Но когда на более развитых стадиях возникают проблемы, связан-
ные с конкретным стихотворным ритмом, в большинстве случаев
наблюдается диалектическое противоречие между абстрактными
законами стихосложения, где изначальный зарождающийся в тру-
де ритм присутствует в чистой форме, и требованиями теперь уже-
более сложного, подлинного, вырастающего из смысла и звучания
слов стихотворного ритма, в основу которого заложены, разумеет-
ся, все те же законы стихосложения. Клогппток образно обозначив
по крайней мере часть такого рода вопросов: «Если мы умеем пра-
вильно строить гекзаметр в соответствии с- просодическими зако-
нами данного языка и в соответствии с его прочими закономерно-
стями; если мы тщательно подбираем подходящие слова; если мы,.
далее, понимаем, как должны соотноситься в периоде стихотвор-
ные строки друг с другом; если мы, наконец, не только знакомы
со всеми разнообразными видами отличающихся друг от друга*
периодов, но и умеем упорядочивать эти меняющиеся периоды в*
соответствии с нашими намерениями, — то только тогда мы можем
считать, что достигли высокого поэтического мастерства. Но мыс-
ли, выраженные в стихотворении, обладают еще более удивитель-
ными свойствами; и благозвучие тоже. Их связывает только то, что
поэзия проникает в душу через слух, поскольку одновременно со
слуховым восприятием душу занимает мысль, выраженная поэтом
в стихе. Если гармония стихов приятна для уха в этом отношении,,
то мы можем считать, что нам уже удалось многого достичь; не-
мы могли бы достичь еще большего. Существует еще один вид1
благозвучия, связанный с заложенными в стихотворении мыслями;.
который способствует их раскрытию. Однако ничто так плохо не
поддается определению, как это высшее проявление гармонии во>
всей ее тонкости и сложности» 25.
Взятые в абстрактной форме, эти противоположности часто ка-
жутся непримиримыми; однако творчество больших поэтов явля-
ется конкретным диалектическим разрешением именно этого-
острейшего противоречия. Мы приведем—но не для того, чтобы
дать окончательный ответ на вопрос, поскольку это можно сделать«
только в рамках общей теории жанров, — несколько особенно точ-
ных высказываний выдающихся поэтов, которые занимались этой:
проблемой в теоретическом плане. Как известно, Гёте всегда пре-
небрегал поэтическими установками приверженцев строгих правил-
в области метрики и догматиков в вопросах просодии и, не при-
слушиваясь к советам таких критиков, сохранил во многих местах;
«Германа и Доротеи» свой небрежный и часто некорректный гек-
заметр, для того чтобы сохранить целостность подлинно поэти-
ческого ритма. Именно это он имеет в виду, когда пишет Цельтеру
о сонетах Восса, вернее, когда он выступает против нихг «Из-за-
чрезмерного стремления к чистоте просодии поэзия совсем исчез-
ла из его стихов» 26. Э. А. По, взгляды которого по важным вопрос -
сам поэтики явным образом расходились со взглядами Гёте, назы-
223Г
шал скандирование, то есть чтение метрических стихов с подчер-
киванием их ритмической структуры, прямо-таки смертью поэзии:
-«...поскольку стих — это одно, а скандирование — это другое. При
-чтении вслух античные стихи в общем музыкальны по своему зву-
чанию, иногда даже очень музыкальны. Когда они скандируются
ев соответствии с просодическими правилами, от них чаще всего
ничего не остается» 27. Здесь мы только вскользь упомянем о том,
что сходные противоречия между ритмом и метрикой (в данном
случае просодией) имеют место и в других искусствах. Вёльфлин,
например, указывает на таковые в архитектуре барокко28.
Однако было бы ошибочно думать, что из наличия подобных
•(противоречий следует, что просодическая ритмика стиха является
чем-то совершенно произвольным, что она сводима к простой ака-
демической догме. Говоря об античной метрике, Бюхер указывал
на то, что ее основные формы ни в коем случае нельзя рассматри-
вать как досужие «изобретения» поэтов, как застывшие правила
^поэтической практики; эти формы возникли из ритмики трудовой
деятельности и постепенно стали составной частью поэзии. При
;этом Бюхер исходит из ритма притопывания и прихлопывания,
который в изначальных трудовых напевах существовал только как
•сопровождение голоса, полиостью подчиняясь ему. Затем он пере-
ходит к конкретным сопоставлениям: «Ямб и трохей подобны
»притопыванию: одна нога ударяет сильнее, чем другая; спондей—
это размер, сопоставимый с прихлопыванием, его всегда легко
:.узнать там, где двое стучат в такт попеременно; дактиль и ана-
япест — это размеры, сопоставимые с ударами молота в кузнице:
даже в наши дни в деревенских кузницах можно наблюдать, как
•кузнец, ударяя молотом по раскаленному железу, сопровождает
•зтот основной удар двумя короткими ударами по наковальне —
предшествующим и завершающим. Кузнецы говорят в таких слу-
чаях, что они „дают молоту попеть"»29. И так далее.Затем Бюхер,
чтобы его изложение не было слишком механическим и голослов-
шым, подчеркивает, что «поэзия пошла по своему собственному
шути с того момента, как произошел ее отрыв от музыки и от фи-
зического движения, и она тем самым обрела достаточную само-
стоятельность, для того чтобы жить по законам своего собственно-
го бытия» 30. Эта осторожность объясняется еще и тем, что, как
^известно, античная поэзия строилась на основе именно этих эле-
ментов трудового ритма, но тем не менее мы не найдем в ней рит-
ма, связанного с определенным видом трудовой деятельности.
:Б гораздо большей степени здесь присутствует обусловленное це-
лым рядом принципиально иных соображений сочетание этих
элементов, в то время как в самих трудовых песнях были совсем
другие ритмы, например подражающие движениям жернова, как
в той песне, о которой пишет Бюхер, ссылаясь на приводимое Плу-
тархом небольшое стихотворение, на слова которого была сложена
ггак называемая песня мельника31. Подобные ритмы мы находим
,в трудовых песнях самых различных времен и народов.
224
Разрыв с исходным ритмом, связанным с конкретным видом
трудовой деятельности, имел, таким образом, далеко идущие по-
следствия. Мы не можем и, по-видимому, никогда не сможем
поэтапно восстановить ход этого процесса. Однако очевидно, что в
качестве исходного фактора выступал интеллектуальный и эмоци-
ональный мир магического периода, а также и то, что уже на
более позднем этапе распад общества первобытного коммунизма,
зарождение классового общества, возникновение противоречий
между угнетателями и угнетенными, эксплуататорами и эксплуа-
тируемыми привели здесь к содержательной интеллектуальной и
эмоциональной дифференциации. Как бы ни обстояло дело на от-
дельных этапах этого процесса, несомненно, что ритм не только
обогащался различными оттенками, становился более разнообраз-
ным, но и непрерывно углублялся в содержательном отношении.
Вместе с тем в ходе всего развития он сохранял относительно
интеллектуального и эмоционального содержания свою формаль-
ную простоту. Этот его сравнительно простой, чисто формальный
характер не отрицает в то же время его сильной и непосредствен-
ной эмоциональной окраски. Аристотель ясно осознавал этот факт.
Он видел в ритмах и мелодиях слепки различных человеческих
страстей, гнева и смирения, мужества и сдержанности, а также
их противоположностей. Именно поэтому, с его точки зрения, они
близко соприкасаются с этическими характеристиками и чувст-
вами 32.
Мы уже говорили о пробуждении чувства радости, о повыше-
нии уровня самосознания человека из-за обусловленного изна-
чальным ритмом уменьшения физического напряжения в трудо-
вом процессе [с. 212 и ел.]. Ярким подтверждением этого служат
простые жизненные факты, например радостное воодушевление
при движении в маршевом ритме, особенно если в нем участвуют
массы людей. То, что в начальный период развития все победы
человека над природой и связанный с ними рост его возможностей
приписывались действию сверхъестественных сил, не может слу-
жить основанием для отказа от рассматриваемой нами теории
трудового ритма. Тем более что его непосредственные, почти ис-
ключительно или, уж во всяком случае, преимущественно физио-
логические последствия — истинные причины которых, естествен-
но, не могли быть тогда вскрыты — имели явным образом имма-
нентную направленность, акцентированность, окраску и т. д.,
и существовали параллельно с их магической интерпретацией и,
по-видимому, даже служили ей подспорьем: так, умение воздей-
ствовать на природу, достигать успеха в той или иной области
человеческой деятельности подменялось другой деятельностью,
являющейся подражанием первой, однако не связанной с нею при-
чинно-следственными отношениями. Такое полоясение вещей ха-
рактерно для отношения труда и ритма в первобытных обществах,
им можно пользоваться, так сказать, в качестве естественного
пособия при прочтении магических истолкований. Тот факт, что
15 Заказ № 683
225
ритмика, как мы указывали выше, играет важную роль в разнооб-
разных ритуальных церемониях, еще более убедительно подтвер-
ждает наличие такой зависимости.
Естественно, дальнейшее развитие в этой области все более ш
более разрушает эту связь, что отнюдь не опровергает — и мы по-
кажем это ниже — ваяшейшей роли ритма, его формирования*,
его дифференциации и т. д., в ритуальных танцах и т. п. началь-
ного периода. Во всяком случае, даже высокообразованные люди
ощущают какие-то особые «чары» ритмики: с одной стороны, она»
способствует повышению уровня нашего самосознания, возраста-
нию наших возможностей в управлении силами природы и владе-
нии самим собой, а с другой стороны, мы при этом не вполне чет-
ко понимаем, какова природа ее власти над нами, какими сред-
ствами она на нас воздействует. Платон рассматривает и ритм
и гармонию как «дары богов», вручаемые человеку музами, их
предводителем Аполлоном и Дионисом, участвующими в roc
празднествах33. Совсем иначе, отнюдь не мифологически восприни-
мал эмоциональную сущность ритма Гёте: «В ритме есть нечто
чарующее; он заставляет нас верить, что все возвышенное при-
надлежит нам» 34.
И нет ничего удивительного в том, что в наше время наблюда-
ется возврат к мистической интерпретации ритма. Кодуэлл,. взгля-
ды которого мы критиковали выше, видит в тех искусствах, где*
ритмика играет важную роль, в поэзии и музыке, возврат к перио-
ду господства магии. «Поэтому поэзия в большей степени основа-
на на инстинктах и является более варварским и примитивным
искусством, чем проза» 35. Мы приводим это высказывание совсем
не потому, что считаем его верным. Оно абсолютно неверно, по-
скольку тенденция к варварскому и примитивному, которая в
период империализма оказывается ведущей почти во всех облас-
тях буржуазного искусства и искусствоведения, безусловно, не-
находит своего высшего выражения в поэзии, в отличие, скажем,
от эпических форм или изобразительного искусства; ее следует
признать общеидеологическим явлением. Причем то, что мы вос-
принимаем в современной культуре — часто абсолютно оправдан-
но— как проявление варварства, не имеет ничего общего с воз*-
вратом к давно ушедшим временам: это специфический, особый
феномен нашей эпохи. Разительным примером этого может слу-
жить варварская система Гитлера. Как бы ни были неправильны
воззрения Кодуэлла, они тем не менее яркое свидетельство рас-т
пространенности этих идей в наши дни, в особенности еще и пото-
му, что Кодуэлл выступает как противник марксистского анализа
эстетических явлений. Опасность этой тенденции связана прежде-
всего с отмеченной интерпретацией общих проблем искусства в его:
современном состоянии, поскольку выросшее на почве социально-
го кризиса эпохи империализма мироощущение интеллигенции
трактуется здесь как «мистическое», «примитивное», и именно она
рассматривается как сущность искусства, кладется в основу его
226
генезиса. Однако не менее опасно здесь то, что путем подобного
рода «интроекций» плохо замаскированное модное мироощущение
проецируется на проблему генезиса искусства, представляя его в
искаженном, неверном свете. Именно потому, что в историческом
плане мы придаем столь большое значение периоду господства
магии в генезисе эстетического, мы должны вести постоянную
борьбу с такими теориями. Обратившись к орнаментике, мы под-
робно остановимся на взглядах Вильгельма Воррингера, одного из
наиболее ярых приверженцев этого метода [с. 286 и ел.].
Приведенные выше рассуждения свидетельствуют о том, что
подобные ссылки на «примитивное» не только противоречат зако-
нам истории, но и не вносят ничего существенно нового в реше-
ние эстетических проблем. Вновь обратившись к глубокому выска-
зыванию Гёте о ритме, мы увидим, что его точка зрения, так же
как и близкие ей взгляды Шиллера, ясно указывает на способ
конкретизации эстетических вопросов такого типа. В процессе
работы над «Валленштейном» Шиллер столкнулся с проблемой
прозы и стиха, и со свойственной ему, особенно в области эстети-
ческого, силой абстракции обобщил свой собственный творче-
ский опыт, рассматривая обратное воздействие ритма на поэтиче-
ское содержание. Об этом он написал в письме к Гёте следующее:
<«Я никогда еще, до моих теперешних занятий, в такой степени во-
очию не убеждался, как точно содержание и форма, даже внеш-
няя, соответствуют друг другу в поэзии. С тех пор как я стал
превращать свой прозаический язык в ритмико-поэтический, я под-
пал под действие совсем других законов, чем прежде; я не могу
уже больше употреблять даже многие из тех мотивов, которые в
прозаическом изложении кажутся весьма уместными; они были
хороши для обыкновенного, обыденного разума, органом которого
как будто является проза; но стих непременно связан с фантази-
ей, и поэтому я должен стать поэтичнее во многих из своих моти-
вов. И в самом деле, следовало бы все, что хочет подняться над
обыденным уровнем, облекать, по крайней мере сначала, в стихо-
творную форму, потому что тривиальное нигде так ярко не высту-
пает наружу, как там, где оно выражено стихотворной речью» 36.
Здесь конкретно речь идет о той же возвышающей и усилива-
ющей функции ритма, которую Гёте описал в приведенном выше
афоризме. Но Гёте, говоря о воздействии, о субъективном рефлек-
се ритма, охарактеризовал его в общей, пластической форме, в то
время как наблюдение Шиллера подчеркивает взаимодействие
формы и содержания; формальная функция ритма воспринимает-
ся Шиллером как некоторая данность, и, исходя из нее, делается
попытка выяснить, каким образом должно быть изменено (усиле-
но) содержание для того, чтобы оно могло образовать правильное,
органически единое целое с ритмической формой, отвечая предъ-
являемым ею требованиям. Мы не будем подробно, in extenso ци-
тировать в высшей степени интересные высказывания Шиллера,
показывающие, как богато, сложно организовано, содержательно
15*
227
это взаимовлияние в каждом конкретном случае. Однако мы не
можем не процитировать завершающие его рассуждения выводы,
поскольку в них дана глубокая и верная характеристика отноше-
ния ритма к общему содержанию любого произведения художест-
венной литературы, хотя у Шиллера речь идет только о драме«
Эти выводы очень существенны для понимания роли ритма в
художественном произведении. В этой связи возникает также ряд
важных вопросов, к которым мы обратимся в следующей главе
[см. т. 2, гл. 5]: это касается прежде всего роли абстрактных эле-
ментов и факторов эстетической формы в становлении основных
конкретных художественных форм, осуществляющих эстетическое
отражение объективной действительности. Уяснение их сути на
этом уровне абстракции, как мы увидим позже, является всего
лишь подготовительным этапом исследования, расчищеыием «поля
деятельности» для адекватной постановки этих вопросов. В со-
гласии с общим содержанием нашей работы мы здесь не занима-
емся конкретным решением собственно эстетических проблем.
Рассмотрение этих вопросов на данном этапе вызвано необходи-
мостью дать философское объяснение генезиса искусства, его от-
деления от обыденной жизни и от других объективации.
Цитированное выше письмо к Гёте Шиллер заканчивает так:
«Роль ритма в драматическом произведении еще тем велика и зна-
чительна, что, обрабатывая все характеры и ситуации по одному
закону и выражая их, несмотря на все их внутренние различия,
в одной и той же форме, он заставляет и поэта и читателя требо-
вать от характеристики различного прежде всего чего-то общего и
чисто человеческого. Все должно слиться в родовом понятии
поэтического, и этому закону ритм служит в качестве его предста-
вителя и его орудия, так как он все охватывает своим собственным
законом. Он образует, таким образом, атмосферу поэтического
создания, более грубое устраняется, и только духовное может опе-
реться на этот тончайший элемент» 37. Шиллер указывает прежде
всего на три важнейшие функции ритма в сложном по своей струк-
туре и содержанию художественном произведении: во-первых, на
его объединяющую, выравнивающую содержательно разнородные
элементы функцию; во-вторых, на его значение в выделении глав-
ного и смягчении второстепенных деталей; в-третьих, на его спо-
собность создать единую эстетическую атмосферу художественно-
го произведения в целом. Одного этого простого перечисления
достаточно, чтобы понять, насколько далеко ушел ритм как кон-
кретный фактор конкретного художественного целого от своих
простых абстрактных истоков; отныне он призван выполнять
функции, которые в период его становления не были ему присущи
даже в зачаточной форме.
Тем не менее непрерывность перехода ритма от начальной
фазы к современной не является чем-то случайным и произволь-
ным, ее нельзя понять, исходя только из его формальной сути.
Следуя за ходом мыслей Шиллера, мы убеждаемся, что упорядо-
228
чивающее действие ритма возможно только при наличии извест-
ной гомогенности, определенных однородных связей между рит-
мом и упорядочиваемыми с его помощью другими элементами
того или иного вида искусства. Несомненно, что в данном случае
(как, впрочем, и во всех остальных) мы имеем дело с отражения-
ми объективной действительности. Шиллер хотел, чтобы созна-
тельное использование ритма обеспечивало большие возможности
для выделения существенного, главного в рассматриваемых кар^
тинах-отражениях, чтобы они, несмотря на свою изначальную
самостоятельность относительно друг друга, перестали быть от-
дельными разнородными частями отражения и предстали в виде
единого драматического потока. Ясно, что, только будучи отраже-
нием действительности, ритм в состоянии взять на себя функцию
упорядочивания различных отраженных элементов и преобразо-
вания их в унифицированное отображение действительности в
художественном произведении.
Преобразование первичного ритма как реального фактора тру-
дового процесса в отражение было, как мы уже говорили, необхо-
димой предпосылкой для его применения в самых различных об-
ластях повседневной жизни, где он выступил прежде всего в
отвлеченной форме, в облачении магического. И именно в этом
видятся нам объективные зачатки его эстетической функции, ибо
именно здесь все более отчетливо проявлялось его своеобразие как
эстетической категории. Это касается прежде всего его формаль-
ного характера. Ритм отныне, являясь отражением действитель-
ности, тем не менее не выступает в роли такового относительно
ее конкретного содержания. В противовес этому он в гораздо боль-
шей степени выступает как отражение тех сущностных форм,
которые осуществляют объективное членение и упорядочивание
этого содержания, делая его полезным, употребимым в человече-
ской практике. И в этом расширении и обобщении функции рит-
ма определенную роль играет магия. Она углубляет разрыв между
отраженными ритмами и их изначальной реальной основой, обес-
печивает возможность их применения к новым видам движения,
песням и т. д. и тем самым способствует зарождению новых раз-
новидностей ритма, появлению их новых комбинаций, не уничто-
жая и не ослабляя при этом его упорядочивающей функции. На-
против, именно благодаря связи с магией, с магическими цере-
мониями в ритме еще четче проявляется — но на сей раз не на
вещественной основе, а эвокативно, в плане эмоциональной
окраски, способности вызывать эмоции или другие ассоциации, —
принцип утверждаемого человеком порядка, пробуждающего и
укрепляющего его самосознание. Здесь следует еще раз подчерк-
нуть, что это все более энергичное проявление ритма в качестве
некой формы есть проявление его как формы для содержательно
(магически содержательно) определенных целевых установок; чем
конкретнее осознаны последние, тем сильнее обнаруживает себя
формальный характер ритма. Несомненно, связь с магией очень
229
часто придает ритму в рамках строго предписанного ритуала
известную заданность, жесткость. Но это отнюдь не отменяет роли
магии как переходного этапа в процессе преобразования ритма,
хотя этот переход и не был столь прямым, а протекал в острой
борьбе. Подобная же эволюция от выделения особого художест-
венного содержания к четкому закреплению формальных
свойств — естественно, с учетом всех рассмотренных выше проти-
воречий — имеет место, когда в ходе общественного развития вы-
рабатывается особая форма эстетического. Речь идет, таким обра-
зом, о длительном процессе с отдельными узловыми моментами,
то есть скачками, который привел к тому, что ритм из некоторой
реальности, связанной с трудовой деятельностью, превратился в
важный формально-абстрактный элемент художественного отра-
жения действительности.
Когда многократно повторяющееся в своих длительщ>1х непре-
рывных проявлениях свойство объективной действительности
фиксируется отражением, когда оно каждый раз по-новому при-
меняется к новым фактам и сложным явлениям, происходит нечто
сходное с тем, что гениально описал Ленин, рассматривая вопрос
о логических формах умозаключения и их роли в отражении дей-
ствительности [с. 205]. Тем не менее отражающий характер той
или иной формы, того или иного разностороннего по способу сво-
его применения принципа имеет здесь качественно иную природу,
его нельзя отождествлять с описанным Лениным логическим яв-
лением. Более точна будет в этом случае аналогия с понятием
ритма в стихосложении; однако мы уже убедились в том, что это
понятие по своей сути не имеет прямого отношения к эстетиче-
ской практике [с. 223]; в рамках эстетики речь может идти толь-
ко о содержательно наполненном, конкретно специфицированном
ритме. Но наши предшествующие наблюдения показали, что про-
содическое «понятие» ритма не является просто внеэстетической
абстракцией. Окончательный ритм художественного произведения
есть результат противоречивого единства, достигнутого в борьбе
между этими двумя факторами.
Такое различение приводит нас к рассмотрению вопроса в ином
плане. Понятие ритма в стихосложении (или в теории музыки и
т. п.) охватывает в своей абстрактной сущности и нечто относя-
щееся к содержанию других понятий, оно тем самым оказывается
вовлеченным в систему понятийных отношений в рамках соответ-
ствующей науки и подчиняется в силу этого общенаучной тенден-
ции к дезантропоморфизации. Конкретный ритм как эстетическая
категория, напротив, в полном смысле слова антропоморфичен. Он
зарождается в результате взаимодействия трудящегося человека
и природы, опосредованного существующими общественными от-
ношениями, и до тех пор, пока в процессе развития искусства
будут выявляться новые ритмические отношения, существующие
независимо от человека и его сознания, они будут — в качестве
предмета или выразительного средства искусства — антропомор-
230
фичны, будут соотнесены с человеком, человеческим родом (день
и ночь, времена года и т. д.) И если в процессе своего развития
человек осознает наличие физиологических ритмов (дыхание,
пульс и т. д.) и дает им эстетическую интерпретацию, то эти рит-
мы служат совершенствованию, дифференциации и дальнейшему
развитию уже сформировавшихся ритмов, не внося существенных
изменений в их главные свойства, в основном потому, что они
уже давно, пусть неосознанно для человека, влияют на формиро-
вание у него ритмического начала.
Поэтому все ритмы с эстетической точки зрения носят эмоцио-
нальный, эвокативный характер. Зачатки этих свойств мы нахо-
дим уже в реальной действительности, в процессе труда, но там
они всего лишь побочные, стихийные образования. И только когда
ритм, в виде отражения формы или процесса формирования в
указанном выше смысле, начинает использоваться сознательна,
эвокативность становится самоцелью и ее изначальная, чисто ка-
узальная обусловленность меняет направление в сторону телео-
логичности. Естественно, труд также телеологичен по своей при-
роде, но в нем реальная производимая вещь является целью
реального трудового процесса, где ритм играет лишь вспомога-
тельную роль; в отражении же, напротив (это касается и тех слу-
чаев, когда имитируется трудовой процесс, например в танце),
эвокативность выступает как конечная цель. Этот переход начи-
нает осуществляться уже в магии. Таким образом, то, что в нашем
анализе было целью, становится лишь трамплином, промежуточ-
ным этапом на пути к главной цели. Здесь мы переходим к рас-
смотрению собственно эстетических моментов; для того чтобы эс-
тетическое могло начать свое подлинное бытие для себя, оно дол-
жно было вырваться из тисков трансцендентного, его единствен-
но подлинной — ив этом случае — «конечной» целью должна бы-
ла стать эвокация самосознания человека. Формирование эстети-
ческого начала также является здесь секуляризацией, земным
деянием, продвижением человека к своей сути. Антропоморфиче-
ский принцип при этом не сужает горизонта, он не является недо-
статком или неправильной проекцией в фиктивно-магический объ-
ективный мир, но, напротив, приводит к открытию нового мира,
мира людей для людей.
В последних строках мы были вынуждены опять несколько
опередить события. С одной стороны, следовало очертить хотя бы
в абстрактной форме общую сущность эстетического, не переходя
сразу к беглому описанию всего процесса возникновения искус-
ства из глубин и гущи обыденной жизни и его обратного воздей-
ствия на нее; но тогда нам пришлось бы рассматривать понятие
эстетического как слишком узкое и в то же время слишком об-
щее. С другой стороны, при рассмотрении эстетического мы вы-
шли за рамки нашей тематики, поскольку речь шла об искусстве
вообще, а не конкретно об эстетической сущности ритма как о
некотором абстрактном, формальном, эстетическом факторе. Сум-
231
мируя все вышеизложенное, мы можем вкратце сказать следую-
щее: как абстрактный формальный фактор, ритм объективно
«внемирен», лишен «своего мира», хотя в тех случаях, когда это
возможно, он соотносится с миром, между ним и миром устанав-
ливается упорядочивающая связь; с субъективной точки зрения
он «бессубъектен», хотя заложенная в нем эвокативность всег-
да ориентирована на субъект. Тем самым мы в какой-то мере
очертили сущность рассматриваемых абстрактных эстетических
факторов. «Внемирность» и «бессубъектность» — таковы содержа-
тельные признаки формальных структур. (Здесь «внемирность»
понимается в общеэстетическом смысле, как характеристика аб-
страктных факторов форм. В истории искусств известны случаи,
когда художественные формы, которые по своей сути должны соз-
давать свой «мир» — эпическое, драматическое искусство, живо-
пись и т. д., — вследствие определенных абстрагирующих тенден-
ций, характерных для периода их создания, оказываются
лишенными этого мира. Здесь мы лишь указываем на такую
возможность во избежание смешения «внемирности» в ритме с
«внемирностыо» в упомянутых условиях.)
Таким образом, формальные эстетические элементы наиболее
доступны дезантропоморфирующему научному анализу. И по-
этому они очень легко принимают фиксированную, застывшую
форму, превращаются в чистую формальность. Это может произой-
ти уже в период становления магии, то есть до обособления эсте-
тического, поскольку формализм в ритуальных церемониях сдер-
живает спонтанную эвокативность, превращает ее в рутину,
препятствует ее проявлению. Однако история искусств более
позднего периода показывает, с какой легкостью обобщение и си-
стематизация (не обязательно идущие из непосредственной худо-
жественной практики) изначального ритма приводят к академи-
ческой косности, к чисто формальному, поистине антихудожест-
венному виртуозничаныо. Выяснение причин подобных явлений
с большой определенностью проливает свет на сущность ритма
как специфической, абстрактной эстетической формы. Мы уже
неоднократно повторяли, и это обстоятельство будет играть в по-
следующем, более конкретном изложении решающую роль, что
главным признаком, характеризующим своеобразие эстетической
формы, является то, что этой форме всегда соответствует опреде-
ленное содержание. Абстрактные элементы этой формы в конеч-
ном счете не могут быть исключением из этого правила. Как толь-
ко нарушается связь между элементом формы и неповторимо кон-
кретным художественным содержанием, неминуемо происходит
описанная выше жесткая фиксация формы. Здесь мы только
попутно заметим, что этот факт отражает непрерывность в разви-
тии ритма, берущего начало в труде, в человеческой практике.
Ритм возникает из конкретного взаимодействия между конкрет-
ными возможностями человека и конкретными особенностями
определенных природных процессов. Как только исчезает непо-
232
ередственная, конкретная взаимосвязь трудовой деятельности че-
ловека (это происходит, о чем мы уже говорили, в связи с внедре-
нием машинного производства), ритм прекращает свое существо-
вание, прекращается и его воздействие, хотя с объективной, чисто
абстрактной точки зрения машина тоже может иметь определен-
ный ритм движений. (Нельзя не согласиться с тем, что при из-
вестных условиях этот ритм может, так же как и изначальный
ритм, найти свое художественное воплощение. Но в таком случае
он выступает не как форма, определяющая объект, а как объект
художественного воплощения, осуществляемого на основе антро-
поморфирующего развития ритма.)
Однако для более полного определения ритма недостаточно
одного лишь подчеркивания его общеэстетических сторон. Выше
мы обратили особое внимание на эстетические аспекты, связан-
ные с его «внемирыостыо» и «бессубъектностыо». Но тем самым
мы никоим образом не исчерпали всех его эстетических функций,,
а только ближе подошли к их определению. «Внемирность» с уче-
том приведенных выше ограничений означает лишь то, что ритм,
отражая некоторый формальный момент окружающего мира, не
может охватить его в содержательном отношении. Он в каком-то
смысле бессодержателен, то есть в абстрактном плане он может
быть формально соотнесен с любым содержанием. Но, во-первых,,
возможность подобного соотнесения с содержанием в то же время
является императивной; вне такого соотнесения ритм не может
существовать как эстетическая единица. Во-вторых, при абстракт-
ном определении соотносимое™ с произвольными содержательны-
ми моментами следует иметь в виду, что анализ конкретного рит-
ма никогда не позволяет судить о том, с каким содержанием его
можно было бы соотнести, но в каждом отдельном конкретном
случае содержание имеет четкое и однозначное сродство с опре-
деленным ритмом. Таким образом, «внемирность» тождественна
бессодержательности в рассмотренном нами значении, в сочета-
нии с известной неустранимой, хотя a priori и неопределимой,
пассивной, идущей от содержания ориентированностью на кон-
кретно-определенный ритм.
Сходным образом можно интерпретировать и «бессубъект-
иость» ритма. Этот вид отражения некоторой формы не зависит
от создающего или воспринимающего субъекта. Однако отсутст-
вие такой зависимости не является здесь окончательной истиной
в теоретико-познавательном плане, как это имеет место в науке,
за ним скрывается определенная ориентация на субъективность,
à именно стремление к пробуждению, эвокации определенных
конкретных чувств, переживаний и т. п. как со стороны создаю-
щего субъекта, так и со стороны воспринимающего субъекта. Но
эта интенция не имеет непосредственного характера, она опосре-
дована требующими формирования содержаниями, причем таким
образом, что форма не сливается полностью с соответствующим
содержанием, как это присуще отдельным миметическим формам;
233>
вопреки необходимости образования конкретного органичного це*
лого, вопреки давлению вырастающей из его содержания фор-
мальной структуры форма сохраняет некоторую эвокативно воз-
действующую самостоятельность как обособленный эстетический
фактор. Итак, основополагающее для эстетики единство формы и
содержания рассматривается здесь в несколько ином, более узком
смысле. Описанная ситуация характерна для всех абстрактных
форм как отражений определенных, обособленных формальных
моментов действительности. Обратившись к вопросам, связанным
с орнаментикой (где такие абстрактные формы не только высту-
пают в виде простых факторов в неабстрактных комплексах, но
способны организоваться в самостоятельное художественное це-
лое), мы подробнее остановимся на том значении, которое имеют
эти особенности абстрактных форм для эстетики.
2. СИММЕТРИЯ И ПРОПОРЦИЯ
С философской точки зрения проблемы симметрии и пропорции
не сопряжены с такими трудностями, как проблемы ритма. Пре-
жде всего потому, что симметрия и пропорция всегда являются
абстрактно-формальными отражениями определенных, существен-
ных, повторяющихся моментов объективной действительности, но
в человеческой практике, и особенно в практике художественной,
им не свойственна та относительная степень самостоятельности,
которая, как мы установили выше, присуща ритму. Они всегда
выступают в роли простых факторов в сложном комплексе, струк-
тура которого неабстрактна по своей сути. В силу этого вся слож-
ная диалектика, применимая к факторам с относительно незави-
симым действием, не находит себе здесь применения, пропорция
и симметрия являются простыми факторами. В каком-то смысле
на более высоком уровне эти проблемы всплывают вновь, когда
в орнаментике симметрия и пропорция выступают в роли факто-
ров абстрактно-всеобщей формы, возведенной на уровень общего
принципа построения художественного произведения. Но в этом
случае они предстают лишь как составные элементы того диалек-*
тического противоречия, которое характеризует сущность орна-
ментики в эстетике.
Отличие этих абстрактных категорий от категории ритма, о
чем говорилось выше, проявляется также в том, что они го-
раздо нагляднее представлены в независимой от человека природе.
Казалось бы, вполне естественно видеть в них исключительно
отражение природных взаимосвязей, выявляющихся через законы
природы, как это происходит и в научном отражении действитель-
ности. При таком чрезмерно прямолинейном понимании учения
об отражении применительно к данным категориям существует
опасность, касающаяся прежде всего проблемы генезиса: эстети-
ческие чувства, возникающие только на уровне высокоразвитой
культуры, проецируются таким образом на истоки. Подробнее
234
мы остановимся на тех конкретных сложностях, которые из этого
вытекают при анализе орнаментики.
Здесь надлежит сделать еще одну оговорку методологического
характера, вероятно допустимую также и потому, что она по край-
ней мере имплицитно уже содержалась в предшествующем изло-
жении, а именно что теоретическое значение генезиса в художе-
ственном отражении действительности качественно иное, чем в
научном отражении. Это различие обусловлено описанной выше
«историчностью» тех образов, которые создаются в художествен-
ном отражении: если произведение искусства исторично по своей
сущности, то есть если его конкретный генезис является объек-
тивно существующей, а не домысливаемой составной частью его
объективной сущности как произведения искусства, то его генезис
и эстетическое своеобразие не могут быть противопоставлены
друг другу с той же определенностью, с какой это делается в нау-
ке; так, в науке истинностное значение высказывания, теории
и т. д., по сущеетву, никак не связано с условиями их возник-
новения. При необходимости мы можем успешно опираться liai
«историческую» точку зрения для объяснения неполноты при-
ближения художественного отражения к истинному отражению
объективной действительности. При этом, однако, не затрагива-
ется коренной вопрос о научной истине. Но в этом, как мы виде-
ли, проявляется не просто непропорциональность соотношения
истории и теории; это различие имеет важное значение для реше-
ния проблем научного и художественного отражения действи-
тельности. Все эти существенные вопросы будут рассмотрены
нами при обсуждении соотношения бытия-в-себе и бытия-для-нас
в обеих формах отражения. Здесь же достаточно еще раз подчерк-
нуть антропоморфирующий характер эстетического отражения.
Мы уже видели — и полнее поймем это, конкретизируя сущность
эстетического отражения, — что именно в эстетике принцип антро-
поморфизма означает не субъективный (в отличие от религии, где
это диктуется общественной необходимостью), а своеобразный
объективный подход, который вместе с тем неразрывно связан
с человеком как субъектом и объектом эстетического.
Принцип антропоморфизма лежит в основе симметрии постоль-
ку, поскольку она причастна к эстетике. Уже Гегель установил,
что объективно между пространственными координатами как та-
ковыми, обозначенными нами как высота, длина, ширина, нет
никакой разницы. «Высота, — пишет он, — имеет своим ближай-
шим определением направление к центру Земли; но это более
конкретное определение не имеет отношения к природе простран-
ства как таковой» 38. Само по себе это положение имеет геоцен-
трический характер и никак не соотнесено с человеком. Оно обре-
тает свою специфику только с началом прямохождения человека,
что является, как показывают Энгельс и Дарвин, главным призна-
ком перехода от животного состояния39. Степень влияния этого
поворотного момента на все отношения к действительности, к при-
235
роде обнаруживается уже в том, что везде, где в продуктах
человеческого труда наблюдается симметрия, можно заметить
преобладание вертикали над горизонталью. Боас пишет: «В подав-
ляющем большинстве случаев мы обнаруживаем симметрию в рас-
положении справа и слева от вертикальной оси и намного реже—
сверху и снизу от горизонтальной» 40.
Здесь отмечен еще один интересный аспект — левая и правая
стороны. В своей заслуживающей внимания книге о симметрии
Вейль справедливо подчеркивает, что с научной точки зрения,
естественно, не может быть никакой разницы между правым и
левым. Но в человеческом обществе между ними возникает раз-
граничение и даже противопоставление; они становятся симво-
лами добра и зла41. Правое и левое не просто получают симво-
лическое значение; эта символика сама по себе могла бы отра-
жать лишь аллегорическое обозначение правого и левого (во
многих случаях так и происходит), причем значения могут* сме-
щаться, меняясь на полностью противоположные, В этой связи
можно привести весьма современный пример — правые и левые
в политике, где начиная со времен Французской революции имен-
но обозначение «левые» содержит оттенок правильного, прогрес-
сивного и т. д. Здесь, однако, правое и левое превратились уже
в десемантизированные общие понятия, в которых сохраняются
только стертые отзвуки изначальных, непосредственно связанных
с чувственным восприятием образов правого и левого.
Чрезвычайно интересные статьи Вёльфлина по этому вопросу
показывают, что представления о правом и левом не являются
просто ассоциациями аллегорического характера. Вёльфлин рас-
сматривает проблему правого и левого в живописной композиции
на определенной ступени развития. Здесь движение взгляда на-
блюдателя, то есть эстетическое воздействие композиции, имеет
решающее значение и в том случае, когда изображение в основ-
ном симметрично. Вёльфлин иллюстрирует эту мысль на примере
«Сикстинской мадонны» Рафаэля и «Дармштадтской мадонны»
Гольбейна. Если композиция не симметрична, это значение толь-
ко возрастает. Вёльфлин так описывает то впечатление, которое
оставляет здесь композиция: «В ходе дальнейших наблюдений
всегда есть основания говорить о диагоналях, направленных вниз
и вверх. Диагональ, идущая слева направо, воспринимается как
направленная вверх, диагональ справа налево — как направлен-
ная вниз. В первом случае мы говорим (если ничто этому не про-
тиворечит) : лестница ведет вверх; во втором: лестница ведет
вниз. Ровная линия горного хребта устремится ввысь, если вер-
шина находится справа, и будет казаться ниже, если вершина
слева (поэтому на вечерних ландшафтах склоны гор так часто на-
правлены слева направо)»42. В данном случае нас не интересует,
удалось ли Вёльфлину сформулировать общий закон художест-
венной композиции; он сам говорит об этом очень осторожно, по-
стоянно подчеркивая: «если ничто этому не противоречит»; он не
236
упускает случая указать, что его наблюдения ограничиваются
лишь определенными видами искусств. «В архитектуре проблема
левого и правого в таком аспекте роли не играет; вообще же это
характерно только для изобразительного искусства на определен-
ном уровне развития, и то не в равной степени» 43. Но анализ зна-
чительно отличающихся друг от друга произведений искусства —
вспомним пейзажи Рембрандта, картоны Рафаэля для фландрских
ковров и т. д. — показывает, что здесь установлена по меньшей
мере какая-то важная особенность композиции картин, а именно
тот факт, что «правая сторона имеет иную значимость, чем ле-
вая» 44.
Для наших целей этого совершенно достаточно. Здесь следует
лишь отметить, что объективно существующая в природе сим-
метрия, как только она через практику начинает отражаться че-
ловеком (причем здесь имеется в виду не одно художественное
отражение), испытывает воздействие самых различных тенден-
ций. Их влияние никогда не приводит, однако, к полному исчез-
новению симметрии. Она сохраняется, но ее эстетическое отраже-
ние — и чем более высокоразвит данный вид искусства, тем это
ощутимее — приобретает характер модифицирующего приближе-
ния. Здесь одинаково важны оба термина: и модификация, и при-
ближение. Ибо в этом случае приближение отнюдь не аналогич-
но столь распространенным в науке попыткам дать приблизитель-
ное определение предмета; приближение в соответствии с художе-
ственным замыслом всегда остается на определенном уровне, на
уровне, делающем симметрию зримой и доступной наблюдателю,
но при этом допускающем такие значительные модификации и
отклонения, что симметрия не получает последовательно выра-
женной самостоятельной значимости, а выступает лишь как
отдельный — хотя и важный — компонент картины как целого.
Естественно, известны примеры — прежде всего в орнаменти-
ке — последовательного проведения принципа симметрии, напри-
мер в так называемом «гербовом стиле», для которого характерно
чисто декоративное изображение зверей, растений, даже людей,
причем рассмотренная выше проблематика правого и левого здесь
не затрагивается. Ясно, что это может положить начало только
более абстрактной, допускающей минимальные вариации и ми-
нимальную возможность развития изобразительной тенденции.
Такого рода тенденции играли не последнюю роль в искусстве
Древнего Востока. Позднее «гербовый стиль» стал символом кос-
ности, упадка. Такой автор, как Ригль, которого никак нельзя
заподозрить в недооценке подобных тенденций и их роли, пишет:
«Принцип «гербового стиля», принцип абсолютной симметрии,
сыграл решающую роль в эпоху поздней античности, что, вероят-
но, связано с упадком творческих сил в культурной жизни этого
периода, поскольку эллинистическое искусство еще сохраняла
верность относительной симметрии в декоративном искусстве и
но возможности избегало скуки абсолютной симметрии» 45.
237
Из всего вышеизложенного, однако, нельзя сделать ни одного
сколько-нибудь надежного вывода относительно генезиса симмет-
рии, как это имело место в вопросе о происхождении ритма. На
первый взгляд кажется довольно правдоподобным, что предпоч-
тение правой стороны связано с трудом, с ролью правой руки в
трудовом процессе. В пользу этого свидетельствует и мнение По-
ля Саразена, считавшего, что клинообразные камни и /ручные
рубила каменного века еще были выточены частично для работы
правой рукой, а частично — левой, то есть в каменный век не уда-
ется проследить предпочтения правой руки. По-видимому, оно
возникает только в бронзовом веке. Однако, насколько известно
мне как неспециалисту, в настоящее время ведутся такие ожив-
ленные дискуссии по этому вопросу, что было бы слишком смело
делать какие-либо выводы. Более того, гипотеза Вёльфлина, весь-
ма вероятная применительно к европейскому искусству ч вызыва-
ет сомнение, будучи отнесена к искусству Востока46. Поэтому мы
не можем сказать ничего сколько-нибудь определенного о том.
идет ли здесь речь о чисто физиологической тенденции или о тен-
денции социальной, преобразующей физиологическую предраспо-
ложенность человека посредством труда.
Во всяком случае, здесь с очевидностью выступает основопо-
лагающее противоречие между такими абстрактно-геометрически-
ми категориями, как симметрия, и конструктивными законами
органической жизни. Вейль справедливо отмечает тенденцию к
асимметрии, наблюдаемую в процессе существования организма47.
Речь идет об объективном противоречии. В неорганическом мире,
как мы видим, законы материи создают симметричные формации,
прежде всего кристаллы, поэтому справедливо будет, полемизи-
руя с идеалистическими воззрениями утверждать, что и в дан-
ном случае содержание (то есть структура и законы дви-
жения атомов) определяет форму, а не форма — содержание;
точно так же и на органическом уровне вопросы морфологии дол-
жны решаться в соответствии с объективными законами материи.
Возникающее здесь протворечие заключается в том, что организм
одновременно и симметричен, и асимметричен, причем оба эти
свойства неразрывно связаны между собой. Естественно, здесь
не место для исчерпывающего анализа этого вопроса. О некото-
рых следствиях этого мы уже писали при рассмотрении проблема-
тики правого и левого. Сошлемся лишь на один пример, имеющий
большое значение для всего позднейшего искусства, — одновре-
менную симметрию и асимметрию человеческого лица. Этот факт
общеизвестен. Всякий, кто возьмет на себя труд сравнить реаль-
ное лицо человека с теми изображениями, которые создаются пу-
тем взаимного уподобления и повторения левой или правой его
половины, легко заметит, что, с одной стороны, такие изображе-
ния не сохраняют живости лица, они оказываются застывшими,
а с другой стороны, обе полученные таким путем комбинации
отличаются как друг от друга, так и от оригинала. Нет необходи-
238
мскти углубляться в детали вопроса, достаточно самого абстракт-
но-общего подхода, чтобы убедиться, что любое человеческое ли-
цо te, естественно, его художественное отражение) во всех дета-
лях представляет собой диалектически противоречивое единство
симметрии и асимметрии как движущий фактор, а художествен-
ное решение состоит не в снятии этого противоречия, но в после-
довательной его реализации, по возможности наиболее разносто-
ронней^ охватывающей все детали и образующей основу всего
художественного произведения в целом; причем, естественно,
художественное отражение подчеркивает обе стороны противоре-
чия сильнее, чем сажа действительность. Симметрия здесь не
уничтожается и не может быть просто уничтожена; она возникает
всегда как одна из сторон, один из моментов основополагающего
противоречия; вообразить, будто она исчезает, можно только при
поверхностном понимании человеческого лица как абсолютно
симметричного. Таким образом, здесь мы имеем дело с подлин-
ным противоречием в том смысле, в каком его понимал Маркс,
а именно: противоречия не снимаются, а их совокупность и соз-
дает «форму для их движения» 48-49.
Для проблемы пропорции характерна противоречивость того
же порядка. Переход от одной проблематики к другой на практи-
ке часто незаметен. Точнее говоря, как только возникает выше-
описанная диалектика симметрии, как только симметрия переста-
ет быть абсолютным каноном — а это происходит достаточно
рано не только при отображении объектов окружающей действи-
тельности, но даже и в орнаментике, — необходимо искать новые,
дополнительные правила, позволяющие упорядочить мир явлений,
выделить в нем истинное и ложное. Так же обстоит дело и с про-
порцией. Отметим, однако, что здесь эта проблема возникает из-за
того, что упорядочивание отражения действительности основыва-
ется на чистой и очень простой самой по себе симметрии и тре-
бует рационально постижимых принципов, которые позволили бы
разграничить закономерности объективно существующие и мни-
мые для явлений и групп явлений, несравнимых непосредствен-
но. Вместе с тем ясно — и мы остановимся на этом подробнее, —
что проблемы пропорции неизбежно встают уже на самом прими-
тивном уровне производства. Так что, разумеется, не случайно с
античных времен до эпохи Возрождения проблема правильных
пропорций занимает важное место в искусстве и в теории искус-
ства. В первую очередь это касается теории и практики передачи
органической жизни и человека в живописи и скульптуре (об
архитектуре мы будем говорить отдельно). Делались попытки все-
возможными теоретическими путями — методом измерения, по-
средством геометрии, ссылаясь на Евклида и т. д. — открыть те
пропорции, которые могли бы гарантировать красоту изображе-
ния. Но здесь, как и в тех случаях, о которых речь шла выше,
мы не можем ставить своей целью доскональное исследование
этой проблематики. Достаточно указать на так называемое золо-
239
тое сечение и попутно отметить, что посвященные проблеме про-
порциональности исследования таких выдающихся художников,-
как Леонардо да Винчи или Дюрер, по своему замыслу охватыва-
ют гораздо более широкий круг вопросов. /
Безусловно, пропорция является отражением объективно^ дей-
ствительности. Если бы наша жизнь не протекала в мире/ в ко-
тором вещи и живые существа находятся в отношении itponop-
ционалыюй зависимости от объективных условий своего суще-
ствования, если бы уже простейшая трудовая деятельность не
учила нас тому, что нельзя произвести ни одного полезного про-
дукта, который не находился бы в отношении пропорциональной
зависимости от цели своего изготовления и области своего приме-
нения, тогда представление о пропорции и не возникло бы. Мы
никогда не узнаем абсолютно точно, сколь велика опосредующая
роль труда при обнаружении пропорции в мире, не сотворенном
человеком. Здесь, как и в симметрии, эта связь еще менее "ясна,
чем в случае ритма. Кроме того, как симметрия, так и пропорция^
являются столь важными моментами в морфологии живых су-
ществ, в том числе и людей, что напрашивается вывод о их якобы
прямом, не требующем опосредования воздействии на гносеологи-
ческие и творческие интересы людей. Такие объяснения весьма
распространены. Их корень в современной буржуазной теории
искусства — это страх перед признанием труда важным момен-
том при отражении действитедьности. Особенно радикально эта
точка зрения сформулирована Воррингером. При этом не имеет
решающего методологического значения тот факт, что в цитируе-
мом отрывке его полемика направлена против теории репродуци-
рования геометрических форм неорганических кристаллов. Ов
говорит: «Скорее, пожалуй, мы можем предположить, что творе-
ние геометрической абстракции было собственно творческим, воз-
никшим в силу потребностей человеческого организма... Как бы-
ло сказано, оно представляется нам чисто инстинктивным творче-
ством» 50.
В наших рассуждениях мы исходим из полностью противопо-
ложных предпосылок. Мы уже подчеркивали, что, по нашему
мнению, пропорциональность является отражением реальных свя-
зей объективной действительности. Мы рассматриваем только
вопрос о том, каким образом люди сознательно производили это
отражение: исходили ли они непосредственно из наблюдений над
внешним миром, могли ли они из него исходить или принуждены
были идти обходным путем — через труд, через практику выявляя
и делая доступными восприятию эти объективные материальные
отношения. Вопрос о генезисе, поставленный таким образом, ука-
зывает, однако, на наличие связей с областью эстетического; он
позволяет вскрыть антропоморфирующий характер эстетического
отражения действительности. Представляется маловероятным, что-;
бы первобытный человек, еще не имеющий развитой материаль-
ной культуры — средств и орудий труда, — открыл или познал
240
применительно к себе или к другим существам такие сложные ит
требущщие обобщения на достаточно серьезном уровне понятия^,
как симметрия или пропорция. В то же время производство самых
примитивных орудий труда вынуждает на практике обратить вни-
мание на^ симметрию и пропорцию. Именно опыт должен пока-
зать, что \даже при изготовлении рубила необходимо соблюдать
хотя бы приблизительно пропорциональные соотношения между
шириной, длиной и толщиной для того, чтобы изделие было удоб-
нее использовать. Только при производстве более сложных пред-
метов — будь то при изготовлении стрел, где необходимо соблю-
дать симметрию, будь то в керамике, где несоблюдение точных
пропорций недопустимо с точки зрения пригодности изделия, — в
ходе работы должен возникать постепенно достаточно хороший
«глазомер», чувство симметрии и пропорции. Но это никоим об-
разом не означает, что ремесленники имели ясное представление
об общих понятиях и закономерностях, лежащих в основе их дей-
ствий. Вспомним о том, как поздно укоренился в мышлении людей
счет [с. 104]. Люди очень рано были уже в состоянии манипули-
ровать «практически» довольно большими числами; например, они
могли заметить, что в большом стаде недостает одного животного..
Но происходило это путем качественного разграничения отдель-
ных животных как индивидов, а не благодаря подсчету количест-
ва скота и сравнению полученных чисел. Последнее, вероятно,,
является результатом более позднего развития. Поэтому мы счи-
таем, что многое было уже практически достигнуто и зафиксиро-
вано в конкретном трудовом опыте задолго до того, как произо-
шло то обобщение, которое позволило использовать представле-
ния о пропорции не только применительно к своему труду, но ж
шире. Только после того, как эти опытные знания стали привыч-
ными, а рост и развитие производства начали выдвигать все более«
и более сложные проблемы пропорциональных отношений, оказа-
лась возможной и более общая постановка вопросов, связанных с;
пропорцией; это произошло именно тогда, когда общественная,
практика потребовала использования геометрии и арифметики
даже на самом примитивном эмпирическом уровне. Конечно, от-
сюда не следует, что практическое применение правильных про-
порций в искусстве не имело места раньше, до того как вопрос о
пропорции был поставлен теоретически. Напротив. Мы неодно-
кратно указывали на то, что художественная практика обычно
намного опережает эстетические рефлексии. Здесь также весьма
вероятно, что длительное и успешное использование пропорций в
различных областях производства обратило внимание человека
на наличие пропорциональности и в органической жизни, что спо-
собствовало теоретической постановке проблемы. Этот круг вопро-
сов имеет преимущественно научный характер — даже тогда, ког-
да он выступает как теоретическое обоснование художественной
практики, как, например, во времена античности не дошедший
до нас трактат Поликлета. В этом нет ничего удивительного. Во-
16 Заказ № 683
24 t;
первых, нередко случается, что художественная практика ü про-
цессе эмансипации от магии и религии ищет для себя опоры в
.науке; социально это подкрепляется еще и тем, что в те времена
'.общественное положение ученых было выше, чем положение
художников, которые еще и поэтому выступали как ученые в по-
исках научной базы для своей деятельности; такую настроенность
:можно встретить и в эпоху Возрождения, и позже. Во-вторых — и
ш этом заключается теоретически более глубокая причина такой
взаимосвязи, — объективно эстетическое отражение выступает в
.произведении искусства в присущей ему чистой форме, вызывая
соответствующие переживания у воспринимающего. Таким обра-
зом, оно противостоит научному отражению как самостоятельное
ш равнозначное ему явление. Однако освоение объективной дей-
ствительности художником в процессе творчества никогда не
может полностью обойтись без данных и научного отражения.
В зависимости от эпохи, вида искусства и даже от личностных
«особенностей художника доля научного отражения в творческом
.процессе может быть субъективно и объективно различной; в не-
которых видах искусства, например в архитектуре, эту составную
'часть никак нельзя исключить из творческого процесса. При этом
;речь может идти о помощи в овладении миром, об углублении
знаний о мире, а также и о содержательных проблемах, напри-
мер проблемах формы (как в случае пропорции). Важнейшей
задачей творческой практики как раз и является возможно более
аюлное, глубокое и верное отражение объективной действитель-
ности, а вместе с тем и преобразование всего добытого таким
путем содержания в формы эстетического отражения, преобразова-
ние усвоенного и используемого преимущественно неантропо-
дморфическим способом отражения в эстетическое, имеющее антро-
шоморфирующий характер, или же обратное превращение одного
в другое, если — как это обычно происходит с настоящими худож-
никами — источник и исходная точка всего процесса были антро-
•.поморфичны.
Соответственно истинно эстетическая проблематика пропор-
щиональнасти выступает на относительно более высокой ступени;
ше законы устанавливаются для того, чтобы выявить прочную
юснову эстетической сущности органического мира. Пропорцио-
нальность непосредственных продуктов труда (орудий и т. д.) в
этом отношении не вызывает никаких проблем: она возникает в
силу трудового опыта, из постепенного развития трудовых навы-
ков и способности, правильно распознавать пропорции, необходи-
мые для того, чтобы сделать изделие пригодным и использовать
имеющийся материал. В этой связи и встает важная проблема
эстетического и его генезиса, а именно вопрос о том, как этот
труд, изначально направленный на потребности повседневной
практики, переходит в область эстетического. Этот переход, разу-
меется, происходит неосознанно. Внутреннее сращение искусства
и ремесла во всех докапиталистических формациях так сильно,
242
что многие отрасли, без сомнения, относящиеся к сфере художе-
ственной деятельности, в сознании творца и воспринимающего
еще долго считаются ремеслом, практической деятельностью. Пы-
таясь философски подойти к проблеме генезиса эстетического, мы
не можем не столкнуться с проблемой соотношения, различия
(или противоположности) категорий приятного (полезного) ш
прекрасного.
Именно этим аспектом эстетики занимался Кант, правда, ши-
ре, чем мы, но не с генетической точки зрения, а рассматривая это
противопоставление как вневременное, основополагающее. Его
крайне субъективно-идеалистическое и в силу этого сугубо фор-
мальное решение вызвало многочисленные протесты; вспомним,
например, критическое выступление Гердера вскоре после выхода
в свет «Критики способности суждения». В работе Канта подни-
маются чрезвычайно серьезные и важные вопросы; однако боль-
шой ущерб плодотворности их постановки наносит метафизиче-
ская жесткость противопоставления прекрасного и приятного.
Кант верно чувствовал, что границу, разделяющую эти понятия,,
следует искать в отношениях к действительности, лежащих в ос-
нове их обоих. Разумеется, что вместе с тем для приятного кон-
кретное существование (конкретная применимость) определенно-
го предмета играет решающую роль, тогда как переход к эстети-
ческому предполагает относительный отказ от этой практической
связи с повседневностью, с практической жизнью. Но субъектив-
ный идеализм Канта, который не признает и не может признать
никакого отражения действительности, существующей независи-
мо от воспринимающего сознания, с неизбежностью приводит в
данном случае к неразрешимым противоречиям. Существенным
для эстетического Кант считает следующее: «...сопутствует ли во
мне представлению о предмете удовольствие, как бы я ни был
равнодушен к существованию предмета этого представления»51.
Метафизическая косность ясно проявляется здесь в полном
равнодушии к вопросу о реальном существовании предмета.
В действительности то представление, о котором пишет Кант,
является как раз отражением этого предмета, а очевидное расхож-
дение между самим предметом и его отражением не свидетельству-
ет в пользу наличия такого жесткого противопоставления. Даже
в обыденной жизни, как мы могли видеть в другой связи, иногда
приходится отвлекаться от «существования» предмета; но с дру-
гой стороны, сколько бы сознание ни концентрировалось на обра-
зе предмета, оно никогда не может быть полностью безразлично
к тому, существует предмет или нет. Уже тот факт, что все его
воспринимаемые свойства должны совпадать со свойствами ориги-
нала и могут быть верифицированы только путем сравнения с
ним, исключает безразличие в понимании Канта. Естественно —
и в этом мы видим существенную, хотя и относительную, верность
кантовской констатации, — эстетическое отношение к предмету
возникает только тогда, когда интерес концентрируется именно^
16*
24$
на картине отражения как таковой. Но при этом связь между
«существующим предметом и его отображением никогда полностью
не прерывается. Мы можем подробно изучить эту связь только на
'более сложных примерах отражения, где, соответственно, и связи
•становятся более сложными; следует лишь заметить, что; даже ес-
ли полученное изображение чрезвычайно фантастично, то есть ис-
кусство далеко от фактической действительности, эта связь с суще-
ствованием того, что, собственно, изображается, сохраняется всег-
да. Переживание всякой «художественной действительности» не-
обходимо содержит и момент отнесения к реальной действитель-
ности. Даже когда расхождения между обеими «действительно-
гтями» велики, эта дихотомия не исчезает; восприятие всегда
подтверждает правильность отражения, — правильность в самом
.широком смысле, которую нельзя понимать как фотографическое
сходство52.
Это с очевидностью проявляется и в воздействии произведе-
ния искусства. Разумеется — опосредованно, — оно есть не что
иное, как полная самоотдача реализованному образу отражения,
так что возникает впечатление, будто тут каитовское безразличие
к существованию оригинала оправданно. И эта опосредованность
(к ее рассмотрению мы обратимся во 2-й части при описании
.процесса восприятия) является интегральным моментом восприя-
тия произведений искусства. При ее отсутствии нельзя говорить
;<об эстетическом впечатлении. Но даже простое, неискушенное
восприятие, не говоря уже о восприятии художественных крити-
ков, историков искусства и т. д., не останавливается на этом.
Даже неискушенный зритель, слушатель, читатель усваивает
произведение искусства всем своим существом: его переживания,
жизненный опыт и т. д., накопленные до того, как данное произ-
ведение искусства начинает оказывать на него эстетическое воз-
действие, являются необходимыми предпосылками этого воздей-
ствия; и подлинно глубокое, истинно эстетическое воздействие
'произведения становится после этого неотъемлемым достоянием
человека в целом. Оно будет в большей или меньшей степени воз-
действовать не только на его восприимчивость к эстетическому,
но и на его мышление, поведение и т. д. Поскольку содержание
произведения составляет именно отражение существующего мира,
то форма художественного выражения моячет быть отделена от
содержания только при помощи специальной операции абстраги-
рования; а впечатление воспринимающего меняет и его позицию
по отношению к самой этой действительности. Более или менее
сложная опосредованность и размеры этих последствий, а также
их положительное или отрицательное значение не меняют того
факта, что при этом кантовская «незаинтересованность» снима-
ется, сохраняясь лишь в пределах области эстетического.
Нам пришлось в общих чертах остановиться на кантовском
противопоставлении прекрасного и приятного, хотя мы сейчас за-
нимаемся гораздо более узким и элементарным вопросом. Выявле-
244
ние правильных пропорций в процессе труда и, таким образом,
производство пропорциональных, следовательно, полезных пред-
метов само по себе не относится к области эстетического. Нас
интересует, каким путем эти предметы как таковые становятся
•объектами эстетики. Плодотворность относительно правильного
кантовского понимания проявляется в том, что фактически мы
абстрагируемся от практической применимости данного продукта
труда. Но, во-первых, материальным носителем эстетического
переживания остается сам реальный предмет. Иначе говоря, речь
идет о создании образа в результате отражения; однако нам
небезразлично, связано или нет сознание, имеющее дело с отра-
жением реальности (правда, в ее конкретно-историческом пони-
мании), с реальностью вообще; так, например, «Анна Каренина»
Толстого, или «Любовь земная и небесная» Тициана, или
некий стоящий перед нами кувшин, отраженный образ которого1
непосредственно соотнесен с реально существующим конкретным
предметом, — все это вызывает у нас эстетические переживания.
Хотя эстетическое переживание всегда возникает непосредствен-
но на основе отраженного образа, в первых двух случаях полу-
чившее свой образ отражение представляет собой прямой объект
(произведение искусства), а в последнем случае — отображаемый
предмет тесно связан с реальным объектом53.
Во-вторых, такое абстрагирование происходит именно потому,
что здесь представлена намного более низкая ступень эстетиче-
ского обобщения, и она гораздо более абстрактна, чем это харак-
терно для рассмотренного выше отображения мира. Положения,
которые мы вывели ранее применительно к «внемириости» обра-
зов, в основе которых лежат абстрактные формы отражения, вы-
полняются и в данном случае: здесь мы имеем дело именно с
обобщением в эстетическом смысле, однако с таким, которое ори-
ентировано — по крайней мере в соответствии с основной тенден-
цией — на узкий отрезок, небольшой аспект мира человека, а не
на всю совокупность его представлений, как это происходит в
искусстве вообще. И тот факт, что при наличии тесной связи меж-
ду объективностью и субъективностью в эстетике эта «внемир-
ность» приводит к сужению сферы субъективного, к — относи-
тельной— «бессубъектности», сам собой вытекает из данной
ситуации. Если же рассмотреть обе точки зрения, то есть нераз-
рывную связь отраженного образа с определенным реальным
объектом, а также «внемирность» и «бессубъектность» возмож-
ного здесь эстетического переживания в их совокупности, то мож-
но дать достаточно точное философское описание проблемы отде-
ления эстетического от повседневного.
Мы уже обратили внимание на ту решающую практическую
роль, которую правильные пропорции играют в производстве и
совершенствовании предметов повседневной жизни. Без сомнения,
в соблюдении правильных пропорций выражается важный кон-
структивный принцип, лежащий в основе воспроизводства этих
245
предметов, и поэтому их исследование становится необходимым
для обобщения трудового опыта и для дальнейшего его анализа
(при необходимости с использованием элементарных научных
данных), для усовершенствования техники производства и т. д.:
Поворот к эстетическому может произойти только в том случае,
если результаты практической деятельности составят закрытую,
воспринимаемую чисто зрительно систему и как таковые станут
предметом непосредственного восприятия. Однако такое восприя-
тие еще не будет с неизбежностью носить эстетический харак-
тер; оно может представлять собой просто зрительную фиксацию
технических достижений. Восприятие становится эстетическим
только тогда, когда оно, преобразуясь, приобретает эвокатив-1
пость, то есть когда визуально реализованная система пропор-
ций оказывается способной именно к такому воздействию. Разу-
меется, этот процесс имеет длительную предысторию; радость па
поводу удачно завершенной работы, удобного и полезного пред-
мета и т. п. вызывает, как правило, приятные эмоции, в ко-
торых, несомненно, скрыто в зародыше углубление самосознания
в вышеописанном эстетическом смысле [с. 195]. То, что переходы
здесь чрезвычайно плавные, что одни и те же предметы у одного
и того же человека могут вызвать целую гамму переживаний (от
радости по поводу приносимой пользы до эстетического удоволь-
ствия), не только свидетельствует о том, что приятное и эстетиче-
ское не являются застывшими метафизическими противоположно-
стями, как утверждал Кант, но и подтверждает эстетический
характер всей этой сферы54.
Что касается эвокативного характера визуальной системы про-
порций, реализованной в конкретном предмете, то ее своеобразие
обусловлено следующим: будучи тесно связана с практической:
применимостью, структура системы оказывается наиболее доступ-
ной пониманию с непосредственно-известной стороны. Хемстер-
хёйс уже в конце XVIII столетия видел сущность эстетической
радости в том, что человеческая душа стремится воспринять как
можно большее число идей в возможно более короткий срок55.
Тот факт, что Хемстерхёйс идеалистически считал это желание-
человека неисполнимым, так как его эмоциональная сфера и сам
организм могут воспринимать действительность только во вре-
менной и пространственной последовательности, не может реши-
тельно изменить правильности его утверждений. Сказанное отно-
сится и к его утверждению, что наше умение отличать предметы
друг от друга по их сущности, используя только один из органов
чувств, следует считать большим шагом вперед в развитии челове-
чества. Этим он предвосхищает нашу постановку проблемы «раз-
деления труда» между органами чувств. В силу такого непосред-
ственно-чувственного синтеза материально-вещественного суб-
страта и условий существования возникает чувство радости каче-
ственно иного характера, чем простая радость, связанная с тру-
дом, достижениями, применением, приобретением и т. д. Это чув-
246
ство радости в некотором смысле! аналогично тому, которое обыч-
но сопровождает знакомство с неизвестным и сложным. Но здесь
речь идет не о сопутствующем явлении, а о самом предмете. Пре-
жде всего затрагивается непосредственно-чувственное единство
внутреннего и внешнего, ибо именно внутренняя, «скрытая»
структура предмета проявляется — визуально — в зримом харак-
тере пропорций, соответствующих данной системе. Таким обра-
зом, сущность предмета становится непосредственно воспринимае-
мым явлением. Одним словом — хотя здесь мы имеем дело только
с самыми абстрактными элементами формы, — сущностная струк-
тура эстетических представлений, лежащая в их основе специфи-
ческая противоречивость выступают здесь с полной очевидностью.
Отмеченное Хемстерхёйсом своеобразие эстетических пережива-
ний позволяет выделить еще одну, дополнительную сторону этой
взаимосвязи — единство многообразия, причем не в одном лишь
теоретически выработанном синтезе, но и как непосредственное,
не только подвижное, но и движущее совпадение противоречивых
элементов.
Подобного рода материальное и структурное содержание, обус-
ловливающее и вызывающее такое эстетическое переживание
объекта, ведет к тому, что это переживание становится не отправ-
ным пунктом для последующих размышлений, а непосредствен-
ным завершенным целостным образованием, носящим эвокатив-
ный характер; таким образом, происходит отделение области эсте-
тического от сферы обыденных мыслей и чувствований, а также
«отграничение эстетического отражения от научного отражения и
исследования действительности. Как содержание, так и форма
однозначно указывают здесь на развитие самосознания в том дво-
яком смысле, о котором шла речь выше. Это самосознание может
развиваться лишь постольку, поскольку оно создает мир объек-
тов, в котором окружающий мир проявляется как мир людей, как
мир, где человек не чувствует себя чужим, который служит для
выражения глубинной сути существующей независимо от него
действительности и вместе с тем является космосом, созданным
самим человеком и соразмерным с его сущностью. Чтобы яснее
представить себе сущность этого явления, мы, разумеется, долж-
ны были понять, какие категории в данном случае считать реша-
ющими. Сошлемся вновь на изложенное выше [с. 245]: с одной
•стороны, на невозможность отделить действующие принципы от-
ражения от реальных объектов и конституировать сведенное в
•систему отражение как собственно эстетический объект, а с дру-
гой стороны — что тесно связано со сказанным выше, — на «вне-
мирность» таких объектов и вызванных ими переживаний. Только
учитывая взаимосвязь всех этих оговорок, можно понять, в какой
мере и каким образом эстетическое здесь начинает отделяться от
повседневного и приобретать самостоятельность, а также в чем
состоят непреодолимые преграды такого отделения в этой сфере,
то есть почему мы, даже если отделение эстетического от повсе-
247
дневной практики уже произошло, находимся еще только в пред-
дверии эстетического.
Исчерпывающее определение проблемы «преддверия» можно
дать только в предлагаемом ниже анализе орнаментики, где такие
абстрактные принципы организации эстетического, как ритм, сим-
метрия и пропорция, становятся решающими, упорядочивающи-
ми и конструктивными категориями завершенных эстетических
произведений. Однако прежде чем перейти к анализу этой про-
блематики, мы должны рассмотреть проблему пропорционально-
сти с другой точки зрения, о которой говорилось выше, а именно
как абстрактную категорию, как абстрактный принцип упорядо-
чения органической жизни в художественном отражении. Как мы
знаем, этот вопрос затрагивался уже античными философами; его
теоретический анализ и применение в художественной практике^
достигли своего расцвета в эпоху Возрождения, когда научное*
постижение действительности как с материальной, так* и с лич-
ностной точки зрения было теснейшим образом связано с художе-
ственным постижением. Разумеется, эта тенденция намного более*
всеобъемлюща и не ограничивается только вопросом о правиль-
ных пропорциях. Однако большинство возникших на этой основе
исследований (анатомия, перспектива и т. д.) сводится — иногда
даже в обход собственно науки— исключительно к анализу про-
блем художественного воплощения в изобразительных искусствах^
то есть ограничивается задачей поиска изобразительных средству
что позволяет и нам остановиться здесь на рассмотрении одних
лишь проблем пропорциональности, которые возникают раньше
других и одновременно с отмеченными проблемами; именно так и-
проявляются специфические противоречия абстрактных элемен-
тов формы.
Самая известная и важная из возникающих в этом контексте
проблем — это проблема так называемого золотого сечения. Но
именно с точки зрения нашей проблематики — вследствие ее
чрезмерно обобщенного характера — было бы бессмысленно про-
должать дискуссию о правильности или ошибочности этой тео-
рии. Тем более, что по этим вопросам подробно писали такие ве-
ликие теоретики искусства, как Леонардо да Винчи и Дюрер,,
обосновывая значение пропорциональности для искусства в целом.
Золотое сечение теснейшим образом связано с проблематикой-
прекрасного, с прекрасным изображением прекрасного человека^
а в исследованиях этих великих художников дано описание важ-
нейших пропорций для различных типов изображаемых людей.
Ставят вопрос о том, может ли существенное (с изобразительной
точки зрения) в человеке получить свое выражение посредством
соблюдения правильных пропорций его внешнего вида? Все изме-
рения, сопоставления и т. д., проводившиеся крупнейшими худож-
никами-мыслителями, имели целью решение именно этой задачи.'
При этом наиболее интересными для нас оказываются неразреши-
мые противоречия, возникающие в теоретических трудах
248
Альбрехта Дюрера. С одной стороны, он выказывает глубочайшее
презрение к обычным ремесленникам, которые не знают искус-
ства измерения и ставят себе это в заслугу, подходя к изображе-
нию человека чисто эмпирически. Дюрер считает, что, пока не
установлены и не обоснованы правильные пропорции человече-
ского тела, не может быть создано его истинно художественное
изображение. С другой стороны, одного этого недостаточно для
того, чтобы могло возникнуть настоящее искусство. «Но мне ка-
жется невозможным, — пишет Дюрер, — чтобы человек считал,
что он умеет изобразить самые лучшие меры и соотношения в
человеке» 56. И далее: «Но я не могу дать той достойной мерки,
которая создает красоту» 57.
Таким образом, поиски и определение правильных пропорций
необходимы художнику, однако это только начало того пути, ко-
торый ведет к созданию истинного произведения искусства; и
истинные критерии последнего находятся по ту сторону — даже
и совершенной самой по себе — пропорции, что отнюдь не умаля-
ет ее значения. Позиция Дюрера, на первый взгляд кажущаяся
противоречивой, вскрывает важнейшую связь между глубинной
художественной формой и истинной структурой объективной дей-
ствительности. Точная, четко размеренная симметрия и пропор-
циональность царят там, где действуют чисто физические законы:
прежде всего в мире кристаллов. Поскольку жизнь выступает в
действительности как форма организации материи — и тем по-
следовательнее, чем выше она организована, — действие физиче-
ских законов не прекращается на всех уровнях ее развития, одна-
ко они становятся составными частями сложных комплексов, в ко-
торых они могут проявляться лишь в некотором приблия^ении.
Это положение, выступающее в форме неразрешимого противоре-
чия, снова и снова возникает в ходе рассуждений Дюрера; про-
порциональность становится активным моментом теоретически
неразрешимого противоречия, которое — в соответствии с приве-
денным выше определением Маркса [с. 239] — в силу своего про-
тиворечивого характера обеспечивает художественную мобиль-
ность живого организма в зрительном представлении.
Достоверность упомянутых здесь видов художественного отра-
жения одновременно указывает и на их антропоморфический ха-
рактер. Чтобы осветить эту сторону вопроса, представляется необ-
ходимым сделать еще ряд замечаний о том, как эта противоречи-
вость вырая^ается в архитектуре. Ситуация в архитектуре отчасти
близка вышеописанной проблематике пропорциональности пред-
метов, произведенных человеком для потребления в повседневной
жизни, поскольку в данном случае речь идет не о создании свое-
образных отраженных образов, а о самом предмете потребления,
который должен — что в практическом и в теоретическом отноше-
ниях неразрывно связано с его применением — выступать и как
форма отражения, имеющая художественно эвокативный харак-
тер. Во всяком случае, здесь мы видим серьезное различие —
249
причины которого будут рассмотрены в одной из следующих
глав, — состоящее в том, что формы отражения, относящиеся к
предметам и произведениям архитектуры, намного более разно-
сторонни и конкретны и не могут считаться «внемирными». Так
следует еще раз подчеркнуть, что интересующая нас в этой связи
проблематика — это исключительно проблематика пропорциональ-
ности. В архитектуре — в общем и целом — не возникает проблем
симметрии, вопроса о «правом» и «левом»; мы уже приводили со-
ображения Вёльфлина по этому вопросу [с. 236]. Исключение про-
блемы симметрии означает для нас только то, что противоречия
пропорции выступают здесь в своем чистом виде. Но это показы-
вает также, что противоречивость в данном случае кроется не
только в диалектике отражения органической жизни, но она зна-
чима и для неорганического мира, поскольку этот последний
находится в сложной и тесной взаимосвязи с общественным быти-
ем человека. То противоречие, которое до настоящего 'времени
считалось не более чем противоречием органики и неорганикиг
распространяется на художественное изображение вообще, неза-
висимо от того, является ли материал или предмет органическим
или неорганическим, исходя из того, что его объект — это и есть
«мир» человека, то есть произведение не «внемирно».
Интересующий нас вопрос около ста лет назад рассматривал-
ся Якобом Буркхардтом при описании храма в Пестуме: «Возмож-
но, внимательный наблюдатель посмотрит в профиль на отдель-
ные стороны и заметит, что во всем строении нет ни одной мате-
матически строгой прямой. Ему сразу придет в голову, что или
замеры были произведены неправильно, или произошло землетря-
сение и т. д. Лишь тот, кто, например, посмотрит на фасад под
прямым углом, так, что он увидит укороченные главные карнизы
на торце, заметит отклонения на несколько градусов, какие мож-
но установить только с умыслом. Нечто подобное мы наблюдаем
и в других случаях. Все это — выражение одного и того же чув-
ства, которое требовало утолщения колонн книзу и стремилось к
тому, чтобы биение пульса внутренней жизни обнаруживалось
повсюду в зримых математических формах»58. Буркхардт спра-
ведливо обращает внимание на наличие особого художественного
умысла и в отклонении от математически точных пропорций. Это
особенно важно потому, что в новое время попытки избавиться от
пропорциональности становятся довольно частыми. Мы отмечаем
их уже в полемике Бэкона против Дюрера59; в свою очередь эмпи-
рики, занимающиеся психологией, приписывали эти неточности
недостоверности нашего восприятия мира60. Согласно первой точ-
ке зрения, первостепенное значение имеет исторически обуслов-
ленный вкус. Разумеется, можно считать установленным, что раз^
витие чисто живописных воззрений влечет за собой тенденцию к
вытеснению пропорциональности, к оттеснению ее на задний
план. Сторонники второй точки зрения ограничивают проблему
ссылками на чисто психологические особенности восприятия, о5-
250
щезначимость которых весьма проблематична. Только правильная
исходная позиция, какую мы видим, например, у Буркхардта,
позволяет обобщить проблему и выявить антропоморфирующий
характер эстетического отражения, так как он придерживается точ-
ки зрения диалектического единства пропорциональности и ее сня-
тия; тот факт, что он приходит к этим выводам неосознанно, для
нас несуществен. И Буркхардт, и многие другие исследователи
(Верманн и др.) неоднократно возвращаются к этой проблемати-
ке и дают ей сходную интерпретацию. Приведем еще одну цита-
ту из «Истории культуры Греции», поскольку именно здесь Бурк-
хардт дает более обобщенный анализ этой проблемы с эстетиче-
ской точки зрения. После того как он исчерпывающе описал
целый ряд взаимосвязей и закономерностей в архитектуре грече-
ского храма —уделяя особое внимание строгой пропорционально-
сти, параллелям и повторам, — он приходит к следующему заклю-
чению: «Мы можем установить, в какой мере следует считать
открытые Пенроузом тонкости осознанными и намеренными. Если
действительно по оптическим причинам колонны периптера име-
ют небольшой наклон внутрь, угловые колонны несколько усиле-
ны, а интервалы между ними немного сужены, горизонтальная
же балка слегка утолщена кверху, то, попытавшись образно опре-
делить тончайшее искусство греческой метрики, мы не найдем
ничего более точно передающего его своеобразие, чем изречение
астролога из второй части «Фауста» Гёте:
Звучит триглиф, звучат колонны, свод,
И дивный храм как будто весь поет.
В светских зданиях мы сталкиваемся с более примитивным
употреблением этих форм» 61.
Для нас упоминание о тонкостях метрики здесь особенно важ-
но: тем самым Буркхардт распространяет исследуемое нами про-
тиворечие и на ритмику и устанавливает связь между проблема-
тикой пропорциональности и рассмотренной выше проблематикой
симметрии в их совокупности. Все эти абстрактные формы в сво-
ем художественном воплощении будут иметь то общее, что они
могут давать полное художественное представление о своем пред-
мете только тогда, когда их абсолютный характер снимается, и
они становятся лишь отдельными моментами противоречия, лежа-
щего в основе художественного произведения и различающегося
в зависимости от жанра и вида искусства.
Здесь обобщение делается по важному признаку эстетического
отражения действительности — по его необходимо антропоморфи-
ческому характеру. Хотя мир сам по себе и как таковой доступен
эстетическому отображению и формированию, однако его в-себе-
бытие неразрывно связано с человеком, с возникающими и раз-
вивающимися в обществе потребностями его как представителя
рода.
251
В общем виде проблема пропорциональности может быть
сформулирована следующим образом: безусловная значимость
пропорциональности и ее приближенная, скрытая, имплицитна
проявляющаяся сущность выступают как единое целое, и в этом
нам видится не только правильное отражение существенных свя-
зей объективной действительности, но и элементарная жизненная
потребность человека. Художественное воспроизведение пропор-
ционального мира (или такого мира, в котором отклонения от
пропорциональности воспринимаются как искажения), помимо
своей отображающей истинности, но неотделимо от нее, отчасти
включено в свойственное человеку представление о мире, сораз-
мерном с его требованиями, или о мире, который он стремится
преобразовать для достижения такой соразмерности. Разумеется,
речь идет о человеке вообще, о представителе человеческого рода,
а не об индивиде X или 7. Принцип антропоморфизма эстетичен
ского отражения не имеет ничего общего с субъективизмом.
Безусловно, субъективизм художника — необходимый посредую-
щий момент в таком отражении, но при этом то, что относится к
области частно-субъективных ощущений, не может обрести все-
общности, имеющей художественио-эвокативный характер, но
неизбежно выльется в убогую художественную форму. С другой
стороны, общечеловеческое, общеродовое не может быть обобще-
но искусством как отраженным посредником на уровне чистой
абстракции. Принцип общечеловеческого может стать плодотвор-
ным для искусства только в его исторической, социальной и инди-
видуальной конкретности: он характеризуется прежде всего своей
партийной принадлежностью, отнесенностью к тому или иному
народу и тому или иному классу, который на определенном этапе-
исторического развития может стать выразителем чаяний всега
человечества.
Нам пришлось снова забежать вперед, обратившись к области
конкретного художественного отражения действительности, чтобы'
иметь возможность ясно представить антропоморфирующий харак-
тер любого эстетического отражения внешнего и внутреннего мира
человека. Но путь назад, к отражению пропорциональности в опи-
санном выше смысле, не так уж долог. Он приводит нас к основной
проблеме эстетического, к проблеме генезиса мира, который мы
признаем своим и который неразрывно связан с нами как в целом,
так и в отдельных деталях; и именно потому, что этот мир — отра-
жая действительность или ее отдельные моменты—основывается на
упомянутом принципе, он может и должен иметь эвокативный
характер. Дилемма Дюрера, неразрешимая в плане поисков зако-
нодательства для живописи, выражает — и это плодотворно для
художественной практики — элементарный основной факт чело-
веческой жизни, тот факт, что она является противоречивым
единством упорядоченного и спонтанного, что ее закономерность
может проявляться только как основа, как упорядочивающая в
движущая сила спонтанности, охватывающей все стороны жизни,
252
включая сферу индивидуального, что она может иметь действи-
тельную значимость только как модифицирующая, конкретизи-
рующая тенденция, способствующая появлению все новых и но-
вых отображений в радиусе своего действия. Это противоречивое,
но вместе с тем и тесное взаимодействие тенденций, взаимоис-
ключающих при метафизическом подходе, и составляет основной
принцип искусства, поскольку в нем заключается основной прин-
цип человеческой (общественной) жизни. Но коль скоро возни-
кающее в ходе исторического развития, зачастую господствующее'
метафизическое мышление ставит эту противоположность во главу
угла, коль скоро мысли и чувства повседневности протестуют чаще
всего безуспешно против такого насилия над жизнью и принуж-
дены ему подчиняться, эстетическое отражение действительности
создает такой образ подлинной жизни, где освоение внешнего
мира происходит в соответствии с внутренними потребностями че-
ловеческого существования.
Было бы ошибкой считать, что пропорциональность является
относительно локальной, специфической категорией изобразитель-
ного искусства. Здесь она выступает в присущей ей, исходной
форме, тогда как то, что можно подвергнуть точному измерению,
оказывается в диалектической зависимости в первую очередь от
органики человеческого тела. В измененной — но не случайным
образом — форме эта проблема играет важную роль во всех видах
искусств. Аристотель в своей «Поэтике» посвящает этому вопро-
су целую главу62. Естественно, для различий между искусствами
характерно, что, например, структура драмы требует вполне опре-
деленных пропорций, которые можно регулировать, лишь исходя
из более широкого контекста (Аристотель рекомендует в этом
случае измерять временную протяженность трагедии с помощью-
водяных часов), выбор же конкретной формы выражения — в
этих рамках — должен предоставляться сочинителю. (В силу сво-
ей специфики киноискусство позволяет намного точнее устано-
вить соразмерность пропорций как целого, так и его составных
частей, чем чисто словесное искусство, например драматургия.)-
Проблема пропорции, затрагивающая, естественно, не только про-
изведение в целом, но и соотношения его частей, на первый
взгляд кажется здесь более расплывчатой, чем в изобразительном
искусстве; правда, при конкретном анализе получается, что худо-
жественное решение дилеммы Дюрера в этом случае является
одной из основных задач композиции. Но поскольку здесь мы так-
же имеем дело с одной из форм отражения действительности, та
за всеми проблемами пропорциональности и композиции скрыва-
ются проблемы мировоззренческого характера: проблема творца
и проблема общества, для которого и в котором создаются произ-
ведения.
Таким образом, нас уже не должно удивлять то, что Аристо-
тель ставит проблему пропорции в центр своей этики. Он призна-
ет существование поступков и поведения, которые являются
253
бесспорно предосудительными; однако там, где речь заходит о
превращении добродетели в свою противоположность, возникает
лроблема середины, которую Аристотель в этом контексте рас-
сматривает как «нечто чрезвычайное», то есть ни в коем случае
не считает ее механическим разделением пополам; преступление
юн считает или «недостижением» должного, или «выходом за его
пределы». Методологически отправным пунктом его этики высту-
пает проблема правильных пропорций 63.
Возражение, что здесь пропорция — всего лишь метафора,
было бы поверхностным. На самом деле пропорция в данном слу-
чае означает намного больше. Там, где прекрасное выступает
как центральная категория и в жизни, и в искусстве, должна воз-
никать следующая связь: ни в жизни, ни в искусстве прекрасное
не может основываться на относительных, преходящих эстетиче-
ских или этических ценностях. Если это положение не трансцен-
дентно (как, например, у Плотина), если оно не только скрытое
отображение, отблеск чего-то потустороннего, то тогда здесь пред-
ставлена имманентная человеку и вытекающая из его свойства
быть человеком гармония земных, посюсторонних связей; а связи
эти могут отражать и становление зримой гармонии его физиче-
ской организации, и выявление гармонии его духовных и нрав-
ственных способностей. Основной, определяющий принцип один
и тот же — в конечном счете это и есть принцип пропорциональ-
ности. Соответственно этот вопрос выходит далеко за рамки про-
блем абстрактных элементов формы и касается — уже с философ-
ской точки зрения — принципиальных вопросов этики и эстетики.
Наши рассуждения показывают, что исчерпывающее описание
данной проблемы пока еще невозможно; даже конкретное пони-
мание вытекающей отсюда противоречивости предполагает обзор
многочисленных важнейших областей эстетики, и в первую оче-
редь тех, которые анализируют собственно отражения реальной
объективной действительности. Предварительно отметим, что мес-
то прекрасного в эстетике — предмет острой дискуссии, а ответ на
выше сформулированный вопрос тесно связан с определением ее
жеста в системе. Основные значимые в истории философии и ис-
кусства системы ставят понятие прекрасного в центр своей
эстетики; при этом мало что меняется, если, как это делают мно-
гие модернисты, выделять особую науку — «искусствознание»,
противопоставляя ее эстетике в традиционном смысле. Автор этих
строк вслед за Чернышевским считает проблематику прекрасного
специальным разделом эстетики, а прекрасное — своеобразной
формой эстетического отражения, которая возможна только при
наличии особо благоприятных конкретных общественно-исто-
рических условий64.
Какой бы ответ ни был дан на этот вопрос на более высокой
ступени эстетических обобщений, ясно, что — сознательно или
бессознательно — здесь подтверждается антропоморфическая сущ-
ность эстетического отражения. Эта тенденция имеет элемен-
254
тарные проявления. Она, как мы видели, даже в своих абстракт-
ных проявлениях представляет собой возможно точное воспроиз-
ведение объективной действительности. Однако хотя максималь-
но возможное приближение к этому идеалу является осознанной
целью всякого нормального художественного творчества, крите-
рий эстетической истинности не обязательно совпадает со сте-
пенью этого приближения. Здесь мы не имеем возможности оста-
новиться на сложной проблеме стиля, которая тесно связана с
этим приближением. Следует только еще раз указать на то, что
антропоморфирующий характер эстетического отражения не-
является чисто субъективным; он в большой мере обусловлен
своим объектом, а именно обществом, которое находится в отно-
шениях «обмена веществ» с природой и воздействие которого»
опосредовано особенностями обусловленных уровнем его разви-
тия производственных отношений. Отражение действительности
предполагает также верность природе, но последний критерий
эстетической достоверности основывается на социально обуслов-
ленных взаимоотношениях с ней. Точный анализ всех рассмот-
ренных нами ранее противоречий осуществлялся именно на такой
основе. Но поскольку эта проблема обсуждается здесь только в
самых общих чертах и никоим образом не может быть исчерпана,,
приведем один достаточно сложный с содержательной точки зре-
ния пример, где интересующий нас аспект проблемы выступает с
полной ясностью. Польский историк литературы Ян Котт, анали-
зируя творчество Свифта, указывает на заблуждение, которое тог
«разделял со всеми представителями своей эпохи, полагавшими,,
что можно сохранить неизменными все свойства своего тела,
если пропорционально изменять его размеры» 65. Котт показыва-
ет, ссылаясь на Мейерсона, что в стране великанов осы не могли
бы летать, если бы они изменили свои размеры при тех же про-
порциях, а лилипуты не могли бы пить, так как страдали бы от
такого явления, как капиллярность сосудистой системы, и т. д. Но
меняет ли что-нибудь в художественной правде «Гулливера» при-
знание того факта, что Свифт под влиняием предрассудков своеп>
времени принял ошибочную точку зрения относительно объектив-
но существующей действительности? Естественно, напрашивается
отрицательный ответ. Однако для нас интереснее и важнее причи-
на этого — социальная правда сатиры Свифта, в которой именно
неизменность сущности (то есть в том числе и пропорции в ее
нематериальном проявлении) в резко различном окружении
составляет основу глубокого комизма. Этот антропоморфический
характер произведения Свифта, не субъективный и не произволь-
ный, а утверждающий определенное состояние мира в решающую
эпоху развития человечества, в его отражении действительности
не грешит против художественной правды — вопреки обусловлен-
ному временем недостаточному пониманию в-себе-сущей реаль-
ности, — напротив, это обстоятельство дает его произведению
прочное эмоциональное и рациональное основание. Котт цитиру-
255
•ет письмо Свифта, из которого явствует осознанность им поисков
художественной правды: «Одни и те же преступления и безум-
ства царят повсюду, во всех цивилизованных странах Европы.
Автор, который писал бы только для одного города, одной про-
винции, одного королевства или только для одного столетия, не
заслуживал бы ни комментариев, ни того, чтобы его читали» 66.
Правда, было бы опасно применять результаты этого анализа
непосредственно к изобразительному искусству. Ибо визуаль-
ность в литературе выражена еще неопределеннее, чем в изобра-
зительном искусстве (причем в эпических и лирических произ-
ведениях она слабее, чем в драматургии). Поэтому Свифт — прав-
да, лишь в силу сатирического и фантастического замысла своего
произведения — может изменять размеры, не меняя пропорций.
Мы уже отметили социальные причины (они коренятся в антро-
поморфическом характере искусства) этой возможности. Подоб-
ные причины, естественно, будут действовать и в изобрази-
тельном искусстве, но там значительно сужено пространство, в
рамках которого возможны отклонения от взаимозависимости
размера и пропорции, наличествующей в самой предметности
•объективной действительности. Чем проще по своей структуре
объект эстетического восприятия, тем шире эти возможности (до-
статочно сравнить египетские пирамиды с более поздней, расчле-
ненной и структурированной греческой архитектурой). Причину
этого понять нетрудно: уже в чисто геометрической по характеру
орнаментике увеличение размеров означает увеличение проме-
жутков, и, таким образом, эти последние при увеличении стано-
вятся бесполезными, пустыми плоскостями, нарушая ритм и т. д.
Тем самым, изменение размеров неизбежно приводило к изме-
нению исходной художественной формы в целом и соответствен-
но также к нарушению пропорций. Естественно, эти последствия
тем более ощутимы, чем менее «виемирно» художественное пред-
ставление. Но вместе с тем само собой разумеется, что здесь речь
идет именно о свободном пространстве, а не о жесткой системе
координат. Уже само существование наряду с мелкой пластикой
монументальной скульптуры, превышающей размеры человече-
ского тела, указывает на наличие в данном случае именно про-
странственной свободы. При этом необходимо учесть, что сами по
себе движущие мотивы творчества требуют или предполагают
предпочтение тех или иных размеров. Живопись допускает уве-
личение или уменьшение размеров картины с большей легкостью
уже потому, что зритель — в определенных пределах — инстинк-
тивно воспринимает в каждой картине нормальные человеческие
размеры. Конечно, мы здесь отнюдь не пытаемся дать пусть даже
самую общую характеристику различных типов пространств.
Заметим только, что в рамках действующих в разных видах и фор-
мах искусства тенденций восприятие данного пространства как
сужающегося или расширяющегося (иногда вплоть до выхода за
рамки собственно эстетического) оказывается социально-истори-
256
чески обусловленным. В те периоды, когда тенденция к антропо-
морфизации в искусстве усиливается, когда прекрасное — в выше-
указанном смысле — предстает основополагающей категорией
художественной практики, связь между размерами и пропорцией
становится теснее; именно так обстоит дело в классическом грече-
ском искусстве и в искусстве Возрождения. Когда же — по раз-
личным, часто противоположным причинам социального поряд-
ка — господствующей оказывается тенденция к траисцендирова-
нию искусства, отказу от его отнесенности к человеку, эта связь
может быть полностью утрачена; так происходило в отдельные
периоды в развитии искусства Востока, где этому способствовала
его религиозно-теологическая ориентация, а также и в современ-
ной архитектуре, которая развивается под значительным давлени-
ем экономики; достаточно сослаться, например, на проблему зе-
мельной ренты в больших городах.
3. ОРНАМЕНТИКА
Выше мы рассмотрели три абстрактные формы отражения —
ритм, симметрию и пропорцию — как отдельные факторы в их
диалектической взаимосвязи в различных видах изобразительных
искусств, стремясь выявить абстрактный характер этих форм и их
сущность как способов отражения действительности. Источник
диалектических противоречий мы видим здесь в том, что каждая
из таких форм содержит тенденцию к превращению в организую-
щий принцип отражения действительности, и в первую очередь
эстетической действительности. Поскольку — и это составит пред-
мет обсуждения нижеследующих глав — закономерности конкрет-
ного и полного образного отражения действительности не только
более богаты и всеобъемлющи, чем абстрактные законы, но и, в
силу самой сущности отражаемой действительности, они стремят-
ся выявить другие, противоположные тенденции, постольку воз-
никают те противоречия, которые мы уже рассматривали выше
на отдельных примерах. Однако эти противоречия носят, как мы
отмечали, диалектический характер, то есть противоречивость
становится плодотворным движущим принципом художественно-
го творчества.
Теперь мы должны проанализировать вышеизложенное с двух
точек зрения. Во-первых, следует показать, что абстрактные фор-
мы отражения способны сами по себе конституировать эстетиче-
ские образы определенного типа; отсюда и вытекает проблема
орнаментики, к которой мы обращаемся. Во-вторых, эстетические
закономерности, выявляющиеся в орнаментике, оказывают обрат-
ное воздействие на отражение конкретной и реальной действи-
тельности. При этом возникают диалектические зависимости, вы-
ходящие за рамки противоречий, затрагивающих отдельные взаи-
мосвязи и частично уже рассмотренных нами ранее. Эти диалек-
тические зависимости должны стать неотъемлемой частью любого
17 Заказ № 683
257
эстетического отображения. Наши исследования орнаментики*
завершатся анализом этой ситуации, а затем мы сможем перейти*
к анализу миметического художественного преображения дейст-
вительности. Мы убедимся, что некоторые исторические факты,,
на первый взгляд противоречащие нашей точке зрения, на самом
деле подтверждают ее.
Соответственно саму орнаментику можно определить как зам-
кнутое в себе, обладающее эвокативными свойствами эстетическое-
образование, конституирующими элементами которого являются
такие абстрактные формы отражения, как ритм, симметрия, про-
порция и т. д. как таковые, причем конкретно-содержатель-
ные формы отражения, по-видимому, исключаются из процесса
образования орнаментального комплекса. Естественно, это опре-
деление не следует понимать метафизически жестко. Известно,,
что уже в своих классических проявлениях орнаментика неодно-
кратно прибегала к отражению реальных предметов объективной4
действительности (лотос, акант и т. п.), не говоря уже о расти-
тельных и животных мотивах восточных ковров, украшениях,
готических храмов и т. д. Это, естественно, означает — о чем мы-
будем говорить подробно, — что границы между чисто орнамен-
тальным и изобразительным искусством (конкретно и содержа-
тельно отражающим действительность) оказываются размытыми*
многочисленные переходные формы возникают не только в силу
исторической, но и в силу эстетической необходимости.
Чем труднее дать точное определение орнаментики в отдель-
ных случаях, тем точнее можно установить ее границы теорети-
чески. Эти последние возникают именно в силу господства аб-
страктного отражения. Там же, где предметы конкретного и>
реального внешнего мира включаются в эстетическую систему,,
возникают следующие вопросы: во-первых, происходит ли репро-
дуцирование таких объектов изначально в соответствии с их соб-
ственной внутренней структурой или они трансформируются в-
орнаменты как абстрактные формы, то есть преодолевают ли они
двумерность орнаментального пространства благодаря своей глу^
бине или их изначальная предметность редуцируется до необхо-
димого здесь абстрактного указания на существо предмета; во-
вторых, могут ли реальные предметы, которые в действительно-
сти и в силу этого в своем конкретном отражении существуют
неразрывно с окружающим их реальным миром, быть представ-
лены в художественном преображении как части таких сочетаний
или их следует брать в отрыве от системы таких отношений и
превращать в абстрактно-декоративные моменты абстрактных,
взаимосвязей? Обе точки зрения выступают лишь как две сторо-
ны одной проблемы: орнаментика «внемирна» именно потому, что-
она сознательно игнорирует предметность и взаимосвязи реаль-
ного мира, заменяя их абстрактными конструкциями преимуще-
ственно геометрического характера. Ниже мы подробно остано-
вимся на эстетических и мировоззренческих основаниях такого
258
положения дел; здесь же необходимо только вкратце осветить
основополагающие моменты, чтобы подвести базу под наши даль-
нейшие рассуждения. Иллюстрируя наши выводы еще раз, при-
ведем начало стихотворения Стефана Георге «Ковер», в котором
описанный способ создания абстрактных связей изображается
эмоционально-поэтически:
Сплелись тут люди, звери и растенья,
Узором шелка связаны навечно,
Здесь синие серпы — звезд белых украшенье,
Здесь все застыло в танце бесконечном.
Суровость линий в сказочно-красивом
Сплетении, изгибе, повороте.
Кто разгадает тайну их извива...
(Перев. А. Айхенвалъд)
Переходя к рассмотрению — разумеется, исключительно с фи-
лософской точки зрения — генезиса орнаментики, мы можем еще
раз убедиться в правильности нашего утверждения о том, что
художественная практика человечества не может иметь единого
источника, и прежде всего этим источником не может быть эсте-
тическое как таковое; в большой мере она является результатом
постепенного, исторически последовательно развивающегося син-
теза. Прежде всего необходимо выделить здесь из целого ряда
других действенных тенденций одну элементарную тенденцию,
истоки которой прослеживаются, пожалуй, уже в мире живот-
ных, где она, однако, выступает совершенно независимой от ис-
кусства; речь идет об удовольствии, доставляемом украшением.
Если взять эту тенденцию в широком смысле, то мы увидим, что
она распространяется как на декорирование тела, так и на деко-
рирование орудий труда, как на внутренние, так и на внешние
украшения, используемые в архитектуре. Мы вскоре увидим, что
это обобщение охватывает область, в пределах которой различия
по меньшей мере так же важны, как и общие черты. Общей
является неразрывная связь с реальным объектом, будь то сам
человек или используемый им полезный предмет, в противопо-
ложность собственно изобразительным искусствам, где матери-
альный субстрат, помимо своей эстетически-эвокативной функ-
ции, не имеет никакого отношения к жизни человека (например,
картина является просто раскрашенным полотном и т. п.). Одна-
ко в рамках этой общности качественное различие таких объек-
тов, функционально значимое для общественной жизни челове-
ка, создает и качественное различие эстетических возможностей,
способностей к развитию и т. д.
Прежде всего рассмотрим самодекорирование человека. Здесь
мы, разумеется, не хотим вступать в дискуссию с археологами
или этнографами о том, предшествовало ли по времени украше-
ние самих себя обязательно и во всех случаях украшению орудий
17*
259
труда. Следуя за Герпесом67 и другими исследователями, мы счи-
таем, что в общем это происходило именно так. Здесь на более
высоком уровне возникает проблема, интересовавшая нас уже при
рассмотрении ритма, а именно: действительно ли, и если да, то
в какой мере, можно говорить в данном случае о пережитке
животного состояния. Дарвин приводит разнообразный и захва-
тывающий в своих деталях материал в пользу утвердительного
ответа на этот вопрос. Вместе с тем при ближайшем рассмотре-
нии аргументы Дарвина и дарвинистов оказываются неубеди-
тельными. Конечно, никто не оспаривает того факта, что стремле-
ние украсить себя как вторичная потребность полового характера
присуще и человеку. Однако сами способы существования челове-
ка и животного столь качественно различны за счет возникновения
труда и общества, что даже в таких примитивных формах дея-
тельности возникают качественно новые проявления, и для реше-
ния данного вопроса не представляется целесообразным выводить
человеческое, в особенности в его отношении к эстетическому,
непосредственно из животного начала. Вообще говоря, при этом
речь идет об отношении отдельного индивида — в нашем случае
обладающего украшением — ко всему роду. Маркс дал точное
описание этого отношения, естественно, не останавливаясь спе-
циально на рассматриваемой нами проблеме: «Животное нецо-
ередственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно не
отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть эта жизне-
деятельность. Человек же делает самое свою жизнедеятельность
предметом своей воли и своего сознания. Его жизнедеятельность—
сознательная. Это не есть такая определенность, с которой он
непосредственно сливается воедино. Сознательная жизнедеятель-
ность непосредственно отличает человека от животной жизнедея-
тельности. Именно лишь в силу этого он есть родовое существо...
Практическое созидание предметного мира, переработка неорга-
нической природы есть самоутверждение человека как сознатель-
ного — родового существа, т. е. такого существа, которое относит-
ся к роду как к своей собственной сущности, или к самому себе
как к родовому существу. Животное, правда, тоже производит.
Оно строит себе гнездо или жилище, как это делают пчела, бобр,
муравей и т. д. Но животное производит лишь то, в чем непосред-
етвенно нуждается оно само или его детеныш; оно производит
односторонне, тогда как человек производит универсально; оно
производит лишь под властью непосредственной физической
потребности, между тем как человек производит даже будучи
свободен от физической потребности и в истинном смысле слова
только тогда и производит, когда он свободен от нее; животное
производит только самого себя, тогда как человек воспроизводит
всю природу; продукт животного непосредственным образом
связан с его физическим организмом, тогда как человек сво-
бодно противостоит своему продукту. Животное строит только
сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно
26Û
принадлежит, тогда как человек умеет производить по меркам лю-
бого вида и всюду он умеет прилагать к предмету присущую
мерку; в силу этого человек строит также и по законам кра-
соты» 68.
Исходя из этого, нетрудно сделать и некоторые выводы по
интересующему нас вопросу. Во-первых, украшения даются жи-
вотному от природы, от рождения; оно не может их улучшить или
ухудшить. Напротив, человеку от природы не дано никаких укра-
шений, он украшает себя сам; декорирование — это его деятель-
ность, результат его труда. Некритичность подхода Дарвина
проявляется в том, что он упускает из виду это решающее обстоя-
тельство. Поэтому его материал, относящийся к генезису декори-
рования — сам по себе очень богатый, — неубедителен. Это выра-
жается, во-первых, в том, что живые существа, орнаментально
красивые — с точки зрения человека, — как правило, относятся к
низшим видам (растения, бабочки, рыбы, в крайнем случае пти-
цы): «генеалогическая линия» прерывается как раз там, где
должен начаться генезис эстетического. Из этого следует, во-вто-
рых, что способ украшать себя, применяемый отдельным челове-
ком, будь то татуировка или «накладное» украшение, никак не
вытекает из его природных физиологических свойств, а является
продуктом социальных связей и социальной деятельности. Носит
ли человек на себе в качестве украшения знак принадлежности
к данному сообществу, или украшение указывает на его положе-
ние в этом сообществе и т. д., во всех случаях способ самодекори-
рования не является прирожденным, а имеет социальное проис-
хождение. В-третьих, это способствует ослаблению непосредствен-
ной связи декорирования и сексуальности; или же соответствен-
но эта связь становится намного более опосредованной. Дарвин
убедительно показал наличие этой связи у животных, у которых
«украшение» имеет вторичный сексуальный характер. Некоторые
современные психологи — не будучи дарвинистами — склонны
считать первобытный период каноническим этапом всевластия
сексуальности и возводить к этим временам все сексуальные про-
блемы людей эпохи более высокоразвитых общественных форма-
ций. Однако достаточно сослаться на Энгельса, который на осно-
вании наблюдения животных сообществ и их распада или по
меньшей мере ослабления из-за ревности между самцами пока-
зал, ссылаясь на противоположность человеческих и животных
сообществ, что «первобытные люди, выбиравшиеся из животного
состояния, или совсем не знали семьи, или, самое большее, знали
такую, какая не встречается у животных» 69.
Например, первобытному человеку незнакомо чувство ревно-
сти, иначе первобытнообщинное общество не могло бы иметь
прочного, продолжительного характера, а «такое безоружное жи-
вотное, как находящийся в процессе становления» человек, не
могло бы выжить.
Однако при этом мы не стремимся отрицать тот факт, что
261
между стремлением человека украсить себя и его сексуальной
жизнью имеется тесная взаимосвязь. Важно отметить лишь то, что
игнорирует Дарвин: вследствие социального характера жизни
человека многие так сказать «вторичные половые признаки»
оказываются не только продуктом труда (то есть никоим образом
не прирожденными), но и возникают непосредственно на основе
существующих социальных отношений, например власть и поло-
жение в обществе, внешний облик и богатство и т. д. То, что эти
моменты, особенно когда они закрепляются за счет длительной
привычки, приобретают в большей или меньшей степени значение
вторичных половых признаков, есть исторический факт, тем более
что с развитием общества эта область становится все шире. Таким
образом, нельзя искать источник стремления к самодекорирово-
иию у человека в его непосредственной связи с половой жизнью.
Отправным моментом являются — действительные или традицион-
ные и всеобщие — общественные потребности. Плеханов был в
основном прав — хотя часть его этнографического материала, по-
видимому, устарела, — когда писал: «Дикарь первоначально уви-
дел пользу татуировки, а потом уже — гораздо позже — стал
испытывать эстетическое наслаждение при виде татуированной
кожи» 70. При этом совершенно несущественно, на какой ступени
сознания формируется у него это представление о ее полезности и
в какой степени ложным оно является.
Понятийное толкование этих достаточно запутанных связей
осложняется еще и тем, что слово «красота», «прекрасное», при по-
мощи которого часто обозначают и само эстетическое, употребля-
ется во многих сочетаниях, используемых как терминологически,
так и в обиходном языке. Томас Манн в своей легенде об Иоси-
фе иронически анализирует это понятие и находит, что это слово
может иметь все оттенки значения — от скучно-академического до
сексуально-дразнящего. «Сколько обмана, мошенничества, наду-
вательства связано с областью красоты! А почему? Потому что эго
одновременно и в равной мере область любви и желанья, потому
что здесь замешан пол, который определяет понятие красоты».
Здесь Томас Манн очерчивает лишь одну сторону этого понятия,
отвлекаясь от его пространственно-временной многозначности.
Однако у животных прекрасное варьируется чисто биологически,
а у людей — и биологически, и социально. Как бы Дарвин ни стре-
мился доказать близкое родство между чувством прекрасного у
людей и у животных, многочисленные примеры, которые он при-
водит, будучи объективным исследователем, доказывают в основ-
ном нечто прямо противоположное. Он трогательно негодует по
поводу «плохого вкуса» отдельных птиц, пленяющихся звуками и
красками, которые являются для них сексуально привлекатель-
ными71; говоря об определенных запахах, оказывающих то же
воздействие в период токования, он добавляет в порядке извине-
ния, что мы не можем здесь руководствоваться собственным вку-
сом72. Соответственно применение эстетических категорий, даже
262
IB самом широком смысле, к тому, что становится вторичным по-
ловым признаком у животных, оказывается всегда более или
менее случайным.
Но этот момент случайности нельзя также полностью игнори-
ровать в социально-исторически детерминированном развитии
человечества. Поэтому не следует рассматривать «самодекориро-
яание» как заведомо эстетическую категорию, произвольно
исключая из области эстетического все социально-необходимые
■случайности. Это означало бы возврат к представлению об эстетиче-
ском как об «извечно присущем» человеку, априорном или антро-
пологическом принципе. Так поступает, например, Шелтема, ко-
торый исходит из противоположных дарвиновским предпосылок
и считает декорирование тела заведомо относящимся к области
•эстетического, причем даже сложным и высокоразвитым эстетиче-
ским явлением. «Не может быть сомнения в том, что эти украше-
ния являются чистым искусством. Ведь украшения, например
•бусы из раковин, совершенно сознательно считаются «красивы-
ми», и упорядочивание одинаковых по величине бусин, отсутст-
вующее в природе, отнюдь не является продуктом фантазии, а эти
цепочки из раковин воспринимаются как ожерелье, украшающее
шею только благодаря тому, что они подходят к данной предмет-
ной форме, то есть к человеческому телу, как к чистой форме,
давая ему художественную интерпретацию. Бусы обретают красо-
ту, полную собственного смысла только благодаря тому, что цепь
раковин у основания шеи подчеркивает ее округлость и идет
<ей»73. Это, без сомнения, модернизация или по крайней мере
проекция чувств и воззрений, возможных на более поздних стади-
ях развития, на более ранние. Не говоря уже о том, что Шелтема
ее упоминает о — несомненно более древних —- татуировках
и сразу начинает описывать «накладные» украшения, которые
вследствие своей предметной обособленности оказываются на не-
которой дистанции от человеческого тела; соответственно в дан-
ном случае можно с большей легкостью отграничить эстетическое
от просто полезного и приятного, что невозможно в случае татуи-
ровки и других древнейших форм украшений тела. Поэтому
здесь элемент случайности того, что мы будем рассматривать как
эстетическое в собственном смысле слова, является таким же зна-
чительным, как и для природной красоты животных. Не вдаваясь
в детали этнографического порядка, достаточно указать на выби-
вание зубов, искусственное искривление ног, чтобы пояснить, в
чем здесь случайность «прекрасного».
Таким образом, мы ясно видим многозначность этого понятия.
Ибо, исходя из его непосредственного, в высшей степени запутан-
ного значения, все перечисленное следовало бы обозначить как
«прекрасное». Руководствуясь такого рода непосредственностью,
мы не имеем права противопоставлять наше представление о
«красоте» представлениям дикарей и с пренебрежением отбрасы-
вать их собственную оценку своей продукции. Напротив, мы дол-
263
жны бы сказать: всякое прекрасное предопределено данным состо-
янием общественного развития и происходит, по выражению»
Ранке, прямо от бога; нет никакой шкалы ценностей, которая бы
позволила оценить его положительно или отрицательно. То обстоя-
тельство, что эстетические системы, основывающиеся на понятии
прекрасного, страдают не безграничным историческим релятивиз-
мом, а, наоборот, надысторическим догматизмом, лишний раз сви-
детельствует в пользу непреодолимой многозначности этого поня-
тия, если стремиться сохранить все аспекты его повседневного
употребления и вместе с тем идентифицировать его с принципом
эстетического.
Эта двойственность, размытость понятия прекрасного, которая
может вести как к релятивизму, так и к догматизму, является
серьезным препятствием для философского анализа историческо-
го генезиса эстетического также и применительно к обсуждаемым
нами проблемам. Поэтому и в данном случае мы будед^ руковод-
ствоваться уже цитированным нами положением Маркса о том,,
что анатомия человека дает ключ к анатомии обезьяны, и поэтому
здесь нам следует также реконструировать генезис на основании
данных позднейшего развития. Если таким же образом рассмот-
реть процесс отделения эстетического от повседневной практики,
то мы заметим линию, ведущую от чисто полезного через опосре-
дуемое или создаваемое таким образом приятное; почти все, что*
от Дарвина до Шелтема обозначалось понятием «прекрасное»г
попадает в эту рубрику. Только на этой ступени эстетическое на-
чинает развиваться как самостоятельный принцип; только отсюда?
можно начать классифицировать огромное количество полезных в
приятных продуктов в соответствии с тем, как четко прослежива-
ется более или менее ясная, более или менее однозначная эстети-
ческая интенция. В конкретных случаях для таких утвержде-
ний — находящихся за пределами предмета настоящей главы —
невозможно сформулировать единую антропологическую, психоло-
гическую или биологическую объяснительную гипотезу. Причины
возникновения этих интенций в каждом конкретном случае могут
быть различными. Они неизбежно несут на себе печать случай-
ного, точно так же, как мы это видели ранее на примере возник-
новения орудий труда из камней, которые сначала собирались
случайно и лишь затем — сознательно; об этом же писал и Маркс
в связи с возникновением стоимости в ходе первоначально случай-
ных актов обмена. С этой точки зрения можно проследить такой»
ряд: «косметическое» украшение тела — предметы, используемые-
для украшения человеческого тела (найденные или изготовлен-
ные), — украшение орудий труда. Очевидно, что в этом ряду шан-
сы преобразования случайной эстетической интенции в действи-
тельную интенцию, направленную к искусству, и в ее .реализацию*
должны постоянно возрастать. Кроме того, следует, разумеется,,
отметить, что, как мы уже говорили выше, в этой сфере проблема
Связи эстетического с полезным и приятным (в особенности в
264
архитектонической орнаментике) может быть решена только в пос-
траничных случаях [с. 243 и ел.].
Коль скоро украшение, даже очень примитивное, само произ-
водится человеком, всякая аналогия с животным миром исключа-
ется, и в свои права вступает специфически человеческое, то есть,
труд. У нас нет достоверных данных о том, каким образом в ре-
зультате труда появляется этот новый вид украшений; таких
данных и не может быть, поскольку сведений о начальных и пере-
ходных этапах в истории человека практически нет. Однако пред-
ставляется бесспорным, что с каузально-генетической точки зре-
ния этот способ украшения возникает благодаря развитию техни-
ки труда и производства. Выше, в другом контексте [с. 168 и ел.],,.
мы отметили, ссылаясь на Боаса, что при примитивных формах
труда — обтесывании и скоблении — в каменном веке именно за
счет развития техники начинают соблюдаться симметрия, парал-
лельность линий и т. д. На сходные явления в примитивном ткаче-
стве указывал и Семпер. Итак, ясно, что в подобных случаях речь»
может идти только о технологических предпосылках возникнове-
ния орнаментики, а не о ней самой. Поэтому полемика Ригля про-
тив школы Семпера, которая в свое время наделала столько шуму,
глубоко схоластична и пуста. Она пуста, поскольку великий тех-
нический прогресс может создать только предпосылки — объек-
тивные и субъективные — для возникновения искусства. (Здесь
нет необходимости еще раз останавливаться на таких моментах,,
как появление досуга, овладение материалом и орудиями труда,
способность полностью выполнять запланированное и т. д.) Она*
схоластична, поскольку идея «художественной воли», выдуман-
ная Риглем, ничего не объясняет, а служит просто новым назва-
нием— к тому же содержащим явное преувеличение — тому фак-
ту, что с течением времени возникла художественная орнамен-
тика.
Повторяем, исторически процесс возникновения и становление
выявляется через посредство самых разнообразных случайностей.
Наши примеры показывают, каким образом случайные отноше-
ния и связи создали качественно новую форму за счет количест-
венного увеличения. Если же предположить сходный процесс и-
для исторического генезиса орнаментики — что вполне вероят-
но, — то таким образом еще не будет получен удовлетворитель-
ный ответ на наш философский вопрос о том, как и почему на
этой основе возник определенный вид эстетической деятельности.
Правда, в общественном развитии существует специфическая диа-
лектика случайного. Есть случайности и случайности. Существу-
ют случайности, которые по существу связаны с объективными-
тенденциями развития на определенном этапе, «случайное» в ко-
торых с самого начала знаменует появление чего-то нового, при-
чем, как правило* связанные с этим люди не осознают этого ново-
го, а оно развивается медленно, постепенно, зачастую очень
неравномерно; параллельно с превращением случайностей такого
26S
типа в ставшую социально всеобщей действительность и в необ-
ходимость, происходит более или менее адекватное осознание их.
Вместе с тем в любом общественном развитии имеются случайно-
сти в самом узком смысле этого слова; они сохраняют спорадиче-
ский характер и отмирают, лишь изредка получая, правда недол-
гое, распространение в обществе. Ясно, что без такого понимания
случайного любое представление об общественном развитии не
может не превратиться в мистификацию. Вместе с тем ясно так-
же, что в нашем случае речь может идти только о случайном пер-
вого типа; но и тогда остается в силе упомянутая выше оговорка
о том, что даже самый точный исторический генезис не может еще
.дать никакого философского объяснения эстетической сущности
результатов этого случайного, даже когда они уже признаются
необходимыми.
Таким образом, мы возвращаемся к уже упомянутой нами про-
блеме отделения эстетического от полезного и приятного постоль-
ку, поскольку оно не принадлежит целиком и полностью обыден-
ной жизни. Мы уже отмечали, что это отделение характеризуется
наличием огромного числа переходных случаев, между которыми
имеются расхождения, сразу же становящиеся качественными раз-
личиями. Сейчас, когда в отличие от прежнего положения мы
имеем дело не только с абстрактным элементом формы, но и с вы-
делением и превращением таких элементов в эстетическое един-
ство, можно указать и на эстетическое значение этих расхожде-
ний. При этом встает вопрос, какую роль орнаментально декори-
рованный предмет играет в жизни человека? Здесь проявляется
качественное расхождение, заключающееся в том, что орнамент
может служить для украшения отдельно взятого предмета повсе-
дневного обихода, но может использоваться и как декоративный
-элемент архитектуры, то есть относиться к внешнему миру. Это
эстетическое различие имеет историческую подоплеку. Украшение
-орудий труда, разумеется, намного древнее архитектуры, зачатки
которой, согласно Энгельсу, могли появиться не раньше, чем на
высшей ступени варварства, причем исходно она представляла со-
бой лишь строительство по необходимости74. Герпес75, автор по-
следнего положения, справедливо предостерегает против переноса
того воздействия, которое оказывают иногда на нас некоторые
-остатки древних архитектурных памятников в ситуации, далекой
от того, что было в древности, на сам предмет. Эта тенденция осо-
бенно ярко проявляется в работах Шелтемы76. Он пытается пре-
вратить эстетический принцип в нечто «вечное» при помощи зна-
чительной модернизации представлений.
Правда, за этим фактом скрывается подлинная эстетическая
проблема, которую Гёрнес обходит. А именно — и это в большей
мере относится к декорированию орудий труда, чем к самой архи-
текгуре, — в дошедших до нас орнаментах процесс отделения эстет
тического от чисто необходимого и полезного уже завершен — за
•счет длительного промежутка времени, отчуждения соответствую-
щее
щих орудий труда от реальных жизненных условий, в которых
«они находились в период своего возникновения и использования.
То впечатление, которое создается у современного зрителя, прямо
противоположно тому, которое возникало изначально. В одном
случае первичным было предназначение для непосредственного
использования, а эстетическое воздействие носило случайный,
побочный характер; в другом случае польза и практическое при-
менение оказываются на втором плане — их приходится с трудом
реконструировать, исходя из формальных признаков предмета, —
или же они играют роль «носителя», усиливающего эстетическую
эвокативность, а практическое применение становится элементом
эстетического, превратившись в форму, имеющую чисто визуаль-
ное воздействие. Вряд ли древние орудия труда могли изначально
-оказывать такое воздействие.
Вместе с тем это противопоставление не следует рассматривать
просто как нечто достойное внимания, а теперешние впечатле-
ния — как основу для реконструкции древней «художественной
ноли», то есть не только с точки зрения назидательной, но также
-в прямом и положительном смысле. Это противопоставление как
раз показывает —- с должными оговорками,— какое направление
мог принять начальный процесс в ходе отделения эстетически
эвокативного от чувства удовлетворения при удачном использова-
нии того или иного предмета. Практическое применение никогда
не исчезает полностью из эвоцированного переживания, оно пре-
вращается лишь в практический аспект вообще, перестает быть
-актуальным и отходит в основу77. В период непосредственного
использования, разумеется, соотношение этих компонентов пере-
живания складывается с перевесом в сторону необходимого; об-
ратное же предполагает наличие сравнительно высокоразвитой
культуры свободного времени и, соответственно, достаточно боль-
шую дистанцию по отношению к реальной действительности, так
чю истинно эстетические переживания на начальных стадиях, по-
ъидимому, не могут возникать, за очень редкими исключениями,
или имеют по преимуществу «случайный» (в указанном выше
смысле) характер. При этом возникает противоречие, состоящее
в том, что виды деятельности, в которых не содержится осознан-
ной эстетической интенции, воздействие которых изначально не
носило преимущественно эстетического характера, тем не менее
могли создавать эстетические образы; однако при ближайшем рас-
смотрении это противоречие оказывается мнимым. Точнее говоря,
оно есть не что иное, как способ проявления противоречия, лежа-
щего в основе человеческой практики вообще, как выражение той
структуры человеческого поведения, которую мы определили сло-
вами Маркса, взятыми в качестве эпиграфа к настоящей книге:
«Они не сознают этого, но они это делают». Объективное отделе-
ние эстетического от просто полезного и необходимого и вследст-
вие этого приятного может, следовательно, и не вызывать эстети-
ческих переживаний ни у производителя, ни у «адресата».
267
Именно в этой связи большое значение имеет наше противо-
поставление декорирования орудий труда декоративному приме-
нению орнаментики в архитектуре. Здесь в принципе и происходит
объективный процесс отделения. Архитектура, как это будет
исчерпывающе показано ниже, как раз и не является «внемир-
ной». Решающим для нее выступает создание внутреннего в
внешнего пространства, не присущее в данном своем виде приро-
де, которое человек формирует в соответствии со своими духовны-
ми и материальными потребностями, возникающими в ходе обще-
ственно-исторического развития, причем творческой интенции и
предполагаемому воздействию уже имманентно присуща эвокатив-
ность переживания; в этом и заключена специфическая тенденция
создания «мира», соразмерного человеку. Таким образом происхо-
дит объективное отделение и отдаление от повседневной жизни,
даже и тогда, когда осознанная идеология воспроизводства и вос-
приятия еще носит магический или религиозный характер. Ведь и
архитектура исходит здесь из эвокации, хотя эта последняя, разу-
меется, не имеет эстетической направленности; она гораздо более
четко и явно удалена от повседневного, чем остальные виды
искусств; поэтому отделение от повседневности может происходить
в данном случае объективно иначе, чем в случае декорирования
орудий труда, носящем «внемирный» характер. Уже из этих заме-
чаний следует, что эстетическое еще не конституируется здесь как
нечто самостоятельное. Его отделение от такого единства магии и
религии мы рассмотрим в последней главе [см. т. 4, гл. 16]. Там
будет показано, что это отделение требует более или менее
осознанной идеологической борьбы, однако оно имеет качествен-
но иной характер, чем разрыв тесной связи с повседневной
практикой.
Здесь мы —возможно, допуская при этом некоторое упроще-
ние — относим появление архитектуры к магически-религиозному
периоду. Это упрощение оправданно постольку, поскольку первые
по-настоящему эстетические памятники архитектуры служили ма-
гическим или религиозным целям. Если и существовали светские
постройки (замки, дворцы и т. д.), то все-таки, с одной стороны,,
власть также опиралась в основном на магию и религию, что hg
могло не повлиять соответствующим образом на способ художест-
венного выражения, а с другой стороны, и в данном случае речь
шла о публичных зданиях, форма которых — так же как и эле-
мент «применения» — заведомо включала в себя важнейшие мо-
менты идеологически эффективного, эвокативного (впечатление
несокрушимой силы, внушительность монументальности и т. д.).
Строительство частных жилищ — с эстетической точки зрения —
есть результат более позднего развития.
Использование орнаментики в архитектуре, то есть в искусств
ве, которое по существу своему не «внемирно», не устраняет «вне-
мирности» самой орнаментики — даже если взять ее саму по
себе, — напротив, именно это сочетание позволяет ясно определить
268;
«ее своеобразие. Здесь принцип декорирования приобретает свой
наиболее адекватный вид: это уже не дополнение к необходимому
в повседневной жизни, скорее, именно в этой связи беспрепятст-
венно обретает свое истинное значение чистое стремление к деко-
рированию, в полной мере раскрывается его функция украшать
экизнь человека, вызывать радость. Таким образом, возникает
своего рода эстетическая последовательность: от украшений тела,
.минуя украшения орудий труда, вплоть до завершающего момен-
та, где и происходит окончательное удаление от повседневной
практики. То, что роль орнаментики и здесь остается служебной,
то есть она используется для усиления и подкрепления архитек-
турной организации пространства, подчеркивая членения поверх-
ности за счет архитектурного оформления, «оживления» частей
конструкций, выделения узловых точек структуры в целом, ничего
не меняет. Можно сказать, именно «внемирность» орнаментики и
требует внутренне ее подчинения изобразительному искусству,
•чтобы могла полностью и беспрепятственно раскрыться ее эстети-
ческая сущность.
Мы считаем, что здесь уместно остановиться на эстетических
принципах орнаментики; само собой напрашивается применение
результатов, которые мы получили в описанных выше областях,
<: одной небольшой оговоркой: «внемирные» орнаменты могут
украшать сами по себе «внемирные» предметы. При этом мы, как
уже было упомянуто выше, исходим из геометрических форм, по-
жимая их столь широко, что более поздние по своему происхож-
дению растительные и животные орнаменты оказываются вклю-
ченными в общее понятие геометрического. Ибо ведущей и в дан-
ном случае остается — в конечном итоге — геометрически упоря-
доченная система линий, независимо от того, являются ли эти
линии прямыми или возможны искривления и изгибы, в которых
животные, растения и даже люди изображаются не в соответствии
с условиями своего существования, но подчиненными линейной
(или линейно-цветовой) взаимосвязи ритмов, пропорций, симмет-
рии, соответствий, так что их образ, их движение и т. д. превра-
щаются в особую составную часть, отдельный момент единства,
возникающего за счет такой геометрической упорядоченности.
В данном случае не имеет решающего значения тот факт — в пре-
делах частных вопросов генезиса, — является ли геометрическая
■фигура «сокращением» предмета, взятого из жизни, придается ли
ей дополнительное аллегорическое значение; в отдельных случаях
допустимо и то и другое, но все это не имеет отношения к тому
основному вопросу, к которому мы обратимся сейчас: почему гео-
метрические связи доставляют эстетическое наслаждение, почему
они обладают столь сильным эвокативным воздействием? (Необ-
ходимую связь аллегории с орнаментикой мы рассмотрим отдельно
1с. 275 и ел.].)
Без дополнительных объяснений понятно, что попытаться от-
ветить на этот вопрос следует с геометрической точки зрения, хо-
269
i-я, как мы увидим, действующие здесь эстетические силы доста-
точно рано оказываются за пределами чисто геометрического ш
начинают преодолевать представляющееся на первый взгляд
жестким противоречие между органическим и неорганическим:,
в то же время орнаментика как таковая как наиболее чистая фор-
ма «внемирного» декорирования, перерастает в общедекоративное,,
в один из конституирующих принципов эстетического вообще. Но
геометрически-орнаментальное оказывается в таком случае чем-то
гораздо большим, нежели просто исторически предшествующим
этапом. Теоретические основы более поздних, более развитых
стадий позволяют обнаружить уже здесь ее эстетическую сущ-
ность, так что геометрические истоки становятся понятными не>
только сами по себе, но и представляются закономерными с эсте-
тической точки зрения. Покорение человеком неорганической
природы — это не только социальный процесс, этот процесс нахо-
дится в неразрывной связи с развитием человека в обществе, с
«обменом веществ» между человеком и природой. Молодой Маркс
очень точно определяет это положение вещей: «Подобно тому как
в теоретическом отношении растения, животные, камни, воздух*
свет и т. д. являются частью человеческого сознания, отчасти в
качестве объектов естествознания, отчасти в качестве объектов ис-
кусства, являются его духовной неорганической природой, духов-
ной пищей, которую он предварительно должен приготовить*
чтобы ее можно было вкусить и переварить, — так и в практиче-
ском отношении они составляют часть человеческой жизни и че-
ловеческой деятельности... Природа есть неорганическое тело
человека, а именно — природа в той мере, в какой сама она не
есть человеческое тело» 78_8°.
На чем же основывается эта сущность орнаментики, богатая*
рано получившая свое завершение и «внемирная», а также в чем
ее воздействие? Мы считаем, что это явление подчиняется закону
общественно-культурного развития, вытекает из обусловленных
им особенностей отражения действительности, как в науке, так и
в искусстве. В своем предисловии к «Феноменологии духа» Гегель
впервые дал философски точное описание этого явления. Он исхо-
дит из того, что эта его работа должна дать понятийное выраже-
ние новому состоянию мира, и в дополнение к этому стремится
определить специфические признаки, свидетельствующие о появ-
лении нового в истории, — как с субъективной, так и с объективной
точки зрения. Он утверждает, что «совершенной действительнос-
ти» в этом новом так же мало, как в «новорожденном младенце».
Разумеется, это новое есть продукт разнообразных тенденций и
предопределений, которые задолго до его появления действовали
в лоне старого мира, но когда оно обретает свой образ, то он есть
«целое, которое возвратилось в себя из временной последователь-
ности, как и из своего пространственного протяжения, оно есть
образовавшееся простое понятие этого целого»81. Отражение та-
кой исторически сложившейся ситуации в сознании человека с
270
необходимостью должно иметь в силу этого абстрактный эзотери-
ческий характер.
В своей «Науке логики» Гегель — на этот раз только с точки
зрения познания — возвращается к этой же проблеме, причем
здесь он рассматривает не столько образ исторически нового,,
сколько образ начала разумного постижения и освоения действи-
тельности. Это начало и есть всеобщее. «Если в действительности
(будь это действительность природы или духа) субъективному
естественному познанию дана как первое конкретная единич-
ность, то, напротив, в познании, которое по крайней мере постоль-
ку есть постижение, поскольку оно имеет своей основой форму
понятия, первым должно быть простое, выделенное из конкретно-
го, так как лишь в этой форме предмет имеет форму соотнося-
щегося с собой всеобщего и сообразного с понятием непосредст-
венного» 82. Он выступает здесь против тех, кто апеллирует к
наглядному восприятию, поскольку в описываемый им процесс
постижения уже включена такая точка зрения, и в своем описа-
нии он выходит в рациональном аспекте далеко за рамки этой
последней. С субъективной точки зрения положение оказывается
тем же: «...если ставится вопрос только о легкости, то и так само»
собой ясно, что познанию легче постичь абстрактное простое опре-
деление мысли, нежели конкретное, которое есть многоразличное-
сочетание таких определений мысли и их отношений...» 83. Здесь.
Гегель обращает внимание как раз на то — и это уже непосред-
ственно связано с нашей проблематикой, — что и геометрия на-
чинается не с конкретного образа пространства, а с простейших
элементов и форм, с точки, линии, треугольника, круга и т. д.
Общеизвестно, что, с одной стороны, геометрия есть первый*
вид научной деятельности первобытного человека/ первое приме-
нение науки на практике (еще задолго до превращения ее в сис-
тему геометрических знаний), с другой стороны, геометрическая
орнаментика в этот же период становления и развития сельского-
хозяйства переживает свой первый расцвет. Естественно, обе
тенденции тесно взаимосвязаны. Например, Хембидж84 показыва-
ет, что прямоугольник впервые возникает в практике землеустрой-
ства, затем он переносится в храмовое строительство и т. д. Мы
полагаем, что нет необходимости специально останавливаться на
доказательстве того, что это первое осознанное и разумное освое-
ние действительности, гораздо более значительное с точки зрения
развития человечества, чем все поразительные художественные
достижения периода охоты (даже и при таких особенно благопри-
ятных условиях, какие имели место, например, на юге Франции),
имеет абстрактный характер в указанном выше гегелевском^
смысле. Эта абстрактность приобретает особый пафос в условиях
своего первичного постижения: первобытный человек живет в
еще не освоенном им мире, где всего-навсего небольшой уголок
освещается светом истинного познания. Тот факт, что это позна-
ние вначале интерпретируется как магическое, а затем и как
271
религиозное или мифологическое, тем не менее не ставит его на
один уровень с магическим псевдознанием.
В данном случае также прийти к целому ряду выводов о бо-
лее ранних этапах развития можно, только опираясь на выводы,
сделанные на основании анализа более поздних этапов; можно
представить себе пафос истинного познания, которое тысячеле-
тиями ограничивалось только математикой или геометрией: от
Пифагора и Платона этот ряд ведет к «Новой азбуке природы»
Галилея и more geometrico Спинозы. Прежде всего это абстракт-
ное дополнение к истинному познанию, полностью в гегелевском
смысле, на еще совсем неразвитой, неконкретизированной стадии.
Но именно в этой абстрактности оно соединяет в себе недостижи-
мую иначе абсолютную точность знаний об объективной действи-
тельности с чувственно очевидной, легко постижимой визуальной
наглядностью. Когда же эстетически-мировоззренческий пафос,
требующий непременного выражения в зарождающейся художест-
венной деятельности, которая, как мы видели, еще не приобрела
полной самостоятельности, приводит к появлению геометрической
орнаментики, то истоки ее мы видим в этом сочетании абстракт-
ности и наглядности. Это единство точного и надежного познания,
возможного уже на ранних стадиях развития, и непосредственно
воспринимаемой чувственной наглядности, с одной стороны, свя-
зывает достигнутое нами с основой всех наук ц искусств — с тру-
дом; с другой стороны, этот неизбежно двойственный характер
абстрактно-понятийной точности и непосредственно-чувственной
наглядности вследствие этой абстрактности и в ее рамках дает
возможность выделить полученные изображения из гетерогенного
многообразия повседневной практики, придать им то своеобразие
ж обособленность, благодаря которым они могут стать самостоя-
тельными произведениями искусства. (Мы уже говорили, что это
длительный процесс.)
Вернемся к тому, что говорил Гегель в своем логическом рас-
смотрении этого комплекса проблем относительно легкости вос-
приятия абстракции. Здесь проанализированная Гегелем абстрак-
ция транспонируется в чувственно-наглядное, причем это не есть
возврат к допонятийной чувственной непосредственности чистого
восприятия — против чего возражает и Гегель, — но, напротив,
здесь, в этой чувственной непосредственности, полностью сохра-
няются рационально-мыслительные представления. Возможность
использования конструктивного принципа как геометрического
научного доказательства показывает, что в данном случае непо-
средственно чувственное явление адекватно выражает сущность
(то, что Гегель называет понятием), и некоторым образом явле-
ние и сущность так близки, что можно говорить об их единстве,
о непосредственном выражении сущности через явление. Только
жа высокоразвитой ступени чувственный характер может быть
проанализирован с философской точки зрения, при особом внима-
нии к «отсутствию измерения» у некоторых геометрических эле-
272
ментов (точка и т. д.); так поступал еще Платон. В этом случае
осознается дезантропоморфичный характер, присущий также гео-
метрической наглядности, и проводится разграничение между
научным и художественным отражением. Сама по себе эта двой-
ственность существует изначально, что никак не влияет на исход-
ную, долго сохраняющуюся в эмоциональной сфере взаимосвязь,
о которой мы говорили.
Легкость восприятия, формирования представления о целом,
учет всех подробностей имеют, таким образом, чисто эстетический
характер, — характер отражения объективной действительности,
интенция которого, однако, заключается в возможно более адек-
ватном превращении бытия-в-себе в бытие-для-нас. Это, по-види-
мому, содержится в самой интенции; здесь, без достаточной опре-
деленности, можно только повторить, что в науке и в искусстве
отражается одна и та же действительность. Как уже было уста-
новлено, в эстетическом отражении возникает такая картина ми-
ра, в которой отнесенность к человеку является неотъемлемым
основополагающим принципом, и он именно в силу своего эвока-
тивного воздействия делает эту отнесенность к человеку непо-
средственно переживаемой. Общность труда и науки, и в то же
время явное отделение их друг от друга, в геометрической орна-
ментике выступает со всей очевидностью, почти осязаемо. Особен-
ность этого аспекта действительности, которая и определяет мето-
ды геометрии и обусловливает ее раннее становление как науки и
как искусства, лежит в основе как общности, так и различий.
Самостоятельность искусства как способа исследования и освое-
ния действительности человеком получает здесь весьма гибкое
выражение. С одной стороны, связь его с наукой вследствие совпа-
дения объекта отражения проявляется в том, что геометрическая
орнаментика в своей действительно разработанной форме, прежде
всего в Египте, практически на тысячелетия опережает результа-
ты более поздней науки, основанной на высокоразвитой математи-
ке. Вейль85 показывает, что все типы изменений проявляющихся
здесь связей, которые могла исследовать и обосновать научными
методами только математика XX века, уже были представлены и
реализованы в египетской орнаментике. Но с другой стороны, это
соответствие как таковое является — особенно для философии
искусства — чрезвычайно важным дополнительным знанием, без-
условно проясняющим сущность необходимо общего объекта от-
ражения. Однако с точки зрения искусства как такового это всего
лишь позднейшее добавочное знание, которое не может решаю-
щим образом изменить эстетическую сущность геометрической
орнаментики. Неиссякаемые возможности варьирования этого со-
ответствия и есть источник его эстетического воздействия; а для
того, чтобы пережить или создать эти воздействия, такое познание
не было в то время ни необходимым, ни исторически возможным.
Истинное воздействие обязательно содержит —в том значении,
которое мы уже неоднократно определяли [с. 195], — неосознан-
18 Заказ № 683
273
ное стремление, неосознанное ощущение того, что здесь была
вообще воссоздана какая-то связь с действительностью. Основой
этой связи, движущей силой созидания и наслаждения является
переживание зарождающегося господства человека над природой,,
зарождающегося порядка, создаваемого практически познающим
человеком. Но и этого «вообще» достаточно для объяснения и ге-
незиса, и сущности. Именно поскольку в данном случае соответ-
ствие правильного отражения в науке и в искусстве выступает
с такой полной ясностью, поскольку оно доказуемо объективно, а
субъективно — что столь же точно доказуемо — может иметь свой
источник только в «бессознательном», и выявляется своеобразная
закономерность отношений типа «шагаем порознь, воюем вместе»
для науки и искусства. В случае более прямого и полного, уже на
«внемирного» отражения действительности эти взаимоотношения
оказываются гораздо сложнее. Основа их остается той же, и по-
этому нужно особо подчеркнуть эту весьма знаменательную связь
в таком простом и абстрактном случае. Как мы видели, вследствие
простоты и абстрактности орнаментики сущность и явление пол-
ностью совпадают. Эта конвергенция, которая очень редко высту-
пает с такой непосредственностью в области эстетического,
связана с одновременно абстрактным и чувственным характером
явления и абстрактностью сущности, которую, однако, не следует
смешивать с бессодержательностью, как это делает Кант. Кант с
присущей ему глубиной философского подхода к проблемам эсте-
тики распознал глубокую дихотомию эстетической формы, проти-
вопоставляя «свободную красоту» (pulchritudo vaga) «чисто при-
входящей красоте» (pulchritudo adhaerens). Однако его гениаль-
ные прозрения были искажены его же собственным субъективным
идеализмом, в силу чего он оказался не в состоянии выявить роль
отражения действительности в эстетике. Он совершенно справед-
ливо стремится изъять из сущности эстетического непосредствен-
ную зависимость от научно-философского знания — признаваемую
Лейбницем и представителями его школы — и философски обос-
новать его самостоятельность. Но поскольку Кант оставляет без
внимания феномен отражения, он может обосновать сущность
«свободной красоты» только ссылкой на то, что «она не предпо-
лагает никакого понятия о том, чем должен быть предмет»86.
Поэтому он приходит к неразрешимому противоречию при кон-
кретном изложении своего учения. С одной стороны, он объясняет
природные элементы орнамента (цветы, птиц и т. д.) почти со-
фистически, к тому же его ссылки на них не всегда уместны.
С другой стороны, там, где Кант пишет уже о самой орнаментике,
он приводит только несамостоятельные, модернизированные при-
меры (драпировка, листва и т. д.) и указывает на их полную
бессодержательность, не выделяя охарактеризованного нами выше
абстрактного содержания. (Ниже мы увидим, что концепция
«чисто привходящей красоты» по тем же самым причинам еще
более противоречива.) Таким образом, абстрактная сущность reo-
274
метрической орнаментики отнюдь не лишена содержания, вопреки
утверждениям Канта, не «лишена понятия», если понятие приво-
дится здесь также полностью в его непосредственно-чувственной
наглядности. Тот факт, что эта сущность не имеет конкретно-
предметного содержания, но характеризуется только абстрактной
всеобщностью, выявляет специфику этого содержания, а не до-
казывает его отсутствие.
Этот особый вид содержания выражается прежде всего в том,
что вокруг абстрактной всеобщности создается аллегорическая,
эзотерическая аура. Пафос, пронизывающий этот способ отобра-
жения как копию, элемент или часть освоения мира с помощью
геометрии, настоятельно требует конкретной интерпретации аб-
страктной всеобщности, приближения ее к конкретной действи-
тельности. Геометрические формы не связаны органически с кон-
кретной предметностью реальной жизни; и если в орнаментике
возникают такие предметные формы (растения, животные, люди),
то и они не могут иметь здесь никакого конкретно-чувственного*
особенного существования, а должны быть не более чем иерогли-
фами, знаками, передающими смысловое содержание, абстрактны-
ми аббревиатурами бытия. Ибо сущность орнаментики как раз и
составляет вычленение каждого объекта, подвергающегося «орна-
ментальной обработке», из системы взаимосвязей, характерной
для его естественного окружения, и замена их искусственными —
в данном конктексте — взаимосвязями. Поэтому духовное содер-
жание чисто орнаментального изображения может быть только
аллегорическим; это смысл, сохраняющий всю полноту своей
трансцендентности в противоположность конкретно-чувственным
формам проявления. Правдоподобная реконструкция возникших
таким образом, зачастую магических или эзотерических-религиоз-
ных трактовок геометрической орнаментики является в большин-
стве случаев достаточно сложной задачей для этиологии, истории
искусства и т. д. Уже Ригль87 настоятельно подчеркивал эти
трудности. Однако он не учел того, что их истинные причины
заключены в самой сущности аллегории, особенно если ее толко-
вание является привилегией замкнутой касты священнослужи-
телей, призванных хранить свою тайну. Аллегория основывается
как раз на том, что между чувственно-наглядным способом су-
ществования изображаемых предметов и их смыслом, композицион-
но выражающим целостность художественного произведения, не
существует никакой зависимости, которая основывалась бы на
сущности самих предметов. С точки зрения этой предметности
всякое аллегорическое толкование в большей или меньшей мере,
а зачастую и полностью произвольно. Со своей стороны аллего-
рическая интерпретация в ее исконной магической или религиоз-
ной форме основывается на том, что все явления действительности
в совокупности могут в принципе лишь неадекватно отражать
возвышенную правду магического или религиозного, а это слу-
жит подтверждением «сверху» произвольности толкования исходя
18*
275
из самого предмета, то есть «снизу». Эта конвергирующая двоякая
тенденция в аллегории так сильна, что она продолжает действо-
вать и в более поздние периоды, когда отношения между сущ-
ностью и явлением уже не носят столь абстрактного характера.
Так, первые христиане интерпретировали чисто аллегорически
такие богатые эмоциональным содержанием произведения, как
труды Климента Александрийского о Ветхом и Новом завете,
работы Оригена88 и т. д.
Естественно, между обоими типами аллегории имеются качест-
венные различия. В аллегорической интерпретации последнего
типа происходит преодоление сущности художественного изобра-
жения предмета либо игнорирование его собственного смыслового
содержания; аллегорическая сущность геометрической орнамен-
тики органически следует из ее эстетического своеобразия. Эвока-
тивное воздействие геометрической орнаментики наряду с ее сущ-
ностью как абстрактной всеобщности требует аллегорической
интерпретации непосредственного переживания на основании ми-
ровоззренческого пафоса как движущей силы всего этого ком-
плекса. Такая интерпретация в содержательном плане, очевидно,
не может не быть произвольной, но именно поэтому она не ведет
ни в коей мере к насилию над художественной сутью, над худо-
жественной практикой. Боас89 приводит ряд примеров, показыва-
ющих, что одна и та же геометрическая фигура может интерпре-
тироваться самыми различными, в содержательно-аллегорическом
плане даже противоречащими друг другу способами. Их воздейст-
вие на современников, конечно, сейчас уже невозможно рекон-
струировать. Даже при анализе данных о жизни первобытных
людей полностью оправдано сомнение относительно того, не яв-
ляются ли их современные интерпретации лишь весьма слабым
отображением далекого прошлого либо не происходит ли здесь
его полного переосмысления. Шелтема также вполне определенно
высказывается по этому вопросу: «Понимание символической
значимости простых геометрических форм столь безнадежно
утрачено нами, что мы едва ли можем правильно представить се-
бе, какое значение имели для наших предков круги с выделенным
центром» 90.
Еще менее доступно нам понимание и непосредственное выве-
дение актуального живого воздействия орнаментики на основе
точнейшей реконструкции ее изначальной интенции. Но это не
исключает возможности ее опосредованного объяснения, ибо, как
мы попытались показать, в основе этих исходных творческих тен-
денций лежит определенная обективная структура уже созданных
произведений, которая может детерминировать качественные осо-
бенности длительных воздействий на тысячелетия вперед. Реально
имеющие место отношения между сущностью и явлением, аб-
страктно-всеобщий характер самой сущности и составляют
эти формально-структурные основы. Может показаться, что эта
интерпретация художественного воздействия орнамента — пони-
276
маемого как аллегория — противоречит нашему утверждению о
полном совпадении сущности и явления в орнаменте. Здесь следу-
ет, учитывая позднейшую конкретизацию общих положений,
обратить внимание на то, что всякая аллегория всегда и непре-
менно «удваивает» сущность, наличествующую в произведении
искусства: с одной стороны, имеется трансцендентная, аллегори-
ческая содержательная сущность, формулируемая понятийно, на
которую и должна быть направлена интенция художественного
изображения в целом; с другой стороны — если речь действительно
идет о произведении искусства, — при этом никак не затрагивает-
ся чувственно выступающая диалектика сущности и явления. Она
может просто иметь место, как в вышеупомянутом примере вет-
хозаветных и новозаветных библейских историй, но возможно
также, что эта диалектика будет реализоваться в конкретно-чув-
ственном отображении геометрических орнаментов как полное
совпадение. Однако тем самым геометрическая орнаментика — да-
же тогда, когда ее аллегорическое значение безвозвратно утраче-
но, — отнюдь не лишается художественно значимого содержания.
Остается важнейшая часть содержания, черпающая свое богат-
ство и глубину из того пафоса господства человека над миром, из
той чувственно проявляющейся одухотворенности и органичности
возникающего таким образом зримого порядка, о которых мы го-
ворили выше. В этом и проявляется всеобщий эстетический закон
длительных воздействий. Следует только заранее оговориться,
что и в геометрической орнаментике, где эстетическое воздейст-
вие, казалось бы, имеет чисто формальные основания, действи-
тельная его основа — в конечном итоге — оказывается тем не ме-
нее обусловленной содержательно. Естественно, все такого рода
эстетические воздействия опосредованы и подвержены влиянию
данной системы форм. Единство формы и содержания в эстетике,
специфический способ существования художественной формы,
которая всегда выступает как форма для особого содержания, вы-
является именно в этой роли формы как посредника между про-
изведением и его восприятием; при этом зритель-реципиент под-
вергается непосредственно формальным воздействиям, тотчас же
преобразующимся в его переживании в содержательные, так что
он полагает себя испытывающим воздействия содержательного
характера.
Мы не можем исследовать здесь сложные взаимосвязи формы
и содержания, действующие в ходе истории становления того или
иного художественного произведения, того или иного жанра,
искусства в целом; необходимо лишь вкратце отметить, что в силу
абстрактно-всеобщего характера изображаемой сущности, в силу
диалектической взаимосвязанности чувственного и абстрактно^
духовного в мире явлений кажущееся чисто формальным воздей-
ствие геометрической орнаментики постоянно обнаруживает свою
содержательность. Мы уже говорили, что ее значение не может
полностью совпадать с изначальным уже потому, что из-за алле-
277
горичности оно не поддается дешифровке; но даже полное пони-
мание содержания ничего не дало бы нам с художественно-эвока-
тивиой точки зрения. Мы обращали внимание на содержа-
щееся здесь настроение, приведя стихотворение Стефана Георге.
Это настроение не так уж неопределенно, как это могло показать-
ся на первый взгляд; мы уже говорили о его мировоззренческой
основе. Коль скоро оно не может фиксироваться в конкретной
предметно-содержательной форме — что связано непосредственно
с эстетической сущностью орнаментики, — то в основе его лежат
ясно определенные формально-содержательные мотивы. (Здесь
впервые встает на высочайшем уровне абстракции проблема, важ-
ная для эстетики в целом. Мы имеем в виду вопрос о том, что со-
держание произведения искусства, воздействующее на восприя-
тие, чрезвычайно неопределенно в его конкретной предметности
и может интерпретироваться самыми различными способами, но
при этом оно отнюдь не является неопределенным в эстетическом
смысле, то есть мы не имеем здесь дело, как считает Кант, с бессо-
держательностью. Рассматривая этот вопрос в связи с аллегори-
ческой сущностью орнаментики, мы не утверждаем, что в изме-
ненном виде он не может возникнуть на той или иной конкретной
ступени развития, в особенности в музыке [см. т. 4, гл. 14, § 1],
да и не только в ней.)
Абстрактность этих эстетических мотивов, имеющая чувствен-
ное проявление, но лишь возникающая в чувственности, а не
снимающаяся в ней, приводит к тому, что их понятийное описание
должно иметь преимущественно негативный характер, то есть
можно правильно описать положительный аспект эстетического
только от противного. Это касается как соотношения сущности и
явления, так и следующего этапа на пути к конкретизации: орна-
ментика не имеет глубины. Мы знаем, что это слово неоднозначно,
но надеемся показать, что в имеющейся эстетической ситуации
оно, как в буквальном смысле, так и в метафорическом — ставшем
в ходе длительной исторической практики общеупотребитель-
ным, — само по себе обозначает важную сторону рассматриваемого
явления. Буквальный смысл нетрудно определить: геометрической
орнаментике присуща двумерность; с привлечением третьего из-
мерения, глубины, исчезает непосредственная очевидность совпа-
дения смысла и чувственности; треугольник, круг и т. д. могут
одновременно быть и самими собой, и составными элементами
декоративно-орнаментальной поверхности, тогда как куб, с харак-
терным для него наличием перспективы, представляет собой от-
ражение конкретной предметности, причем здесь резко разграни-
чены научно-иллюстративный и художественно-изобразительный
принципы. В дальнейшем мы увидим, что переход орнаментально-
го принципа в декоративный в самом широком смысле связан с
определенными допущениями по отношению к глубине; правда,
при этом происходит борьба противоречий, в которой декоратив-
ный принцип представляет тенденцию к снятию фактически име-
278
ющихся изображений третьего измерения в окончательном воз-
действии поверхности. В чистом орнаменте такого острого про-
тиворечия еще нет. Мы уже указывали на то, что включение
изображений животных или растений в орнамент лишает их ре-
альной, жизненной предметности, заставляет их полностью слить-
ся с геометрическими элементами остальной орнаментики, в кото-
рой нередко используются и геометрические кривые, превращает
их в чистые орнаменты [с. 269]. Но и они существуют только в
зримой форме, несмотря на то что эта последняя имеет большую
предметную конкретность, чем в случае чисто геометрических
орнаментов; если воздействие формы оказывается опосредованным
за счет содержания, то это единство получает фантастическое
звучание в противовес жизненному, реальному.
Еще более сложные проблемы возникают при расширительном,
метафорическом понимании глубины. Вместе с тем наши послед-
ние замечания приближают нас к их решению, поскольку редук-
ция живого существа до контуров в орнаменте — а это, как мы
видели, неизбежно следует из того, что оно уже не отражается
художественно в своем естественном окружении и взаимоотноше-
ния его бытия с бытием окружающего мира трактуются как несу-
ществующие, — означает вытеснение его реальных жизненных
проблем, реальных жизненных противоречий из изображения,
имеющего такую художественную форму. Соответственно — и это
исходный момент — все отрицательное в диалектическом смысле
принципиально удаляется из сферы орнаментального изображе-
ния. Эта частная ситуация ясно и конкретно показывает нам пра-
вильность метафорического определения глубины: что же мы
считаем, то есть что мы должны считать, «глубоким» в искусстве?
Ответ напрашивается сам собой: такое отражение действительно-
сти, которое охватывает жизненные противоречия во всех основ-
ных аспектах, в их динамике. Чем сильнее сведенное воедино на-
пряжение между этими конкретными противоречиями, тем глуб-
же произведение искусства. Это и есть правильное словоупотребле-
ние, когда предикат «быть глубоким» применяется по отношению
к тем художникам, которые до конца последовательны в этом во-
просе: Данте и Рембрандт, Шекспир и Бетховен. Однако конкрет-
ное, динамическое противоречие невозможно без разработки от-
рицательного аспекта. Энгельс91 справедливо подчеркивает —
разумеется, оставаясь в сфере философской мысли, однако его
положения можно применить и к искусству, — что Фейербах по
сравнению с Гегелем кажется плоским, поскольку он намного от-
стает от Гегеля в конкретности и последовательности трактовки
категории отрицания. В этих замечаниях Энгельса для нас важнее
всего то, что противопоставление глубокого и плоского неразрывно
связано со способом рассмотрения отрицательного в жизни чело-
века. Здесь следует подчеркнуть — коль скоро наука и искусство
отражают одну и ту же реальность — то большое значение, которое
придает Энгельс исторической конкретности и относительности в
279
понимании отрицательного, а также его основополагающему харак-
теру в общественном развитии. Искусство, призванное адекватно
отрая^ать конкретную социальную действительность, не может
пройти мимо этого комплекса проблем, не вызвав упрека в поверх-
ностности, пошлости, приукрашивании действительности. Исклю-
чение составляет только архитектура, поскольку ее основы — не-
смотря на некоторую близость к рассмотренным выше пробле-
мам — в существе своем иные; однако этот вид искусства при всей
своей неприспособленности к воплощению отрицательного аспек-
та не является тем не менее таким же «внемирным», как орна-
ментика; подробнее мы остановимся на проблеме отсутствия отри-
цательного в архитектуре, обратившись к ее анализу [см. т. 4,
гл. 14, § 2].
Особое положение орнаментики связано с тем, что она нахо-
дится по эту сторону дилеммы художественного отображения,
возникающей вследствие описанной ситуации. Отсутствие отри-
цательного аспекта ни в коей мере не является здесь недостатком,
напротив, это принципиально необходимая особенность такой
формы выражения. Соответственно, необходимо существующее в
силу этого отсутствие глубины не предполагает тенденции к плос-
костности или к поверхностности, а, напротив, выражает специ-
фический аспект действительности. Суть его мы уже описали в
общих чертах. Теперь содержательные компоненты этого формаль-
ного выражения становятся еще яснее: уже упомянутое фантасти-
ческое воздействие получает при этом, по словам Фридриха Геб-
беля, оттенок красоты на фоне диссонанса, отблеск действитель-
ности, никогда реально не существовавшей, которую предания
цародов мира называют золотым веком, утраченным раем. Здесь,
естественно, акцент изначального геометрически-познавательного
пафоса освоения действительности несколько смещается, причем
даже его направленность вперед, в будущее, получает оттенок но-
стальгического стремления вновь обрести когда-нибудь прежнюю
гармонию. Вместе с тем это противоречие, которое было бы не-
преодолимым для искусства, изображающего реальность, в дан-
ном случае оказывается всего лишь колебанием между мотивами
с различной эмоциональной окраской. При этом оба полюса имеют
общую основу — выделенность предметов и их взаимосвязей из
нормальной действительности, причем, с одной стороны, они ли-
шаются своего естественного окружения, тогда как чисто частное
действие сообщает им новые, отсутствующие у них связи, а с дру-
гой стороны, они оба стремятся к достижению полного единства,
и эта упорядоченность — случайная по отношению к действитель-
ной жизненной предметности — сама по себе весьма закономерна.
Итак, орнаментика представляется нам хорошо упорядоченным
отображением существенного аспекта действительности, эмоцио-
нально очевидной абстракцией порядка вообще. Такой порядок
таит в себе нечто «парящее» над обычной действительностью, а
выражением подобной настроенности служат описанные выше
280
полюсы, не утрачивающие при этом полностью своего реального
характера.
Этот «парящий», реально-ирреальный характер усиливается,
если мы рассмотрим орнаментику с другой, новой точки зрения
в плане ее материальности. Выше мы упомянули о полемике меж-
ду Семпером и Риглем по вопросу о генезисе орнаментики и на-
звали эту полемику «схоластической». Ведь, с одной стороны,
исторически верно, что всякая орнаментика вырастает из техники
труда, но невозможно вывести ее эстетические принципы просто
и непосредственно из какого-либо технического аспекта; с другой
стороны, «художественная воля», жестко противопоставленная
техническому аспекту генезиса, есть пустое, неисторичное и ме-
тафизическое понятие, в котором игнорируются исторические
взаимоотношения (также и с техникой), а вымышленная причина
выдается за основной результат реального развития. В действи-
тельности всякий орнамент являет собой неразрывное единство
чистой внутренней материальности и «свободно парящей» нема-
териальное™. Первое легко увидеть, ибо точно так же, как оче-
видно, что генезис орнаментики не может быть непосредственно
выведен из развития одной только техники, ясно, что реализация
геометрически точных форм на самых различных материалах
(ткань, глина, камень, слоновая кость и т. д.) предполагает
высокий уровень овладения техникой обработки материала. При-
чем здесь речь идет не только о техническом совершенстве вообще,
но именно о том, чтобы все потенции данного материала получили
свое выражение. Соответственно возникает еще одна особенность
техники, которая качественным образом выходит за рамки прак-
тической целесообразности, не уничтожая, а даже развивая ее;
причем эта особенность позволяет вскрыть в свойствах материала
возможности оптимального воздействия на зрительное восприятие
и довести их выражение до совершенства. Эти возможности раз-
личны в зависимости от материала, так что осуществление одной
и той же цели, достижение геометрической точности, упорядочен-
ности, ясности, перспективы и т. д., требует различных путей
технического и художественного развития и создает их.
То, что мы назвали нематериальностью воздействия, содержит,
по всей вероятности, цели и преобразования полностью противо-
положного характера. Здесь действует реальное диалектическое
противоречие, весьма плодотворное для развития искусства и
способствующее его прогрессу. Мы уже ознакомились с компо-
нентами материальности воздействия орнаментики. Нематериаль-
ность теснейшим образом связана с геометрическим в основе своей
характером орнаментики, с ее «внемирностью», о чем уже говори-
лось выше. Основа противоречивости в данном случае заключена
уже в самой геометричности, предполагающей противоречие меж-
ду непосредственно-чувственной очевидностью и познанием, так
что отображающие реальность фигуры принципиально никак не
могут точно соответствовать своим собственным математическим
281
измерениям; на это, как мы видели, указывал еще Платон. Для
пауки решение очевидно: сущность, сформулированная математи-
чески, является единственно истинной; чувственное представле-
ние может быть только иллюстрацией — преимущественно дидак-
тического характера, — необходимые же отклонения просто не
принимаются в расчет. Правда, чисто техническое применение
требует максимального приближения. В искусстве, напротив, чув-
ственное проявление выступает как необходимая форма проявле-
ния сущности; непосредственно-чувственная очевидность служит
только тому, чтобы эвокативно вызвать к жизни «идею» геомет-
трической структуры; имеющиеся сами по себе столь важные для
науки отклонения здесь вообще не затрагиваются. Но именно
поэтому «идейное содержание» имманентно присуще чувственно-
му образу и является первопричиной его нематериального, отре-
шенного от реальной жизни способа существования, превращает
его в один из тех компонентов диалектического противоречия в
эстетике орнамента, о которых идет речь.
Эстетическая направленность проявляется здесь также в том,
что эта тенденция может без затруднений простираться и па эле-
менты орнаментики, уже не носящие чисто геометрического ха-
рактера (растения, животные и т. д.). Обобщающая, гомогенизи-
рующая сущность орнаментики состоит именно в том, чтобы при-
давать всем изображаемым предметам такую «идейную наполнен-
ность», выступающую как визуально воспринимаемая редукция
соответствующего предмета к необходимым в границах его узна-
ваемости характеристикам при изолированности его от естествен-
ного окружения. Каждый предмет берется только сам по себе, и
его композиционные связи не имеют принципиально ничего
общего с его собственной предметностью как таковой. Ясно, что
такой способ представления только увеличивает уже имеющуюся
.«■идейную наполненность» геометрических форм. Но вместе с тем
ясно и то, что такое сознательно одностороннее выделение «су-
щественного» в композиционно упорядоченных изображениях
животных или растений, позволяющее не более чем зрительно
воспринять самую выразительную черту, совершенно не направ-
лено на выявление их реальной сущности; такое одностороннее
выделение ограничено в своей действенности лишь сферой быст-
рой суггестивной узнаваемости и соответствием беспредметной
упорядоченности целого, что только усиливает дематериализую-
щий, обеспредмечивающий характер подобных изображений. Не-
геометрические составные части орнамента по меньшей мере
столь же отвлеченны, как и чисто геометрические; точнее говоря,
здесь образуется своего рода гомогенная среда единой «идеенапол-
ренности», одного уровня дематериализованности.
• Итак, здесь, как мы могли видеть, фактически присутствует
зафиксированное нами противоречие. Теперь необходимо точнее
определить его сущность, ибо оно значительно отличается от ана-
логичных противоречий в изобразительных искусствах. Например*
282
если художник при помощи изобразительных средств передает
свободно парящий образ (как в «Сикстинской мадонне», «Воз-
несении Марии» Тициана и т. д.), то его картина должна вы-
разить реальную предметность со всей присущей ей весомостью,
реальное движение и т. д. так, чтобы это само по себе невозмож-
ное, нереальное направление движения получило чувственное
подтверждение в сфере реального предметного мира. Здесь речь
идет о противоречии, которое проникает глубоко в предметную
структуру каждого элемента картины, и относится к диалектике
сущности, как она понимается в логике Гегеля (обнаруживающей
внутреннюю противоречивость части и целого, сущности и явле-
ния и т. д.); это противоречие возникает из всеобщей связи всего
и вся и позволяет ставить и решать проблему противоречивости,
присущей той материальности, что создается самой живописью.
Напротив, в орнаментике, в отличие от яшвописи, это противоре-
чие носит внешний характер. Предметы, изображаемые орнамен-
тально, как это с необходимостью следует из вышеизложенного,
не имеют собственной материальности; они обладают только взя-
тые в совокупности — в зависимости от композиционного реше-
ния — материальным субстратом целого (дерево, камень, слоновая
кость и т. д.), и в силу отсутствия собственно предметной мате-
риальности здесь не могут возникать те моменты напряженности,
которые мы охарактеризовали на примере живописи. Динамика,
возникающая за счет композиции, не знает ни измерений, ни за-
конов движения реального мира, ни направлений, которые зада-
ются этими последними; она — не более чем руководство для
воспринимающего глаза, указывающее на изменения ритма, на
ритмическое «парение» и т. д. Отмеченная нами нематериальность
орнаментики вступает в противоречие только с материальностью
вещества (камень, слоновая кость и т. д.), с материальной обра-
боткой, а не с формируемой материальностью предметов. Именно
поэтому противоречие может быть только внешним, «переходом
в иное», что Гегель92 обозначил как признак низшей ступени
диалектики, «сферы бытия» (в противоположность «сфере сущ-
ности»).
В эстетической сфере орнаментики такое противоречие имеет
поэтому необходимо субъективный характер, то есть это не субъ-
ективное отражение противоречия, самостоятельно существующе-
го в изображении, как таковом, как в приведенных выше приме-
рах из живописи, а такое противоречие, которое возникает только
при восприятии данного произведения искусства, но непременно
будучи выраженным через его объективную структуру. Это окон-
чательно выявившееся противоречие полностью вписывается в
ряд перечисленных выше противоречий. Таким образом, очевидно,
что все эти противоречия характеризуют только многообразие
сторон одних и тех же предметных взаимосвязей и конкретизи-
руют их. «Внелшрность» орнаментики соответственно вытекает из
тощшегтативдси'о^ жазалось 'бы^-только ластного значения, которое
2§3
она необходимым образом должна была иметь при первом упоми-
нании о ней. Сейчас «внемирность» оказывается положительным,
содержательным свойством этого вида искусства, своеобразной
формой его существования, исключительно вариабельной, внут-
ренне зрелой и в эвокативном плане высокопродуктивной формой
существования, не исчерпывающейся формалистически-абстракт-
ной системой чисто формальных отношений; структура этих от-
ношений определяется скорее стремлением передать существен-
ные, значимые элементы содержания, и при этом обладает свой-
ством художественной эвокации многообразных его аспектов.
Шиллер, который, вопреки своим во многом успешным и зна-
чительным попыткам преодолеть кантовскую эстетику, все-таки
зачастую оказывается в плену ее построений (прежде всего он не
смог до конца преодолеть принципиальную бессодержательность
и отчужденность от материи, характерную для «чистой формы»),
дает в стихотворении «Идеал и жизнь» суггестивное'описание
красоты произведения искусства. Объективно такая красота ока-
зывается ложной, обманчивой, если, как это стремится сделать
Шиллер, переносить ее на искусство в целом, в особенности на
изобразительное искусство. Однако, воспевая ее, Шиллер неожи-
данно дает великолепное поэтическое описание того, что мы опре-
делили выше как положительное содержание «внемирности» ор-
намента:
Но едва проникнетесь мышленьем
Красоты, то с восхищеньем
Вы увидите, как вдруг назад
Вещества вся тяжесть отступает,
И не плод труда уж созерцает,
А идею красоты наш взгляд.
Кончена борьба, прочь все сомненья,
И гордясь победою своей,
Мы охотно предаем забвенью
Ограниченность людей.
(Перев. Ф. Миллера)
Уже в самом начале этих рассуждений мы говорили о раннем
я быстром совершенствовании орнаментики. Речь здесь идет не
только о ее раннем возникновении и не только о том, что она, как
мы подчеркивали, опираясь на Вейля, становится художествен-
ным воплощением целого ряда понятийно возможных вариаций,
на тысячелетия раньше того времени, когда их смогло теоретиче-
ски осмыслить научное мышление; прежде всего мы говорим о ее
отношении к действительности, о ее способе эстетического отра-
жения этой действительности, отмеченном специфическими чер-
тами ранних стадий развития человека. Такая точка зрения под-
тверждается также и характерными особенностями составляю-
щих ее основу и определяющих ее своеобразие диалектических
противоречий. Эти противоречия возникают, как мы видели, субъ-
284
ективно на основании тех объективных противоречий, которые,
как правило, выступают на относительно более низких ступенях
внутренней организации материи; геометрия, приобретшая здесь
такое большое значение, также относится к этой группе. Здесь в
ином контексте находят подтверждение наши выводы относи-
тельно исторической конвергенции и дивергенции научных и
эстетических категорий в рамках отражения ими одной и той же
реальности. Мы показали ранее, что высшие ступени дезантропо-
морфизации настолько далеки от чувственной апперцепции чело-
веком объективной действительности, что те новые категории, ко-
торые формируются в ее рамках, не находят более себе соответст-
вия в эстетике. Здесь же, напротив, мы имеем дело с кульминаци-
онным пунктом конвергенции. При всем различии функций — о
чем мы говорили выше, — которые выполняет геометрия в науч-
ном и эстетическом отражении, здесь сохраняется удивительная,
непосредственно очевидная общность между этими двумя форма-
ми отражения, причем такой общности нет между какими-либо
другими формами отражения. В этом также мы видим один из
факторов быстрого совершенствования геометрической орнамен-
тики. Таким образом, становится ясно, что именно мы имели в
виду, говоря о ее «примитивном» характере. Ибо такая тесная
конвергенция научного и эстетического отражения не возобнови-
ма на более высокой ступени. В этом находит свое выражение
естественное, изначальное единство всех способностей человека,
предшествовавшее каким бы то ни было их дифференциациям. Но
вместе с тем речь идет уже не о беспорядочном смешении, спутан-
ности, не о бытии, открытом окружающему миру, но о начале
процесса покорения этого последнего, во всей его грандиозной
однозначности, точности и абстрактности.
Изобразительные искусства в собственном смысле слова, для
которых именно в силу этого не характерна «внемирность», при-
сущая чистой орнаментике, находятся во власти диалектических
противоречий более высокого порядка, то есть подчинены слож-
ным принципам композиции. Поскольку эстетическое чувство в
более поздние эпохи как у творца, так и у зрителя вырабатыва-
лось именно благодаря такому развитию искусства, в орнаментике
как в искусстве эпохи «детства» человечества также следует осо-
бо подчеркнуть оттенок примитивности (в эстетически положи-
тельном смысле) ; детство здесь понимается в специфическом, еще
более широком плане, чем это было у Маркса при разборе грече-
ского искусства. Итак, примитивность в данном случае не озна-
чает неразвитости художественных воззрений или техники ис-
полнения, как это имеет место при зарождении изобразительного
искусства. Напротив, речь идет о совершенстве формы, которое
оказывается более уже недостижимым, в основе которого лежит
единство формы и содержания, не реализуемое при сложных
общественных и духовных условиях позднейших времен.
На этом основано также и воздействие, которое-орнаментика
285
lié может оказывать на современников, но которое, однако, не яв-
ляется произвольным, так как возникает в силу наличия необхо*
димой связи формы и содержания в самой орнаментике. Эта осо^
бенность орнаментики проявляется лишь позднее в ходе истори-
ческого развития, благодаря тому месту, которое занимает в нем
орнаментика, благодаря историческим изменениям социальных
условий и их воздействия на искусство, а также характера на-
слаждения искусством и художественной восприимчивости. Такие
сдвиги в системе мотивации этих воздействий — обычное явление
в истории искусства; их причины, их соответствие эстетической
сущности произведений или их — относительная — случайность
могут быть исследованы только в той части эстетики, которая
рассматривает круг проблем, относящихся к области историческо-
го материализма. Далее мы вернемся к некоторым философским,
предпосылкам и следствиям таких сдвигов. Указывая здесь на
эту проблему, мы, с одной стороны, хотим отметить глубину со-
держательной и мировоззренческой детерминированности чисто
формальной с виду орнаментики; с другой стороны, считаем не-^
обходимым остановиться на этом, поскольку в последние деся-
тилетия геометрическое искусство снова вошло «в моду», однако-
произошло это под влиянием теории, ставящей все эстетические и
исторические вопросы с ног на голову, но тем не менее играющей
известную роль как выражение определяющих тенденций совре-
менного декаданса. Поэтому мы не можем не остановиться на
кратком описании основных положений этой теории.
Самая известная и значительная работа на эту тему — книга
Вильгельма Воррингера «Абстракция и вчувствование». Разумеет-
ся, мы не можем подробно анализировать здесь его эстетические
воззрения; но прежде чем перейти к их краткой характеристике»
следует отметить, что, противопоставляя абстракцию и «вчувство-
вание», он заведомо отрицает отражение действительности в ис-
кусстве; противоположным абстракции понятием оказывается у
него не понятие истинного художественного реализма, а субъек-
тивно-импрессионистическое «вчувствование» (Фридрих Теодор
Фишер, Теодор Липпс и др.). Решительное отрицание Ворринге-
ром какого бы то ни было отражения действительности очевидно;
он говорит: «Банальные теории копирования, от которых наша
эстетика так и не смогла освободиться в силу рабской зависимости
пашей культуры и образования от аристотелевских понятий,
скрыли от нас собственно психические ценности, составляющие
отправную точку и цель всякого художественного творчест-
ва» 93.
Особенность модернистски-декадентской позиции Воррингера
выражается здесь в том, что он считает «абстракцию» не только
исходным пунктом художественной деятельности (с чем нельзя не
согласиться,) * но и целью любого искусства. В теоретическом пла-
не книга Воррингера-•является'как бы предвосхищением экспрес^
сионизма, сторонником которого0 он и стай1 впоследствии. Дйалек-
286
тика развития искусства в целом ограничивается в этой работе
лишь борьбой между импрессионизмом и экспрессионизмом,
причем здесь Воррингер оказывается заодно с теми буржуазными
идеологами, которые стремятся «развенчать» античность и Воз-
рождение и на их место поставить первобытное искусство, искус-
ство Востока, а также готику и барокко. Мы вкратце охаракте-
ризовали общие воззрения Ворриыгера, чтобы стала понятной его
теория «абстракции», опирающаяся, естественно, на геометриче-
скую орнаментику и выступающая как историко-эстетическая
интерпретация последней.
Теоретическая основа позиции Ворриыгера —- противопостав-
ление «причастности» к миру и страха перед ним; первое — источ-
ник вчувствования, второе — абстракции. Типичный пример пер-
вого — классическая античная культура «как последовательное
проведение принципа антропоморфизации мира» 94. «Человек чув-
ствовал себя в окружающем мире как дома и считал, что он —
его центр» 95, — пишет Воррингер в другом месте. Здесь он «за-
бывает» одну мелочь: что именно философы классической Элла-
ды и были, как мы показали, первыми сознательными борцами
за дезантропоморфизацию человеческого мышления, что это было
исходным пунктом их полемики против искусства. Воррингеру
нет дела до таких мелочей, перед ним стоит великая задача —
заменить поверхностную «внутримирность» (имманентность)
античного искусства «надмирностыо» (трансценденцией) другого,
истинного искусства. Однако здесь речь идет лишь об общемиро-
воззрепческих основах; для Воррингера же существенно то, что
субъективно следует из них. Ибо его противопоставление чело-
века и мира на самом деле есть противопоставление инстинкта и
разума. И Воррингер не медлит вынести решение в пользу «транс-
цендентного» мировоззрения в смысле иррационализма, владыче-
ства «инстинкта»: «Инстинкт человека —это не радость жизни,
это страх. Не какой-нибудь физический страх, но страх духов-
ный. Нечто вроде духовной боязни пространства перед лицом
пестрой беспорядочности и произвольности мира явлений» у6„
Таким образом, теория Воррингера выходит за рамки чисто исто-
рико-эстетического объяснения геометрической орнаментики. Е©
основные принципы и есть принципы истинного, трансцендент-
ного искусства: «Всякое трансцендентальное искусство стремит-
ся к дезорганизации органического, то есть к переводу изменяю-
щегося и условного в безусловную необходимость. Но человек в
состоянии воспринимать такую необходимость только в великом
потустороннем — пребывающем по ту сторону жизни, в мире не-
органического. Это привело его к застывшей линии, к мертвым
кристаллическим формам» 97. Итак, геометрическое искусство не-
органического мира — это нечто большее, чем один из видов ис-
кусства, полностью оправданный в рамках сферы действия его
принципов, более того, оно является его безусловным прототипом:
неорганическое, противоположное жизни —вот та великая цель,
Ш
к которой стремится всякое истинное искусство. Здесь принцип
антигуманизма формулируется как основополагающий принцип
жизни и искусства. «...При рассмотрении необходимого и необра-
тимого мы будем полностью избавлены от свойственной всему
человеческому случайности, от мнимой произвольности всеобщего
органического бытия. Жизнь сама по себе не воспринимается как
препятствие для эстетического наслаждения» 98.
В этом своем заявлении Воррингер не одинок; пестрый ряд
проповедников идей такого сорта тянется от Макса Эрнста до
Мальро. Приведем лишь некоторые характерные высказывания
Ортеги-и-Гасета: «Если же искать всеобщие и характерные фор-
мы нового производства, нельзя не столкнуться с отрывом искус-
ства от всего человеческого» ". Далее Ортега-и-Гасет показывает,
что «новая чуткость» в человеке находится во власти «отвращения
ко всему человеческому» 10°. Он делает важные выводы из этого
положения, которое у его предшественников было лишь имма-
нентно представлено: «Но массы и есть, и будут настроены враж-
дебно к этому искусству. Оно по сути своей чуждо народу, более
того, оно ему враждебно» 101. Естественно, в нашу задачу не
входит критика этого нового искусства и его теории. Тем не менее
любому непредвзятому наблюдателю ясно, что основные направ-
ления искусства XX века, такие, как экспрессионизм, кубизм*
конструктивизм, абстракционизм и т. д., как бы различны они ни
были, в своих мировоззренческих и художественных предпосыл-
ках очень близки к подобным теориям искусства, основанным на
принципе «античеловечности».
Здесь нас в первую очередь интересует вопрос о том, как в.
таких декадентских теориях искажаются все тенденции развития
человечества. Все эти направления не просто понимают объектив-
ность науки, объективную противоречивость бытия как враждеб-
ную человеку иррациональность, но и именно как таковую воз-
водят ее в идеал102. Отождествление дезантропоморфизации
познания с античеловечностью научного познания вообще, отож-
дествление независимости объективной действительности от всего
человеческого с ее враждебностью человеку уже давно стало дог-
мой для тех, кто страшится результатов последовательно доведен-
ной до конца дезантропоморфизации наук. Эти панические на-
строения впервые получили свое действительное выражение у
Паскаля. Не случайно он является современником того революци-
онного переворота в математике и естествознании, о котором мы
говорили выше [с. 137 и ел.], не случайно он как ученый относится
к числу первопроходцев в этой области, но и не случайно в своем
мировоззрении он страшится полученных им же результатов и
ищет в христианском мире мир человечности, после того как нау-
ка лишила мир и бога и человечности. При этом и у Паскаля
возникают мотивы страха. Но лишь тогда, когда общественное
развитие шагнуло так далеко, что господствующие классы и ин-
теллигенция стали воспринимать его как полностью дегуманизи-
288
рованное, страх становится опорой идеологии ретроградов, а его
извращенное подтверждение, его самоубийственная идеализа-
ция — господствующим мотивом в мышлении и искусстве дека-
данса. Это отношение к жизни и выражает Воррингер, вкупе со
своими единомышленниками.
Мы видели, что тем самым основы его представления об абст-
рактных формах, их эстетической сущности и историческом воз-
действии оказываются взаимосвязанными. Соблазнительность
таких теорий обусловлена тем, что они представляют собой смесь
полуправды с вымыслом, естественно, на базе «возвышения до
понятия», онтологизации декадентской системы чувствования. Мы
уже вскрыли суть такого единства полуправды с вымыслом: де-
заытропоморфизация познания мира за счет прогресса науки
приравнивается в них к ужасающей бесчеловечности. Путаницу
того же сорта представляет собой гипертрофия страха и превра-
щение его в источник истинного искусства, а заодно и в «первич-
ное чувство» человечества, как в начале, так и в конце его пути.
Несомненно, страх играл большую роль в жизни первобытного
человека. Но когда Воррингер хочет видеть в геометрической ор-
наментике (а соответственно, косвенным образом, и в самой гео-
метрии) исконное выражение этого страха, это просто ложь и
искажение фактов. Пережитки магии прямо свидетельствуют о
могуществе такого страха, но, как мы видели, именно открытие
геометрической упорядоченности, геометрической закономерности
(в повседневной практике, в науке и в искусстве) стало первым
шагом на пути хотя бы частичного освобождения от этого страха,
возникающего в силу неспособности людей овладеть силами при-
роды [с. 269 и ел.]. Рациональное и эмоциональное воздействие,
отголосок этого освобождения, обнаруживаются в идеологии на
протяжении нескольких тысячелетий после того, как страх был
полностью преодолен. То, что первые попытки овладения дейст-
вительностью при помощи математики и геометрии также были
связаны с магическими представлениями, ничего не меняет; это
явление характерно для первого периода развития человечества
в целом.
В рассуждениях подобных рассуждениям Воррингера, связь
человека с неорганическим миром ставится с ног на голову. Освое-
ние объективной действительности, первые шаги которого он рас-
сматривает, превращаются в духовную «боязнь пространства», а
неорганический мир, по приведенному выше выражению Маркса,
«неорганическое тело человека» [с. 270] становится воплощени-
ем принципа враждебности человеку. Мироощущение декаданса
эпохи империализма проецируется на начальные этапы развития
человечества, а такое перенесение приводит к тому, что ми-
ровосприятие, характерное для периода упадка, считается глубо-
чайшим выражением всего человеческого существа и истинного
искусства и наконец, обобщение геометрической орнаментики и
рассмотрение ее как основополагающего принципа всякого на-
|9 Заказ № 683
289
стоящего искусства опять-таки представляет собой у Воррингера
«смесь полуправды и вымысла. Последнее мы уже продемонстри-
ровали. Полуправда же состоит в том, что определенные принци-
пиальные достижения орнаментики в ходе ее развития провозгла-
шаются решающими компонентами искусства вообще. (Ниже мы
•остановимся конкретнее на этом вопросе.) Именно поэтому —
здесь мы видим решающее опровержение теории Воррингера —
тенденции орнаментики, действующие повсеместно, в ходе этого
процесса в значительной мере преодолевают свой специфический,
строго геометрически-неорганический характер. Они становятся
■одним из определяющих в художественном отношении факторов
отражения объективной действительности, прежде всего человека
и его мира; таким образом они проявляются — ив готике, и в ба-
рокко, и т. д. — прямо противоположно тому, что утверждает
Воррингер: не орнаментика навязывает свои неорганические за-
коны органической (человеческой) действительности в ее худо-
жественном отражении, а принципы, сформировавшиеся благода-
ря орнаментике, соприкасаются с принципами конкретно-предмет-
ного отражения действительности, становятся элементами формы
уже не абстрактного, не «внемирного» искусства. Понятно, что и
этот процесс может происходить только на основании диалекти-
ческого противоречия. Мы можем остановиться на анализе кон-
кретных противоречий только в конкретной связи.
Проблемы генезиса и сущности орнаментики имеют общеэсте-
тическую значимость, то есть значимость, выходящую за рамки
■философского анализа ее генезиса. «Внемирность» орнаментики,
характерная не только для чисто геометрического ее вида, по-
рождает на первый взгляд простую, а на самом деле достаточно
сложную связь самой орнаментики с ее социальной базой ж раз-
витием этой последней; эта связь значительно сложнее, чем у
искусств, изображающих конкретную действительность, которым
само по себе общественно-историческое развитие дает особое со-
держание для отражения действительности, определяя в то же
время изменения их эстетической формы: нельзя представить себе,
чтобы Гомер мог предвосхитить достижения Томаса Манна в об-
ласти формы. Такое предвосхищение, однако, в большей мере
наличествует в орнаментике именно благодаря ее абстрактности
и «внемирности». Непосредственная связь с более ранними до-
стижениями в области формы или ее спонтанное репродуцирова-
ние под влиянием изменившихся социальных условий, почти не-
изменное следование традициям имеют здесь гораздо более
широкое распространение, чем в других видах искусства. Но,
естественно, его нельзя считать безграничным. Сошлемся еще раз
на наше утверждение [с. 261 и ел.] о том, что украшение чело-
века (в противоположность украшениям животного) носит со-
циальный, а не биологический характер, что эта социальная осно-
ва имеет тем больший радиус действия, чем дальше процесс
декорирования уходит от повседневности, чем скорее оно. пре-
вращается в искусство. Поэтому общественное развитие оказы-
вает сильное влияние на возможности генезиса и воздействия
орнаментики. Выяснить, когда это превращение становится для
нее плодотворным, когда оно перестает быть таковым, в чем со-
стоят его основные принципы, — задача историко-материалисти-
ческого искусствоведения. Здесь следует только отметить, что
речь идет при этом об объективном стечении обстоятельств, об
объективных возможностях такого способа отражения действи-
тельности и вытекающей отсюда системы форм. Таким образом,,
они никак не зависят от воли и решения человека определенной
эпохи. Мы уже видели, какое большое значение Воррингер при-
дает орнаментике, и знаем, что самые различные течения в ис-
кусстве — начиная со стиля модерн — пытались создать новую,,
современную орнаментику. Анализируя теорию Воррингера, мы
показали — и сегодня это уже стало общим местом — крах всех
этих попыток (например, так называемое абстрактное искусства
создает псевдоорнаментику: оно вульгаризирует и искажает от-
ражение действительности, понимая его как псевдоорнаменталь-
ное, псевдодекоративное, не открывая ничего по-настоящему
нового в орнаментике). Здесь со всей очевидностью проявляется
упомянутая выше объективность основ: каждая эпоха имеет свои
мировоззренческие предпосылки существования орнаментики,,
обусловленные особенностями социальной жизни, специфическим
способом отражения действительности; только на этой основе си-
стема орнаментальных форм может найти свое подлинное вопло-
щение, а не сведется к набору эфемерных модных приемов и
трюков. Теории, решения, программы и т. д. могут стать плодо-
творными только тогда, когда они отражают осознание плодо-
творных тенденций общественной жизни. Именно эта объектив-
ность основ показывает — о чем мы уже неоднократно упомина-
ли, — насколько искусство орнаментики, на первый взгляд кажу-
щееся чисто формальным, определяется в конечном итоге именно
своим содержанием.
19*
.es
ПРИМЕЧАНИЯ
В качестве эпиграфа приводятся слова К. Маркса из первого тома «Капи-
тала» (см.: Маркс К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 23, с. 84).
Предисловие
* Повседневная, обыденная жизнь (нем. Alltagsleben, alltägliches Le-
ben) — одно из центральных понятий концепции Д. Лукача. Под обыденной
жизнью он понимает один из обязательных аспектов человеческого сущест-
вования, практики от древнейших времен до наших дней. Это выражение
имеет сугубо нейтральный, терминологический характер и никоим образом
не содержит негативного оттенка (за исключением, разумеется, тех случаев,
когда речь идет о привнесении категорий обыденной жизни, например в
научные концепции). В данном издании переводчики, исходя из стилисти-
ческих соображений, равноправно употребляют как перевод термина
Alltagsleben выражения обыденная жизнь и повседневная жизнь, повсед-
невность.— Прим. перев.
1 Один из характернейших видов вульгаризации марксизма выражается
в тенденции рассматривать диалектический и исторический материализм
как независимые друг от друга научные дисциплины, признавая необходи-
мость существования даже особых «специалистов» по каждой из этих дис-
циплин в отдельности.
2 См.: Die Sickingendebatte zwischen Marx—Engels und Lassai. — In:
Lukâcs G. Karl Marx und Friedrich Engels als Literaturhistoriker. Berlin,
1948 und 1952. Впервые опубликовано в русском переводе (см.: «Литератур-
ное наследство». 1931, т. 3).
3 См.: Me ринг Ф. Литературно-критические статьи, т. 1—2. М.—Л.,
1934; Плеханов Г. В. Литература и эстетика, т. 1—2. М., 1958.
4 См.: Лифшиц М. Ленин о культуре и искусстве.—«Марксистско-ле-
нинское искусствознание», 1932, № 2, с. 143 и ел.; его же. Карл Маркс и
эстетика.—«Интернациональная литература», 1933, № 2, с. 127 и ел.; Маркс
л Энгельс об искусстве и литературе. М., 1933; Карл Маркс и Фридрих Эн-
гельс об искусстве. М,—Л., 1937.
5 См.: Child е G. What happened in history (1941); цит. по: С h il de G.
Stufen der Kulture. Von der Urzeit zur Antike. Stuttgart, 1955.
6 См.: Lukâcs G. Die Theorie des Romans. Ein geschiehtsphilosophischer
Versuch über die Formen der großen Epik. Berlin, 1920.
Глава I. Проблемы отрао/сения в повседневной жизни
1 Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей
нервной деятельности животных. М., 1951, с. 464.
2 S i m m e 1 G. Die Religion. Frankfurt a. M., 1906, S. 11.
3 Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 42.
4 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 489—490.
5 Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 23, с. 189.
6 Там же, с. 190.
7 Р а г e t о V. Allgemeine Soziologie. Tübingen, 1955, S. 59.
8 Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 21, с. 307.
9 Ricke г t H. Der Gegenstand der Erkenntnis. Tübingen, 1928, S. 116.
10 Rothacker E. Probleme der Kulturanthropologie. Bonn, 1948, S. 166
[1121.
292
11 С a s s i r e r E. Philosophie der symbolischen Formen. Teil 2: Das my-
thische Denken. Darmstadt, 1953, S. 48.
12 См.: Д e к a p t Р. Избр. произв. M., 1950, с. 532.
13 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 293.
14 См.: Cassirer E. Philosophie der symbolischen Formen. Teil 2, S. 62.
15 Ibid., S. 51.
16 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 21, с. 307.
17 Г е г е л ь Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук в трех томах,
т. 1. М., 1974, с. 376.
18 P г a n 11 V. С. Geschichte der Logik im Abendlande. Bd.; 1. Berlin, 1955,
S. 23
19 Гёте И. В. Изречения в прозе. Спб., 1888, с. 130.
20 Там же, с. 130—131.
21 Гёте И. В. Собр. соч., т. 8. М., 1979, с. 259.
22 Там же, с. 262.
23 Г е р д е р И. Г. Избр. соч. М.—Л., 1959, с. 141.
24 Леви-Брюль. Л. Первобытное мышление. М., 1930, с. ИЗ.
25 Лейбниц Г. В. Соч. в четырех томах, т. 1, М., 1982, с. 335—336.
26 Там же, т. 2, с. 276.
27 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 330.
28 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 42, с. 90.
29 Там же, с. 91.
30 См.: Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 2, с. 39.
31 См.: Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 20, с. 281—282.
32 Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 26, ч. II, с. 123.
33 Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 105.
34 Heidegger M. Sein und Zeit. Halle, 1941, S. 50.
* Здесь автор употребляет термины, введенные Хайдеггером: das Zeug
вместо употребительного, в том числе и в философских текстах die Sache,
«вещь» — пренебрежительное обозначение типа русск. барахло; das Man
вместо der Mann, der Mensch—языковая инновация Хайдеггера, субстан-
тивированное безличное местоимение man, ср. man sagt, «говорят»; das Ge-
rede (die Rede, «речь») — пренебрежительно-разговорное «толки», «болтов-
ня»; die Zweideutigkeit, «двусмысленность», das Verfallen, «упадок, деграда-
ция» как характеристика процессов повседневности. Заметим, что у Хай-
деггера термин Alltagsleben имеет столь же пренебрежительную окраску,
ср. обыденщина, быт. — Прим. перев.
35 Ibid., S. 178.
36 Ibid., S. 179.
37 Ibid, S. 167.
38 Ibid., S. 169.
39 Ibid., S. 69.
40 Л e н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 30.
41 Там же, с. 79.
42 См.: Чернышевский Н. Г. Собр. соч. в пяти томах, т. 4. М., 1974,
с. 148—150.
43 L u к а с s G. Der russische Realismus in der Weltliteratur. Berlin 1952,
S. 257 ff.; см. также: Лукач Г. К истории реализма. М., 1939, с. 324—329.
44 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 210.
45 С h i 1 d e G. Stufen der Kultur, S. 11.
46 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 490.
47 Gehlen A. Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt.
Bonn. 1950, S. 201.
48 См. там же, с. 67 и ел. — То, что Гелен говорит здесь о символах и т. п.,
отнюдь не умаляет истинности его утверждений.
49 См.: С h i 1 d e G. Stufen der Kultur, S. 38 f.
50 См.: Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 20, с. 116; см. также: Ге-
гель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук, т. 1, с. 332—333.
51-52 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление, с. 114.
293
63 См. там Яке, с. 97—99.
54 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 39, с. 83.
55 Gehlen A. Der Mensch, S. 154.
56 Ibid., S. 220.
57 Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 20, с. 489.
58 С h i 1 d e G. Stufen der Kultur, с. 168 f.
59 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1980, с. 277.
60 См. там же, с. 278 и ел.; см. также: Леви-Брюль Л. Первобытное*
мышление, с. 30.
61 В о a s F. Primitive Art. New York, 1951, c. 3.
62 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь, с. 21, 61.
63 Thomson G. Aeschylus and Athens. A Study in the Social Origins-
of Drama. London, 1946, p. 13 f.
64 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь, с. 64.
65 Там же, с. 20.
66 G г о о s К. Die Spiele der Tiere. Iena. 1907, S. 13.
67 Gehlen A. Der Mensch, S. 222.
68 См.: Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь, с. 31.
69 Маркс К. и Эн г е л ь с Ф., Соч., т. 37, с. 419.
70 См.: Schmidt M. Die materielle Wirtschaft bei den Naturvölkern^
Leipzig, 1923, с 33.
71 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М., 1940,.
с. 177.
72 Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 20, с. 493—494.
73 Linton R., Wingert P. S. in Collaboration with D'Harnocourt R.
Arts of the South Seas. New York, 1946, p. 12 f.
74 T э й л о p Э. Первобытная культура. M., 1939, с. 474.
75 Там же, с. 472.
76 Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 21, с. 159.
77 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь, с. 109.
78 Kant I. Was heißt: Sich im Denken orientiren?—Kant's gesammelte-
Schriften, Teil 1, Bd. 8. Berlin, 1904—1911. S. 141.
79 Гегель Г. В. Ф. Наука логики в трех томах, т. 3. Мм 1972, с. 200.
80 Hartmann N. Das Problem des geistigen Seins. Untersuchungen zur
Grundlegung der Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften. Berlin-
Leipzig, 1933, S. 97.
81 Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет в двух томах, т. 2. М., 1973»
с. 530.
82 S i m m e 1 G. Die Religion, S. 28 f.
83 Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 20, с. 381.
84 Ruben W. Einführung in die Indienkunde. Berlin, 1954, S. 263.
85 Ibid., S. 272.
86 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление, с. 121.
87 Schmidt M. Grundriß der etnologischen Volkswirtschaftslehre.
Bd. 1: Die soziale Organisation der menschlichen Wirtschaft. Stuttgart, 1920,
S. 119.
88 Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 16, с. 131.
89 Фейербах Л. Избр. филос. произв., т. 2. М., 1955, с. 693.
90 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 53.
Глава 2. Дезантропоморфизация отражения в науке
1 Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 20, с. 639.
2 Ma р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 466.
3 Там же, с. 465.
4 Там же..с. 467..
5 Bùrckhardt I. Griechische Kulturgeschichte, Bd. 2. Leipzig, о. J.t
S. 358 (Kröners Taschenausgaben) ; см. также: В e 1 о с h J. Griechische Geschi-
chte, Bd. 1. Straßbürg, 1893, S. 127 f. > * t
_ J5 Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 26, ч. I, с. 282.
294
7 Цит. по: Nestle W. Vom Mythos zum Logos. Die Selbstentfaltung des
^griechischen Denkens vom Homer bis auf die Sophistik und Sokrates. Stuttgart,
1940» S. 479 f.
8 См.: Кудрявцев П. С. История физики, т. 1. М., 1948, с. 63.
9 Цит. по: M а к о в е л ь с к и й А. О. Досократики, ч. 1. Казань, 1914, с. 111,
112.
10 N е s 11 е W. Vom Mythos zum Logos, S. 280.
11 Цит. по: Древний мир в памятниках его письменности, ч. 2. М., 1917,
■о. 400.
12 H е g е 1 G. W. F. Verhältnis des Sceptizismus zur Philosophie. Darstel-
lung seiner Modifikationen und Vergleichung des neuesten mit dem alten. —
In: Hegel G. W., F, Sämtliche Werke, Bd. 1. Hamburg, 1952—1960, S. 184.
13 Гегель Г. В. Ф. Соч., т. X, М., 1932, с. 440.
14 Аристотель. Соч. в четырех томах, т. 1. М., 1975, с. 104—105.
15 Там же, с. 198—199.
16 Р loti п. Enneaden V, 1, 26 (übers, von H. E. Müller, Bd. 2. Berlin, 1878,
5.253).
17 Аристотель. Соч., т. 1, с. 85.
18 PI о tin. Enneaden V 1, 6 (übers, von H. F. Müller. Bd. 2, S. 147).
19 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 3, с. 200.
20 Plot in. Enneaden VI 2, 4 (übers, von H. F. Müller, Bd. 2, S. 263).
21 Plotin. Enneaden V 8, 4 (ibid.., S. 204 f.). —Русск. перев. см.: История
эстетики. Памятники мировой эстетической мысли, т. 1. М., 1962, с. 227—228.
22 Г е г е л ь Г. В. Ф. Соч., т. X, с. 379.
23 См.: Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 20, с. 506—507.
24 Map к с К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 4, с. 184.
25 Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 33—34.
26 Там же, с. 34—35.
27Scheler M. Probleme einer Soziologie des Wissens. — In: Versuche
яи einer Soziologie des Wissens. München—Leipzig, 1924, S. 115.
28 Ortega у Gasset J. Der Mensch und das Maß dieser Erde. — In:
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Oktober 1954, Sonderausgabe Der Weltverkehr,
S. 1.
29 Манн Т. Волшебная гора. — В: Манн Т. Собр. соч., т. 3. М., 1959,
<5. 48.
30 Planck M. Religion und Naturwissenschaft (Vortrag, gehalten im Balti-
kum im Mai 1937). — In: Planck M. Vorträge und Erinnerungen. Stuttgart,
1949, S. 332.
31 Маркс К. и Э н г е л ьс Ф. Соч., т. 23, с. 90.
32 Planck M. Die Physik im Kampf um die Weltanschauung (Vortrag
dehalten im Harnack-Hans, Berlin-Dahlem, am 6. März 1935). — In: P1 a n с k M.
Vorträge und Erinnerungen. S. 288 f.
33 См.: Г о б б с Т. Избр. произв., т. 1. М.. 1964, с. 286; Спиноза Б. Избр.
произв., т. 1. М., 1957, с. 455.
34 Спиноза Б. Избр. произв., т. 1, с. 530.
35 G e h 1 e n A. Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und
Aussagen. Bonn, 1956, S. 238.
36 M y s i 1 R. Tagebücher, Aphorismen, Essays und Reden. Hamburg, 1955,
S. 319.
37 Маркс К. иЭнгельс Ф. Соч., т. 3, с. 124.
38 См.: Декарт Р. Избр. произв., с. 679.
39 Г о б б с Т. Избр. произв., т. 1, с. 248, 250.
40 Спиноза Б. Избр. произв., т. 1, с. 472, 561.
41 Быть может, небезынтересно отметить, что к этим строкам часто об-
ращались классики марксизма. Энгельс применил их для выражения надеж-
ды мелкого буржуа на свое восхождение в ранг крупного буржуа, и опасе-
ния низвергнуться в ряды пролетариев. О характерном для Гёте понимании
слова «филистер», отличном от принятого среди романтиков и в позднейшие
периоды, я пишу в книге «Гёте и его время» (см.: L u k а с s G. Goethe und
seine Zeit. Berlin, 1953, S. 33).
2$5
42 Галилей Г. Избр. труды, т. 2, М.. 1964, с. 499—500.
43 Цит. по: Ольшки Л. История научной литературы на новых языках^
М.—Л., 1933, с. 256—257; см. также: Галилей Г. Избр. труды, т. 1, с. 460г
461, 463.
44 См. там же, с. 117—120, 132—135.
45 Farrington В. Francis Bacon. Philosopher of Industrial Science. Lon-
don, 1951, p. 4.
46 Б э к о и Ф. Соч. в двух томах, т. 2. М., 1978, с. 59.
47 См. там же, с. 37—38.
48 Б э к о ы Ф. Соч., т. 1. М., 1977, с. 64—65.
49 Б э к о н Ф. Соч., т. 2, с. 18.
50 Там же, с. 19.
51 Там же.
52 Там же, с. 25.
53 Там же.
54 Там же, с. 20.
55 Там же, с. 69—70.
56 Там же, т. 1, с. 72—73.
57 Там же, с. 73.
58 Там же, т. 2, с. 30.
59 Там же, с. 61.
68 См.: Спиноза Б. Избр. произв., т. 1, с. 350—351.
61 См. там же, с. 326.
62 См. там же, с. 328.
63 См. там же, с. 337—338.
64 См. там же, с. 340.
65 См. там же, с. 349.
66 См. там же, с. 335.
67 Там же, с. 349—350.
68 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 23, с. 383.
69 Там же, с. 391.
70 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 46, ч. II, с. 204.
71 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 451—452 (курсив наш.—
Д. Л.). Антигуманность капиталистического применения принципа дезантро-
поморфизации в процессе труда подробно рассматривается в «Экоиомическо-
философских рукописях» Маркса (см.: Маркс К. иЭнгельсФ. Соч.,
т. 42).
72 Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen,
1922, S. 535.
Глава 3, Принципы отделения искусства от повседневной жизни.
Предварительные вопросы
1 См.: Boas F. Primitive Art, S. 21.
2Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 20, с. 487—488.
3 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 21. с. 278.
4 Gehlen A. Der Mensch, S. 42 f.
5 Ibid., S. 67 f.
6 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 20, с. 350.
7 Gehlen A. Urmensch und Spätkultur, S. 274 f.
8 Meyer E. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. Berlin —
Stuttgart 1925, S. 119. — Цит. по: Gehlen A. Urmensch und Spätkultur,
S. 275.
9 Подходы к решению этой проблемы мы встречаем, разумеется, еще в
античности; и прежде всего Фукидид своей «Историей Пелопоннесской вой-
ны» предвосхитил ее позднейшее развитие.
10 См.: Меринг Ф. Литературно-критические статьи, т. 2, с. 465.
11 Hamann J. G. Aesthetica in nuce. Eine Rhapsodie in Kabbalistischer
Prose. — In: Sämtliche Werke. Bd. 2: Schriften über Philosophie, Philologie,
Kritik, 1758—1763. Wien, 1950, S. 197.
296
12 Насколько мне известно, связь между Вико и Гаманом текстуально
(недоказуема, хотя некоторые идеи Вико легко могли стать доступными
Гаману, например, благодаря изучению им памятников английской ста-
рины.
13 См.: Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций,
•с. 128, 132 и ел.
14 Там же, с. 127.
15 Там же, с. 132.
16 Hamann J. G. Sokratische Denkwürdigkeiten. — In: Sämtliche Werke,
Bd. 2, S. 65.
17 См. в этой связи мою книгу: L u к а с s G. Der junge Hegel und die Prob-
leme der kapitalistischen Gesellschaft. Berlin, 1954, S. 389 ff.
18 Маркс К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 42, с. 159.
19 Там же, с. 121—122.
20 M а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 23, с. 383, прим. 89.
21 Маркс К. и Э и г е л ь с Ф. Соч., т. 42. с. 121.
22 Fiedler К. Schriften über Kunst, Bd. 1. München, 1913, S. 185.
53 Ibid., S. 201.
** Ibid.
25 Ibid., S. 205.
26 Ibid., S. 255 ff.
27 Ibid., S. 307a 361 f.
28 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 630.
29 «Единство мира состоит не в его бытии, хотя его бытие есть предпо-
сылка его единства, ибо сначала мир должен существовать, прежде чем он
может быть единым. Бытие есть вообще открытый вопрос, начиная с той
границы, где прекращается наше поле зрения. Действительное единство ми-
ра состоит в его материальности, а эта последняя доказывается не парой
-фокуснических фраз, а длинным и трудным развитием философии и естест-
вознания» (Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 20, с. 43).
30 Здесь обнаруживается, как уже было сказано, что единственное резкое
различие между искусством и трудом достаточно явно выступает лишь в
•самом произведений искусства. Художественный творческий процесс мно-
гообразно соприкасается как с самим трудом, так и с научным отражением
действительности. Последнее образует неснимаемый момент этого процесса.
Конкретно возникающие здесь проблемы могут быть рассмотрены только
©о второй части «Эстетики», при анализе типов эстетического пове-
дения.
31 Разговоры Гёте, собранные Эккерманом, ч. 2, Спб., 1905, с. 190—191.
32 Гёте И. В. Собр. соч., т. 8, М., 1979, с. 405.
33 G о е t h е J. W. Maximen und Reflexionen. — In: G о e ,t h e J. W. Sämt-
liche Werke, Bd. 4, S. 210.
34 Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 3. М., 1972, с. 309.
35 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 198.
36 См. в этой связи: Lukâcs G. Der historische Roman. Berlin, 1955,
S. 88 ff.
Глава 4. Абстрактные формы эстетического отражения действительности
1 Конечно, здесь не следует проводить параллель с аристотелевским
пониманием ритма и гармонии (а также подражания) как естествен-
ных способностей человека (см.: Аристотель. Соч., т. 4, с. 546—
648).
2 Леви-БрюльЛ. Первобытное мышление, с. 161.
3 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь, с. 737.
4 См.: Павловские среды, т. I—П. М.—Л., 1949.
5 См. там же.
6 Adama van Scheltema F. Die Kunst der Vorzeit Stuttgart, 1950,
S. 41.
7 Гёте И. В. Избр. филос. произв. М., 1964, с. 323.
297
8 Bücher К. Arbeit und Rhythmus. Leipzig—Berlin, 1909, S. 22.
9 Ibid., S. 23.
10 Ibid., S. 24.
11 Ren seh B. Ästhetische Faktoren bei Färb- und Formbevorzugungeifc
von Äff en. — "Zeitschrift für Tierpsychologie", Bd. 14. H. 1 (August 1957).
Berlin—Hamburg, S. 71—99.
12 Мы не относим сюда сложные навыки этапа машинного развития, так
как в этот период трудящийся был порабощен машиной.
13 G h i 1 d е G. Man Makes Himself. London, 1937, p. 209.
14 Ibid., p. 255 f.
15 Gehlen A. Der Mensch, S. 230 f. Тот факт, что Гелен говорит здесь-
о «символах» и не осознает аналогичности этого акта с тем процессом, котск
рый рассматривается нами, не отменяет точности его описания.
16 Boas F. Primitive Art, S. 40.
17 Gehlen A. Der Mensch, S. 154.
18 В ü с h e r K. Arbeit und Rhythmus, S. 359.
19 Ibid., S. 331—334.
20 Ibid., S. 325 f.
21 Caudwell Ch. Illusion and Reality. A Study of the Sources of Poetry^
London, 1950, S. 199.
22 С h i 1 d e G. Man Makes Himself, p. 243.
23 Caudwell Ch. Illusion and Reality, p. 247.
24 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 322.
25 Klopstock F. G. Von der Nachamung des griechischen Sylbenmaßes-
in Deutschen. — In: Sämtliche Werke, Bd. 15. Leipzig, 1830, S. 10.
26 Goethe an С F. Zelter, 22. Juni 1808.
27 P о e E. A. The Rational of Verse. — In: The Works of Edgar Allan Po*
in Eight Volumes, Bd. 5. New York, 1896, S. 167.
28Wölflin H. Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen-
und Entstehung des Barockstils in Italien. München, 1926, S. 64 f., 123 f.
29 Bücher K. Arbeit und Rhythmus, S. 369.
30 Ibid., S. 370.
31 Ibid., S. 58—60; ср. также: Burckhardt J. Griechische Kulturgeschich*
te, Bd. 2, S. 204 f.
32 Аристотель. Соч., т. 4, с. 635—638.
33 Платон. Соч. в трех томах, т. 3, ч. 2. М., 1972, с. 117.
34 G о e t h e J. W. Maximen und Reflexionen. — In: G о e t h e I.W. Sämt-
liche Werke, Bd. 38, S. 257.
35 Caudwell Ch. Illusion and Reality, S. 246.
36 Шиллер Ф. Собр. соч. в восьми томах, т. 8. М.—Л., 1950, с. 677.
37 Там же, с. 678.
38 H e g е 1 G. W. F. Vorlesungen über die Naturphilosophie als der Encyc-
lopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. — In: G. W. F. He-
gel's Werke. Berlin. 1832—1845, S. 48.
39 См.: Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 20, с. 486 и ел.
40 В о a s F. Primitive Art, S. 33.
41 См.: Wеу 1 H. Symmetry. Princeton, N. J., 1952, S. 16 f., 22.
42 W ö 1 f 1 i n H. Gedanken zur Kunstgeschichte. Basel, 1941, S. 83.
43 Ibid., S. 90.
44 Ibid., S. 83.
45 R i e g 1 A. Stilfragen. Berlin, 1923, S. 37.
46 См.: Ciba-Zeitschrift (Basel), 6 Jg., № 62.
47 См.: W e y 1 H. Symmetry, S. 30.
48-49 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. ИЗ.
so Worringer W. Abstraktion und Einfühlung. München, 1908, S. 46.
si К а н т И. Соч., т. 5. М., 1966. с. 205.
52 Вместе с тем имеется диалектико-материалистическая поправками кан-
товской теории «незаинтересованности»; однако остановиться на ней целе-
сообразнее в ходе наших дальнейших рассуждений (см. т. 2. гл. 8Г §3 и т. 4,
гл. 14, §6).
298
и Здесь речь идет о своеобразной форме эстетического отражения, ис-
черпывающее описание которой с теоретической точки зрения будет дано
в дальнейшем (см. т. 4, гл. 14, § 3).
54 Ниже мы остановимся подробнее на этом комплексе проблем и наде-
емся избежать присутствующей здесь абстрактности при их рассмотрении,
связанной с необходимостью исследовать вопрос исключительно с точки зре-
ния пропорциональности. Будет уделено должное внимание другим аспек-
там проблемы, таким, как материальность, цвет, украшения и др. (см. т. 4,
гл. 14, §6).
55 Hemsterhuis F. Oeuvres Philosophiques, V. I. Leuwarde, 1840, S. 17.
56 D ü г e г A. Schriftlicher Nachlaß. Halle, 1893, S. 222.
57 Ibid., S. 359.
58 BurckhardtJ. Der Cicerone. Leipzig, o. J., S. 7.
59 В а с о n F. Essays. London, 1907, S. 177.
60 См., например: H о m e И. Grundsätze der Kritik. Aus dem engl, übersetzt
von Joh. Nikolaus Meihard nach der 4., verbess. engl. Ausgabe, Bd. 2. Leipzig,
1772, S. 518.
61 Burckhardt J. Griechische Kulturgeschichte, Bd. 2, S. 134 f.
62 См.: Аристотель. Соч., т. 4. M., 1984, с. 653—654.
63 См. там же, с. 85—87.
*4 Об этом я пишу в моей статье о Пушкине (см.: L u к а с s G. Die russi-
sche Realismus in der Weltliteratur, S. 25 ff.).
65 Ko tt J. Die Schule der Klassiker. Berlin, 1954, S. 100.
66 Ibid., S. 102.
67 См.: Hoernes M. Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa von
den Anfängen bis um 500 vor Christi. Wien, 1925, S. 18.
68 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 93—94.
69 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 39.
70 Плеханов Г. В. Письма без адреса. М.. 1956, с. 110.
71 Darwin Ch. Gesammelte Werke, Bd. 4. Stuttgart, 1881„. S. 55.
72 Ibid., S. 261.
73 Adama van Scheltema F. Die Kunst der Vorzeit, S. 38.
74 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 33.
75 См.: Hoernes M. Urgeschichte der bildenden Kunst, S. 83.
76 См.: Adama van Scheltema F. Die Kunst der Vorzeit, S. 54 f.
77 Очевидно, такая дистанция не может возникнуть в случае непосредст-
венного декорирования тела человека; она возникает только тогда, когда
украшение существует независимо от тела человека.
78-80 МарксК. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 92.
81 Гегель Г. В. Ф. Соч., т. 4. М., 1959, с. 6.
82 Г е г е ль Г. В. Ф. Наука логики, т. 3, с. 262.
83 Там же, с. 262—263.
84 См.: H a m b i d g e G. Dynamic Symmetry. Jale, 1920, S. 7 f.
85 См.: Weyl H. Symmetry, S. 103; ср. также S. 49—52.
86 К a h T И. Соч., т. 5. M., 1966, с 232.
87 См.: Riegl A. Stilfragen, S. 31.
88 См.: Dionysios Aeropagita. Die Hierarchie der Engel und
der Kirche. Mit einer Einführung von Hugo Ball. München-Planegg. 1955,
S 23
89 См.: Boas F. Primitive Art, S. 88 f.
90 Adama van Scheltema F. Die Kunst der Vorzeit,, S. 59.
91 См.: Маркс К. иЭпгельс Ф. Соч., т. 2, с. 296 и ел.
92 См.: Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук, т. 1, с. 343.
93 Worringer W. Abstraction und Einfühlung, S. 168.
*4 Ibid., S. 169.
*5 Ibid, S. 133.
96 Ibid., S. 170 f.
97 Ibid, S. 177.
*8 Ibid, S. 31.
299
"Ortega y Gasset J. Die Vertreibung des Menschen aus der Kunst
(1925). — In: Gesammelte Werke, Bd. 2. Stuttgart, 1955, S. 238 f.
100 Ibid., S. 245.
101 Ibid., S. 231.
102 См. об этих общих направлениях: L и к а с s G. Die Zerstörung der
Vernunft — In: Lu к а с s G. Werke, Bd. 9. Neuwied, 1962.
ЭСТЕТИКА ДЬЁРДЯ ЛУКАЧА
(Послесловие)
Творческая личность Лукача сложна, противоречива, много-
гранна. Он прожил большую жизнь, его творческий путь был из-
вилист, тернист: вступив на него страстным приверженцем идеа-
листических систем Канта и Гегеля, он завершил его как убеж-
денный сторонник философии Маркса, Энгельса и Ленина. Об этом
рассказывает сам Лукач в предисловии к работе «Мой путь к
Марксу» \ Об основных моментах этого в высшей степени содер-
жательного и во многих отношениях поучительного творческого»
пути позволяет судить и предлагаемый вниманию читателя пере-
вод его двухтомного труда по эстетике. Однако наиболее полное
представление о творчестве Лукача дает вся совокупность его*
трудов — от самых ранних, домарксистских, до самых поздних, на-
писанных зрелым марксистом2.
1 L u к а с s G. Utam Marxhoz, v. I—II. Budapest, 1971.
2 К числу ранних, домарксистских, работ Лукача можно отнести все*
написанное им до 20-х годов, в том числе: «Душа и форма», «Теория рома-
на», а также труды, составляющие «Философию искусства», и исследова-
ния, получившие название «Гейдельбергской эстетики» («Frühe Schriften^
zur Ästhetik» (1912—1918), Bd. I: «Philosophie der Kunst» (1912—1914) v
Bd. II: «Heidelberger Ästhetik» (1916—1918), 1971). Далее следуют такие фун-
даментальные труды, имеющие непосредственное отношение к философ-
ской эстетике, как «Статьи по истории эстетики» («Beiträge zur Geschichte
der Ästhetik», 1956), исследования по эстетике Шиллера, Канта, Гегеля,.
Чернышевского, Маркса, Энгельса, Меринга и др.; «Исторический роман»
(«Der Historische Roman», 1955), где дается глубокий и всесторонний ана-
лиз различных форм исторического романа — от классических (Вальтер*
Скотт) до современных (Ромен Роллан); «Проблемы реализма» («Probleme-
des Realismus», 1955), обосновывающие объективный характер художест-
венного отражения действительности, художественных форм и художест-
венной правды, а также дающие всестороннее обоснование значимости, глу-
бины и универсальности реализма, реалистического метода; «Молодой Ге-
тель» («Der junge Hegel und Probleme der kapitalistischen Gesellschaft»,.
1954), одна из лучших работ о философии Гегеля по глубине логико-исто-
рического анализа его философских взглядов; «Разрушение разума» («Die*
Zerstörung der Vernunft. Der Weg des Irrationalismus von Schelling zu Hit-
ler», 1955)—работа, которую можно считать классической во всех отноше-
ниях— как по глубине и непримиримости критики современного буржуаз^-
ного сознания, так и по «охвату» критикуемых течений в современной
буржуазной философии; наконец, такой фундаментальный труд, как «Свое-
образие эстетического» («Die Eigenart des Ästhetischen», Bd. I—II, 1982)
одно из самых значительных исследований по философской эстетике, осно-
ванной на теории отражения.
301
Уже один только перечень названий работ свидетельствует о
том, что мы имеем дело с крупным философом нашего времени,
который, пройдя трудный путь от философии идеализма к фило-
софии Маркса, на протяжении десятков лет успешно защищал и
развивал марксизм-ленинизм в самых различных сферах фило-
софии.
Сын крупного венгерского финансового магната, Лукач с дет-
ства воспитывался в атмосфере, пронизанной литературой и ис-
кусством. Он очень рано приобщился к лучшим достижениям вен-
герской и мировой классической литературы, музыки, изобрази-
тельного искусства. У него достаточно рано пробудился интерес
к философии и эстетике, особенно к философии и эстетике Канта
и Гегеля. Он занимался также литературой, критикой и публици-
стикой.
Рассказывая в «Предисловии» к настоящей кни?е об истории
возникновения своей «Эстетики», Лукач признается, что он на-
чинал свой путь как литературный критик и эссеист, искавший
теоретическую опору сперва в эстетике Канта, а позднее — в эсте-
тике Гегеля. Первый набросок системы эстетики возник у него
«еще в 1911 — 1912 годах, к разработке ее он приступил в 1912—
1914 годы. Этот его опыт, по словам самого автора, потерпел пол-
ный провал. И именно эта неудача оказала, на наш взгляд, как
некая негативная сила позитивное воздействие на всю последую-
щую творческую судьбу Лукача.
Потерпев неудачу, он не разочаровался в необходимости реа-
лизации своей революционной эстетической программы, напротив,
он еще больше укрепился в намерении создать систематическую
эстетику.
Эта неудача подтвердила, что искать теоретическую основу для
-создания новой эстетики в философских системах прошлого — да-
же в системах Канта и Гегеля — дело безнадежное. Новую эсте-
тику следует строить с помощью новой методологии.
На собственном опыте Лукач убеждается в том, что категория
эстетического во все времена, независимо от того, какой вид ис-
кусства выходил на первый план, выражала самые живые, самые
глубокие и важные элементы социальной жизни и культуры.
Не случайно эстетическое занимало столь высокое место в фило-
софии античности, Просвещения, романтизма, классического реа-
лизма и классического немецкого идеализма.
Эстетическое, будучи своеобразным «нервом» человеческого об-
щества, требует для своего «нормального» функционирования со-
ответствующих «нормальных» условий в социально-экономической
и политической сферах, а также нормального взаимодействия с
наукой, нравственностью, философией и другими сферами чело-
веческой жизнедеятельности. Следовательно, анализу эстетическо-
го должно предшествовать исследование социально-экономической,
исторической, философской, нравственной и других сфер: иссле-
302
дование эстетического должно не начинать, а завершать построе-
ние философского мировоззрения.
На основе идеалистической философии невозможно построить
новую эстетику, поскольку даже в своих самых прогрессивных
системах — у Канта и Гегеля — эта философия в плане эстетиче-
ском выступала как антропология или учение весьма близкое к
антропологии, в центре внимания которой стоял изолированный
индивид. Несмотря на то, что идеалистической философии удалось
выявить диалектику индивидуального и общего, чувственного ег
рационального, возможного и должного, эгоизма и бескорыстия,,
идеального и реального и т. д., главные параметры исторически
меняющейся сущности человека остались для нее неизведанной и
неизвестной сферой, как и реальная действительность, история w
жизнь человеческого общества.
Вот почему Лукач обратился к анализу отдельных эстетиче-
ских, исторических, экономических проблем, к активной полити-
ческой деятельности и к серьезному изучению марксистско-ле-
нинской философии. Правда, он никогда не забывал своей да-
вней мечты, но только в начале 50-х годов он приступил к
ее осуществлению — систематическому изложению марксистско-
ленинской эстетики.
Если его юношеские сочинения были преимущественно идеа-
листическими, то работы 20-х годов отличались «левой» фразео-
логией и чисто формальным, схематическим марксизмом. Крити-
ка, которой была подвергнута В. И. Лениным статья Лукача
«К вопросу о парламентаризме», напечатанная в 1920 году в>
шестом номере журнала «Коммунизм», сыграла серьезную роль
в формировании его марксистско-ленинских воззрений. «Статья
Г. Л. очень левая и очень плохая, — писал В. И. Ленин. — Марк-
сизм в ней чисто словесный; различие «оборонительной» и «на-
ступательной» тактики выдуманное; конкретного анализа точно*
определенных исторических ситуаций нет; самое существенное-
(необходимость завоевать и научиться завоевывать все области-
работы и учреждения, где проявляет свое влияние на массы
буржуазия, и т. д.) не принято во внимание» 1. Эти критические-
замечания могут быть отнесены в целом к взглядам Лукача«
тех лет.
Судьбы книг и судьбы их творцов порой тесно связаны меж-
ду собой, а порой расходятся так далеко, что представляются-
не имеющими ничего общего, совершенно чуждыми друг другу..
Так случилось и с книгой Лукача «История и классовое созна-
ние» («Geschichte und Klassenbewußtsein», 1923). Эта книга бы-
ла написана Лукачем в тот период, когда он шел от философии
Гегеля к марксизму. Его мировоззрение в то время несло на себе-
груз самых различных направлений и течений идеалистической
философии. Если к этому добавить его восхищение теоретически-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 135—136.
30S
ми трудами Розы Люксембург (он считал ее единственной ученицей
Маркса, продолжательницей дела его жизни, а ее «Накопление
капитала» сравнивал с «Государством и революцией» Ленина),
тесное сотрудничество с Бордигой, Террачини, Паннекуком и др.,
занимавшими сектантские позиции почти по всем принципиаль-
ным вопросам, его увлечение анархо-синдикализмом Сореля, со-
циологизмом Маннгейма и т. д., то можно представить, какой ме-
шаниной идей, теорий и воззрений были взгляды Лукача тех лет.
А если еще принять во внимание слабое знание «Капитала»
Маркса, на которого он к тому же смотрел «через гегелевские
очки», попытку элиминировать материализм Фейербаха, упорное
непризнание диалектики природы (критика взглядов Энгельса),
почти полное незнание ленинской теории революции и т. д., то
станет понятным, что о «марксизме» Лукача в этот период гово-
рить трудно -- налицо, пожалуй, было лишь его ^желание стать
марксистом.
В книге «История и классовое сознание» он намеревался за-
щитить марксизм от лидеров II Интернационала, которые, по его
мнению, вульгаризировали марксизм и извратили его диалектику.
Само по себе намерение защитить марксизм от оппортунизма ли-
деров II Интернационала было понятным, особенно в социально-
политических и идеологических условиях тех лет, и заслуживало
внимания и поддержки. Однако можно себе представить, какая
это была критика, если она велась, по существу, с немарксистских
позиций, с позиций идейной, философской, политически-мировоз-
зренческой эклектики. К тому же Лукач рассматривал всех лиде-
ров II Интернационала как единое целое, не принимая во внима-
ние различий между их взглядами, хотя уже тогда было очевидно,
что нельзя смешивать взгляды Либкнехта, Люксембург и Мерин-
га, представлявших левое революционное крыло, со взглядами Ка-
утского, занимавшего центристские позиции, и Бернштейна, воз-
главлявшего правооппортунистическую группировку.
Но главное заключалось в том, что нельзя было «защитить»
марксизм, не будучи марксистом, нельзя было критиковать лиде-
ров II Интернационала, имевших достаточно серьезную марксист-
скую подготовку и написавших немало интересных и важных ра-
«бот по марксизму, с позиций домарксистской (кантианской, ге-
гельянской, неокантианской и т. д.) философии и левосектантских
политических взглядов.
Уже одно то, что центральное методологическое положение
занимала у Лукача категория «тотальности», свидетельствовало о
наметившемся отходе западной философии от социально-эконо-
мической и политической критики капиталистического общества,
данной Марксом, к философской критике этого общества, к кри-
тике с позиций домарксистской философии.
Между тем марксизм отличает от буржуазной науки в объ-
яснении истории пе точка зрения тотальности, как полагал Лу-
жач, а точка зрения материалистической диалектики — материа-
304
диетическое понимание истории, которое в то время было ему
чуждо.
В свете категории «тотальности» Лукач субъективизировал
диалектику (диалектику природы он тогда вообще не признавал) г
«социализировал» природу (природа — общественная категория),
отождествил отчуждение с опредмечиванием (поэтому вместо по-
литико-экономической критики капиталистического общества он
выступил с философской критикой основных форм буржуазного
общественного сознания), субъективизировал и «актуализировал»
практику (рассматривая ее как некое тождество субъекта и объ-
екта) и т. д.
Все принципиальные и важные вопросы диалектики решались
Лукачем в его книге «История и классовое сознание» идеалисти-
чески, эклектически, волюнтаристски, субъективистски. Естест-
венно, что результаты ее публикации оказались противоречащими
ожиданиям автора: вместо защиты марксизма эта работа намети-
ла новые параметры его искажения и извращения, а также обо-
значила поворот от социально-экономической и политической кри-
тики капитализма к его философской критике с позиций домар-
ксистской философии. Это и определило своеобразную «судьбу»
«Истории и классового сознания» Лукача, книги, ставшей «исход-
ным пунктом», «точкой опоры» для самых различных буржуазных,
ревизионистских и оппортунистических концепций. При этом вся
важность той роли, которую сыграла книга Лукача именно в этом
плане, в полной мере осознается как сторонниками марксизма,
так и его противниками. Так, Раймон Арон отмечает, что «ни одна
из книг, написанных М. Хоркхаймером или его друзьями, не имела
такого резонанса, как «История и классовое сознание» Лукача» *.
«История и классовое сознание» именно в силу своей перегру-
женности серьезными методологическими изъянами, ошибками,
заблуждениями, извращениями была поднята на щит буржуазны-
ми идеологами и ревизионистами самого разного толка. С «лег-
кой руки» французского философа Мориса Мерло-Понти, взгляды
которого отличались открытым антисоветизмом и антикоммуниз-
мом, эта книга была объявлена своеобразным каноном «западно-
го» коммунизма. Несмотря на неоднократную самокритику и пуб-
личный отказ Лукача от этой ошибочной и совершенно чуждой
для него книги, она продолжает и по сей день играть весьма нега-
тивную роль «катализатора» самых различных антимарксистских
концепций.
В связи с тем что Мерло-Понти в своих «Приключениях диа-
лектики» (1956) посвятил целую главу работе Лукача «История
и классовое сознание» с целью противопоставить якобы содержа-
щийся в ней «подлинный» марксизм марксизму существующему
(как будто могут быть различные виды и формы марксизма!)г
Лукач, который никогда публично не отвечал на критику в свой
1 А г о n R. Mémoires Julliard. Paris, 1983, p. 87.
20 Заказ № 683
305
адрес, вынужден был обратиться в редакцию «Кайе дю комму-
нисм» с протестом против подобного манипулирования с его кни-
гой и с опровержением основных положений антимарксистской
концепции Мерло-Понти.
Говоря о том, что побудило его написать письмо в редакцию,
Лукач прежде всего сослался на причины «личного порядка»:
книга «История и классовое сознание» вышла в 1923 году, после
чего автор неоднократно публично заявлял о том, что он считает
ее «ложной и устаревшей». Несмотря на такие заявления, Мерло-
Понти ставит эту с полным основанием забытую книгу в центр
своего анализа философской деятельности Лукача, что по край-
ней мере не лояльно.
«Однако намного более важными являются причины объек-
тивного порядка, — пишет Лукач. — Работа «История и классо-
вое сознание» характеризует тот этап моего филосрфского разви-
тия, когда я еще находился на пути от философии Гегеля к мар-
ксизму.
Более того, этот марксизм был в то время полностью сектант-
ским и обремененным люксембургскими пережитками. Моя по-
зиция того периода характеризуется ложным ответом на наибо-
лее важные вопросы диалектики. Это относится и к частичному
отрицанию теории отражения и к отрицанию диалектики в при-
роде, и т. д. Таким образом, эта книга представляет собой ти-
пичный продукт переходного периода со всеми его внутренними
противоречиями, его эклектизмом и его смятением.
Разумеется, г-н Мерло-Понти имеет право объявлять себя сто-
ронником философии эклектического смешения и противоречий.
Объективно он является таковым уже давно. Но здесь он делает
это, претендуя быть арбитром в развитии марксизма и материа-
листической диалектики. И именно здесь нелояльность становит-
ся фальсификацией истории. Г-н Мерло-Понти желает использо-
вать слабости моей устаревшей книги как позитивные характери-
стики «подлинной» диалектики, как проявление так называемого
«западного» коммунизма в противовес реальному развитию диа-
лектического материализма, созданного Лениным и начавшегося
с Ленина.
Исторически не составляет затруднений осмысление того фак-
та, что многие буржуазные философы не могут понять материа-
листической диалектики. Они не усматривают связи между ма-
териализмом и диалектикой и поэтому считают каждый объектив-
ный шаг вперед шагом назад.
Для них единственной заслуживающей обсуждения филосо-
фией является идеалистическая диалектика. И особенно их при-
водит в ужас осуществление марксистской идеологии в практике
пролетарской революции и социалистического строительства.
Г-н Мерло-Понти, стремясь представить реакционное содержа-
ние своей мысли прогрессивным и изображая разнообразие про-
гресса человеческой мысли и человеческой практики как движение
306
назад, рассматривает немарксистские черты моей книги тридца-
тидвухлетией давности как характеристику «подлинной» диалек-
тики. Поэтому следует выразить публичный протест против по-
добного искажения всех фактов и против такого перевертывания
всех подлинных связей» 1.
Из этого письма видно, насколько неприемлемыми были для
Лукача всякого рода спекуляции буржуазных философов и реви-
зионистов на ошибках и заблуждениях его ранних работ. Мы ви-
дим, что Лукач весьма критически относился к методологиче-
ским изъянам своих ранних произведений, и особенно к своей
книге «История и классовое сознание». Признаваться публично
и неоднократно в том, что его «марксизм был в то время пол-
ностью сектантским», а его позиция «характеризуется ложным
ответом на наиболее важные вопросы диалектики» (отрицание
теории отражения, отрицание диалектики природы, критика ти-
пов науки вместо критики капитализма и т. д., эклектизм, смя-
тение и т. д.) может только действительно искренний, честный
и мужественный человек.
Надо ли говорить здесь о том, что Лукач выступает не только
против фальсификаций Мерло-Понти, но и против каких бы то
ни было фальсификаций и извращений материалистической диа-
лектики со стороны любых ее противников: буржуазных идеоло-
гов, «правых» и «левых» ревизионистов, оппортунистов, вульгар-
ных материалистов, клерикалов и т. д.
Движение Лукача к марксизму было сложным, многоплано-
вым, неоднозначным. Если замысел и осуществление самых ран-
них его работ были ориентированы на Канта и неокантианцев,
Гегеля и в какой-то мере неогегельянцев («Душа и форма»,
«Теория романа» и др.), а «Гейдельбергская эстетика» — на Кьер-
кегора, то в замысле и в осуществлении «Своеобразия эстетиче-
ского» он опирался непосредственно на труды Маркса, Энгельса,
Ленина и на всю прогрессивную социально-экономическую, по-
литическую, философскую и естественнонаучную мысль —
от древнегреческой философии до наших дней.
Фундаментальный труд Лукача «Своеобразие эстетического»
представляет собой своего рода «философскую пропедевтику»,
методологическое введение в проблематику философской эсте-
тики.
Именно в этой работе Лукач формулирует основные принци-
пы своего философско-эстетического исследования, которые зиж-
дутся на материалистической диалектике Маркса, Энгельса, Ле-
нина.
Главную цель своего труда Лукач видит в философском обос-
новании эстетического подхода к действительности, в выведении
1 Mésaventures de l'anti-marxisme. Les malheurs de M. Merleau-Ponty.
Avec une lettre de Georg Lukâcs. Paris, 1956, p. 158—159.
20*
307
категорий эстетики и в отграничении этой области от других ви-
дов человеческой деятельности.
В «Предисловии» он подчеркивает, что структура его работы
существенно отличается от структуры общепринятых работ по
эстетике и что объясняется это стремлением как можно пра-
вильней применить марксизм к изучению проблем эстетики.
Он напоминает о том, что еще в 30-е годы приходилось до-
казывать, что марксизм обладает своей собственной эстетикой,
ибо даже такие блестящие представители марксизма, как Пле-
ханов и Меринг, ограничивались в своих исследованиях исклю-
чительно проблемами исторического материализма.
Сомнения в существовании у Маркса, Энгельса, Ленина связ-
ной и последовательной системы идей в области эстетики были
устранены после появления глубоких и талантливых работ
М. А. Лифшица о развитии эстетических воззрений Маркса и
после тщательной систематизации разрозненных высказываний
Маркса, Энгельса, Ленина по вопросам эстетики. Однако, как
пишет Лукач, это не означало еще построения эстетической си-
стемы марксизма. Развивать марксистско-ленинскую эстетику
можно только путем умелого применения метода материалисти-
ческой диалектики к самостоятельному исследованию сферы эсте-
тического.
Лукач задумал создать гигантский труд, состоящий из трех
частей: первая часть—«Своеобразие эстетического» — дает фило-
софское обоснование эстетического подхода к действительности,
формирует особые категории эстетики и выделяет эту область
из числа других видов человеческой деятельности; вторая часть —
«Произведение искусства и эстетическая деятельность» — должна
была конкретизировать специфическую структуру художествен-
ного произведения, а также уточнить характер категорий, кото-
рые в первой части были рассмотрены лишь в самом общем виде,
таких, как содержание и форма, мировоззрение и формообразова-
ние, техника и форма и др.; в третьей части — «Искусство как
общественно-историческое явление» — предполагалось рассмотреть
соотношение произведений искусства и эстетической деятельности
в их тесной взаимосвязи с конкретно-исторической «почвой»,
из которой они произрастают и которой они в конечном счете
определяются, а также раскрыть неравномерность развития ис-
кусств, историческую определенность и своеобразие их свойств,
их генезис, развитие, общественную роль и значимость.
Столь универсальную задачу в сфере философской эстетики
после Гегеля не ставил перед собой ни один мыслитель. Не слу-
чайно сам Лукач подчеркивает, что философский универсализм
концепции Гегеля и присущий ей историко-систематический ана-
лиз остаются образцом для любого построения эстетики.
Исходным моментом или основой для выяснения роли эстети-
ческой деятельности и для раскрытия своеобразия эстетического
является у Лукача повседневность, обыденная жизнь — начало й
308
конец всякой человеческой деятельности. Все более высокие форг
мы восприятия и воспроизведения действительности и прежде
всего — наука и искусство, порождаются потребностями обыденной
жизни, потребностями и интересами миллионов людей. Изу-
чение сложной диалектики взаимоотношений реальной жизни и
высших форм ее отражения дозволяет понять особенности эсте-
тического отражения действительности, функционирование эсте-
тических категорий, общее строение научных и художественных
реакций на реальный мир.
Лукач настаивает на верности марксизму и на верности дей-
ствительности, которых можно достичь лишь при объективном
наблюдении действительности и при обработке результатов этого
наблюдения методом материалистической диалектики.
Верность действительности особенно важна потому, что вся
традиция идеалистической философии и эстетики постоянно
углубляла и расширяла разрыв человека с реальной действитель-
ностью, с природой, с обществом, с другими индивидами. Естест-
венно, этому способствовали объективные социальные условия и
предпосылки эксплуататорских общественно-экономических фор-
маций, которые во многом определяли и предопределяли эволю-
цию и дальнейшее развитие философско-эстетической мысли. Тем
не менее идеалистическая философия и эстетика изначально ори-
ентировались на то, чтобы изучать и исследовать не саму объ-
ективную действительность, а некую систему понятий, категорий
или ценностей, находящихся между собой в отношениях той или
иной иерархической субординации, то есть изучалась и исследо-
валась не реальная действительность, а ее идеальная модель,
возводимая сознанием в соответствии с принципами той или иной
идеалистической философской системы. Совершенно очевидно, что
это с неизбежностью приводило к извращению реальных отноше-
ний между действительностью и сознанием, к искажению форм
предметности и форм категориального анализа, а также к мето-
дологической путанице: ибо любая идеалистическая философия и
эстетика в конечном счете сводится к антропологии — антрополо-
гической онтологии или онтологической антропологии, которые
апеллируют к «вечным» и «вневременным» параметрам «бытия»,
«сущности», «существования». При этом эстетическое с необхо-
димостью будет «гнездиться» в «сущности человека», независимо
от того, чем определяется эта «сущность» — миром идей или все-
мирным, абсолютным духом, антропологически, онтологически
или психологически.
Лукач умело и остроумно опровергает основные догмы идеали-
стической философии: тождество бытия и мышления, иерархию
форм сознания, абсолютизацию категории прекрасного и т. д. Тот
факт, что существует бытие без сознания, но не существует со-
знания без бытия, он отнюдь не считает подтверждением иерар-
хической подчиненности сознания бытию. Напротив, признание
приоритета бытия над сознанием создает возможность реального
309
овладения бытием с помощью сознания. В еще большей степени
это относится к основополагающему принципу исторического ма-
териализма о приоритете общественного бытия над общественным
сознанием, принципу, определяющему конкретные условия прак-
тической деятельности народных масс при том сознании, которое
дано общественным бытием, и раскрывающему тем самым исто-
рическую диалектику социального развития, а вовсе не какую-то
обветшалую теологическую или теософскую иерархию, определя-
ющую якобы судьбы мира и судьбы людей.
Связывая искусство с созерцанием, религию — с представле-
нием, а философию — с понятием и считая, что эти формы созна-
ния управляют искусством, религией и философией, Гегель кон-
струирует строгую «вечную» и непреоборимую иерархию, кото-
рая определяет в то же время исторические судьбы искусства.
И вовсе не так уж важно, подчеркивает Лукач,*какое место
отводится искусству в той или иной идеалистической системе:
у Платона, Плотина, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля — во всех
случаях имеет место методологическая аберрация и методологи-
ческая путаница, ведущие к неизбежным искажениям форм пред-
метности, к искажениям содержания категорий, категориального
синтеза вообще. Во всех этих случаях мышление отклоняется от
изучения специфических особенностей предметов, а сами предме-
ты недопустимым образом редуцируются к некоему общему зна-
менателю, чтобы можно было сравнивать их друг с другом в той
или иной иерархической системе и тем самым создавать видимость
единства и прочности этой системы.
Подобная «иерархизация» форм сознания приводит к их
обеднению, к исключению бесконечного богатства и разнообразия
конкретно-исторического содержания, которое должны отражать
категории, категориальный анализ и синтез. Видимо, не без ос-
нования некоторые философы всю многовековую историю запад-
ной эстетики стали сводить к весьма небольшому количеству по-
нятий или категорий. Так, современный итальянский философ и
эстетик Гвидо Морпурго-Тальябуэ замечает: «С одной стороны,
мы имеем эстетику меры и симметрии, или мудрую эстетику,
игру способностей, целостность, форму, анафорический результат,
полноту существования и т. д. С другой стороны — эмоции со-
страдания и ужаса и катарсис, энтузиазм, возвышенное, удиви-
тельное, волнующее, неопределенное, эмфазу, экспрессивное, сим-
волическое... Развивайте и классифицируйте эти термины, и вы
получите историю западной эстетики» 1.
Польский философ и эстетик Владислав Татаркевич в своих
трудах по истории философии2 и истории эстетики3 и особенно
1 Morpurgo-Tagliabue G. L'esthétique contemporaine. Milan,
1960, p. 597.
2 См.: Tatarkiewicz W. Historia filozofii. Warszawa, t. I—III, 1958.
3 См.: Tatarkiewicz W. Estetyka Starozytna. Warszawa, 1962; Es-
tetyka sredniowieczna. Warszawa, 1962; Estetyka nowozytna. Warszawa, 1967.
310
в книге «История шести идей» 1 показал, что вся история запад-
ной эстетики может быть выражена в нескольких идеях, поняти-
ях или категориях: искусство, прекрасное, форма, творчество, ми-
месис, эстетический опыт.
Однако суть дела не только в этой опустошающей редукции
философско-эстетического содержания, которая, безусловно, на-
носит непоправимый урон человеческому сознанию, поскольку
элиминирует содержание объективной действительности от его ка-
тегориальных форм. Не меньший урон приносит своеобразный ме-
тодологический «сдвиг» или методологический «вывих» идеали-
стической философии и эстетики, состоящий в том, что каждая
из этих идей или категорий наделяется демиургической сущ-
ностью или силой: не искусство отражает действительность,
а действительность создается искусством, не прекрасное — отра-
жение объективных отношений действительности, а сама дейст-
вительность со всеми ее отношениями есть эманация красоты,
не форма определяется содержанием, а содержание — формой,
не жизнь определяет творчество, а творчество создает и определя-
ет жизнь. В конечном счете такого рода гносеологические сме-
щения заводят идеалистическую философию и эстетику в «онто-
логический тупик». Идеалистическая «универсализация» катего-
рий с необходимостью приводит к радикальному искажению и
извращению всего процесса познания, который приобретает в
идеалистических системах антиисторический характер. Ведь идеа-
лизм рассматривает любую форму сознания как нечто «вневре-
менное», «абсолютное», «вечное», как то, что не имеет никакого
отношения к реальной истории. А раз так, то подобное «возне-
сение на небо», подобпый «надмировой», трансцендентный харак-
тер философии и эстетики окрашивает их не в небесно-голубые
тона, как полагают идеалисты, а в тона инфернально-погребаль-
ные, поскольку философия и эстетика отрываются и изолируются
от того, что их питает и чем они живут — от повседневной чело-
веческой жизни со всеми ее противоречиями, страстями и колли-
зиями, от человеческой жизни во всем ее богатстве и многообра-
зии, которая только и может придать любой философии жизнен-
ные силы, жизненный пафос, жизненные краски, благодаря чему
вырабатываются конкретно-исторические параметры философско-
эстетического и научного сознания, которые именно в силу своей
историчности и исторической преемственности способны преодо-
левать границы повседневной жизни и повседневного бытия и
постоянно расширять горизонты человеческой деятельности и че-
ловеческого сознания.
Однако идеалистическая философия и эстетика, высокомерно
игнорируя объективную действительность, остаются в плену сво-
их методологических предрассудков: каждая достигнутая созна-
1 См.: Tatarkiewicz W. A History of Six Ideas. An essay in Aesthe-
tics. Warszawa, 1980.
311
нием ступень рассматривается как нечто вечное и абсолютное,
а все предшествующие ступени — лишь как подготовительные эта-
пы к последней.
Более того, категориальная система идеализма вместо того,
чтобы связывать человека с действительностью, все больше и
больше изолирует его от объективной реальности, превращаясь
из могучего орудия человеческого познания в средство отрыва
человека от этой действительности, в средство все большего ухода
от нее, в средство самоизоляции человека и ухода его в эфемер-
ный мир символических форм, или в мир чисто феноменального
сознания.
Примером могут служить труды Эрнста Кассирера, и прежде
всего его трехтомное исследование: «Философия символических
форм» \ а также его работа «Очерк о человеке», развивающая
основные принципы и содержание философии символических
форм до своеобразной философии культуры или философии чело-
века как антропологии2.
Суть концепции Кассирера состоит в том, что современный
человек живет не только в мире физическом, но и в мире симво-
лическом. Составными частями этого символического мира явля-
ются: язхлгк, миф, искусство, религия, наука — разнообразные ни-
ти, образующие сеть человеческого опыта. Любой прогресс чело-
вечества в сфере теоретической или практической делает эту сеть
все более совершенной. Человек уже не может непосредственно
вступать в отношения с действительностью. Чем больше разви-
вается символическая деятельность человека, тем больше отходит
человек от физической реальности. Вместо того чтобы занимать-
ся вещами и предметами, человек начинает заниматься самим
собой. В конце концов человека приходится определять не как
animal rationale, но как animal symbolicum.
Философия символических форм исходит из положения, что
если и существует определение «сущности» или природы челове-
ка, то это определение может быть понято только функционально,
а не субстанциально, ибо человека нельзя определять ни на осно-
ве элементов, составляющих его метафизическую сущность, ни на
основе его врожденных способностей или инстинктов. Характер-
ной чертой человека, его отличительным признаком не может яв-
ляться ни его физическая, ни его метафизическая природа,
но только его труд. Именно труд, система человеческих действий
определяет содержание понятия «человечество». Язык, миф, рели-
гия, искусство, наука, история — составные части человеческого
мира, имеющие общую связь, не vinculum substantiate, но vincu-
lum functionale.
1 См.: . Cas sir er E. Die Philosophie der symbolischen Form, Bd. I:
Die Sprache, 1923, Bd. II: Das mythischen Denken, 1925,Bd. III: Phänomeno-
logie der Erkenntnis, 1929.
2 См.: Cassirer È. An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy
of Human Culture. New Haven, 1944.
312
То, что Кассирер признает характерной чертой или отличи-
тельным признаком человека труд, для идеалистической фило-
софии, которая на протяжении тысячелетий боялась признать
значение труда для человека и человечества — большой шаг впе-
ред. Однако Кассирер не преодолевает границ и параметров идеа-
лизма, поскольку труд он понимает абстрактно, символически,
в полном соответствии со своей философией символических форм:
и сам труд, и его результаты остаются в пределах духовной дея-
тельности человека, в пределах языка, мифа, религии, искусства,
науки, истории, в пределах идеалистической антропологии. Поэто-
му разрыв между сознанием и действительностью, присущий идеа-
листической философии, в данном случае не только не преодоле-
вается, но углубляется и расширяется.
Разрыв между сознанием и действительностью пытался пре-
одолеть Гуссерль — основоположник современной феноменологии,
но и эта попытка завершилась полной неудачей. Гуссерль, ста-
раясь избежать кантовского дуализма, освобождает трансцен-
дентальный субъект от «архаических» черт, лишая его последних
связей с реальной действительностью. Вместе с тем, вводя кате-
горию интенциональности, Гуссерль нейтрализует обратное воз-
действие объекта на субъект, чтобы снять угрозу «искажения»
субъективности. Интенциональное сознание он делает «сознани-
ем о», сознанием о самом сознании, больше того — сознанием о
самом сознании в его чистом виде, который «очищается» в про-
цессе феноменологической редукции. Таким образом, речь идет
уже не об определении объективной реальности, но об определе-
нии субъекта и его чувственности или настроения.
«Интенциональная жизнь сознания» не находит понятийного
эквивалента. Предметы феноменологии не сопоставимы ни с по-
нятиями рассудка, ни с идеями разума. Гуссерль наделяет их
достоинством высшей самодостаточной ценности — каждый пред-
мет в себе самом содержит ценностный регулятор, интеллектуаль-
ную конституирующую и при этом — полагание в чувственности
субъекта, разумеется, субъекта трансцендентального. Отъединен-
ный от реальности, в самом себе несущий высшие ценности, он
как бы из себя их генерирует и из себя же производит много-
образную вязь предметного мира, обладающую тем не менее до-
стоинством общезначимых истин, истин, вознесенных над реаль-
ностью, над эмпирией и теоретическим значением. Это качество
предметов феноменологического усмотрения наводит на мысль
об «эйдосах» Платона. Но в эйдосах Платона художественный,
эстетический принцип введен как материальное конструктивное
оформление идеи, а в предметах Гуссерля тот же принцип пред-
стает как полагание идеи в чувственности субъекта. Эйдос у
Гуссерля — результат «идеирующей абстракции» и «конституи-
рующей» предмет интенции; его источник — имманентная актив-
ность сознания, и его эстетический характер обусловлен не ма-
териально-художественной реализацией, а смыслообразующей
ш
функцией целостного интеллектуально-эмоционального акта.
«Эйдосы» Гуссерля имплицируют субъективное переживание, це-
лостный смысл предмета, смысл, который содержательно и кон-
ститутивно определяет предмет, неотъемлем от идеи предмета.
Следовательно, Гуссерль, в отличие от Платона, онтологизирует
не просто идеи, а субъективное переживание идей.
Включение в предмет «философского усмотрения» эмоциональ-
ных характеристик, условий переживания мыслимого в момент,
когда мы мыслим, целостного интеллектуально-эмоционального
акта — традиционная прерогатива искусства, исторически опре-
деленная область художественного сознания, находящая теорети-
ческое обоснование в эстетике.
В самый момент подключения к философской традиции Гус-
серль преобразует ее в эстетическую. Воссоединяя субъективное
переживание и понятие, чувственное и рациональное, Гуссерль
сближает предметы «философского усмотрения» с образами ис-
кусства, действительно наделенными общезначимостью понятия
и целостной структурой субъективного переживания. Таким об-
разом, неосознанный идеал «философского усмотрения», по Гус-
серлю, — это художественная мысль, искусство. Именно в этом
состоит внутренний мотив пиетета по отношению к обыденному
сознанию, к сфере непосредственно очевидного, которое у позд-
него Гуссерля постулируется как нечто высшее, несущее в себе
подлинно гуманистические ценности.
Гуссерль наделяет субъективность такой общезначимостью, ка-
кой она обладает только в искусстве. Даже истину он стремился
понять и выразить не только как субстанцию, но в такой же
степени и как субъект. Итог своих многолетних подвижнических
усилий дать строго научное философское обоснование смысла
человеческой жизни Гуссерль сформулировал следующим обра-
зом: «Жизненный мир, «я», каков я есть, вместе со всей моей
действительной и возможной жизнью познания, в том числе и
моей конкретной жизнью» — вот истинная почва подлинно науч-
ной философии, призванной спасти от гибели рушащийся мир» 1.
Таким образом, «коперниканский переворот» Гуссерля состоял
в исключительной субъективизации объективных отношений и
в сближении философии с характерной субъективностью в искус-
стве. Не случайно в конце жизни Гуссерль стал писать о «Поэзии
истории философии» («Dichtung der Philosophiegeschichte») 2.
Неосознанный переход Гуссерля на художественно-эстетиче-
ские позиции был немедленно подхвачен и развит его многочис-
ленными учениками и последователями — феноменологами и эк-
зистенциалистами, которые переориентировали философию на ху-
дожественное сознание, на искусство, на гносеологию по типу
художественной мысли, на эстетику, генерирующую онтологию.
1 Husserliana, Bd. VI, S. 101.
2 Ibid., S. 513.
314
Казалось бы, философия и эстетика теперь могли утолить свой
голод по реальности. Однако над «нетрадиционной» философией
возвышается вполне традиционная эстетика, концептуально от-
вергающая отражение действительности, поэтому традиционный
разрыв между сознанием и действительностью, присущий идеали-
стической философии, еще более углубляется и расширяется.
В противовес буржуазной идеалистической гносеологии, стре-
мящейся, как правило, отодвинуть все проблемы генезиса позна-
ния в сферу антропологии, а проблематику высокоразвитой фор-
мы научного познания рассмотреть в чистом виде, Лукач пытает-
ся исследовать отражение объективной действительности в по-
вседневной жизни, в науке и в искусстве. Если идеалистическая
философия и эстетика, как и вульгарный материализм, занима-
лись в основном подчеркиванием абстрактного несходства эстети-
ческого с наукой, то Лукач исходит из того, что научное и эсте-
тическое отражение объективной действительности вырабатыва-
ются в ходе исторической! развития и становятся все более тонко
дифференцированными формами отражения, которые порождают-
ся самой жизнью и в ней находят свое окончательное осуществ-
ление. Своеобразие этих форм отражения Лукач видит в макси-
мально совершенном и все более точном выполнении ими их об-
щественной функции. Питательной средой этих форм отражения
является повседневная жизнь, которая делает их более содержа-
тельными, дифференцированными, богатыми и глубокими.
В философском плане повседневная жизнь недостаточно изу-
чена. Отдельные попытки буржуазных философов исследовать ее
проблемы оказались неудачными. Лукач показывает это на при-
мере философии Хайдеггера, которого он справедливо относит к
разряду романтических критиков капиталистической культуры.
Повседневная жизнь в интерпретации Хайдеггера — это непод-
линная жизнь, неподлинный мир, деградировавший и отпавший
от подлинного бытия. Существование «низвергается» из себя са-
мого в само себя, в беспочвенность и ничтожество неистинной
повседневности. Это низвержение остается однако скрытым, по-
скольку в общественном мнении оно истолковывается как «подъ-
ем» и «конкретная жизнь». Хайдеггер указывает на всеобщую
деградацию повседневной жизни, деградацию, разоблачающую он-
тологическую структуру самого существования. Превращая повсе-
дневность в сферу глубочайшего упадка, низвержения «в пуб-
личность Man», в «беспочвенность Gerede» Хайдеггер обедняет и
искажает ее существо и структуру; поскольку практика повсе-
дневности утрачивает свою динамическую связь с познанием и
наукой, постольку повседневность теряет вообще свою подлинную
сущность — она становится сферой, где господствуют лишь уро-
дующие человека силы отчуждения. Лукач справедливо замечает:
«Романтический антикапитализм Хайдеггера порицает современ-
ную повседневность и ее мышление «только» с феноменологичес-
ки-онтологической точки зрения, его осуждение не опирается на
315
пример какой-либо конкретной прошлой эпохи, его масштаб —
онтологически-иерархическая дистанция, отделяющая сущее от бы-
тия, ведущая к отпадению сущего от бытия. Следовательно, ду-
ховная основа порочности современного мира носит здесь не ро-
мантически-исторический, а теологический характер; она заложе-
на в атеистически переосмысленном иррационалистическом учении
Кьеркегора о боге» (с. 53—54 наст. изд.).
Лукач вскрывает связь методологии с мировоззрением: метод
Хайдеггера направлен на сведение всякой предметности и любого
отношения к ней к простейшим «изначальным формам», чтобы
независимо от любых социально-исторических перемен опреде-
лить их «глубочайшую сущность». Но поскольку интуитивное
«созерцание сущности» составляет также одну из главных основ
этой методологии, то субъективное оценочное суждение неизбеж-
но оказывает воздействие на определение содержания и формы
феноменологически или онтологически «очищенной»* предметно-
сти и окончательно запутывает соотношение между явлением и
сущностью. Не случайно явления капиталистической повседнев-
ности выступают здесь как онтологические существенные опре-
деления всякого сущего вообще. То же происходит и в описании
повседневной жизни у Хайдеггера. Лукач совершенно справед-
ливо замечает, что конвергенция формально методологического
упрощения и субъективного оценочного (антикапиталистическо-
го) суждения в «созерцании сущности» выдвигает на место ре-
альных противоречивых переходов и взаимодействий преувели-
ченно резкий метафизический контраст между подлинно теорети-
ческим воззрением и «теорией» повседневной практики. Подобного
рода абстрагирующая изоляция повседневности приводит к обед-
нению и искажению представления о повседневной жизни. Обед-
нение, поскольку — сознательно методологически — отбрасывается
глубокая взаимосвязь всех типов поведения в повседневности с
общей культурой и культурным развитием человечества; искаже-
ние — поскольку благодаря этому мысленно устраняется роль
повседневности в распространении прогресса и осуществлении
его достижений. Это — теоретический тупик, из которого совре-
менная буржуазная философия не в состоянии найти выхода.
На основании известных фактов (ошеломляющее совершенст-
во в некоторых областях художественной деятельности уже на
самых примитивных стадиях) Лукач констатирует, что искусство
гораздо позднее и гораздо труднее и медленнее, чем наука, от-
деляется от общей основы повседневной, магической (религиоз-
ной) практики. Да и общественная необходимость искусства,
по его мнению, не имеет таких прочных и неоспоримых основ.
Рассматривая эволюцию философской и эстетической мысли,
Лукач замечает, что если философия выступает в роли пионера
по отношению к отдельным собственно научным дисциплинам,
то философия искусства t-эстетика—никогда не могла сыграть
316
подобную роль в самосознании искусства, она всегда выступала
лишь pots festum, то есть лишь фиксировала в понятиях уже
достигнутую искусством стадию развития. Он указывает на
сложность и трудность объективного процесса размежевания или
обособления эстетического.
Известно, что первые формы научного и философского отра-
жения действительности в значительной мере соединены с эстети-
ческими формами (философские стихотворения досократиков, диа-
логи Платона, «О природе вещей» Лукреция, «Божественная ко-
медия» Данте, драмы Шиллера и т. д.). Да и в наше время
четкая теоретическая дифференциация не доведена до конца. Вы-
ход один — строить эстетические взгляды на подвижном диалекти-
ческом взаимодействии повседневности с искусством.
Художественно-эстетическое отражение исходит из жизни че-
ловека и обращено к ней. Без художественного воплощения, со-
ответствующего определенному конкретно-историческому време-
ни, не может существовать подлинное произведение искусства.
В произведениях искусства историзм объективной реальности
обретает как свой субъективный, так и объективный образ.
Сама историческая сущность действительности ведет к во-
просам методологического характера, которые неизбежно пере-
растают в проблему мировоззрения (вопрос о посюстороннем,
земном характере искусства). Вот почему Лукач снова и снова
подчеркивает антитрансцендентный характер искусства: имма-
нентная завершенность любого подлинного произведения искус-
ства по своему содержанию всегда, вольно или невольно, свиде-
тельствует против трансцендентности. Он ссылается на Гёте, со-
гласно которому для искусства противоположность аллегории и
символа — это вопрос его бытия или небытия.
По той же причине борьба искусства за свое освобождение
из-под опеки религии является основополагающим фактом его
возникновения и развития.
Именно в искусстве Лукач видит мощное противоядие против
всякой трансцендентности — от самых простых и примитивных
ее форм до самых сложных, типа религии и идеалистической фи-
лософии. Искусство обладает уникальной способностью «перера-
батывать», «перемалывать» любые «трансцендентные материалы»
в нечто земное и посюстороннее. «Такова уж объективная кате-
гориальная структура художественного произведения, что любой:
сдвиг сознания в область трансцендентного, столь естественный
и частый в истории рода человеческого, оно снова обращает к
земному, посюстороннему, ибо художественное произведение есть
то, что оно есть, то есть составная часть реальной жизни чело-
века, симптом сегодняшнего и именно данного, а не иного бы-
тия. Осуждение искусства, эстетического принципа как такового,
начиная с Тертуллиана и кончая Кьеркегором, вовсе не случайно
в истории философии; скорее, это признание истинной сущности
искусства его убежденными противниками. И наша работа
317
не просто устанавливает факт неизбежности такой борьбы, но за-
нимает в ней отчетливую позицию: за искусство против религии —
в духе великой традиции, идущей от Эпикура, Гёте к Марксу и
Ленину» (с. 20—21).
Насколько прав здесь Лукач, можно судить хотя бы по тому,
что во многих своих сочинениях Кьеркегор пытается доказать,
что эстетическое есть внешнее, мимолетное, незначительное, за-
висящее лишь от внешних условий жизни 1. Смысл эстетического
мировоззрения Кьеркегор видит в наслаждении, в то время как
смысл этического мировоззрения состоит в исполнении человеком
своего долга. Эстетик сосредоточен на индивидуальном и на раз-
личиях, а этик — от индивидуального движется к общечеловече-
скому: он стремится отождествить свое случайное «Я» с «общече-
ловеческим», стремится к высшей форме сознательного бытия.
Чтобы перейти от эстетической стадии жизни к этической, необ-
ходимо перейти от бессознательной непосредственности к созна-
тельному просветлению. Таким образом, Кьеркегор не только
противопоставляет эстетическому этическое и религиозное, но пы-
тается развенчать эстетическое как чуждое человеку и человече-
скому. Не случайно Лукач не раз подвергал воззрения Кьерке-
гора острой критике, усматривая в его философии и мировоззре-
нии не трагедию эстетизма, а трагедию религии и религиозности2.
Касаясь вопросов эстетического отражения, Лукач замечает,
что здесь наличествует реальность, независимая от общественно-
го и индивидуального сознания, и реальность природы. Однако
в этой реальности обязательно присутствует человек — как объ-
ект и как субъект. Эстетическое отражение, постоянно осуществ-
ляя обобщение, доводит его до уровня человеческого рода. Глубо-
кая верность жизненной правде в эстетическом отражении не в
последнюю очередь основана на том, что, отражая судьбу рода
человеческого, оно никогда не отделяет оту судьбу от творящих
ее индивидов. В эстетическом отражении лежащий в его основе
объект (общество в его «обмене веществ» с природой) соотнесен
с вырабатывающим сознание субъектом, и в нем воспроизведение
действительности и ее оценка, объективность и партийность нераз-
делимы. Это придает произведению искусства исторический ха-
рактер, ибо сохранение индивидуального в типическом, оценки —
в объективном факте и т. д. образуют художественный историзм.
Вот почему художественная истина всегда исторична.
Лукача иногда упрекали в невнимании к теории ценностей,
ценностям, ценностному подходу. Отметим в этой связи, что Лу-
кач действительно мало внимания уделял рассмотрению концеп-
1 См.: Kierkegaard S. Samlede Vaerker. Gildentdal, 1982, Bd; 2, 3:
Enten-Eller, Bd. 5, Frygt og Baeven, Bd. 7, 8, Stadier paa Livets Vei.
2 См.: Lukâcs G. Sören Kierkegaard es Regine Olsen. — In: LukacsG.
TJtam Marxhoz. Budapest, 1971, p. 33—53; см. также главу «Кьеркегор» в кн.
«Разрушение разума» (Lukâcs G. Die Zerstörung der Vernunft. Berlin,
1955, S. 198—243).
318
ций, связанных с вопросами ценностного подхода, с ценностями
как таковыми, обращаясь по преимуществу к главным вопросам
философии, эстетики и искусства. Что касается теорий ценности,
ценностного подхода к эстетике, искусству и культуре вообще,
то Лукач справедливо считал эти вопросы второстепенными, как
и кантовский ответ на общий методологический вопрос о праве
эстетических суждений на их значимость. Он прекрасно понимал,
что после гегелевской эстетики нельзя всерьез подходить к рас-
крытию сущности эстетического со столь односторонних и узких
методологических и гносеологических позиций: нельзя строить
позитивную эстетику на ценностной основе — она будет неизбеж-
но либо негативной, либо пустой, формальной, но в любом слу-
чае — реакционно-консервативной.
Неокантианцы, например, решительно настаивали на построе-
нии ценностной этики, эстетики, истории, культуры. Исходя из
абстрактных понятий долга, добра и зла, прекрасного и т. д., они
соответственно пытались построить этику, аксиологию, эстетику
и т. д. Этика «выводилась» из категории или ценности «долга».
Вот что писал по этому поводу Риккерт: «Без понятия долга
ее обходилась еще никакая этика, заслуживающая этого имени...
отсюда, конечно, опять-таки вытекает, что эта наиболее общая
этическая ценность чисто формальна, т. е. любой поступок может
требоваться от воли, как должный» 1. Индивид призван осознать
«долг» как категорический императив. «Само собою разумеется,
что и эти «индивидуалистические» нормы чисто формальны и
они должны быть таковыми для того, чтобы в них находила вы-
ражение сущность всякой нравственности... этика становится ин-
дивидуалистическою не несмотря на то, что она имеет в виду быть
общеобязательною, а именно поэтому»2. Таким образом, очевид-
но, какую этику «строили» неокантианцы, исходя из абстрактно
понятой ценности — «долга», этику абстрактную, формальную, ин-
дивидуалистическую и антиисторическую.
То же самое можно сказать и о неокантианском построении
эстетики. «Непостижимо, — писал Риккерт, — каким образом мож-
но приступить к эстетическому исследованию без нормативного
понятия о прекрасном, содержащего в себе то, что отличает спе-
цифически эстетическое наслаждение от прочих видов одобрения,
так как без такого понятия совершенно невозможно было бы ка-
ким-либо образом отграничить область эстетического исследова-
ния... Нам нужно понятие о том, что вообще должно нравиться
как прекрасное, но в то же время и это понятие будет общеобя-
зательно опять-таки лишь в той мере, в какой оно формально,
и в этом смысле формальная эстетика несомненно правомерна» 3.
1 Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий.
Логическое введение в исторические науки. Спб., 1903, с. 591.
2 Там же, с. 594
3 Там же, с. 607. .
Л19
Мы видим, что ценностный подход к эстетике у неокантианцев
состоял в том, чтобы разработать такую систему формальных по-
нятий, которые бы «нормировали», определяли содержание эсте-
тики и искусства.
Поэтому можно не только понять, но и оправдать Лукача,,
выступавшего с резкой критикой любых концепций, стремивших-
ся формализовать эстетику, свести ее к пустым, плоским, бессо-
держательным понятиям-ценностям, которые не столько «строи-
ли», «возводили» или «конструировали» эстетическое, сколько»
разрушали его.
Для работ Лукача зрелого периода характерно прежде всего
стремление рассматривать философско-эстетические проблемы в
тесной связи с проблемами социальной жизни человеческого об-
щества. Он исследует их в контексте других форм общественного
сознания, постоянно подчеркивая их неразрывную* связь с объ-
ективной действительностью. Не случайно Лукач особое значение
придавал роли и функции эстетического в жизни социалистиче-
ского общества и его культуры.
Поэтому он говорил об исключительно важном значении мар^
ксизма и социализма для человека и человечества. «Глубочайшая!
истинность марксизма, которую не сокрушить никакими нападка-
ми, никаким замалчиванием, во многом основана на том, что с
его помощью были выявлены, осознаны скрытые ранее важные
факты действительности, жизни человечества и человека. Новизна
обретает здесь двойной смысл: благодаря возникновению ранее не
существовавшей действительности социализма обогащается и полу-
чает новое содержание человеческая жизнь, а благодаря освобожде-
нию от фетишизма, достигнутому с помощью марксистского мето-
да исследования, предстает в новом свете считавшееся уже познан-
ным человеческое существование, как настоящее, так и прошед-
шее, новый смысл обретают усилия мыслителей прошлого постиг-
нуть это существование в его истине. Перспективы грядущего,,
познание настоящего и выявление тенденций, духовно и практи-
чески способствующих их становлению, находятся в неразрывной
взаимосвязи» (с. 42).
Марксизм возник как естественный результат развития всей
предшествующей человеческой культуры, но в такой же степени
справедливо, что вся предшествующая культура находит в мар-
ксизме свое подлинное выражение, воплощение и дальнейшее
развитие. Вот почему применение марксизма к анализу культуры
прошлого или к явлениям современной культуры всегда дает
весьма ощутимые и плодотворные результаты. Применение мар-
ксистского метода к анализу эстетического феномена, как пока-
зывает Лукач, приводит нас к полному отказу от прнимания ис-
кусства и художественной деятельности как проявлений некой
надысторической идеи, от онтологического или антропологического
связывания его с «идеей человека», когда эстетическое как в
&2Ö
творчестве, так и в восприятии относится к «сущности человека»,
независимо от того, чем определяют эту «сущность» — миром идей
или всемирным духом, антропологически или онтологически. Все
эти параметры теряют смысл, если искусство, подобно труду, нау-
ке и всей общественной деятельности, не рассматривается как
продукт социально-исторического развития того человека, кото-
рый только через труд и становится человеком, и «сущность»
которого, как доказал ^Маркс, состоит в совокупности всех обще-
ственных отношений.
Это открытие Маркса, выведенное из учения Гегеля о самосо-
творении человека посредством собственного труда, завершило,
как отмечает Лукач, посюстороннюю картину мира и нанесло
непоправимый удар идеалистическим и вульгарно-материалисти-
ческим концепциям, связывавшим существование мира и челове-
ка с трансценденцией или с трансцендентностью, содержание и
облик которой менялись в зависимости от места и времени, а так-
же от характера той или иной философской концепции, хотя сама
сущность трансцендентности оставалась неизменной.
Лукач убедительно показывает, как новое соотношение между
наукой и производством в сочетании с кризисом религиозного-
мировоззрения поставило на место наивной трансцендентности
более сложную и более утонченную. Так, чтобы нейтрализовать
революционное воздействие теории Коперника, ревнители христи-
анства выдвинули свою концепцию, которая должна была объ-
единить имманентность мира явлений с отрицанием его конечной
реальности. Они преследовали цель — оспорить способности нау-
ки в получении достоверного знания о мире. Оспаривание досто-
верности знания о мире с необходимостью приводит к обесцене-
нию реальности мира и разлагает наиболее опосредованные ду-
ховно-моральные связи человека с действительностью. Можно с
полным основанием сказать, что как диалектика неразрывно свя-
зана с логикой и теорией познания, точно так же этика и эсте-
тика неразрывно связаны с диалектикой как методологией и как
мировоззрением, ибо и этика и эстетика способствуют заверше-
нию посюсторонней картины мира, что в свою очередь создает
философскую основу для соответствующей этики, дух которой
уже давно жил в гениальных концепциях Аристотеля и Эпикура,
Спинозы и Гёте, и для соответствующей эстетики, развивавшей-
ся в трудах мыслителей от Аристотеля до Гегеля и Маркса.
Хайдеггер, например, полагал, что древнегреческие философы
не знали ни «логики», ни «этики», ни «физики», но от этого их
мышление не было ни алогичным, ни аморальным. Трагедии Со-
фокла содержат более глубокое понимание этоса, чем то, которое
мы находим в этике Аристотеля. То же самое можно сказать об
известном высказывании Гераклита: этос человека есть : его
даймон. '
Философия должна, согласно Хайдеггеру, вопрошать об исти-
не бытия и как таковая Она не может быть^ ни этикой, ни онто?-
21 Заказ №683
S32T1
-логией. Поэтому вопрос о взаимоотношении этики и онтологии
не имеет смысла. В равной мере подобное мышление, то есть
мышление, вопрошающее об истине бытия, не является ни теоре-
тическим, ни практическим. Оно является фундаментальной он-
тологией и представляет собой своеобразную первородную этику,
этику, имманентно присущую самому мышлению, фундаменталь-
ной онтологии. Подобная философия, как признавал сам Хайдег-
гер, может только ставить вопросы — вопрошать об истине бытия,
ничего другого не давая людям. Она не открывает никаких зако-
нов, не переделывает ни мир, ни самого человека, и не может
быть ни методом, ни теорией, ни практикой.
Можно поэтому с полным основанием сказать о философии
Хайдеггера то, что он сам сказал о философии Гуссерля и Сарт-
ра. Маркс настолько глубоко проник в сущностный мир истории,
что его видение истории превосходит все другие взгляды на исто-
рию; тогда как ни Гуссерль, ни Сартр не поняли сущности исто-
рического в бытии. Таким образом, ни феноменология, ни экзи-
стенциализм не достигают того уровня, на котором был бы воз-
можен творческий диалог с марксизмом.
В этой связи нам представляется вполне понятным развитие
взглядов Лукача от идеализма к материализму, марксизму и его
острая полемика со всей идеалистической философией вообще и
•особенно с современной буржуазной философией, в частности с
философией Хайдеггера и его последователей.
Лукач разрабатывает принципы взаимоотношения этики с фи-
лософией, искусством, эстетикой, а также устанавливает диалек-
тическую взаимосвязь этики с обществом, с природой, с творче-
ской деятельностью индивида и с общественной практикой, под-
черкивая значение этики и эстетики для взаимосвязи человека с
■обществом, природой, с самим собой и с другими людьми.
Особое внимание Лукач обращает на то, что этика, как и эс-
тетика, отражает объективную действительность, что этическое
содержание неизбежно носит классовый характер, что обществен-
но-исторические мотивы и тенденции играют важную роль в от-
ношениях человека к человеку, человека к обществу и к приро-
де. Этические измерения тесно связаны с эстетическими и в
равной мере являются отражением достигнутого уровня общест-
венного бытия и общественного сознания.
Важно то, что только при социализме и в социалистическом
■обществе этическое получает наиболее адекватную и совершен-
ную форму, только при социализме максимально проявляются все
творческие возможности человека и весь творческий потенциал
общества в революционном преобразовании действительности.
Идейно-философская эволюция Лукача является во многом ес-
тественной и показательной для идеологов, которые на своем соб^
ственном опыте, на опыте своей собственной жизни осуществ-
ляли сложный переход от идеалистической философии к фило-
софии марксизма. Эволюция Лукача от идеализма к марксизму
322
свидетельствует не столько о его слабостях, ошибках, заблужде-
ниях — все это практически неизбежные издержки невероятно»
трудного переходного пути, — сколько о его силе, мужестве, страст-
ном желании найти, выработать научное мировоззрение, чтобы
затем применять его в своей теоретической, практической и по-
литической деятельности.
Исследования молодого Лукача представляют собой не только
его «идеалистические искания», когда он находился под сильным
и естественным для него в то время влиянием различных течений
идеалистической философии и эстетики, но и его собственно че-
ловеческие, гуманистические искания: он стремился найти отве-
ты на те вопросы, которые волновали его самого, окружающих
его людей, вопросы, которые ставила сама жизнь. Может быть,
этим во многом объясняется «идейная неустойчивость» молодого
Лукача, его переходы от одной философии к другой, а также эк-
лектическое сочетание самых разных идей, взглядов, воззрений»
Глубокий анализ причин всеобщего кризиса капиталистиче-
ского общества и пути выхода из этого кризиса Лукач нашел в
учении Маркса, Энгельса, Ленина. Именно марксизм давал от-
веты на вопросы, волновавшие лично его и других людей. Именно
марксизм вселял надежду на революционное преобразование ста-
рого мира и на построение мира нового, мира социализма и ком-
мунизма. Именно марксизм, как мировоззрение революционного
рабочего класса и его партии, своей имманентной научностью, гу-
манизмом, партийностью привлекал на свою сторону все новых
и новых людей, делая их верными, убежденными, последователь-
ными сторонниками великого освободительного движения.
Насколько труден для буржуазных идеологов переход к мар-
ксизму, свидетельствует хотя бы тот факт, что многие из тех, кто
«шел к марксизму», например Жан-Поль Сартр, так и не дошли
до него, а также и тот факт, что даже те, кто как будто «пришел
к марксизму» (Корш, Блох, Фишер, Гароди и др.), на самом
деле в конце концов снова оказались в стане его противников.
Лукач, кажется, дольше других шел к марксизму, но, придя
к этому учению, он остался верен ему до конца.
Следует также заметить, что, несмотря на серьезное самостоя-
тельное значение исследований Лукача по истории эстетики, исто-
рическому роману, проблемам реализма, проблемам капитали-
стического общества, критике современного иррационализма,
этике и т. д., все они, на наш взгляд, в известной мере были
своеобразными этапами в процессе подготовки и осуществления
основного замысла и цели его жизни и творчества — создания
фундаментального труда по философской эстетике или филосо-
фии искусства.
Весьма соблазнительно объяснить неизменный интерес Лука-
ча к эстетике и эстетической проблематике тем, что он был ху-
дожественно одаренной натурой, любил литературу и искусство,
хорошо знал их историю. Конечно, э*о во итогом определило
21*
323
направление его исследований и его творчества. Однако дело не
только и, может быть, не столько в его серьезной художественной
подготовке, сколько в том, что глубокие и острые социально-эко-
номические и политические противоречия проявлялись раньше
всего в литературно-художественной и эстетической сферах. Пульс
«социальной жизни явственнее всего ощущался именно здесь. А ес-
ли вспомнить, что после Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Кьер-
тсегора, Гуссерля центром гуманистических исканий философской
мысли стала сфера литературы, искусства и культуры, то интерес
Лукача к этой сфере предстает вполне понятным. Нельзя забы-
вать и о том, что идеологическая борьба в XX веке все больше
<и больше смещается в сторону этой сферы, где чаще всего про-
исходят «встречи» человека с природой, с обществом, с другими
людьми, где вырабатываются многие параметры индивидуального
и общественного сознания, модусы этики, морали и нравственно-
сти, нормы индивидуального и социального поведейия. Поэтому
интерес Лукача к эстетике как глубоко философской дисципли-
не, связывающей воедино существенные области человеческой
жизнедеятельности, следует считать оправданным и необходимым.
Лукач начинал свое творчество с эстетических исследований
ш закончил его эстетическими исследованиями. Однако какая ог-
ромная разница между его ранними и поздними трудами!
Кажется, будто имеешь дело с произведениями совершенно
разных авторов, а не одного и того же человека.
Ранние работы характеризуются кантовским дуализмом, ра-
зорванностью бытия и долженствования, теории познания и эти-
ки, кьеркегоровской «парадоксальной диалектикой», позицией
«субъективного мыслителя», антиномичностью субъективной диа-
лектики (произведения искусства и его переживания, формы и
души), тождеством бытия и сознания, идеалистическим эстетиз-
мом и т. д. И главное — оторванностью от реальных проблем ре-
альной человеческой жизни: идеализм вознес эстетику до таких
высот, где ей уже нечем было ни жить, ни дышать. Сложная иг-
ра философской антиномичиости и «парадоксальной диалектики»
■эстетических исследований выражала предсмертные судороги, кон-
вульсии, агонию, предвещая неизбежный закат и гибель буржу-
азного искусства, буржуазной культуры и буржуазной эстетики.
Неудача, постигшая Лукача при первых попытках построения
собственной систематической эстетики, была не столько его лич-
ной неудачей, сколько выражением кризиса буржуазной художе-
ственной культуры и кризиса попыток ее теоретического осмыс-
ления с позиций идеалистической философии и идеалистической
эстетики.
Вот почему Лукач начинает искать новые пути, новую мето-
дологию, новую философию, с помощью которых он мог бы за-
няться решением волнующих его эстетических проблем. Именно
этим можно объяснить его «отход» от собственно эстетической
^проблематики к проблематике экономической, социальной^ полн-
ая
тической, этической, исторической и общекультурной. Многолет-
ние исследования столь разнообразной проблематики в сочетании
<с серьезным изучением марксизма-ленинизма принесли весьма
ценные результаты: Лукач постепенно разрабатывал философские
основы и параметры философской эстетики, ее категориальный
аппарат, ее структуру, углублял ее методологическую оснащен-
ность, идейно-политическую направленность, гуманистический ха-
рактер.
В процессе своей творческой деятельности Лукач приходит к
выводу о том, что подлинно научную эстетику следует строить
на серьезном социально-экономическом фундаменте, с применени-
ем единственно научной методологии — материалистической диа-
лектики, или диалектического материализма. Построение катего-
риальной системы философской эстетики должно вестись на проч-
ной материалистической основе: оно должно связать воедино
природу, общество и мышление. Подобное «связывание» можно
осуществить лишь на основе ленинской теории отражения, на ос-
нове того единства диалектики, логики и теории познания, на осо-
бую методологическую значимость которого обращал внимание
В. И. Ленин. В связи с этим важнейшей проблемой, проходящей
через всю работу Лукача «Своеобразие эстетического», является
проблема отражения и, соответственно, категория мимесиса и ка-
тегория катарсиса.
Проблему отражения Лукач анализирует с самых разных то-
чек зрения: объективной и субъективной, психологической и фи-
зиологической, естественнонаучной, философской, эстетической,
логической и исторической, абстрактной и конкретной и т. д. Вос-
ходя к Платону и Аристотелю, он прослеживает возникновение
эстетического отражения, его генезис, структуру и синтез.
В интерпретации Лукача мимесис выступает не только как
всеобщая эстетическая, но и как философско-эстетическая кате-
гория, выражающая различные формы и специфику эстетическо-
го отражения и одновременно различные стадии и формы исто-
рической объективации эстетического. От возникновения эстети-
ческого отражения, спонтанного происхождения эстетических
категорий из магического мимесиса (мимесис I), — к возникно-
вению искусства (мимесис II), от возникновения эстетической
субъективности и движения субъекта к эстетическому отражению
{мимесис III)—к собственному миру художественного произве-
дения вообще во всех его формах и видах (мимесис IV), от де-
фетишизирующей миссии искусства с его специфической катего-
риальной системой (мимесис V) — к особенностям субъектно-
объектного отношения в эстетике, катарсису как всеобщей
эстетической категории (мимесис VI), наконец,— к пограничным
вопросам эстетического мимесиса, затрагивающим сферы конкрет-
ных видов искусства: музыки, архитектуры, прикладного и садо-
во-паркового искусства, искусства кино, а также кругу проблем,
относящихся к сфере приятного.
325
При исследовании всех этих форм отражения Лукач исходит
из принципа историчности объективной действительности, разви-
тие которой в конечном счете определяет развитие категориаль-
ной системы, отражающей саму эту действительность. Следова-
тельно, историзм объективной действительности определяет исто-
ризм категориального анализа и синтеза, историзм всех видов и-
форм отражения вообще.
Лукач основывается на аристотелевой теории подражания, по-
лагая, что подражание присуще всякому живому существу, чье
активное отношение к среде не может уже оцениваться лишь
безусловными рефлексами.
В частности, когда учение об отражении не несло на себе пе-
чати материализма и было, как у Платона, фундаментальной
частью объективного идеализма, великие мыслители безоговороч-
но признали стихийный факт отражения фундаментом жизни,,
мышления и художественной деятельности. Академическое табу
на учение об отражении было наложено лишь тогда, пишет Лу-
кач, когда философский идеализм новейшего времени был оттес-
нен материализмом на оборонительные позиции и был вынуж-
ден — чтобы спасти приоритет сознания перед бытием — отбро-
сить теорию отражения вообще. Современный идеализм — идет
ли речь о субъективном или объективном идеализме — решитель-
но отказывается от признания независимой от сознания объек-
тивной действительности, которую сознание отражает.
Лукач разбивает расхожие штампы идеалистов, бездоказатель-
но и безответственно отождествляющих теорию отражения с тео-
рией фотографического воспроизведения действительности. Опи-
раясь на труды В. И. Ленина, он демонстрирует удивительно тон-
кую и глубокую диалектику процесса отражения человеческим
сознанием вечно развивающейся объективной действительности.
Лукач замечает, что теория отражения никогда не имела ниче-
го общего ни с натурализмом, который представляет собой иска-
женное общественно-историческими условиями стихийно диалек-
тическое художественное отражение действительности, стремяще-
еся уничтожить даже простое различие между сущностью и
явлением, ни с формализмом, изгоняющим объективную реаль-
ность из сферы художественного познания и творчества.
На основе ленинской теории отражения не трудно видеть су-
щественную разницу между эстетическим пониманием изобра-
жения действительности как ее отражением и магически-религи-
озным, приписывающим системе своих отражений действительное
существование. Кроме того, эстетическое отражение конституи-
руется как замкнутая в себе система (художественное произве-
дение), а любое магическое или религиозное отражение всегда
соотносится с трансцендентной действительностью.
Поскольку произведения искусства являются отражениями
объективной действительности, то их ценность, значение и ис-
тинность покоятся на том, насколько правильно они воспроизво-
дят и постигают действительность, чтобы в ее восприятии форми-
ровался образ, образное отражение.
Что касается присущей искусству субъективности, то, соглас-
но Лукачу, она вырастает из самосознания человечества. Но са-
мосознание это возможно лишь тогда, когда оно представляется
человеку относительно ясным и прозрачным, когда самосознание
основывается на действиях, подчиняющих внешний и внутренний
мир человеку — прогрессивному развитию человечества, самосо-
знанию человечества, включающему в себя глубокий гуманизм
эстетического.
Лукач указывает на неразрывную связь художественного от-
ражения и художественной рефлексии с социальной жизнью: по-
длинное творчество почти полностью направлено на возможно
лучшее выполнение социальной функции. Когда же связь между
личностью и обществом в значительной мере теряет непосредст-
венность (это особенно остро выступает в XIX и XX веках),
социальная роль искусства и художника осуществляется более
опосредованными, трудно осознаваемыми окольными путями, реф-
лексия художника все больше обращается на него самого: сперва
профессиональное занятие искусством, затем и само искусство
как особый род деятельности ставятся под вопрос и размышле-
ния о ценности человека, о ценности художественного творчества
вообще приобретают характер самотерзания, окрашиваются пес-
симизмом. Эстетическое отражение действительности с необходи-
мостью выходит за рамки стихийной непосредственности чувств
и переживаний, оно вынуждено создавать и сохранять определен-
ную дистанцию между жизнью искусства и самой жизнью, и ху-
дожественное творчество перестает восприниматься как простой,
предметно обусловленный вид отношения к действительности, к ее
истинному воспроизведению, оно становится видом обесчеловече-
еия самого художника. Этот процесс отчуждения человека, чело-
веческого общества, человеческого сознания и художественного
творчества может быть остановлен и преодолен лишь революци-
онным преобразованием капиталистического общества в общество
социалистическое.
Подчеркивая определяющую роль объективной действитель-
ности и объективный характер всех видов и форм отражения,
Лукач не забывает отметить важность субъективной истории от-
крытий в области предметности, соотношений и категориальных
связей.
Всякое отражение исторически детерминировано. Что касает-
ся эстетического отражения, то оно благодаря художественно-
образному воплощению, соответствующему тому или иному исто-
рическому моменту, всегда несет на себе печать конкретного вре-
мени, конкретной истории. В произведениях искусства историзм
объективной реальности обретает свой субъективный, равно как
и объективный образ. Последовательно проводимый историзм с
неизбежностью приводит к мировоззренческим проблема^ сзя-
т
занным с основной миссией искусства, с основными задачами, ко-
торые оно решает; борьба за универсальное освобождение челове-
ка от всего, что его подавляет, угнетает, унижает и оскорбляет;
борьба за выработку научного мировоззрения, миросозерцания^,
миропонимания и мироощущения; борьба за построение подлин-
но человеческого сознания и самосознания; и, наконец, борьба за
достойную человека и человечества жизнь, за жизнь свободного*,
творческого, универсально развитого человека.
В категории «особенного» (Besonderheit), воспринятой Лука-
чем от Гёте, он находит концентрированное выражение основных
творческих, социальных, эстетических и художественных коорди-
нат, определяющих гуманистическую направленность и гумани-
стический характер искусства и эстетического. Эта категория от-
ражает как исторический художественный опыт человечества, так
и его современную художественную жизнь, как твсрческую жизнь
отдельного человека, так и художественный мир произведения-
искусства, как художественную жизнь общества, так и художе-
ственный мир искусства в целом. Освободительная миссия искус-
ства — это и есть борьба за формирование самосознания человека,,
борьба за его свободу.
В искусстве Лукач видел наиболее полное воплощение гума-
нистических исканий и устремлений человека и человечества. Он
полагал, что именно в искусстве человеческое сознание, как ин-
дивидуальное, так и общественное, получает наиболее полное и
совершенное выражение и отражение. Следовательно, искусства
может и должно быть той новой общественной силой, которая
принесет человеку и человечеству самое универсальное развитие
творческих сил, а значит, и самое универсальное освобождение,
самую универсальную свободу. В этом смысле освободительная
миссия искусства представляет собой всемирно-исторический про-
цесс духовного становления и формирования человечества, ста-
новления и формирования человеческого сознания и самосозна-
ния. Вот почему Лукач так страстно выступал в защиту культур-
ного наследства человечества, в защиту прогрессивного духовного
творческого потенциала человечества против фашистского и им-
периалистического варварства во всех сферах человеческой жиз-
недеятельности, в том числе и в сфере культуры.
Разумеется, в таком фундаментальном, а в известной мере и
уникальном произведении, каким является «Своеобразие эстети-
ческого», есть и спорные положения.
Прежде всего это касается категории «повседневная жизнь»,
которую Лукач сделал несущей конструкцией своей философско-
эстетической концепции. Казалось бы, эта категория отражает
очевидные вещи и отношения — обыденную жизнь. Однако, как
только мы поставим вопрос — что именно вкладывается в содер-
жание понятия «повседневной жизни», жизнь каких людей, ка-
ких классов, какого общества, что понимается под этой
«йкизнью»—трудовая, практическая или теоретическая деятель-
Ш
ность, развлечение, творчество, созерцание и т. д. — как эта кате-
гория из очевидной превращается в самую неопределенную,
темную и непонятную. Видимо, не случайно категория «повсе-
дневной жизни» является основополагающей во многих идеали-
стических философских концепциях, и прежде всего у Хайдегте-
ра, Ясперса, Сартра и др. Не случайно и то, что Лукач испыты-
вает большие затруднения при определении ее содержания и
при различении своего понимания этой категории от понимания
и истолкования ее философами-идеалистами. Весьма большие
трудности обнаруживаются и тогда, когда он пытается установить
соответствующие взаимоотношения между повседневной жизнью
ш эстетическим своеобразием, а также между повседневной
жизнью, наукой и искусством, повседневной жизнью, трудом и
языком и т. д. И дело здесь, видимо, не только в остаточных
проявлениях дуализма «Гейдельбергской эстетики», антиномий,
гносеологизма и вульгарного социологизма, а в том предпочте-
нии, которое еще отдается Лукачем собственно философскому
анализу перед анализом политико-экономическим.
Немало спорного можно найти у Лукача и в анализе таких
основополагающих категорий, как мимесис и катарсис.
Может вызвать возражение и его конструкция сигнальной си-
стемы Г, которая должна быть, по замыслу Лукача, своеобразным
синтезом первой и второй сигнальных систем И. П. Павлова.
В этой работе спорных идей, положений, формулировок и вы-
водов немало. Однако даже то, что является спорным, направле-
но у Лукача на обоснование, уточнение и на дальнейшее разви-
тие марксистско-ленинской эстетики.
Вокруг Лукача и его теоретического наследства никогда
не прекращалась идеологическая борьба.
Некоторые буржуазные идеологи и ревизионисты, как это мы
видели на примере фальсификаций Мерло-Понти с книгой Лу-
кача «История и классовое сознание», стремились и стремятся
сделать из него антимарксиста, философа, который якобы всю
свою жизнь только тем и занимался, что «критиковал» и «опро-
вергал» марксистско-ленинскую философию.
Другие буржуазные идеологи пытаются доказать, будто бы
Лукач начал свою творческую деятельность с идеализма и анти-
марксизма и в конце своего творческого пути снова вернулся на
эти же позиции. Например, Фредрик Джеймсон в своей книге
«Марксизм и форма» пишет: «После венгерского восстания (в пе-
риод контрреволюционных выступлений в Венгрии в 1956 году
Лукач занимал ошибочные политические и идеологические пози-
нии. — К. Д.), он уединяется, подготавливая двухтомную «Эстети-
ку» (1963), в которой вместе с проектом «Этики» и «Онтологии»
возвращается от марксистской точки зрения к неокантианскому
теоретическому проекту своей юности» 1.
1 J a m е s о il F. Marxism and Form. Prinston University Press, 1971,
p. 162.
329
Третьи — такие, как итальянский буржуазный философ и эс-
тетик Морпурго-Тальябуэ, объявляют творчество Лукача руди-
ментарным, устаревшим: «По прочтении работ Лукача возникает
впечатление, что результаты столь трудоемких и грандиозных
усилий не всегда адекватны потому, что они как будто достигну-
ты неприспособленными, рудиментарными способами. Возьмем
лишь такие рудиментарные принципы, как принципы метафизи-
ки, диалектики и принципы гносеологии, типического, формально-
эстетического, интенсивности и единства многообразного и т. д..
Рудиментарное не означает абсурдное, ложное, неприемлемое^
но просто означает рудиментарное. Так, например, Лукач терпит
неудачу в честолюбивом намерении повторить в других условиях
и в других масштабах программу «Поэтики» Аристотеля: дать
нам эквивалентность между формальным совершенством и соци-
альной действенностью произведения искусства» 1.
В данном случае «рудиментарными» объявляются методы ма-
териалистической диалектики, логики и теории познания, то есть
марксистско-ленинская методология, благодаря которой только и
возможно осуществлять серьезный анализ в любых сферах чело-
веческой жизнедеятельности и человеческого познания. Эстетика
Лукача отличается прежде всего и главным образом именно при-
менением материалистической диалектики, логики и теории по-
знания к решению эстетических проблем и проблем сферы куль-
туры и искусства вообще. И что особенно важно, Лукач подвел
под свое исследование и изложение марксистско-ленинской эсте-
тики самый основательный фундамент — ленинскую теорию отра-
жения со всей ее могучей и животворной традицией реализма —
от Аристотеля до Маркса. Но именно это «воспроизведение» реа-
листической традиции, основанной на теории отражения, вызы-
вает у буржуазных идеологов особое неудовольствие. Объявляя
несовместимыми материализм и диалектику, они считают в той
же мере несовместимыми идейное содержание и художественное
совершенство, «формальное» совершенство и социальную дейст-
венность произведения искусства, социалистический реализм и
свободу творчества.
Искусству и художнику они позволяют заниматься чем угодно,,
но только не отражать в своем творчестве и в своих произве-
дениях серьезные социальные проблемы. Правящие классы кров-
но заинтересованы в том, чтобы свести искусство и художествен-
ное творчество до уровня развлечения, игры, забавы, в конечном
счете, к пустоте. Духовных идеологических «наставников» или
слуг современной империалистической буржуазии можно с пол-
ным основанием сравнить с английской леди, о которой Энгельс
писал: «Более никчемного и бесполезного существа нет на свете.
Ее нрав, образование, склонность закрывают для нее доступ ко
1 Morpurgo-T alia bue G. L'esthétique contemporaine. Milan,
1960, p. 316-317.
330
всем подлинным интеллектуальным сторонам бытия, в то время
как пустячные занятия (frivolitis of life) или, в лучшем случае,
превращение в забаву серьезных — составляют все содержание ее
жизни, и только к ним одним она сама относится серьезно» 1.
Что касается представителей марксистско-ленинской эстетики,
то чаще всего они вменяли в вину Лукачу то, что он хотел вновь
поставить Гегеля с головы на ноги, делая привычными изыскан-
ные гегелевские определения в эстетической сфере.
Например, итальянский эстетик Рокко Музолино в своей кни-
ге «Марксизм и эстетика в Италии» пишет: «Что кажется неиз-
бежным, так это то, что Лукач, намереваясь поставить Гегеля с го-
ловы на ноги, в конечном счете приобретает, но уже на материа-
листической базе, те же самые тенденции спекулятивного априо-
ризма; эстетический историзм Лукача получает свою силу не
непосредственно из конкретного исторического опыта, а наоборот,
ему свойственно стремление выводить каноны этого опыта из спе-
кулятивной основы и закреплять их „навечно*'»2.
Музолино отмечает, что у Лукача органическое единство эс-
тетического и исторического суждения является чисто теоретиче-
ским, что он якобы сам ощущает непреодолимый соблазн отде-
лить содержание от формы, а идею от содержания.
Далее, Лукачу вменяется в вину то, что его историко-куль-
турное суждение не опосредуется анализом внутренних отноше-
ний произведения искусства, поэтому то, что кажется действи-
тельным относительно суждений, касающихся обширных истори-
ческих периодов, не имеет силы и значения для критического
опыта отдельного произведения искусства.
Наконец, один из самых распространенных упреков в адрес
Лукача состоит в том, что он якобы в соответствии со своей
теорией «триумфа реализма», выведенного им из энгельсовского
суждения о Бальзаке, намеревается выводить мировоззрение пи-
сателей из историко-культурной ценности их произведения. Од-
нако не менее верным является то, что это мировоззрение Лукач
ищет и определяет еще до того, как приступает к эстетическому
анализу произведения искусства.
На наш взгляд, несмотря на все имеющиеся недостатки, «Свое-
образие эстетического» — это самый фундаментальный труд по
философской эстетике, исследующий эстетическую проблематику
в широком политическом, социально-экономическом, философско-
идеологическом, научном и общекультурном контексте с позиций
материалистической диалектики, логики и теории познания, с по-
зиций ленинской теории отражения.
Критический пафос этого произведения Лукача направлен на
развенчание основных принципов, схем, догм и предрассудков
1 Энгельс Ф. Рукописи по истории Англии и Ирландии. — В: Архив
Маркса и Энгельса, т. X, с. 106.
2Musolino R. Marxismo ed estetica in Italia, Editori Riuniti, 1963,
p. 84.
331
идеалистической философии во всех ее формах и видах, а также«
против различного рода оппортунистических и ревизионистских
концепций, извращающих реальную картину мира и ее объектив-
ные отражения формами общественного сознания.
В этом произведении Лукач демонстрирует неувядаемую све-
жесть, силу и плодотворность диалектико-материалистической ме-
тодологии и ленинской теории отражения в их конкретном при-
менении к анализу такой тонкой и исключительно «чувствитель-
ной» к социальным изменениям и движениям сферы, как искус-
ство и эстетика в их взаимоотношении с повседневной жизнью ш
со всеми формами общественного сознания.
Ломая привычные и окостеневшие схемы исследования и из-
ложения эстетики, Лукач выстраивает внушительную по своему
содержанию категориальную структуру марксистско-ленинской
эстетики, находящейся как бы в постоянном процессе движения
и развития, в ходе которого выявляются основные параметры т$
характеристики художественного и эстетического: их смысл, ис-
тина, социальное содержание и идейно-художественное совершен-
ство творений человеческого духа.
Философско-эстетический категориальный анализ и синтез,.
с помощью которого ведется исследование важнейших проблем*
человеческой жизнедеятельности и художественного творчества^
порождает здесь своего рода генезис человеческого сознания и-
самосознания в их тесной связи с основными проблемами совре-
менной жизни: борьбы прогрессивного человечества за мир, со-
циальное освобождение, демократию и социализм, против импе-
риализма, развязанной им гонки вооружений, против эксплуата-
ции человека человеком, против враждебной человеку, искусству
и культуре культурной политики империализма, против всех ви-
дов и форм отчуждения. Лукач как бы «наполняет» выстраивае-
мую им философско-эстетическую систему высокогуманистиче-
ским содержанием, светом разума и оптимистическим мировоззре-
нием.
«Своеобразие эстетического» — это произведение, содержание-
которого активизирует философско-эстетическую мысль и худо-
жественное творчество, поднимая их на борьбу за социализм ег
гуманизм, стимулирует дальнейшее развитие искусства социали-
стического реализма, социалистической культуры. Его идейное*
богатство будет служить источником для новых эстетических ис-
следований и новых художественных открытий.
К. М. Долгов,
доктор философских наук, профессор*
Перечень глав 1—4 томов
Том 1
Предисловие
Глава 1. Проблемы отражения в повседневной жизни
\. Общая характеристика обыденного мышления
2. Принципы и начала дифференциации
Глава 2. Дезантропоморфизация отражения в науке
1. Значение и ограниченность тенденций дезантропоморфизациш"
в античности
2. Противоречивость дезантропоморфизации нового времени
Глава 3. Принципы отделения искусства от повседневной жизни. Предва-
рительные вопросы
Глава 4. Абстрактные формы эстетического отражения действительности*
1. Ритм
2. Симметрия и пропорция
3. Орнаментика
Том 2
Глава 5. Проблемы мимесиса I. Возникновение эстетического отражения!
1. Общие проблемы мимесиса
2. Магия и мимесис
3. Спонтанное происхождение эстетических категорий из магиче-
ского мимесиса
Глава 6. Проблемы мимесиса II. Путь обращения искусства к миру
1. «Внемирность» пещерных изображений нижнего палеолита
2. Предпосылки обращенности художественного произведения ку-
миру
3. Предпосылки создания собственного мира художественных
произведений
Глава 7. Проблемы мимесиса III. Путь субъекта к эстетическому отраже-
нию
1. Эстетическая субъективность. Предварительные вопросы
2. Отчуждение и возвращение в субъект
3. От частного индивида к самосознанию человеческого рода
Глава 8. Проблемы мимесиса IV. Собственный мир художественного
произведения
1. Непрерывность и прерывность эстетической сферы (произведе-
дение, жанр, искусство в целом)
зза
2. Гомогеиность опосредования, целостный человек и цельный
человек
3. Гомогенность опосредования и плюрализм эстетической сферы
Глава 9. Проблемы мимесиса V. Дсфетишизирующая миссия искусства
1. Естественная среда человека (пространство и время)
2. Неопределенная предметность
3. Ингерентность и субстанциальность
4. Причинность, случайность и необходимость
Глава 10. Проблемы мимесиса VI. Общие особенности субъектно-объсктного
отношения в эстетике
1. Человек как ядро или оболочка
2. Катарсис как всеобщая эстетическая категория
3. Вторичность рецептивного переживания
Том 3
Глава И. Сигнальная система I'
1. Характеристика явления
2. Сигнальная система Г в жязпи
3. Косвенные свидетельства (домашние животные, патология)
4. Сигнальная система V в эстетическом поведении
5. Поэтический язык и сигнальная система Г
Глава 12. Категория особенного
1. Особенное, опосредование и среда
2. Особенное как эстетическая категория
Глава 13. Бытие-в-себе, бытие-для-нас, бытие-для-себя
1. Бытие-в-себе и бытие-для-нас в научном отражении
2. Произведение искусства как в-себе-сущее
Том 4
Глава 14. Пограничные вопросы эстетического мимесиса
1. Музыка
2. Архитектура
3. Прикладное искусство
4. Садово-парковое искусство
5. Искусство кино
6. Круг проблем приятного
Глава 15. Проблемы природной красоты
1. Между этикой и эстетикой
2. Природная красота как элемент жизни
Глава 16. Борьба искусства за свое освобождение
1. Основные вопросы и главные этапы борьбы за освобождение
2. Аллегория и символ
3. Повседневная жизнь, частный индивид и религиозная потреб-
ность
4. Базис и перспективы освобождения
Содержание
От издательства . &
Предисловие . 7*
Глава 1. Проблемы отражения в повседневной жизни . 23
1. Общая характеристика обыденного мышления . . 23
2. Принципы и начала дифференциации .... 62
Глава 2. Дезантропоморфизация отражения в науке 112^
1. Значение и ограниченность тенденций дезантропоморфизации в
античности 112
2. Противоречивость дезантропоморфизации нового времени 131
Глава 3. Принципы отделения искусства от повседневной жизни.
Предварительные вопросы 167"
Глава 4. Абстрактные формы эстетического отражения действитель-
ности 206-
1. Ритм 206>
2. Симметрия и пропорция 234
3. Орнаментика 257
Примечания 292*
Эстетика Дьёрдя Лукача (Послесловие) К. М. Долгов .... 301
Перечень глав 1—4 томов .... 33&
Д. Лукач
СВОЕОБРАЗИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ИБ № 14292
Редактор Н. В, Вербицкая
Художник В. Г. Штанъко
Художественный редактор Ю. В. Вулдаков
Технический редактор С. Л. Рябинина
Корректор Н. И. Мороз
Сдано в набор 13.12.84. Подписано в печать 28.02.85. Формат 60x90Vie.
Бумага типограф. № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Условн.
печ. л. 21,0+0,12 печ. л. вклеек. Усл. кр.отт. 21,12. Уч.-изд. л. 23,40. Ти-
раж 4000 экз. Заказ № 683. Цена 2 р. Изд. № 39727.
•Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государствен-
ного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17.
Московская типография № 11 Союзполиграфпрома Государственного коми-
тета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
.113105, Москва, Нагатинская ул., д. 1.