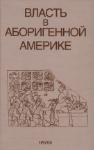/
Автор: Богина Ш.А.
Теги: этнография этнос этникос этническая история народы америки история америки сша
ISBN: 5—02—010049—8
Год: 1991
Текст
Семья у народов
АМЕРИКИ
Академия наук СССР
Ордена Дружбы народов
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
Семья у народов
АМЕРИКИ
Издательство -Наука"
Москва 1991
ББК 63.5
С 30
Ответственный редактор
доктор исторических наук
Ш. А. Богина
Авторы:
Ш А. Богина, А.Д.Дридзо, MF. Котовская,
Н.Н. Кулакова, НА. Лопуленко, В.М. Матвеева Кузнецова,
ЭЛ. Нитобург, СЛ. Серов, В.А. Скрозникова,
В.Г. Стельмах, Л.А. Файнберг, CJT. Федорова,
Н.В. Шалыгина, Л.С. Шейнбаум
Рецензенты:
доктор исторических наук Р.Ш. Джарылгасинова,
кандидат исторических наук С.А. Созина
0505000000-1 SO
^ 042(02) - 91
109-91 (1 пол.)
ISBN 5—02—010049—8
@ Издательство "Наука", 1991
X* 5О0леяплю оямсрмятя
№?ао20 Сзе;яа
ПРЕДИСЛОВИЕ
Исследование семьи, как известно, — одна из основных тем этно¬
графической науки. До сих пор в советской этнографии семья наро¬
дов Америки в целом специально не изучалась, и настоящая работа
представляет собой первый опыт такого изучения.
В книге разбирается семья XX в., что не исключает в ряде случа¬
ев обращения к более ранним периодам. Народы стран Америки, боль
шие и малые, и ныне находятся на разных стадиях исторического раз
вития, что обусловило значительные различия в их семейном строе.
Однако с течением времени все более заметна тенденция к преоблада
нию в урбанизующейся Америке современной городской семьи нукле
арного типа.
Авторский коллектив ставит своей главной целью исследование
роли семьи в этнических процессах. С этой точки зрения рассматри¬
ваются демографическая динамика, заключение браков, структура
семьи, роль семьи в передаче культуры, особенно этнической. С по
следним аспектом непосредственно связана проблема социализации
детей и смены поколений, что имеет чрезвычайную важность для по
лиэтничных обществ, какими являются общества и Северной и Юж¬
ной Америки с их неизбежными этническими контактами и взаимо
действиями. Этим обусловлено и большое внимание, уделяемое сме¬
шанным бракам, как межэтническим, так и межрасовым. В результате
подобных союзов образовалось метисизированное население множес
тва стран Латинской Америки. Такие же союзы воздействовали на на
селение всего Нового Света.
Характерное для XX в. явление — изменение роли женщин, их
массовое вовлечение в общественное производство — происходит и в
развитых, и в развивающихся странах, разумеется, в каждой по-свое
му. Это вызывает перемены в отношениях полов, семейном строе, вое
питании молодого поколения.
Авторская работа была сопряжена со значительными трудностями.
К ним относится недостаток источников (они преимущественно ста¬
тистические). В Северной Америке изучение семьи ведет главным об¬
разом социология, особенно активно — с середины 70-х годов. Семьей
коренных народов занимаются этнографы (антропологи), а семейными
особенностями этнических групп — иммигрантоведы. По Латинской
з
Америке положение и с источниками, и с литературой гораздо хуже.
И только в отдельных случаях текст основан на полевой работе ав¬
тора.
Следует предупредить читателей, что в книге нередко употребля¬
ется термин „хаусхолд" (часто применяемый в американской ли
тературе и вошедший уже в советскую), т.е. „домохозяйство". Хаус¬
холд отнюдь не совпадает с семьей, как принято в нашем словоупот¬
реблении: в нем может жить и один человек, и несколько людей, не
находящихся в родстве, и семья.
По США даются, помимо общего очерка, разделы по семейному
быту характерных этнических и расово-этнических групп, составляю¬
щих американский народ. Самые крупные или особенно специфичес¬
кие группы населения США и Бразилии выделены в особые главы.
Разумеется, охватить все народы и племена Нового Света оказа¬
лось невозможным. Не удалось разобрать семейный строй и всех его
стран. Но наиболее характерные в отношении семейного устройства
народы и регионы в предлагаемой работе освещены.
Семья
в Северной Америке
США
ЙЛА. /мммма
В американском обществе институту семьи издавна придавалось боль¬
шое значение, он пользовался уважением и почетом. Преобладала семья
нуклеарного типа, которая господствовала и к началу XX в. Известный эт¬
нолог М. Мид подчеркивала социальную гибкость нуклеарной семьи, осо
бенно важную для условий иммиграции (и внутренних миграций), в кото¬
рых всегда жила Америка'. Но, как особенно убедительно показали новей
шие работы, немалое значение имели и имеют родственные связи, выходив
шие за пределы отношения родители — дети, которое составляет сущность
нуклеарной семьи. Такие родственные связи, игравшие значительную эко
номическую и психологическую роль, были наиболее развиты, как свиде
тельствуют многие американские авторы, в трудовых слоях населения. Осо
бенно значимы были они в иммигрантских группах и среди негров (те и
другие относились, как известно, в подавляющем большинстве именно к
трудовым слоям) и строились на основе этнических традиций.
В экономическом отношении семейные и родственные связи прежде
всего служили орудием вербовки рабочей силы в города Америки посред¬
ством миграций, внутренних и внешних. Южане, белые и черные, Пересе
лявшиеся в середине XX в. в Чикаго и Кливленд, например, приезжали к
родственникам. Иммигранты — и в XIX, и еще чаще в XX в. — выписывали
родственников из-за океана, определяли их на работу, помогали устроиться.
Так, например, пополнялась рабочая сила крупнейшего в мире текстильно
го предприятия „Амоскиг", которое находилось в г. Манчестере и расцвет
которого пришелся как раз на первые десятилетия XX в.^
Многие европейские путешественники отмечали еще в XIX в., что цен
тром американской семьи являются дети. Такова была стандартная амери
канская семья так называемого среднего класса и в XX столетии. Но откло
нения от этого образца весьма многочисленны. В начале XX в. был широко
распространен детский труд. Иногда на работы, особенно сезонные (напри
мер, сбор ягод на Севере, сбор фруктов и овощей в юго-западных штатах),
нанимались целыми семьями. На „Амоскиге" дети рабочих начиная с 12—14
лет трудились в цехах предприятия постоянно или временно. Помимо мате¬
риальной необходимости, наемной работе детей способствовали и некого
рые этнические традиции (например, у италоамериканцев).
Очень многие городские семьи первых десятилетий века держали
жильцов и нахлебников, предоставляя им за плату квартиру, или стол, или
чаще всего то и другое. Это давало женщинам-хозяйкам оплачиваемую рабо
5
ту и, конечно, пополняло бюджет семьи. Чаще всего так поступали иммиг
рантские семьи, но нередко и старожильческие, что дало американским
ученым Т. Харевен и Дж. Моделлу основание считать это явление свой¬
ственным миграциям и урбанизации вообще, а не только иммиграции. Они
же полагают, что в первые десятилетия XX в. жильцов держало 15—20%
всех городских семей* . Однако число иммигрантов (как семей, так и оди¬
ночек) намного превышало в тот период число мигрантов-старожилов, и по¬
тому система жильцов-нахлебников являлась преимущественно иммигран¬
тским обыкновением и бывала этнически окрашена. Многие факты такого
рода относительно польских иммигрантов приведены в знаменитой книге В.
Томаса и Ф. Знанецкого, изданной впервые в 1918 г/ , особенно в ее доку¬
ментальной части. Изобилуют они и в современных исследованиях, основан
ных на беседах с пожилыми информаторами, вспоминающими свое
прошлое.
Дочь югославских иммигрантов Хелен Дразенович-Берклич, выросшая в
шахтерском районе северо-восточной Миннесоты, рассказывала о временах
своего детства: „Мужчины-иммигранты работали на шахтах, женщины уха¬
живали за садом, ходили за скотиной, следили за домом и содержали пан¬
сионы для холостых горняков". Мать Хелен тоже держала жильцов. Это
были лесорубы, которые приходили из леса каждые три месяца и „гуляли"
по два-три дня. Подростком потеряв мать, Хелен одно время работала в пан¬
сионе югославской иммигрантки, имевшей 40 жильцов, и жила там вместе
с отцом. Пансион вместе с прачечной завели в Сан-Франциско два брата-
японца с Окинавы. Их заведение служило центром для окинавцев. Позже
один из этих братьев — уже с женой — держал пансион во Фресно*.
Как видно из приведенных примеров, обслуживание бессемейных им¬
мигрантов иногда производилось в коммерческих заведениях. При этом по¬
стояльцы принадлежали к той же этнической группе, что и хозяева. Одна¬
ко чаще всего постояльцы жили (или только столовались) в хозяйской
семье.
Рэмон Дюбуа, работавший в юности на упоминавшемся уже „Амоски-
ге", вспоминает свою семью (франко-канадского происхождения): „Моя
мать принадлежала к тем немногим, кто не работал на фабрике после заму¬
жества. Но очень тяжело, без выходных и отпусков, трудился на фабрике
отец. Нас было четверо детей, и мы жили в пяти комнатах. У нас был по¬
стоялец. Он знал моих родителей, и мы его взяли. Ему пришлось поме¬
щаться вместе с моим братом". Кора Пельрен, работавшая на том же
„Амоскиге" с 11 лет, рассказывает, что в 1914 г. ее родители решили вер¬
нуться в Канаду, но их старшие дети предпочли остаться в Манчестере и
мать подыскала им надежный пансион. Как сообщала Алиса Лакасс, жи¬
тельница того же города, ее отец не хотел чтобы жена работала, поэтому
она занималась другими делами: шила ему одежду, брала нахлебников, сда¬
вала комнаты. По словам брата Алисы, „мать кормила фабричных в обеден¬
ное время. У нас всегда было двое-трое их". Лотти Сарджент, потомок шот¬
ландских рабочих „Амоскига", вспоминает, что ее бабушка была вынуждена
содержать пансион для фабричных рабочих, потому что дед не работал.
Иногда платными постояльцами бывали родственники, даже очень близ¬
кие. Анна Дувилль, дочь в многодетной манчестерской семье, говорила, что
ее подросшие братья и сестры оставались жить дома, „только платили за
6
содержание'"* . Нередко на таких же началах жили в родственных семьях
новички из-за океана. Но правилом было, что постояльцы чаще всего явля¬
лись соплеменниками хозяев, родней им не доводились. Бывало и так, что
молодые люди, ушедшие из родительского дома, селились у людей, чьи де¬
ти их покинули^ .
С 1930-х годов система постояльцев в семьях стала постепенно сходить
на нет. Это было обусловлено сокращением внешних, а также внутренних
миграций из-за экономического кризиса и депрессии, а также социальными
реформами „нового курса" Ф. Рузвельта. В дальнейшем система была подо¬
рвана вовлечением женщин в общественное производство* .
Наличие в доме постояльцев не только пополняло бюджет семьи и уве¬
личивало нагрузку хозяйки, оно осложняло семейную жизнь. В труде Тома¬
са и Знанецкого приводились данные о том, что постояльцы часто вступали
с хозяйками в связь, иногда даже с согласия мужей. Мужья же пили, били
жен. Авторы прямо признавали полиандрию и полигинию тенденциями раз¬
вития полькой семьи в Америке* .
Концепция Томаса и Знанецкого, усматривавших в польско-американ¬
ской семье лишь распад и дезорганизацию, явно сгущает краски. Подобные
взгляды, характерные для чикагской социологической школы, находившей в
иммигрантской жизни, в частности в семье, главным образом социальную
дезорганизацию, опровергнуты как развитием общественной действитель¬
ности, так и новыми исследованиями*" .
Американские благотворительные организации начала века и прогрес-
систская литература вели кампанию против системы постояльцев в семьях,
осуждая ее как зло, как опасность для нравственности, как порчу, вноси¬
мую иммигрантами в американский быт и подрывающую privacy (частный
характер) — отличительную черту „образцовой" американской семьи** .
* * *
Иммигрантские семьи начала века отличались многодетностью. Разуме¬
ется, это не относилось в равной мере ко всем этническим группам, этни¬
ческие традиции играли в этом деле большую роль и зачастую сочетались
с экономическими факторами. Дети были рабочей силой, их заработки в
натуральной или денежной форме составляли важную часть семейного бюд¬
жета. Так бывало в итальянских семьях, у чиканос Калифорнии, франкока¬
надцев. Упоминавшаяся выше Алиса Лакасс изложила это следующим обра¬
зом. „Когда франкоканадцы впервые прибыли в Манчестер, они могли су¬
ществовать лишь имея много детей. Это было одной из причин того, поче¬
му у них были такие большие семьи". Она же указывает и другую причи¬
ну. „Священики только и говорили, что нужно иметь детей, иметь детей;
теперь этого не услышишь... Для предотвращения сделать было ничего
нельзя". И далее: „Это всегда было и в моем браке: нужно иметь детей и
ничего не предпринимать"*^ .
Противозачаточные средства применялись в Америке и в XIX в., но сре¬
ди имущих и образованных. Однако в начале XX в. произошел перелом, на¬
зываемый иногда „контрацептивной революцией". Она связана с именем
Маргарет Сэнгер, которая, собственно, и ввела широко употребляемый ны¬
не термин „контроль рождаемости". За такой контроль и повела борьбу М.
Сэнгер, описывавшая в своей книге, как страдают и даже погибают жены
7
рабочих, пытающиеся самодельными средствами избавиться от нежелатель¬
ной беременности. В движении, начатом М. Сэнгер, ей активно помогла ра¬
дикальная рабочая организация „Индустриальные рабочие мира"** .
Распространение контроля рождаемости внесло, конечно, перемены в
жизнь семьи и вообще в отношения между полами. Этому способствовала
также ббльшая свобода нравов, распространявшаяся в американском обще¬
стве с начала века как реакция на ограничения викторианского XIX в. и
особенно ощущавшаяся в 20-е годы, после первой мировой войны** .
Всем этим переменам сопутствовало — и в значительной мере обуслов¬
ливало их — растущее вовлечение женщин в наемную работу вне дома, на¬
чавшееся еще в XIX в. Уже в 1900 г. женщины составляли 18,1% всей ра¬
бочей силы страны, а в 1940 г. соответствующий показатель возрос до
25,4%. Что характерно для XX в., в общественное производство втягивались
замужние женщины, чему способствовали технические перемены в домаш¬
нем хозяйстве: широкое распространение электричества, газа, центрального
отопления и т.д., появление таких домашних приборов, как пылесосы, сти¬
ральные машины, холодильники, затем внедрение в быт консервов, полу¬
фабрикатов, готового платья. Кроме того, покупка новинок одной домохо¬
зяйкой вызывала соперничество других, что побуждало женщин искать де¬
нежного заработка для оплаты новых расходов** .
На „Амоскиге", вспоминал бывший кассир этого предприятия Вильям
Макэлрой, женщины составляли более половины всех работавших. „Жен¬
щины...— говорил он, — могли иногда заниматься теми же видами работ,
что мужчины, за ту же зарплату. Их достоинство повышалось и на фабри¬
ке, и дома, они чего-то достигали и гордились своей работой. Но по-преж¬
нему им приходилось тащить обе ноши — свою работу на фабрике и свои
домашние обязанности' ** .
Феминистка Джули Маттеи пишет в своей книге по экономической ис¬
тории американок, что мужья, защищая свою мужскую роль кормильцев
семьи, противились наемной работе жен, и так случалось поступать даже
безработным в пору экономического кризиса и депрессии 30-х годов*^ .
Еще чаще, чем замужние женщины, работали по найму в те же десяти¬
летия девушки до замужества. Характерный пример — молодые италоаме-
риканки Нью-Йорка, из которых очень многие служили в конторах. Это об¬
легчалось тем, что италоамериканские девочки учились лучше, чем мальчи-
ки, и в отличие от них чаще проходили весь школьный курс до конца. В
Нью-Йорке же было много конторской работы, по мере роста аппарата кор¬
пораций и муниципальных органов потребность в ней увеличивалась. Если
в начале века женщин из иммигрантской среды не желали брать на контор¬
скую работу, то через несколько десятилетий их стали нанимать гораздо
охотнее — это относилось главным образом к женщинам из второго поколе¬
ния иммигрантов**. Вспоминает о своей конторской работе в молодости (в
20-е годы) и пожилая американская шведка из Сан-Франциско*^ .
Однако девушки работали именно до замужества (что было широко
принято уже в начале века), иногда возвращались на работу в какой-то пе¬
риод после него. Но появились такие женские профессии, которые с заму¬
жеством сочетались плохо. Распространение высшего образования среди
женщин давало им возможность становиться учительницами, медичками,
библиотекарями, деятельницами благотворительных организаций и т.д. И
8
если до тех пор на старых дев глядели косо, то квалифицированные жен¬
щины названных профессий считались вполне респектабельными, даже ос¬
таваясь незамужними. Некоторые из них сознательно исключали для себя
замужество. Такова, например, была известная публицистка Айда Тарбелл,
принадлежавшая к прогрессистскому движению „макрейкеров" („разгреба-
телей грязи")**.
Исследовавшие типичный американский городок 20-х годов известные
социологи Р. и X. Линд отмечали, что браки там стали заключаться в более
молодом возврасте, чему, в частности, способствовали большие возможности
зарабатывать у жен. Молодые, как правило, селились отдельно от родите¬
лей. У мужа и жены бывало до тех пор мало общих интересов — ведь их
семейные функции четко разграничились еще столетием раньше, — но те
перь они стали чаще проводить досуг вместе, причем способствовал этому
автомобиль: автомобилизация приняла уже в тот период широкие раз¬
меры.
В кризисные 30 е годы безработные семьи нередко переселялись к
родственникам, чаще всего к родителям. Вот как вспоминает об этом време¬
ни Лотти Сарджент, потомок рабочих „Амоскига": „Все помогали друг дру¬
гу. Семьи жили вместе"** (под „семьями" здесь имеется в виду „родство" —
в соответствии с широко принятым словоупотреблением). А японоамерикан-
ка Мэри Цукамото рассказывает о своей этнической группе в тот же пе¬
риод : „У многих были большие семьи и дети помогали им на фермах.
Только поэтому они выдержали"** .
Таким образом, укоренившийся уже принцип разделения ориентацион
ной и прокреационной семьи нарушался. В экстремальных условиях род¬
ственные связи, даже выходившие за пределы нуклеарной семьи, действо¬
вали и оказывались весьма функциональными. Разумеется, сильнее всего
это сказывалось в этнических и этнорасовых группах, где соответствующие
традиции оживлялись.
Первая мировая война и вызванные ею перемены на рынке рабочей си
лы дали толчок применению женского труда в общественном производстве,
но гораздо более сильное ускорение сообщила ему вторая мировая война.
Если в 1940 г., перед вступлением США в войну, работало (по найму) бо¬
лее 25% женщин трудоспособного возраста, то в 1945, в год окончания вой¬
ны, — уже 35,8%. Далее эта доля все увеличивалась и в 1981 г. достигла
52%, как сообщил сенатской подкомиссии 24 марта 1983 г. директор Бюро
переписей Брюс Чэпмен. Он же отметил, что в 1981 г. работало более по¬
ловины замужних женщин** . На женской профсоюзной конференции, состо¬
явшейся в октябре 1985 г., секретарь-казначей АФТ—КПП Т. Донахью кон¬
статировал, что доля работающих матерей достигла 62%** . Следует заме¬
тить, что в 1974 г. лишь 42,6% работавших замужних женщин были заняты
полный день, остальные трудились по сокращенному графику**.
И в послевоенные десятилетия большинство работающих женщин было
занято рядовой конторской службой, в торговле и т.д. Должности секрета¬
рей, стенографисток, машинисток были к 1960 г. практически монополизи¬
рованы женщинами*?.
В упомянутой выше речи профсоюзный деятель Т. Донахью сказал, что
семья подверглась значительной перестройке** . Как отметила Дж. Маттеи,
назвать женщину „просто домохозяйкой" — значит отозваться о ней пренеб-
9
решительно, да и мужья работающих женщин не чувствуют себя ущемлен¬
ными, как несколько десятилетий назад^ .
Изменилось отношение к браку. Некоторые американские социологи
сделали такой вывод: „Большинство молодых людей и их родителей уже не
считают, что вступить в брак лучше, чем остаться в одиночестве, и не
осуждают тех, кто предпочитает не жениться"** . Другие авторы выражают
ту же мысль мягче: „Оставаться незамужней более не считается позором.
Общественный нажим, направленный на женитьбу, не исчез, но он, вероят¬
но, слабее, чем когда-либо прежде в американской истории. Большинство
людей по-прежнему хотят вступить в брак, но не считают, что должны это
сделать. Далее, никто не обязан иметь детей'** .
Первое послевоенное десятилетие ознаменовалось для американской
семьи так называемым „бэби-бумом", т.е. резким повышением рождаемости
и увеличением числа детей в семье. Позже рождаемость стала неуклонно
падать. В I960 г. на одну женщину в среднем приходилось 3,7 детей, а в
начале 80-х — уже 1,8^ . В 1985 г. 48% американских семей вообще не
имели детей, 22% имели по одному ребенку, 19 — по два, 8 — по три и
3% — по четверо и более** .
Однако эти средние цифры скрывают немалое разнообразие, зависящее
главным образом от этнических и расово-этнических характеристик. Велик,
например, естественный прирост в многочисленной общности чиканос, где
браки ранние, а семья и детопроизводство играют большую роль в обще¬
ственном быту. Средняя семья чиканос 80-х годов на 24% больше средне-
американской семьи, каждая пятая семья чикано состоит из 6 или более
человек**.
Как рассказывала Мария Элена Ортега, 40-летняя чикана родом из Те¬
хаса, ее мать вышла замуж в 13 лет и имела 17 детей. Отец „был против
того, чтобы мама применяла контроль рождаемости". Сама Мария Элена
вышла замуж в 14 лет и родила семерых. Сын ее женился, не достигнув
17 лет, дочь вышла замуж тоже очень рано"**. Впрочем, и среди чиканос
действует общая тенденция к снижению рождаемости, особенно в более
молодых поколениях**. Вот что заявила по этому поводу Мария Элена Орте¬
га: „ Я совершенно против абортов, но я всецело за удаление матки, пере¬
вязку труб и контроль рождаемости". Далее Мария Элена, верующая като¬
личка и профсоюзный организатор, объяснила свою позицию: „Наша рели¬
гия говорит нам, что не следует применять контроль рождаемости, и боль¬
шинство испанских (испаноязычных. — Ш. Б.) женщин знают это, но у нас
они поступают иначе и все-таки применяют его... потому что им это нуж¬
но... Я знаю, что делать это — грех, но ведь детей нужно кормить"*^ .
Подобные же тенденции наблюдаются в семьях сельских районов Вос¬
тока США. В середине века, отмечала Маргарет Мид, „сельская семейная
жизнь еще сохраняет отпечаток более раннего исторического периода'**.
Через несколько десятилетий этот отпечаток в значительной мере стерся,
хотя не исчез совсем. Редактор чарлстонской (Западная Виргиния) консерва¬
тивной газеты рассказывал советскому журналисту о местном населении:
„Семьи большие и хранят традиции тесной связи между поколениями и
уважения младших к старшим" Такие же черты отмечают в семьях той
же американской глубинки, Аппалачии, современные исследователи: здесь
семьи сравнительно большие, господствуют в них мужчины, за детьми и
10
юношеством следят. Однако плодовитость падает и детей становится мень-
ше. Хотя люди живут нуклеарными семьями, связи с родственниками под¬
держиваются интенсивно*".
Разумеется, сдвиги в плодовитости, участие большинства женщин в
общественном производстве и т.д. внесли перемены и в жизнь семьи, и в
отношения между полами вообще как внутри семьи, так и вне ее. Но в
бурные 60-е годы, ознаменовавшиеся политическими и социальными, осо¬
бенно молодежными, движениями, США испытали и так называемую сек
суальную революцию — пору вседозволенности в половых отношениях.
Информаторша рассказывала известному писателю Стадсу Теркелу о
том, как она выходила замуж за солдата во время войны: „Встречались в
субботу вечером. После танцев сбивались в компании и где-нибудь прово¬
дили остаток ночи. Случаев, чтобы спали до брака, было очень мало. Мы
были последним эшелоном морального поколения. Открытую связь не про¬
щали. Незаконный ребенок — позор и несчастье. Почти крах всей жизни.
Сейчас к этому относятся по-другому, и я рада за девушек: общество те¬
перь не выбрасывает их как отверженных*'.
В следующем поколении нравы стали иными. По данным начала 70-х
годов, „одна американская невеста из четырех была к свадьбе беременна".
Это стало обычным явлением во всех социально-экономических слоях, неза¬
висимо от расовой и религиозной принадлежности^.
Сексуальная революция миновала, но оставила глубокий след в жизни
американского общества. В частности, по данным опросов общественного
мнения, с утверждением о том, что добрачные сексуальные связи безнрав¬
ственны, согласилось в 1967 г. 85% опрошенных, а в 1979-м - 37. Как
считает советский ученый Д.Е. Фурман, „новые моральные нормы в такой
глубокой сфере, как отношения между полами, которые еще в 60-е годы
были принадлежностью молодежной „контркультуры", к 80-м годам стали
нормами большинства... Отношение к женщине и к семье изменилось прин¬
ципиально, радикально и, очевидно, необратимо"*^
Конечно, эти „новые моральные нормы" далеко не всеобщи, хотя рас¬
пространены очень широко. Так, мормоны, крупная конфессиональная об¬
щность, вербующая прозелитов, требуют от своих сторонников соблюдения
добрачного целомудрия и супружеской верности. Впрочем, и мормонские
семьи подвержены общим тенденциям. Они многочисленнее, чем средне-
американские семьи, но и у них число детей на семью снижается, особен¬
но если эти семьи живут за пределами мормонского штата Юта**.
Острый вопрос, возбуждающий ожесточенную борьбу в современной
общественной жизни Америки, — это вопрос об абортах. Они уже второе
десятилетие разрешены, но споры идут в широком диапазоне — от их до¬
пустимости вообще до финансирования их государством. К концу 80-х го¬
дов эта борьба обострилась, причем против абортов выступают правые си¬
лы, в том числе католические и протестантские церковники.
В США производится 1,6 млн. абортов в год, таким способом прерыва¬
ется до 30% беременностей, что значительно больше, чем в других странах
Запада (в Канаде, например, 14%). Чаще всего прибегают к абортам моло¬
дые и одинокие женщины, особенно из расово-этнических меньшинств. Чет¬
верть — моложе 20 лет*ь.
Разводы, число которых стало возрастать после Гражданской войны, на¬
11
столько участились в начале XX в., что возбудили в обществе интенсивную
полемику, причем главными их противниками выступали священники раз
ных исповеданий**. Но в последующие десятилетия, особенно после второй
мировой войны, разводы приобрели такие размеры, что США лидируют в
мире по их частоте. В 1981 г. на тысячу состоявших в браке и живших
совместно американцев приходилось 109 разведенных, что означало прирост
за десятилетие более чем вдвое".
Динамика разводов выпукло показана словами известного американско¬
го социолога и футуролога Олвина Тоффлера, сказанными им в беседе с
советским публицистом: „Когда моя жена была ребенком, ее родители на¬
ходились в разводе. Но она была единственным ребенком в школе, чьи ро¬
дители жили не вместе. А сейчас наша дочь — единственный ребенок в
школе, чьи родители являются мужем и женой".
В первой половине XX в. на разведенных смотрели подозрительно и не¬
доверчиво, а развод обставлялся юридическими препятствиями. Затем в
большинстве штатов он был облегчен. Что касается религиозных организа¬
ций, то даже католическая церковь, прежде не признававшая развода своих
подопечных, была вынуждена изменить позицию". У мормонов супружес¬
кие пары, обвенчанные в мормонских храмах, расходятся сравнительно ред¬
ко, частота разводов составляет среди них 2%. Для тех же мормонских суп¬
ругов, которые этой процедуры не прошли, частота разводов примерно та¬
кая же, как в среднем по стране**.
В большинстве случаев инициаторами разводов на протяжении XX в. в
США, как и в других странах, являются женщины. Считается, что женщины
менее удовлетворены семейной жизнью, чем мужчины*'. Информаторши из
цитировавшейся уже работы (Dignity) — женщины из социальных низов —
высказывали большое недовольство семейной жизнью, уходили, даже убегали
от мужей. Рост разводов усугублялся массовой безработицей — как во время
депрессии 30-х годов, так и в последние десятилетия. Частый распад семей
безработных установлен многими наблюдателями. Один автор замечает:
„Если вы хотите разрушить в нашей стране семью, то лучший способ, веро¬
ятно, обеспечить ее кормильцу или кормильцам невозможность удержаться
на работе. В нашей стране очень серьезно относятся к рабочей этике"**.
По мнению многих специалистов, чаще разводятся супруги, выросшие в
разведенных семьях**.
Многие после развода вступают в новый брак — мужчины чаще, чем
женщины. Вторичные браки стали настолько массовым явлением, что созда¬
ли новый тип семейных и родственных связей. Для их обозначения предло
жены даже особые термины — „цепи разводов" и „квазиродство". Нововве¬
дения больше всего касаются детей, а, по данным 1978 г., каждый восьмой
американский ребенок, живущий в семье с двумя супругами, имеет отчима
или мачеху. Известный социолог Э. Черлин дал в своей книге схему, на ко¬
торой изображены связи детей вторичной семьи от первых браков мужа и
жены с родным отцом (матерью) и их новыми семьями, со сводными братья¬
ми и сестрами и т.д.**
Вторичные, третичные и т.д. браки распадаются еще чаще, чем первые.
Этим повторным разводам особенно способствует наличие пасынков и пад¬
чериц. Из подобных семей неродные подростки и юноши уходят чаще, чем
родные дети**.
12
Если в XIX в. дети после развода, как правило, оставались с отцом, то
в XX в. они в подавляющем большинстве случаев остаются у матери. Мате¬
рям присуждают их и суды. Но в последние десятилетия возникло в этой
области новое явление — разведенные отцы чаще претендуют на детей и
чаще получают их. Подобные случаи получили художественное воплощение
в известном американском фильме „Крамер против Крамера". Если в
1970 г. с детьми осталось 7% разведенных отцов, то в 1982 г. — !1%". Во
многих городах действуют организации „Отцы — за равноправие"". Некото¬
рые психологи полагают, что отцы, претендующие на детей, сами были
воспитаны матерями или испытывали в детстве эмоциональное отчуждение
от своих отцов.
Как бы то ни было, подавляющее большинство детей остается после
развода родителей с матерью. При этом во многих случаях отцы совсем не
дают денег на детей или дают мало. Матери встречают в окружающей сре¬
де осуждение как разведенные и дискриминацию в качестве глав семей.
Правда, большинство разведенных матерей вновь выходит замуж, но это от¬
носится преимущественно к белым" .
Информаторша упомянутого выше Стадса Терк ела Хесусита Новарро
имела пять детей от 12 до 2 дет и была замужем дважды. Первый муж от
нее ушел, второй пил и не приносил домой денег. Она и ее дети жили на
государственное пособие ".
Большинство матрифокальных семей состоит из разведенной матери и
ее детей, но значительная их часть — результат внебрачных рождений. В
1981 г., по заявлению специалиста на подкомиссии сената, в семьях перво
го типа жили 4,9 млн. детей, а в семьях второго типа — 1,8 млн". В мат
рифокальных семьях живет не менее 20% американских детей". Эти явле¬
ния имеют значительные последствия для всей экономической и социаль¬
ной жизни: около половины бедных семей возглавлялось в начале 80-х го¬
дов женщинами". В США укоренилось понятие „феминизация бедности".
При этом доля матрифокальных семей особенно высока среди этнорасовых
меньшинств.
В отношении таких семей, говорила на той же сенатской подкомиссии
общественная деятельница, сложился отрицательный стереотип, иногда они
подвергаются остракизму, с их детьми не позволяют играть детям из „бла¬
гополучных" семей, а матерей мужчины иногда считают легкой добычей".
По мнению психологов, отсутствие в семье отца замедляет развитие муж¬
ских черт у мальчиков и искажает развитие женственности у девочек.
Взрослая жизнь тех и других осложняется.
Существенным подспорьем в преодолении всех этих и других матери¬
альных и духовных трудностей служат для одиноких матерей родственные
связи, главным образом помощь родственниц. Иногда разведенные — с деть¬
ми или без них — возвращаются к родителям, но гораздо чаще живут от¬
дельно, а родственники ( нередко обитающие поблизости) им помогают.
Особенно практикуются такие системы взаимопомощи в расово-этнических
и этнических группах, где родственные связи были традиционно крепки и
приобрели новые функции в условиях современной Америки, — у афроаме¬
риканцев, чиканос, пуэрториканцев, итальянцев и др. В группах латино¬
американского происхождения большую роль играет — наряду с кровным
родством и свойством — родство ритуальное, „компадразго". При этом ши¬
13
рокие родственные связи за пределами нуклеарпой семьи гораздо более ха
рактерны для малоимущих слоев, чем для так называемого среднего класса,
чьи обыкновения чаще всего являются общественными нормами.
Родственные связи весьма существенны и для судеб стариков, доля ко
торых в населении Америки, как и всех развитых стран, растет. В начале
XX в. большинство стариков жило у взрослых детей, семьи которых на
этой стадии своего жизненного цикла становились трехпоколенными. Иног
да старики жили постояльцами в чужих семьях или брали постояльцев к
себе в дом. Богадельни для бесприютных стариков, как и другие благотво
рительные заведения, обычно содержали этнические и религиозные органи¬
зации, которые нередко субсидировались властями.
Принятые в 30-е годы по „новому курсу" Ф. Рузвельта законы о соци
альном обеспечении изменили эту систему**. Бывший мастер „Амоскига"
Томас Смит (из шотландцев) рассказывал: „Помню, что мой старый дед жил
с моими матерью и отцом, потом с теткой и дядей, а потом опять с моими
родителями. Сегодня он бы уже 10 или 15 лет прожил в доме для преста
релых"**.
В последние десятилетия большинство пожилых людей живет, правда,
не в домах для престарелых, но и не в семьях детей, а самостоятельно. Од
нако многие страются селиться вблизи детей и родственников. Взаимопо
мощь и эмоциональные связи особенно действенны в этнических группах -
у чиканос, американских итальянцев, американских японцев и т.д. Высказы
вается даже вполне вероятное предположение, что под влиянием „этничес
кого возрождения" престиж стариков, которые еще знают этнические тра¬
диции, обычаи, обряды, повысился.**
Таким образом, ныне одинокие пожилые люди обычно живут отдельно.
Они-то и составляют большую часть обитателей одиночных „хаусхолдов"
(домохозяйств), число которых в Америке постоянно растет. В 1981 г. на
них приходилась почти четверть всех домохозяйств в стране*^. Населяют их
люди, не вступавшие в брак, разведенные, вдовы, вдовцы. Все это — ре
зультат процессов, происходящих в семейном строе США. Что касается не
вступавших в брак, то они преимущественно молодые люди, покинувшие
родительскую семью и не заведшие своей. Этот все более распространяю¬
щийся обычай ведет, по мнению некоторых авторов, к откладыванию же¬
нитьбы и еще чаще — к откладыванию замужества**.
„В США многие молодые люди предпочитают не оформлять свой брак,
но жить вместе, — говорил О. Тоффлер в упоминавшейся беседе. — Очень
многие вовсе не хотят жениться или выходить замуж. И сейчас никто ни
когда не спросит: почему ты не замужем? Никто не заподозрит, что у муж
чины есть какой-то дефект, и никто не скажет женщине: „Ты старая дева",
— когда ей больше тридцати. Но что осталось навсегда — это желание
иметь близких, иметь любовь, друзей"**
Фактических браков, или „сожительств" (cohabitation families), не заре¬
гистрированных никаким официальным порядком и распадающихся с боль
шой легкостью, в 80-х годах было свыше 2 млн. Согласно обследованию,
проведенному в середине 70-х годов Калифорнийским университетом Лос
Анджелеса, такие семьи отличались в быту некоторой неорганизованное
тью, часто жили на случайные или сезонные заработки или на пособия, ко
торые получали жены, считавшиеся матерями-одиночками (последнее обсто
14
ятельство тоже препятствовало оформлению брака). Отношения между суп¬
ругами носили более эгалитарный характер, чем в обычных семьях, детей
всюду брали с собой"*.
По всему жизненному стилю, особенно по отказу от „пуританской эти
ки труда', которая считается одним из основных принципов американского
быта, сожительства были внутренне связаны с движением „контркульту¬
ры", развернувшимся в США в 60—70-х годах. Но гораздо более ярким его
выражением стали так называемые групповые семьи, или коммуны. В то
время, по весьма приблизительным данным, их насчитывалось несколько
тысяч, они отличались недолговечностью, а к 80-м годам вообще исчезли^' .
Советский автор Э.Я. Баталов справедливо видит в них проявление кризи¬
са американских традиционных семейных структур^.
Такие коммуны в отличие от социально-утопических коммун XIX в. не
имели целью переустройство общества — их члены от него бежали. Это
было скорее воскрешение американской романтической традиции. Подчер¬
кивались семейный характер коммун, интимные отношения между их чле¬
нами, которые называли друг друга братьями и сестрами"*. Общепринятый
брак, обычная семья отвергалась. Принималась свобода половых отношений,
открытое выражение чувств. Однако во многих коммунах существовали ус
тойчивые пары, а в одной из самых долговечных (более 7 лет) преобладала
моногамия. В „натуралистических" коммунах, исповедовавших естествен¬
ность, детям давали полную свободу, считали их равноправными взрослым.
Трудового воспитания детей не практиковали. Из преданности тому же
идеалу естественности считалось нужным женщинам рожать дома, причем
друзья приветствовали появление новорожденного на свет, и кормить мла-
денца грудью (а не специальными смесями)^.
Обычно коммуны имели по нескольку десятков членов и чаще устраи-
вались в сельской местности. Но были городские общины, иногда занимав¬
шие целый большой дом. В коммуны чаще шли молодые люди до 30 лет —
выходцы из среднего класса"*. Немало было среди них разведенных или
одиноких женщин с детьми. Эти матери ценили новые условия для своих
детей, которые, между прочим, могли общаться в коммунах с мужчинами"*.
В этих общинах были широко распространены наркотики.
Помимо „натуралистических" общин, к которым больше всего относит¬
ся сказанное выше, было немало религиозных, даже мистических, притом
разнообразных толков — от восточных религиозно-философских культов до
протестантского фундаментализма. Семьи там обычно жили в отдельных до¬
миках, но весь быт бывал регламентирован, уход за детьми централизован.
Их воспитание зависело от направления каждой общины.
Хотя само движение коммун ушло в прошлое, многие их психологичес¬
кие и жизненные установки вошли в современный американский быт.
Существует в США институт группового брака. Это так называемые су
ингеры (swingers), практикующие обмен партнерами между двумя или бо¬
лее брачными парами. По мнению исследователей, их насчитывается до 2%
супружеских пар. Они имеют свои клубы и журналы^. В романе Апдайка
„Кролик разбогател", например, несколько супружеских пар из среднебур
жуазных слоев, развлекаясь на отдыхе, меняются партнерами.
Феминистическое движение, очень мощное в США, развернувшееся
особенно сильно в 60-х годах, оказало большое влияние на положение аме¬
15
риканских женщин, на общественную психологию и семейный быт амери¬
канцев. А между тем крайний феминизм отрицал семью и даже деторожде¬
ние.
Эти и другие черты американского семейного быта, о которых говори¬
лось выше, особенно характерные для 60—70-х годов, вызвали в начале
80-х годов психологическую реакцию — призывы вернуться к домашнему
очагу, к прежним семейным ценностям, моральным критериям и т.д. Такие
призывы исходят прежде всего от американских правых как религиозных,
так и светских их представителей. От них же исходят панические заявле
ния о разрушении американской семьи. Образцом может послужить вышел
шая в 1984 г. книга психиатра Харолда Вота. „Семейная жизнь в Америке
рассыпается, как песочный замок, под мощной волной самоуничтожения",
— пишет он^. X. Вот славит „классическую семью" и осуждает работу
женщин. Но она-то уже неустранима, а в ней — основа перемен в семье.
* * *
Одна из важнейших функций семьи — социализация молодого поколе¬
ния, включающая передачу этнических традиций. Для такой многоэтничной
страны, как США, в смене поколений, в их отношениях внутри семьи нахо¬
дится один из главных узлов этнических процессов. В 30—60-х годах, в но
ру сокращения иммиграции и связанной с ней этнической консолидации
нации, ускорилась определенная унификация семейного строя всех этни¬
ческих элементов общества, приспособление его к общеамериканским об
разцам, и этот процесс шел прежде всего через иммигрантских детей. Они
обретали большую самостоятельность, как, впрочем, и соответствующие ко
горты молодежи из старожильческих семей. 30-ми годами некоторые аме¬
риканские специалисты датируют упрочение особой, внесемейной, моло
дежной субкультуры^. М. Мид придает большое значение в возвникновении
этой субкультуры средствам массовой информации, приобретшим большое
влияние в 20-х годах XX в.** Влияние американской среды на иммигран¬
тских потомков явно брало верх над семейными традициями. На этой осно-
ве вызревали внутрисемейные конфликты между поколениями и даже внут-
риличностные конфликты у представителей младших поколений.
В начале века Томас и Знанецкий отмечали в своем труде, что роди
тельская власть в иммигрантских семьях расшатывается: „Дети приобретя
ют подлинное или воображаемое превосходство над родителями вследствие
своей большей образованности, лучшего знакомства с американскими нрава¬
ми и т.д."*'
В последне десятилетие специалист пишет о китайско-американских
детях, которым китайская традиция предписывала повиновение взрос
лым: „Они начинают отвергать то, что имеют, и ищут в китайско-американ
ской культуре те элементы, которые будет ценить принимающее обще
ство"*з .
Важнейшим началом в отношениях между поколениями были языковые
процессы. Пожилая американская шведка второго поколения из Сан-Фран¬
циско рассказывала, что во времена ее детства (в первые десятилетия XX
в.) каждое воскресенье дети почти целиком проводили в церкви, не пони
мая шведского языка, на котором шла служба. „Мы действительно не ста
рались научиться шведскому языку. Нам следовало сделать это, и я прино
16
минаю — это смешно , — но мы более или менее стыдились его. Мы прос-
то пренебрегали им, а это смешно, потому что в воскресной школе нас
учили по-шведски. Это было скучно... Все мы об этом жалели, когда вырос
ли"** . Следует иметь в виду, что шведская группа занимала довольно
высокое место в иммигрантской иерархии США, и ее нравы и язык не под
вергались такому высмеиванию и пренебрежению, как этнические особен¬
ности очень многих других иммигрантских групп того времени** .
Другая американская шведка из того же района, тоже пожилая и тоже
принадлежавшая ко второму поколению, рассказывала, что ее семья жила
одно время в шведском поселке. „Живя вместе, понимаете ли, они (жители
поселка. — ZZ/.R) никогда не использовали возможности научиться нашему
языку, как и я не использовала замечательной возможности научиться
шведскому языку"**. Характерно, что эта дочь шведских иммигрантов назы
вала „нашим языком" английский язык Америки, а к шведскому, родному
языку своих родителей, относилась как к иностранному.
Другой тип отношений между отцами и детьми существует в современ¬
ных национальных кварталах — мексиканских, пуэрто-риканских баррио,
негритянских гетто и т.п. В этих пораженных юношеской безработицей
районах сложился, как пишет Джоан Мур, „уличный жизненный стиль".
Молодые пробавляются случайными заработками, пособиями, а также тор
говлей наркотиками, картежной игрой, мелкими правонарушениями. Их до
ходы идут в семейный бюджет, так как большинство юношей живет в
семье, помогает в семейных работах и т.д. Родители, зачастую вполне рес¬
пектабельные, помогают своим отпрыскам, когда те попадают в тюрьму,
что случается нередко, и устраивают их по выходе из тюрьмы**.
Интересно, как семейные отношения отражаются в именнике. Обследо
вание группы греко-американских семей второго поколения обнаружило,
что мужья и жены в этих семьях по большей части носили имена в честь
дедов и бабушек, особенно если в своих ориентационных семьях они явля
лись первенцами, — это было продолжением греческой традиции. Тот же
обычай сохранялся среди других иммигрантских групп. Обследованные
грекоамериканцы давали своим детям имена в честь предков еще чаще, чем
это делали их иммигранты-родители. Проводивший соответствующее обсле
дование Н. Тавучис предположил, что обычай этот способствовал поддержа
нию чувства этнической самобытности во втором поколении (прибавим, что
обследование проводилось в период „этнического возрождения"), а также
являлся попыткой ослабить напряжение, вызванное общественно-культур
ным разрывом второго поколения с первым. В тех же семьях детям давали
и американизированные имена, а традиционные именины вытеснялись из
обихода принятым в Америке празднованием дня рождения*^.
Известный американский ученый X. Ганс отмечает разрыв между
поколениями дедов и внуков, обусловленный быстротой перемен в обще
ственной жизни Америки, при которой мысли и опыт старших ста
новится для молодежи анахронизмом**. На такой почве меняются отно¬
шения в американской семье вообще: так, современные дети владеют ком¬
пьютером, родители же — нет**, что позволяет детям глядеть на родителей
свысока.
В то же время американский журнал „Тайм" отмечал в специальном
выпуске, посвященном иммигрантам (ныне это преимущественно выходцы
17
из Юго-Восточной и Южной Азии), „необычайную близость иммигрантских
семей"". Это касается и отношений между поколениями, и крепости род¬
ственных связей вне нуклеарной семьи. На такой почве создаются семей¬
ные предприятия (например, рыбацкие), как практиковалось у американ¬
ских японцев в начале века.
* * *
Как известно, каждая этническая группа в принципе стремится соблю¬
дать эндогамию как средство сохранения своей целостности. Однако для
групп, живущих в иноэтничном окружении, нарушение этого принципа —
большее или меньшее — неизбежно. Еще в начале XX в. многие „новые"
иммигранты вызывали невест с родины — так бывало в польской, гречес¬
кой группе, среди выходцев из Скандинавии и других. Многие китайские
иммигранты уезжали жениться в родную деревню, японские женились на
„фотоневестах" — присланных из Японии девушках, которых они до того
видели только на снимках. Часто девушки, принадлежавшие ко второму по¬
колению, выходили замуж за пожилых иммигрантов своей группы. Так в
целом поколении американских китайцев образовался демографический раз¬
рыв между возрастами мужей и жен.
Брачные обычаи иммигрантских детей зачастую нарушали семейные эт¬
нические традиции. В Америке уже не было принято родителям женить де¬
тей: сыновья и дочери иммигрантов сами выбирали себе брачных партне¬
ров, но чаще всего считались при этом с мнением родителей. В смешанные
браки тоже вступали главным образом дети, внуки иммигрантов, а число и
частота смешанных браков неуклонно возрастали в США на протяжении
XX в., причем процесс этот сильно ускорился после второй мировой вой¬
ны. Так, в г.Буффало, по данным обследования, в 1930 г. 71% итало-амери-
канских браков был заключен внутри итало-американской группы, а в
1960 г. — только 27%. Для американских поляков Буффало соответствую¬
щие цифры — 79 и 33%*'.
По вполне правдоподобному предположению Дж. Стивенс, межэтничес¬
кие браки более характерны для людей, родной язык которых — англий¬
ский, а сами такие браки способствуют вытеснению иммигрантских языков
английским*^. И эта смена языка наиболее характерна для второго и после¬
дующих поколений.
По данным середины 70-х годов, треть американских японок состояла в
смешанных браках. Для самых молодых, от 16 до 24 лет, эта доля повыша¬
лась на 46%, причем с каждым следующим иммигрантским поколением она
возрастала*^. Молодые американские китаянки и китайцы все чаще вступа¬
ют в браки с белыми**. Как рассказывала китаянка, привезенная в США ре¬
бенком, она дважды выходила замуж, оба раза за белых американцев. Сес¬
тра ее вышла замуж на американского японца. Китайские родители были
недовольны браками обеих дочерей. Была недовольна и японская мать, тем
более что на китаянке женился ее единственный сын*^.
В качестве одной из причин учащения межэтнических браков американ¬
ские авторы выдвигают рост числа совместно обучающихся студентов и сту¬
денток.
Межэтнические браки относительно чаще заключаются людьми, воспитан¬
ными в одной и той же религии. Факты этого рода послужили в свое время
18
основанием для теории „тройного плавильного котла"*, несостоятельность ко
торой подтверждается опытом последних десятилетий — межконфессио-
нальные браки также учащаются и очень значительно. Считается, что подоб-
ные браки распадаются чаще, чем супружества людей, исповедующих одну ре
лигию.
Произведя целый ряд тонких подсчетов, Н. Гленн пришел к заключе-
нию: „По-видимому, в недавнем прошлом примерно 15—20% существовав
ших в США браков было заключено супругами, имевшими разные религи
озные предпочтения". Гомогамность остальных супружеств он частично обь
ясняет тем, что при вступлении в брак с иноверцем многие меняют веру. И
это сочетается с тем, что брак в США стал в очень значительной степени
светским институтом*. На детей межконфессиональных семейств обычно
большее религиозное влияние имеет мать.
Межрасовые браки (черных и белых) представляют собой явление особого
рода. Число их растет очень быстро —с 1970 по 1977 г. на 92%, но аб
солютное количество незначительно: в 1977 г. таких супружеских пар было
125 тыс*
В первой половине XX в. мужья в таких межрасовых браках чаще быва
ли неграми, а жены белыми, причем социальный статус жен был довольно
низким, обычно ниже, чем у мужей. Некоторые жены являлись недавно
прибывшими иммигрантками*.
Исследования последних десятилетий эту точку зрения не подтверждают,
мужья и жены в межрасовых браках находятся на одном социальном
уровне. Быть может, это объясняется переменами в социальном расслоении
негров.
Количество межрасовых браков сильно возросло после второй мировой
войны, когда негры военнослужащие возвращались из-за моря с молодыми
женами"*. В беседе с социологом белокожая негритянка Хелен Скотт, же
на темнокожего негра, говорила: „Теперь многие негры женятся на ино
странных девушках. Люди, которые побывали за морем или на военной
службе, женились на итальянских девушках, французских девушках, и мно
гие из них вернулись на родину"**".
Дети черно-белых семей испытывают значительные трудности психоло
гического и социального порядка — и в отношениях с окружающей средой,
и в отношениях с родственниками. Белая родня часто не признает черного
супруга и его детей. Негритянская родня обычно относится к смешанным
семьям лучше, но в годы „этнического возрождения" это положение изме
пилось. „Несомненно, — пишет исследователь вопроса Портерфилд, — боль
шое количество афроамериканцев воспринимают теперь других негров,
вступивших в межрасовые браки, как предателей. Это считается совершен
но несовместимым с развивающимся чувством расовой гордости". Особенно
настроены против межрасовых браков негритянки: известен демографичес
кий недостаток мужчин в афроамериканской среде***.
Молодые межэтнические семьи иногда селятся — в последнее время —
в национальных кварталах, а этническая группа одного из супругов нрини
мает их в свою среду***.
Смешанные, межэтнические браки всегда были средством ассимиля
ции, далеко, впрочем, не единственным, и служили показателем достигну
той ассимиляцией глубины. Представляется, однако, что в нынешний пери
19
од большая частота таких браков настолько усилила их значение, что они
превращаются в ведущее средство ассимиляции, зашедшей уже далеко при
помощи других средств. Включение молодых смешанных пар в ту или
иную этническую среду этому не противоречит, так как этническая среда
уже и сама ассимилирована.
...
Каковы же показатели развития американской семьи в последние годы?
В 1987 г. в США насчитывалось 89,5 млн домохозяйств — хаусхолдов.
Средний размер семьи 3,19 человек'". Мужчины вступают в брак в сред¬
нем в 25,7 года, женщины — в 23,1'". Несколько повысилась рождае¬
мость'".
Ввиду работы женщин вне дома растут тенденции эгалитаризации в
семье. Отцам все чаще приходится заботиться о детях, хотя и меньше, чем
матерям. Зачастую мужчины психологически не подготовлены к домашним
делам, да и господствующая культура этого от них не требует. По исследо¬
вательским данным, подобные семьи менее устойчивы '".
Продолжается насилие в семье, от которого страдают больше всего де¬
ти. Избиение их, сексуальные преступления приводят к тяжелым послед¬
ствиям, иногда со смертельным исходом. Ежегодно по этим причинам поги¬
бает 1200 детей. Мужья избивают женщин, которые зачастую вынуждены
вместе с детьми скрываться'"^'".
Определенные изменения вносит в семейный быт и отношения между
полами (как в семье, так и вне ее) „чума XX в." — СПИД. Видимо, увеличи¬
ваются сдержанность и осторожность. Впрочем, проституция процветает"".
Таковы характерные черты американской семьи. По общим характерис¬
тикам семья Канады во многом схожа с семьей США.
Американские японцы
Характеризуя семейный строй японоамериканцев, исследователи отме¬
чают его „вертикальную с руктуру" — власть отца, которому подчиняются
жена и дети. Семья пользовалась у японцев большим уважением, положе¬
ние холостяка считалось неестественным. Японо-американская семья отли¬
чалась сплоченностью и взаимопомощью. На труде всех ее членов основыва¬
лось существование множества мелких предприятий — гостиниц, чисток,
прачечных, ресторанов и т.п., — очень частых среди американских японцев
в первые десятилетия XX в.'" Семьи были тесно связаны со своими земля¬
чествами, так как происходили из одного „кена" в Японии, что также спо¬
собствовало экономическому и социальному благополучию местной японо¬
американской общины.
В первые десятилетия века японские иммигранты привозили жен из
Японии, как говорилось выше. Родственники или друзья сватали им невест
(обычно из того же кена), за которыми женихи приезжали или фотокарточ¬
ки которых получали в Америке. Мэри Цукамото, американояпонка второго
поколения, рассказывала, что ее отец, родом с Окинавы, приехал в США
17 лет. Перед отъездом он по воле матери женился, а впоследствии вызвал
к себе жену, которая сначала работала в США служанкой и „немного нау¬
чилась вести дом и готовить пищу в Америке""*. Других японских невест,
прибывших в Америку, первым делом везли в гостиницу, где их одевали на
20
американский лад. В таких гостиницах и меблированных комнатах и жили
обычно новобрачные. Иногда они снимали большую квартиру и сдавали в
ней комнаты другим семьям'".
Патриархальные отношения, власть отца в той или иной степени деся
тилетиями сохранялись у американских японцев, но с течением времени
женщины этих семей стали тяготиться таким положением, что послужило
почвой для многих супружеских конфликтов'" .
Репутация семьи в общине почиталась одной из основных семейных
ценностей. Избежать стыда — таково было главное требование ко всем чле¬
нам семьи, включая детей. Словесные объяснения, прямое „выяснение отно¬
шений", споры, перебранки не были приняты в японо-американских семь
ях, применялись обходные пути — намеки, ссылки на других людей, умол-
чания. Те же приемы практиковались в воспитании детей: не приказы, зап
реты, угрозы, а вышучивание, насмешки, пример других детей и т.д. Физи
ческие наказания были редки'". От детей требовалось послушание. Ученье
поощрялось, ценились успехи во внешней среде. По мнению психиатров,
детей растили с такой терпимостью, вниманием и привязанностью, какие в
среднеамериканской среде считались бы баловством'".
Дети, выросшие в таких семьях, составили второе поколение японских
иммигрантов — „ниссеи". Только в японской группе поколения четко отде¬
лялись одно от другого и имели особые названия. Третье поколение назы¬
вается „сансеи", четвертое — „ионсеи", пятое — „госеи". Первое поколение,
переселившееся из Японии, именовалось „иссеи".
На долю ниссеев досталась та же раздвоенность, те же внутренние про
тиворечия, которыми отличалось второе поколение других иммигрантских
групп. Вот отрывок из интервью, данного одним из них в 1926 г.: «Дома
мы стараемся поступать и говорить, как типичные японцы. Вне дома мы
стараемся поступать и говорить, как „старые американцы". Насколько воз¬
можно, мы, люди второго поколения, стараемся жить двойной жизнью...
Нам нужно сочувствие со стороны „старых американцев"'".
Эта двойственность находила выражение, как обычно, прежде всего в
языковых процессах. Упоминавшаяся выше Мэри Цукамото, принадлежав¬
шая к поколению ниссеев и родившаяся во втором десятилетии XX в.,
вспоминает о школе японского языка, устроенной ее дядей и теткой: „Это
было важно для родителей, чтобы мы могли продолжать разговаривать с
ними". Но она и ее сестры бросили эту школу, огорчив отца. „Мы, христи¬
ане, прихожане протестанских церквей... очень старались держаться подаль¬
ше от всего, что относилось к японской культуре... Мы старались перенять
американские порядки". Многие ниссеи уже не умели разговаривать с ро¬
дителями, продолжает Мэри, „что было трагично, а внуки были иностран¬
цами для собственных дедов и бабушек. В конце концов мы стали людьми
без всяких корней, потому что боялись быть прояпонцами. А быть прояпон¬
цем значило даже интересоваться своим японским наследием""*.
Результат таких языковых борений Фр. Миямото изложил следующим
образом: „Мало какие ниссеи приобрели достаточно беглую английскую
речь... мало какие ниссеи научились хорошо говорить по-японски""*.
Переломными для поколения ниссев — еще большими, чем для всей
японо-американской группы, — стали годы второй мировой войны, когда
все японоамериканцы без различия пола, возраста и юридического положе¬
2t
ния были заключены в концлагеря. Иссеи в то время были уже стары, а
ниссеи, к тому же знавшие английский язык, вели переговоры с властями
и вообще становились лидерами населения концлагерей. Родительскую
власть патриархальной семейной системы это, конечно, подрывало и во
многих семьях порождало конфликты***.
Своих детей ниссеи воспитывали уже не в японском духе, а скорее
так, как было принято в общеамериканском среднем классе — по доктору
Споку *з*.
Постаревшие иссеи (чаще женщины, которые в этом поколении были
гораздо моложе своих мужей) часто живут вместе с детьми или поблизости
от них — этому способствует традиция крепких родственных связей.
Выше уже говорилось о частых смешанных браках у американских
японцев и особенно японок. Чаще они наблюдаются у сансеев, чем в предше-
ствующих поколениях. Это главным образом браки с белыми американцами.
Если в начале 60-х годов они выражались показателем менее 20%, то через
десятилетие — уже 50%'^. Японки считаются хорошими женами, а их (и
китаянок) смешанные браки более устойчивы, чем браки между белыми'**.
' Италоамериканцы
Семьей италоамериканцев много занимались американские иммигранто-
веды, особенно исследователи итальянской группы, часто происходившие
из нее. Иногда значение семейных ценностей, устойчивости их и роль в
адаптации к американской жизни преувеличивались, что, видимо, было свя-
зано с течением „этнического возрождения". Итало-американская семья на
рубеже XIX и XX вв. освещалась и в советской литературе'^.
Семья американских итальянцев считается относительно стабильной.
Разводов меньше, чем в среднем по стране и чем во многих других этничес
ких группах. Только 10% семей (по данным 1972 г.) возглавляются женщи¬
нами, а это, в частности, значит, что матрифокальных семей не так много.
В первом поколении семьи были многодетными, но начиная со второго
рождаемость падает и продолжает уменьшаться в следующих поколениях. В
70-х годах в среднем в семье насчитывалось двое—четверо детей. Италоаме
риканки больше других католичек пользуются противозачаточными сред¬
ствами. Может быть, это обусловлено меньшей, чем у поляков, ирландцев и
др., религиозностью американских итальянцев. Эндогамия преобладала у
них, но в младших поколениях расшатывается и она'**.
В быту италоамериканцы соблюдают скромность относительно своих ре
альных доходов. Показное потребление, столь характерное для американцев,
не в чести. Р. Гамбино относит это на счет суеверия, что вполне возможно.
Но жить на пособие считается постыдным: о нуждающихся должна забо
титься семья, родня. К благотворительности же италоамериканцы, по утвер-
ждению Гамбино, не склонны'^.
Центром семьи, и традиционно и фактически, являлась мать, хотя гла
вой считался отец. В современных исследованиях отмечается интенсивность
и прочность связей между родителями и взрослыми детьми, а также меж
ду братьями и сестрами. Большое значение сохраняют отношения с род
ственниками более далеких степеней. Нередко селятся поблизости от такой
родни, в одном квартале, районе, иногда в одном доме. Из родни обычно вы
22
бирают крестных отцов и матерей для новорожденных, это создает межд)
соответствующими семьями особую близость. В широком родственном кру
гу принято отмечать семейные события и календарные праздники. При
этом родня жены обычно ближе, чем родня мужа'^.
Известный исследователь итало-американской группы X. Нелли счита¬
ет, что в условиях стресса чуждой американской жизни родственные связи
стали для иммигрантов важнее, чем были в Италии. Он даже находит, что
для второго поколения эти родственные отношения приобрели еще боль
шее значение, стали ближе, а родственный круг расширился'^*. Широкие
родственные связи считаются более свойственными рабочей среде, к кото¬
рой относилось большинство италоамериканцев.
Как показали исследования, проводившиеся в промышленных городах, в
круг связей итало-американской семьи, означавших взаимопомощь, обще¬
ние, эмоциональную поддержку, включались также соседи и друзья, при¬
чем часто две последние категории совпадали. Со второго десятилетия
XX в. семьи второго поколения стали в заметных количествах переселяться
из национальных кварталов и районов. А с 50-х годов семьи третьего поко¬
ления стали, как и люди другого этнического происхождения, переезжать
в пригороды'^ .
В работах последнего времени подчеркивается мысль о гибкости им¬
мигрантской семьи, о ее функциональности в американских условиях, о
значении для нее широких родственных связей. Наиболее выразительным
образом эти черты воплотились в семье италоамериканцев.
Франкоамериканцы
„Франкоамериканцы" — так принято называть франко-канадских иммиг¬
рантов в США. В массовых размерах их иммиграция происходила с конца
XIX в., и главным ее средоточием была Новая Англия, граничившая с фран¬
цузской Канадой и принимавшая на свои предприятия рабочее население.
Отчасти вследствие этой географической близости франко-канадская
иммиграция была семейной, вероятно, в большей степени, чем какая-ни¬
будь другая. „Канадские семьи, — пишет известная исследовательница Та
мара Харевен, — мигрировали в Манчестер (штат Нью-Гэмпшир. — ZZ/.R),
чтобы найти работу для максимально возможного количества членов
семьи'"^. Работали по найму многие жены из этих семей и практически
все дети, достигшие 12—14 лет. В первой трети XX в., как в XIX в. в Ев¬
ропе и Америке, нанимались на фабрики целыми семьями. А семьи, как от¬
мечалось выше, были многодетными. Ивонна Дион, бывшая работница
„Амоскига", выросшая в семье, где было 16 детей, вспоминает: „Как толь¬
ко девочка подрастала, она шла на работу. Так было принято. Начинала са¬
мая старшая, а остальным приходилось идти вслед*
В крестьянских хозяйствах Квебека, из которых происходили эти им¬
мигранты, тоже было принято работать всем членам семьи, включая детей.
Между квебекской деревней и новоанглийскими промышленными городка
ми поддерживались самые тесные связи. Прежде всего иммигранты вызы¬
вали на работу в Новую Англию родственников из Квебека. Такой способ
вербовки рабочей силы вообще был принят в США и практиковался во
всех иммигрантских группах, но особенную интенсивность он принимал у
23
фраикоамериканцев. В пору кризисов и забастовок многие возвращались в
Квебек — на время или постоянно. Иногда дети из иммигрантской семьи
или часть их оставались на ферме в Квебеке. Жозеф Шампань, например,
родившийся в Манчестере, рос в Квебеке у деда, а в 18 лет уже работал
на „Амоскиге""*.
Семьи были нуклеарные, но родственные связи вне таких семей под
держивались очень интенсивно. На фабрику работавшие обычно устраивали
своих родственников, они же обучали их трудовым навыкам. Это было пра-
вилом. В домашних делах, в присмотре за детьми тоже помогали родствен
ники, селившиеся обычно поблизости.
Власть отца в семье была уже не так велика, как у квебекских крес
тьян: миграция все же ослабляла семейные узы. Видимо, этому способство
вала наемная работа многих жен, усилившая их влияние в семье. Старшие
дочери активно помогали матери по дому, особенно в уходе за младшими
детьми. Ввиду большого возрастного интервала между детьми одной семьи
это было вполне реально. Младшие дети составляли как бы иное, следую
шее поколение по сравнению со старшими и отличались от него многими
поведенческими характеристиками. Такое же явление наблюдалось в семь
ях других иммигрантских групп, например выходцев из Центральной и Вос¬
точной Европы.
Франко-американские семьи второй половины века, разумеется, не так
многолюдны, как в первой его половине, и продолжают уменьшаться в со
ответствии с общей тенденцией. Добрачные половые связи, характерные и
для жителей Квебека, распространены среди фраикоамериканцев и теперь
тоже соответствуют общей тенденции. Добрачной беременностью обуслов
лены многие случаи ранних браков, в общем частых. Нередки фактические
браки, что не противоречит обычному праву'*.
К старикам в современных семьях относятся уважительно, в особом по
чете бабушки'*. Информаторша из книги „Амоскиг" Кора Пельрен вышла
замуж в 3! год, т.е. старой девой, потому что она и жених долго отклады
вали свадьбу, так как каждый содержал старую мать'*.
В первой половине XX в. эндогамия франко-американской группы бди
тельно охранялась. „Родители в то время, — вспоминает Рэмон Дюбуа нору
своей молодости (30-е годы), — настаивали на том, что жениться следует на
ком-нибудь из своей национальности. Это было очень, очень серьезно. Для
франкоамериканки выйти замуж за ирландца являлось почти позором. Мож¬
но было просто дружить, но, если гуляешь с ирландской девушкой, это
вызывало вопросы. А если дело принимало серьезный оборот, то ею рас¬
страивали... У меня когда-то была польская подружка, по которой я с ума
сходил"'*.
Но времена менялись. Упоминавшаяся прежде Алиса Лакасс вспомина
ет, как ее отец, а после него старший брат строго следили, чтобы моло¬
дежь семьи не встречалась с чужаками. „И мы действительно все вышли за
франкоканадцев — все, кроме младших. Они — как второе поколение. Мой
брат женился на ирландской девушке, и моя последняя сестра Люсиль
вышла за ирландского парня... Сестра Иветт тоже вышла замуж за ирлаи
дца"'*. Младшие дети, действительно составлявшие новое поколение, гово¬
рившие уже но английски, нарушали этническую эндогамию, несмотря на
распри между франкоамериканцами и ирландцами.
24
Рэмон Дюбуа так подытоживает результаты этих явлений для межэтни
ческих отношений: „Французы и ирландцы постоянно высмеивали друг дру
га. Много лет было хуже, чем сейчас, потому что теперь много смешанных
браков и люди больше не отпускают тех же шуток насчет расы и проис
хождения"*^.
Тенденция роста смешанных браков также имеет, как мы видели, об
щий характер. Традиция браков франкоканадцев с индейцами, насчитываю
щая несколько столетий, продолжалась франкоамериканцами Новой Ан-
глии'З". Примеры этого рода встречаются и в „Амоскиге".
* Ммдг М. Культура и мир детства. М., 1988. С. 350, 351.
I //graven 7Ж., /,яп#бя/?яс/: Я. Amoskeag: Life and Work in an American Factory-City. N.Y.,
1978 (Далее: Amoskeag).
' 7., Т.Я. Urbanization and the Malleable Household: An Examination of
Boarding and Lodging in American Families// Family and Kin in Urban Communities, 1700—
1930/Ed. T.K.Hareven, N.Y.; L., 1977. P. 167—168,170.
' ТЛяямл WJ., Ияяя^сй F. The Polish Peasant in Europe and America. N.Y., 1927. Vol. 1-2.
' Dtgnny. Lower Income Women Tell of Their Lives and Struggles: Oral Histories / Compiled by
F.L.Buss. Ann Arbor, 1985. P. 55,56, 62, 86, 89.
P. 161,163, 202, 255, 258, 289, 361, 362.
^ Г.К. The Life Course and Aging in Historical Perspective // Aging and Life Course
Transitions: An Interdisciplinary Perspective / Ed. by T.K.Hareven, K.J. Adams. L.; N.Y., 1982.
P. 19.
Яяг^^яТ.Я. Urbanization... P. 168, 178—181.
ТАяямм WJ., Ияяя^сй F. The Polish Peasant... P. 1707—1735, 1736,1742—1743.
А/яг^у^я Т.Я. Introduction // Family and Kin... P. 8.
" МкМ/У., Яяг^у^п Г.Я1 Urbanization... P. 164—167.
" Amoskeag. P. 256, 257.
" America's Families: A Documentary History / Eds D.M.Scott, B. Wishy. N.Y., 1982. P. 470—475.
'* Яяя^Мя О., /7яя<Мя M. Facing Life. Youth and the Family in American History. Boston;
Toronto, 1971. P. 226—227.
^ МяМ/ю^ V A. An Economic History of Women in America: Women's Work, the Sexual Division
of Labor, and the Development of Capitalism. N.Y., 1982. P. 238, 245—246, 248, 278.
" Amoskeag. P. 116, 118.
" Мям/ю^ 7.A. An Economic History... P. 249.
" Co/ten AY. Italian-American Women in New York City, 1900—1950: Work and School // Class,
Sex, and the Woman Worker / Eds. M.Cantor, B. Laurie. Westport (Conn.): L., 1977. P. 131 —
135.
America's Families... P. 435.
7° МямАя^ 7.A. An Economic History... P. 257, 258, 262.
7' АуяУ Я.5., АуяУ //.M. Middletown. N.Y., 1929; America's Families... P. 436—439.
^ Amoskeag. P. 366.
^ Dignity... P. 93—94.
7' Broken Families, Hearing before the Subcommittee on family and human services of the
Committee on labor and human resources U S Senate 98 th Congress, 1 st session. Washington,
1983. P.231,219.
и Daily World. 1985. 5 Dec. P. 18-D.
3* Мям/юе/ 7A. An Economic History... P. 306.
77 America's Families... P. 514; Matthaei J.A. An Economic History... P. 282.
* Daily World. 1985. 5 Dec. P. 18-D.
79 Мям/ю^; V.A. An Economic History... P. 274.
7° F.AL, Wgifg L.V. Sex Differences in the Entry into Marriage // American Journal of
Sociology. 1986. July. P. 93.
25
" Яяйдй Я., Afad^n Л., ЛмМудл W., A., ПрГоя 5. Habits of the Heart: Individualism and
Commitment in American Life. Berkeley, 1985. P. 90.
3* йолдяма ЛЮ. Проблемы американской семьи // США — ЭПИ. 1986. № 1. С. 55.
^ American Demography. 1985. Jt 12. Цит. по реф. журн.: География Америки, Ав
стралии, Океании и Антарктики. 1986. Л 5. 5к 30.
* Esfrada E.F., Сдгс/д F.C., Мдсйм Я.Е., МдМдлд^д Е. Chicanos in the United States // Majority
and Minority: The Dynamics of Race and Ethnicity in American Life / Ed. N.Yetman. Boston,
1985. P. 180.
" Dignity... P. 247,250,263—265,271.
* Majority and Minority... P. 180.
" Dignity... P. 280.
* Mend M. The Contemporary American Family as an Anthropologist Sees It // The American
Journal of Sociology. 1948. May. P. 454.
з*Х!оидрамм?я G б чужой стихии, или Путешествие американиста // Новый мир.
1985. И 11. С. 81.
* СдМу Е Е. Home-Based Early Intervention // Rural Psychology / Eds. A.W.Childs, G.B. Meton.
N.Y.; L., 1983.P.341.
**Гержел G „Хорошая война". Устная история второй мировой войны: Фрагменты
книги // Иностранная литература. 1985. № 5. С. 216.
" Емгйея&бгд Fr.F., jr. Premarital Ptegnancy and Marital Instability // Divorce and Separation /
Eds. G. Levinger, O.C.Mo!es. N.Y., 1979. P. 84.
" Религия в политической жизни США (70 е — начало 80 х годов) / Отв. ред. Ю.А.
Замошкин, Д.Е. Фурман. М., 1985. С. 71.
" Ce^and D.E., О/лея 7.Я\ Aging in the Jewish Family and the Mormon Family // Ethnicity and
Aging / Eds. D.E.Gelfand, A.J.Kutzik. N.Y., 1979. P. 214.
"Time. 1989. 1 May. P. 26—27.
" O'Neill W.L. Divorce in the Progressive Era // The American Family in Social-Historical
Perspective/Ed. M.Gordon. N.Y.,1978. P. 140,142, 143.
"Current Population Reports. 1982. № 372. P. 20. IV. Цит. по: Реф. журн.: География
Америки... 1983. ^ 2. 2-КЗ.
** Лит. газ. 1987. 29 апр.
'* 1Уяглл Я.S. A New Marital Form: The Marriage of Uncertain Duration //On the Making of
Americans. Essays in Honor of David Riesman / Ed. H.J.Gans, N.Glazer, J.R. Gusfield,
C. Jencks. Univ. of Pennsilvania Press, 1979. P. 221—222, 224.
** D.E., О/л^я 77?. Aging... P. 214.
" O'Neill W.L. Divorce... P. 143; йейдй Я. et al. Habits... P. 111.
^ Удйялдя A S. Public Policies and Families // The American Family: Dying or Developing / Eds.
D. Reiss, H.A.Hoffman. N.Y.; L., 1979. P. 208.
" Pope //., Мме//ег СЙ.1У. The Intergenerational Transmission of Marital Instability // Divorce... /
Eds. G. Levinger, O.C.Moles. P. 99-111; Waife E.7., Co/djc/ieider F.^f., C.
Nonfamily Living and the Erosion of Traditional Family Orientations among Young
Adults// American Sociological Review. 1986. Aug. P. 541;/VefAenng;onE.M., CoxM.,
СдгЯ. The Development of Children in Mother-Headed Families//The American Family...
P. 131.
* САегйя A.7. Marriage, Divorce, Remarriage. Cambridge (Mass.); L., 1981. P. 87, 30.
" WMe Еуяя X., Я<хйА A. The Quality and Stability of Remarriages: The Role of Stepchildren //
American Sociological Review. 1985. Oct. P. 692, 697.
* йолюма PJO. Проблемы американской семьи. С. 55.
^ СеглмгД X. Fathers by Choice // Divorce... / Eds. G.Levinger, O.Moles. P. 308—309.
* Broken Families... P. 235; ЯайеяУ., йгаи^я C., F^/dberg Я. Divorced Mothers // Ibid. P. 243.
" 7<?rb?;S;. Working. 1977. P. 258—261.
" Broken Families... P. 31.
" Current Population Reports. 1982. P. 20, .№ 372. Цит. по: Реф. журн. География Амери
ки... 1983. И 2. 2-КЗ.
° Должоеа F.70. Проблемы американской семьи. С. 55.
26
" Broken Families... P. 253.
* AJ. American Social Provision for the Aged. An Historical Perspective // Ethnicity and
Aging... / Eds. D.Gelfand, A.Kutzik. P. 57, 58, 60.
* Amoskeag... P. 354.
" Tre&i 7.F., S<?%o/<?v.s%y 7.Я. Culture, Ethnicity and Policy for the Aged // Ethnicity and Aging... /
Eds. D.Gelfand, A.J.Kutzik. P. 120,126—129.
^ FtiryfenA^rg F.F., 7r. The Contemporary American Family in Historical Perspective. P. 5.
" Waite Д.7., GaMycAeider F.K., WitsAerger C. Nonfamily Living and the Erosion of
Traditional Family Orientations among Young Adults // American Sociological Review.
1986. Aug. P.541,542.
* Лит. газ. 1987. 29 апр.
Е^Умлая Я.Г. Emergent Families of the 1970's // The American Family... / Eds. D.Reiss,
H.Hoffman. P. 165,166.
7* ИмгДйя G. Countercultural Communes. Westport; L., 1983. P. 153, 167.
" Да/яа/им Э.Й Социальная утопия и утопическое сознание в США. М., 1982. С. 314.
" Berger ДМ. American Pastoralism, Suburbia, and the Commune Movement // On the Making of
Americans... P. 243.
" ZicMn C. Countercultural... P. 39,40,48—50, 85—88, 99,104—107,110.
"Ibid. P. 102; Да/яалоа Социальная утопия... С. 315.
" ИйгДйя С. Op. cit.
" Reisy ТЕ. Family Systems in America. N.Y., 1980. P. 298—302.
7* VafA /EM. Families: The Future of America. Chicago, 1984. P. 16.
7* America's Families... P. 540.
" Мму M. Культура и мир детства. С. 357.
"ТАатал W., Еяая/есй F. The Polish Peasant... Р. 711.
" САея-Eaaie ТА. Bilingual Families: A Chinese-American Example // Understanding the Family /
Eds. C.Getty, W.Humphreys. N.Y., 1981. P. 237.
" America's Families... P. 432.
" См.: Додала ЖА. Иммигрантское население США. Л., 1976. Гл. 3.
** America's Families... Р. 601.
* Moore 7.W. Minotirites in the American Class System // Majority and Minority... P. 516.
" TavacAiyAf. Naming Patterns and Kinship among Greeks // Ethnos. 1971. Vol. 36. P. 153—155,
157,160,161.
" Саял /ТУ. The Levittowners: Ways of Life and Politics in a New Suburban Community. L.,
1967. P. 169.
" Аочелмим ЛД. Американцы и персональный компьютер // США — ЭПИ. 1986.
И 4. С. 50, 51.
Time. 1985. 8 July. Special Immigrants Issue: The Changing Face of America. P. 59.
** ДмдеДуй Д.Я. Assimilation through Intermarriage // Social Forces. 1961. Dec. P. 150, 151.
** Йеуеял C. Nativity, Intermarriage, and Mother-Tongue Shift // American Sociological Review.
1985. Feb. P. 81, 82.
" Atfono Я., й*%м/ямга A. The Japanese-American Family // Ethnic Families in America / Eds.
Ch.H.Mindel, R.W.Habenstein. N.Y.; Oxford; Amsterdam, 1976. P. 50.
* Ямяяд Е.У. T7ic Chinese-American Family // Ibid. P. 132.
* America's Families... P. 596—598.
* См.: Долина ЖА. Иммигрантское население современных США // Национальные
процессы в США. М., 1973. С. 354-356.
*7 С^еяя MJ9. Interreligious Marriage in the US: Patterns and Recent Trends // Journal of Marriage
and the Family. 1982. Aug. P. 558—564.
* Statistical Abstract of the U.S. 1980. P. 44. № 57.
" Parte^eM E Black and White Mixed Marriages. Chicago, 1978. P. 32, 33, 36.
^ Wye FT., Berarda F.M. The Family — Its Structure and Interaction. N.Y.; L., 1973. P. 160.
"" С?аг<%ая A. Intermarriage: Interfaith, Interracial, Interethnic. Boston, 1967. P. 243.
'""Wye F., Berarda F. The Family... P. 166; Porterfield E. Black and White... P. 44, 122—123, 146,
148, 149.
27
"" Яя&пя F., C. The Ethnic Factor in Family Structure and Mobility. Cambridge
(Mass.), 1978. P. 236.
"" Curr. Popul. Rep. Ser. 1988. P-20, И 424. P. 1.
""Curr Popul. Rep. 1986. P-20, .№ 412. Цит. по: Реф. жури. Америка. 1987.7. — 7к 21.
""Правда. 1988. 6 окт.
"" Newsweek. 1988. Jan. 2. Р. 52-54.
"* Аорзкоаа 7AF. Жестокость в семье // США — ЭПИ. 1989. .№ 7. С. 66—68.
""Ma/vMa F. Marriage and Family Today. N.Y., 1988. P. 156, 157.
""Newsweek. 1987. Aug. 31. P. 7.
//. Japanese Americans: The Evolution of a Subculture Englewood Cliffs. N.Y., 1969.
P. 65; М*уяямйз S.F. An Immigrant Community in America / Eds H.Conroy, T.S.Miyakawa.
East Across the Pacific: Historical and Sociological Studies of Japanese Immigration and
Assimilation. Santa Barbara, Calif., Oxford. England, 1972. P. 224, 226.
Dignity. P. 85—87.
М/уяям?;о S.F. Social Solidarity Among the Japanese in Seattle. Seattle, 1939. P. 88,93.
"'Мяяя//. Op. cit. P. 66.
"* Яйяяя //. Race Relations. Englewood Cliffs; N.Y., 1974. P. 223; Ly/яяя S.M. Generation and
Character: The Case of the Japanese-Americans // East Across the Pacific. P. 294.
FMfM/a #.S. Ethnic Identities of Japanesc-American Families: Implications for Counseling //
Understanding the Family: Stress and Change in American Family Life /Eds. C. Getty,
W.Humphreys. N.Y., 1981. P. 207.
Children and Youth in America: A Documentary History / Ed. R.E.Bremner. Cambridge, Mass.,
1971. Vol. II. P. 64.
"* Dignity. P. 90, 93.
"* М/уяяи?;# F.S. An Immigrant... P. 229.
*3° У^гяяя FA.F. The Abilities and Achievements of Orientals in North America. N.Y.; L., 1982.
P. 42.
Аууяяя S. Generation... P. 304.
Айяля //. Race Relations. P. 229.
Nye F./., Й2ГЯГ&) F.M. The Family. P. 161, 164.
"'См.: Додмубд A7L4. Иммигрантское население США. Л., 1976. С. 105 118.
F.X., йяя^гяя^я 7.S. The Italian-American Family // Ethnic Patterns in America. P.
73—76; Ся/яЫяя Я. Blood of My Blood: The Dilemma of the Italian Americans. Garden City;
N.Y., 1974. P. 161.
"'Ся/лЫяяЯ. Op. cit. P. 14,15, 305, 307, 316.
УяАяляя C.L. Sibling Solidarity: Its Origin and Functioning in Italian-American Families //
Journal of Marriage and the Family. 1982. Febr. P. 156, 160, 161, 164.
/7.5. From Immigrants to Ethnics: The Italian Americans. Oxford; N.Y., 1983. P. 135, 149,
150.
Я<и7яяг 7., 5мя#я Я., We&er Af. Lives of Their Own: Blacks, Italians, and Poles in Pittsburgh,
1900—1960. Urbana; Chicago; L., 1982. P. 94—95, 219; F./., Л<?гяг&? F.M. The
Family. P. 84.
//яг^у^я ТА. Family Time and Industrial Time: The Relationship between the Family and Work
in a New England Industrial Community. Cambridge; L.; N.Y., 1982. P. 202.
7/яг^у^я T.A., Аяядб&ясй Я. Amoskeag: Life and Work in an American. Factory City, 1978.
P. 196.
Amoskeag. P. 148.
FremrA L. The Franco-American Working Class Family: Ethnic Families in America. P. 333—
335, 340.
Ibid. P. 343.
Amoskeag. P. 201.
'"Ibid. P. 159—160.
Ibid. P. 270.
'"Ibid. P. 159.
Fr^MrЛ L. Op. cit. P. 335.
28
Афроамериканцы в США
За последние 125 лет, т.е. всего за пять-шесть поколений, негритянское
население США выросло в 7 раз и превратилось в основном из сельского в
городское. Разительно изменилась его классовая и профессиональная струк¬
тура. Естественно, что эти перемены отражались на развитии социальных
институтов негритянской общины, в том числе на таком важнейшем из
них, как афроамериканская семья. Радикально менялись и взгляды амери¬
канских историков, социологов, социальных антропологов но поводу ее ха
рактера, структуры и судеб.
В эпоху рабовладения контакты черных рабов приводили к возникнове
нию и развитию привязанностей между ними и — при положительном отно
шении со стороны хозяев — к браку и созданию рабами своей семьи. Это
происходило там, где рабовладельцы не препятствовали таким контактам, —
чаще всего у домашней челяди и квалифицированных ремесленников, кото
рых хозяева обычно знали лично и чей статус был значительно выше, чем у
полевых рабов, занятых на самой плантации. Но и среди последних, осо
бенно если они работали по соседству, возникали чувства привязанности,
которые опять-таки при благоприятном отношении со стороны хозяев при¬
водили к брачным связям и созданию семьи.
Формального права на семью рабы не имели. Жениться и развестить
они могли только по воле хозяина, и рабовладельцы из соображений необ
ходимости, а иногда и из моральных побуждений старались считаться с но
желаниями рабов в вопросе брачных связей.
Стабильность и прочность семей рабов зависели от многих факторов.
Укреплению семьи прежде всего способствовало появление детей. Там, где
семье давали возможность отделиться, завести собственное небольшое хо¬
зяйство (огородик и т.д.), общие интересы сплачивали ее. Таким образом,
при благоприятных условиях семья рабов приобретала значительную ста¬
бильность. Однако она подвергалась слишком многим испытаниям, ибо ра¬
бы оставались собственностью своих хозяев, и, каковы бы ни были жела
ния самих рабов, последнее слово всегда оставалось за рабовладельцем. И
отнюдь не редко он продавал отца или мать с ее детьми на другую планта¬
цию. Смерть хозяина и распродажа с аукциона рабов или раздел их между
наследниками также разрушали семьи невольников.
Тем не менее на некоторых плантациях имелись семьи, состоявшие из
трех поколений рабов. Правда, это встречалось нечасто и, как правило, в
тех случаях, когда основатель такой семейной группы был квалифицирован
ным ремесленником и сумел завоевать особое положение в социальной
структуре плантации. Среди полевых рабов распространены были два типа
семьи: состоявшая из отца-мужа, матери-жены и детей либо двух- или трех
поколенная матрифокальная семья во главе с матерью, включавшая ее доче¬
рей со своими детьми. Как доказал в 1976 г. американский историк Г. Гат
мэн, в условиях, когда рабам позволяли, они в течение многих лет сохрани
ли моногамные браки. Дети социализировались в процессе эмоциональных
связей с родителями и всей общиной рабов. Взрослые, сохранявшие дли
29
тельные браки, сумели показать ролевые модели семьям молодых рабов.
Несмотря на последующее отдаление по времени от своих африканских
предков, среди рабов возникали и усиливались родственные связи внутри
каждого поколения. Иначе говоря, появилась значительная межпоколенная
и широкая внутрипоколенная сеть родства, непосредственно связывающая
семьи. В процессе приспособления рабов-африканцев и их потомков к ме
няющимся историческим условиям опора на родственников и соседей сыг
рала важнейшую роль в борьбе негритянской семьи в США за выживание
в мрачную эпоху рабства*.
Своим появлением среди рабов матрифокальная семья была обязана раз
ным факторам, но главным образом широко распространенным внебрачным
связям белых плантаторов, их сыновей, а также управляющих и надсмот
рщиков с черными рабынями. Кстати, именно из-за ранней добрачной бере
менности молодых рабынь, а также отделения от родителей и продажи ра
бовладельцами детей рабов возникла (перешедшая в XX в.) традиция нефор¬
мального усыновления семьями рабов таких детей.
У большинства свободных негров, общее число которых ко времени
Гражданской войны в США (1861 — 1865 гг.) приближалось к 0,5 млн, тра
диция стабильной семейной жизни в условиях относительной экономичен
кой независимости возникла еще в XVIII в. А в изолированных общинах, на
слабо освоенных окраинных территориях, семьи свободных негров характе
ризовались особенно большой власть.э отца, которая была обусловлена его
ролью мужчины в качестве не только главного работника, но и защитника
семьи, а также длительной жизнью в условиях суровой борьбы с природой
и за обладание землей^.
Таким образом, в эпоху рабства у негров сложилось два основных типа
семьи: полная, где отец был признанным главой и нес обязанности по ее
поддержанию, и матрифокальная, в которой ответственность за поддержа
ние лежала на матери (или матери-бабушке).
Гражданская война и ликвидация рабства вызвали кризис негритянской
семьи. Роли отца и матери менялись в зависимости от обстоятельств. Нен
рочные узы, связывавшие многих рабов и рабынь в номинальном браке, час
то разрывались. Десятки тысяч черных мужчин и женщин бродили по стра
не в поисках новой жизни. Женщины, имевшие детей и, получив свободу,
ушедшие от мужей, сами становились главами семей, которые социолог-аф
роамериканец Э.Ф. Фрэзиер называл „материнскими". В таком же положе
нии находились многие бывшие сожительницы рабовладельцев — рабыни с
детьми-мулатами, возглавлявшие семью без мужа еще в период рабства. По
добного рода матрифокальная семейная группа была распространена в нег¬
ритянских общинах на сельском Юге вплоть до начала XX в. Правда, гла
вой домохозяйства и хранителем связи поколений здесь обычно являлась не
мать, а бабушка, ибо только через предка по материнской линии в такой
семье могла быть установлена семейная связь. Как правило, в негритянских
общинах сельского Юга женщины без мужей получали помощь в заботах о
детях со стороны родственников по женской линии, да и сами дети с ран
него возраста помогали в домашней работе и т.д. В то же время сотни ты
сяч бывших рабов регистрировали свои браки у соответствующих чиновни
ков и мировых судей*.
В годы Реконструкции (1867—1876) американские негры на Юге, полу
30
чив право голоса, стали участвовать в общественной и даже политической
жизни, приобрели либо арендовали участки земли. Авторитет черного муж
чины вырос, укрепились семьи. Правда, значительная часть новых браков
не оформлялись юридически, но с точки зрения стабильности и признания
со стороны сельской общины (и церкви) они, соответствуя обычаям и ос¬
новным нормам жизни, носили характер обычного брака. Однако созданная
в самом конце XIX — начала XX в. в южных штатах изощренная система
расовой дискриминации и сегрегации негритянского населения, получив
шая название Джим Кроу, окружила его атмосферой враждебности, сдела¬
ла жизнь черных южан не только трудной экономически, но и полной опас-
ностей, ограничений и унижений.
В 1910 г. 9/ю негритянского населения США все еще проживало на
Юге, в том числе почти З/4 — в сельских районах и немало негритянских
сельских семей возглавляла женщина без мужа. Отчасти это было связано
с разрывом семейных союзов, которые, как уже было сказано, особенно у
бедняков, далеко не всегда были закреплены формальным браком, отчасти
— с добрачной беременностью черных девушек. Обычно в таких случаях ус¬
траивался так называемый вынужденный брак (shot-gun marriage) и родители
при поддержке общины помогали молодой паре в создании семьи. Но, если
этого не случалось и молодая мать, так и не вступив в брак, оставалась с
ребенком, она пользовалась таким же уважением, как замужние женщины,
и всегда получала помощь в заботе о детях со стороны родни. В негритян
ских общинах ношение и рождение детей считалось нормальным уделом
женщины и появление ребенка у незамужней дочери не воспринималось
как позор. Дети дочери в расширенной сельской семье неформально усы
новлялись и не считались незаконнорожденными. Однако не только власти,
но даже американские историки и социологи, не сумев сразу правильно
оценить эти особенности семейной жизни потомков черных рабов, длитель
ное время рассматривали их как свидетельство „дезорганизации негритян
ской семьи'*.
Неформальное усыновление в негритянских общинах сельского Юга
было вообще широко распространено: в случае смерти матери либо разру
шения семьи, переселения в город и т.д. ребенка передавали бездетным
родственникам или друзьям. Считалось долгом защитить его от оскорбле
ний и насилия, причиной которых мог стать его статус внебрачного и усы¬
новленного. Его жалели, как сироту и, старались компенсировать отсут
ствие родной матери, нередко окружали даже большей заботой, чем своих
детей. Традиционная практика неформального усыновления детей распрос
транена в афроамериканских семьях вплоть до настоящего времени*.
Первая мировая война положила начало массовому переселению афро
американцев с Юга в индустриальные центры Севера и Запада. Тем не ме
нее даже в 1940 г. около 77% негритянского населения все еще прожива
ло на Юге, а 23% — на Севере и Западе, причем уже 49% его — в горо
дах. Черные мигранты тех лет в большинстве своем бежали с Юга не толь
ко от расистского террора, но и в надежде найти работу с приличным зара
ботком и „пробиться в люди". Не обладая необходимой квалификацией,
они, как правило, оказывались на низших ступенях городского капиталис
тического общества. Тем не менее вплоть до 30-х годов большинство их об
ретало какую-то точку опоры в переживавшей „просперити" американской
31
экономике. Укрепила свои позиции и растущая в городах Севера афроаме¬
риканская мелкая буржуазия, или, по терминологии американских социоло
гов, негритянский средний класс. Положение изменил мировой экономи
ческий кризис 1929—1933 гг., вызвавший невиданную до тех пор в стране
безработицу, особенно тяжело поразившую негритянских трудящихся^.
Переселение в крупные города изменяло не только местожительство,
но и занятия, профессию, самый образ жизни афроамериканцев, что сопро¬
вождалось перестройкой всего их социально-психологического облика. Уже
в тот период оно оказало большое влияние на характер их семейной жизни.
Часть черных переселенцев сумела привезти с собой и сохранить в городе
свою семью. Проведенное в 1925 г., в разгар просперити, в Нью-Йорке об
следование показало, что пять из каждых шести детей афроамериканцев
жили там с обоими родителями*. Однако среди сотен тысяч темнокожих
мигрантов десятки тысяч мужчин и женщин оторвались от семьи и друзей.
Дети для них стали в городе тяжким бременем, так как эти переселенцы
не знали, как скоро и где именно они осядут. Мужья и отцы, отправляясь
на Север, нередко бросали старые семьи навсегда. В этом случае распад
семьи происходил еще до того, как она оказывалась в городе. Но в 30-х го
дах многие из семей, еще сохранявших свою целостность, попав в трущоб
ные кварталы черных гетто и оказавшись в условиях длительной безработи
цы, а следовательно, нищеты и постоянного недоедания, распадались. Кро
ме того, многочисленная семья не могла быстро передвигаться в поисках
работы из города в город, как того требовала теперь обстановка, поэтому
характерные для сельских районов большие семьи стали распадаться. В ре
зультате члены такой семейной группы иногда оказывались на разных сту¬
пенях социальной лестницы. В городах терял свою силу и сельский соци-
альный контроль; в результате одним из неизбежных последствий столкно
вения семейной организации и культуры американских негров сельского
Юга с жизнью больших северных городов стал рост числа покинутых се
мей и "незаконнорожденных" детей. Доля их за время с 1917 по 1940 г.
выросла с 12 до 16,8% всех родившихся негритянских детей. Однако, хотя
беременность до брака в афроамериканской городской общине считалась
несчастьем, девушки не подвергались остракизму и могли вступить в брак
с другим мужчиной^.
Исключение представлял средний класс, состоявший в основном из се
мей, уже закрепившихся в городе, вросших в его экономическую структу¬
ру (чему нередко способствовало получение образования) и стремившихся в
своем образе жизни подражать семьям белого среднего класса. Локализа-
ция и стабилизация брачных отношений, недопустимость внебрачной бере¬
менности, а также оппозиция к разводам и нежелательность широкой ог¬
ласки, если они случались, в негритянской прессе были проявлением осо
бенно характерного для таких семей стремления к респектабельности.
В годы второй мировой войны и послевоенные десятилетия масштабы
миграции негритянского населения с Юга в промышленные центры Севера
и Запада, а также из сельских районов в города на самом Юге резко воз
росли, что было связано с ускорением темпов научно-технического развития
США в этот период и начавшейся там научно-технической революцией
(НТР). Быстрая механизация сельскохозяйственного производства, сопровож¬
давшаяся невиданными ранее темпами роста производительности труда, в
32
условиях ожесточенной капиталистической конкуренции обернулась для
миллионов мелких негритянских фермеров, арендаторов, сельскохозяйствен¬
ных рабочих разорением, потерей работы. Если в 1940 г. в сельском хозяй¬
стве было занято 42% самодеятельного негритянского населения, то в
1970 г. — лишь 3,9%".
В 40—6&х годах на Север и Запад переселилось более 4 млн афроаме¬
риканцев, и в 1970 г. вне Юга проживало уже около половины (39% на
Севере и 8% на Западе) негритянского населения. По доле горожан оно те¬
перь превышало белое население: в 1970 г. в городах проживало 72,4%
всех белых и 81,3% черных американцев".
Кроме того, в 40—6&х годах процесс дальнейшей урбанизации населе¬
ния США сопровождался растущей его субурбанизацией — возникновением
вокруг крупных городов новых пригородов и городов-спутников, куда пере¬
селились сотни тысяч и миллионы зажиточных белых американцев. В то
же время сотни тысяч черных мигрантов заселяли в этих городах покину¬
тые белыми жителями кварталы вокруг старых трущобных районов, еще
накануне первой войны начавших превращаться в негритянские гетто. К
1965 г. среди ста крупнейших городов США не было ни одного без такого
гетто. А поскольку закрепленная системой Джим Кроу и распространив¬
шаяся за пределы Юга расовая сегрегация в жилищном вопросе практичес¬
ки лишила афроамериканцев возможности пересечь „цветной барьер", то
перенаселенность черных гетто превышала все допустимые пределы. „Се¬
годняшние гетто, — констатировал сенатор Д. Джавитс, — не добровольная
концентрация. Это расовая концентрация, единственный выход из которой
часто только в другую расовую концентрацию. Их обитатели обычно амери¬
канцы по происхождению, языку и обычаям. Среди них — богатые и бедные,
необразованные и интеллигенты... 95% их — американские негры". В таких
гетто проживало 58% всех афроамериканцев и только 16% их — в пригоро¬
дах".
В отличие от мигрантов времен первой мировой войны и просперити
20-х годов черные переселенцы, хлынувшие из сельских районов Юга в го¬
рода в 40—60-е годы, во-первых, покидали родные края вынужденно, остав¬
шись без всяких средств к существованию, а во-вторых, многие из них и в
городах оказались лишними, ибо по мере развития НТР спрос в промыш¬
ленности на малоквалифицированную и малообразованную рабочую силу не¬
уклонно сокращался.
Хотя в среднем образовательный уровень негритянского населения по
сравнению с 1940 г. заметно повысился, в 1970 г. он все еще был значительно
(у мужчин на 2,6 года, а у женщин на 2 года) ниже, чем у белого населения. Но
даже при формально равном образовании знания и квалификация выпускников
школ, колледжей, университетов для черных были ниже, чем выпускников
школ, колледжей и университетов для белых. Это было связано с разницей в
финансировании тех и других, а следовательно, и в их оснащении, оплате и
квалификации преподавателей, числа учащихся на каждого учителя и т.д. Трое
из каждых пяти негритянских детей бросали школу, так и не закончив ее Все
названные причины, так же как и негритянский диалект выходцев с сельского
юга мешали афроамериканцам и при найме на работу, и в продвижении по
службе. Не удивительно, что средний уровень безработицы среди них был
обычно почти вдвое выше, чем среди белых американцев".
2 Тип. ЭАк. 1065
33
НТР способствовала заметному росту участия в общественном производ¬
стве женщин. Углублялось общественное разделение труда и сокращался
спрос на профессии, требующие применения физической силы. Страна пе¬
реходила от экономики, где преобладали „синие воротнички", к индустрии
обслуживания, где ценились образование и профессиональная подготовка,
ум и личные качества. Росла экономическая заинтересованность предприни¬
мателей в эксплуатации более дешевого женского труда. Доля женщин в
составе наемной рабочей силы увеличилась с 29% в 1941 г. до 43% в
1970 г. Правда, у негров она всегда была гораздо выше, ибо черные муж¬
чины издавна зарабатывали намного ниже, чем белые, поэтому большое чи¬
сло черных женщин работали, чтобы прокормить семью. Среди белых аме¬
риканок служили главным образом девушки и одинокие женщины, и толь¬
ко после второй мировой войны рынок труда стали заполнять замужние бе¬
лые женщины разных профессий'*.
Тем не менее в 50—60-х годах как численность афроамериканок в наем¬
ной рабочей силе, так и доля их среди работавших женщин со средним об¬
разованием резко выросла. В результате они все шире приобретали профес¬
сии секретарей, машинисток, стенографисток, телефонисток, кассиров, бух¬
галтеров, административных служащих и лиц свободных профессий. В то
же время в сфере личных услуг доля их упала с 53 до 18%'*. Исследова¬
тели отмечали более высокий образовательный уровень негритянских деву¬
шек по сравнению с негритянскими юношами, значительно больший про¬
цент которых покидали среднюю школу и колледж, не окончив их.
Американские социологи, в основном справедливо, на наш взгляд, объ¬
ясняли отставание черных мужчин от женщин в области образования тем,
что многие матери в бедных негритянских семьях, „разочарованные и оз¬
лобленные своим опытом с мужчинами", проявляли гораздо больший инте¬
рес к судьбе своих дочерей, нежели сыновей. И если хотя бы один ребе¬
нок в такой черной семье имел шанс получить высшее образование, то мать
обычно предпочитала, чтобы им была дочь'*. По-видимому, имелись и дру¬
гие причины того, что афроамериканки возлагали большие надежды на до¬
черей. Но так или иначе, неравенство в образовании не могло не сказывать¬
ся в области занятости и доходов, ибо занятость в качестве „белого ворот¬
ничка" и тем более специалиста, была связана по традиции с гораздо более
высоким социальным престижем, чем в качестве „синего воротничка".
Однако, несмотря на рост профессиональной квалификации части афро¬
американок, 2/з их к 1970 г. все еще были заняты неквалифицированным
или малоквалифицированным трудом. Хотя доля семей, где работали муж и
жена, у черных американцев была намного выше, чем у белых, средний до¬
ход афроамериканской семьи тогда составлял менее 2/3 среднего дохода бе¬
лой семьи. К тому же средняя семья у белых американцев в 1970 г. насчи¬
тывала 3,52, а у черных — 4,13 человека. Кроме того, негритянская жен¬
щина не только имела больше детей, чем белая, но и рожала их раньше: в
1960 г. на тысячу когда-либо бывших замужем небелых женщин в возрасте
от 15 до 19 лет приходилось 1247 рожденных детей, а на тысячу таких же
белых женщин — 725. Вообще уровень рождаемости среди черных американ¬
цев в 60-х годах был в 1,4 раза выше, чем у белых, а в указанной возрастной
группе даже в 1,7 раза. Положение усугубляло и то обстоятельство, что, чем
беднее была негритянская семья, тем больше было в ней детей".
34
Непрочность экономического положения в сочетании с расовой дискри-
минацией и периодической, а иногда и хронической безработицей среди
афроамериканцев вели к развалу семей. Американский социолог и публи¬
цист Б. Багдикян писал, что после закрытия в 1965 г. автомобильного заво-
да „Хадсен мотор кар компани" 300 из семей уволенных рабочих вскоре
фактически распались". О прямой зависимости между устойчивостью се¬
мейных связей и уровнем безработицы говорит и сравнение динамики без¬
работицы с динамикой численности разводов среди афроамериканцев, и из¬
менения доли живших без мужей небелых замужних женщин, показываю¬
щие, что пики и спады последней имели место всегда на год позже пиков
и спадов уровня безработицы".
Социолог Д. Макинтайр назвал неоформленный юридически уход мужа
от семьи „разводом бедняка ". Уже в 1960 г. на тысячу замужних женщин
браков, расторгнутых в результате развода или фактического ухода, у бе¬
лых американцев было 60, у черных — 198*.
Затронул этот процесс и черный средний класс. С развитием после
второй мировой войны НТР в сельском хозяйстве и быстрой урбанизацией
негритянского населения афроамериканская городская мелкая и средняя
буржуазия заметно выросла. Деньги стали главным мерилом социального
престижа и респектабельности семей нового черного среднего класса. Все
больше уходили в прошлое старозаветные каноны, требовавшие стабильнос¬
ти брачных отношений. Как правило, в этих семьях обходились теперь од¬
ним-двумя детьми, а то и вовсе предпочитали оставаться бездетными. Учас¬
тились разводы, хотя обычно они оформлялись юридически. По мнению ря¬
да авторов, между ориентациями семей черного и белого средних классов
стало много общего*'.
В целом по США доля черных семей, возглавляемых женщиной без му¬
жа, выросла с 17,9% в 1940 г. до 28,3% в 1970 г., тогда как доля семей,
возглавляемых отцом без жены, сократилась с 5 до 3,7%, а доля семей с
отцом и матерью — с 77,1 до 68,19. Причем особенно высокой доля семей
с черной матерью-одиночкой была в крупных городах. Об этой же тенден¬
ции свидетельствует и статистика рождаемости: по мере переселения нег¬
ров в города доля „незаконнорожденных " в общей массе родившихся небе¬
лых детей выросла с 16,8% в 1940 г. до 37,6% в 1970 г. К тому же в чер¬
ных гетто крупных городов этот показатель был гораздо выше среднего,
причем в семьях с доходом до 4 тыс. долларов он был втрое выше, чем в
семьях с доходом более 8 тыс.*
В комплекс причин того, что Э.Ф. Фрэзиер, П.Д. Мойнихен и некото¬
рые другие авторы называли „дезорганизацией негритянской семьи", ее
„социальной патологией" и т.п., следует включить ужасные жилищные
условия, также оказывавшие свое влияние на семейные отношения значи¬
тельной части афроамериканцев в черных гетто*.
В 70-х годах процесс урбанизации в США замедлился: доля горожан с
73,5% в 1970 г. даже несколько понизилась, составив в 1980 г. 73,3%.
Правда, афроамериканцев это коснулось меньше: они все еще уходили из
сельских районов в города, особенно на самом Юге. В 1980 г. в городах
проживало 85,3% негритянского населения США. В Нью-Йорке афроамери¬
канцы составляли 25% жителей (около 1,8 млн человек), Чикаго — 40%
(1,2 млн), Детройте — 63% (0,8 млн), Филадельфии —38% (0,6 млн), Лос-
2*
35
Анджелесе 17% (0,5 млн), Кливленде — 44%, Окленде и Сент-Луисе — 47,
Новом Орлеане и Балтиморе — 55, Ньюарке — 58, Атланте — 67%. Но и из
14,7% афроамериканцев, живших в сельских районах, более 12% работали
в городах, в сельском хозяйстве было занято менее 2% самодеятельного
негритянского населения*.
В 70-х годах черные гетто продолжали расширяться, и „концентрация
нищеты" здесь достигла небывалых масштабов. Но численность афроамери¬
канцев в них росла в основном уже за счет естественного прироста, а не
миграции из сельских районов. Последняя сохраняла определенное значе¬
ние еще лишь кое-где на Юге. Кроме того, длившийся несколько десятиле¬
тий отток негритянского населения из южных штатов сменился теперь об¬
ратной миграцией с Севера в города Юга. Но доля его в южных штатах в
1980 г. оставалась той же, что и в 1970 г., — 53%, на Севере она сократи¬
лась до 38,5, на Западе выросла до 8,5%. С середины 70-х годов заметно
увеличились темпы миграции состоятельных афроамериканцев из централь¬
ных городов в ближние пригороды. На них в 1980 г. приходился 21% нег
ритянского населения (против 16% в 1960 г.), а на „центральные города" —
57,2%*.
В результате успехов движения за гражданские права и принятия в
60-х годах законов, направленных против расовой дискриминации, в 70-х
годах афроамериканцам удалось добиться некоторого ослабления ее и улуч¬
шения своего материального положения. Заметно изменилась профессио¬
нально-квалификационная структура негритянского населения. Средний об¬
разовательный уровень его повысился, и доля „белых воротничков" увели¬
чилась с 16,2% в 1960 г. до 31,1% в 1980 г. Однако выросшая было к
концу 70-х годов медиана годового дохода средней негритянской семьи на¬
чиная с 1979 г. непрерывно сокращалась и в 1986 г. составляла лишь 57%
медианы дохода средней белой семьи. Дело в том, что переход из „синих
воротничков" в „белые" вовсе не влечет за собой автоматически продвиже¬
ние по социальной шкале вверх — в состав среднего класса. Связано это с
тем, что афроамериканцы — „белые воротнички" обычно занимают в своих
профессиональных группах самые низкооплачиваемые должности. Так, в
1977 г. только 30% афроамериканцев управляющих и администраторов,
26% специалистов, 11% торговых и 3% конторских служащих могли счи¬
таться принадлежавшими к низшему и среднему слоям черного среднего
класса. За 10 лет, с 1969 по 1978 г., доля семей, относящихся к этим сло¬
ям, среди всех негритянских семей выросла только на 1% (с 24 до 25%),
тогда как доля семей с самым высоким среди афроамериканцев доходом,
позволяющим отнести их к верхнему слою черного среднего класса, вырос¬
ла на треть. В то же время, хотя число семей с самым низким доходом вы¬
росло на 19%, доля их среди всех негритянских семей осталась той же*.
Иначе говоря, многие средние показатели, характеризующие негритян¬
ское население и негритяиские семьи в целом, маскируют важный факт уг¬
лубления социальной дифференциации среди афроамериканцев. С одной
стороны, верхушка черной буржуазии и высокооплачиваемый слой интел¬
лигенции по материальному уровню сближаются с белым средним классом,
а с другой — все шире распространяется нищета среди черных низов.
Увеличение с 1970 по 1982 г. на 21% числа афроамериканцев, живу¬
щих ниже уровня бедности, в значительной мере связано с усилением про¬
36
цесса распада черных семей, в результате которого резко возросло число
семей, возглавляемых женщиной без мужа. Так, в черных семьях, включаю
щих обоих супругов, душевой доход с 1959 по 1981 г. вырос в неизмен¬
ных ценах более чем вдвое, а в семьях, возглавляемых женщиной, рос
гораздо медленнее. В результате если в 1959 г. последний составлял 63%
душевого дохода семьи с двумя супругами, то в 1981 г. — только 42,2%.
Кроме того, доля трудоспособного, но не имеющего работы и пробавляю¬
щегося случайными заработками негритянского населения только с 1970
по 1981 г. выросла втрое (с 5 до 15,6%)^. „Негритянское общество, —
констатировал весной 1987 г. еженедельник „Ю.С.ньюс энд уорлд рипорт",
— расколото: преуспевает только треть семей, а две трети находятся в
очень трудном положении'**.
Если до 70-х годов гражданская рабочая сила в США пополнялась
прежде всего за счет молодежи, то обусловленные НТР на втором (начав¬
шемся с середины 70-х годов) ее этапе структурные сдвиги в американ¬
ской экономике изменили ситуацию. Усилив растущий спрос на работни¬
ков непроизводственной сферы вообще и сферы обслуживания в частности,
а также на специалистов с высшим и средним образованием, они привели
к вовлечению в состав рабочей силы все более широких масс женщин. Чи
ело работающих по найму женщин только с 1960 по 1984 г. выросло
вдвое, доля их в составе рабочей силы увеличилась до 49,6%, а доля среди
всех женщин в возрасте 16 лет и старше — до 53,5%. Особенно сильно
возросло участие в наемном труде замужних женщин с детьми до 6 лет. К
1985 г. к числу неработавших жен с детьми на руках принадлежало менее
11 % американских женщин*".
В 1984 г. гражданская рабочая сила составляла 64,6% белого и 62,2%
негритянского населения в возрасте 16 лет и старше. Однако при почти
равной общей доле в составе соответствующего населения доля женской
рабочей силы у черных была все еще несколько выше, чем у белых, тогда
как доля мужской рабочей силы у черных американцев заметно ниже. Свя¬
зано это было прежде всего с гораздо большим удельным весом в составе
„черной " мужской рабочей силы лиц, не имеющих работы. Если в 1972 г.
уровень безработицы среди черных был вдвое выше, чем у белых, то в
1982 г. — в 2,2 раза, а в 1984—1986 гг. — даже в 2,4 раза*".
Хотя число работавших глав черных семей в 70—80-х годах заметно вы¬
росло, произошло это в основном за счет увеличения числа семей, возглав¬
ляемых женщиной. Доля занятых черных мужчин за время с 1969 по
1978 г. заметно понизилась, хотя у белых мужчин выросла. В 80-х годах
уровень безработицы среди черных мужчин был вдвое с лишним выше, чем
среди белых. Более того, белый американец и с меньшим образованием мог
рассчитывать на получение работы скорее, чем черный с более высоким об¬
разованием**. Средняя почасовая зарплата черных мужчин в 1975 г. была
на 22% ниже, чем у белых. Анализ всего комплекса способствовавших это¬
му факторов показал, что 14%, или почти 2/g, разницы в зарплате приходи
лось на долю такого из них, как расовая дискриминация. В 1981 г. сред¬
ний доход работающего черного мужчины составлял лишь 61%, а в 1985 г.
— 62,9% дохода белого работающего мужчины**.
Однако в черных гетто „центральных городов", где с конца 60-х годов
проживают почти 3/5 афроамериканцев, уровень доходов черных мужчин
37
был и остается ниже, а уровень безработицы выше, чем в среднем по стра¬
не. Так, в гетто Нового Орлеана в 1970 г.лишь 20% работающих отцов чер-
ных семей имели квалифицированную работу, а 80% неквалифицирован
ную, тогда как для всего негритянского населения страны эти показатели
были соответственно 36 и 64%*. Иначе говоря, большинство работающих
черных мужей в гетто просто не имели возможности с помощью собствен
ного заработка поддерживать материальное положение своих семей на оста
ющемся минимально достаточном уровне. Если добавить к этому, что безра
ботица в черных гетто успела приобрести хронический характер, то понят
но, почему большинство негритянских семей там жили, по выражению аме
риканского экономиста Д. Фасфелда, „в условиях постоянного кризиса"*. В
середине 80-х годов еженедельник „Ю.С. ньюс энд уорлд рипорт" конста¬
тировал, что „чуть ли не каждый второй негритянский юноша не имел ра¬
боты"*. По мнению профессора Джорджтаунского университета Э. Холмс
Нортон, это свидетельствует не только о структурной безработице, но и о
структурных изменениях в негритянских семьях с низким доходом. „Уро-
вень безработицы черной молодежи оказывает самое опустошительное и
разрушительное влияние, препятствующее созданию стабильных брачных
союзов", — писала она. Черные мужчины, в том числе многие молодые, не
способны более, по ее словам, выполнять свою историческую роль поддер
жания семьи. Одни из них безработны из-за отсутствия работы, другие —
из-за того, что „жизнь в гетто помешала им получить что-то на рынке
труда" (видимо, автор имела в виду фактическую расовую дискриминацию),
третьим ради выживания пришлось связаться с преступным миром. „Куль
тивируемая в гетто роль мачо (мужчины), — констатировала Э. Холмс Нор¬
тон, — делает трудными для многих неспособных материально обеспечить
приличный образ жизни черных мужчин создание семьи и выполнение ро
ли мужа и отца"*.
В отличие от мужчин среди женщин доля черных в составе рабочей си
лы в конце 70-х годов была еще несколько выше, чем белых. Однако по
доле фактически работавших белые американки уже тогда обогнали чер¬
ных. В 1980 г. работали по найму 46% черных и 48% белых женщин, а
если брать молодежь, то соответственно 26 и 39%. Связано это было глав¬
ным образом с безработицей, достигавшей у белых 17%, а у черных —
40%. В результате, хотя доля желавших работать по найму черных женщин
была выше, чем белых, получить работу они не могли^.
Между тем по среднему образовательному уровню черные женщины к
1980 г. лишь на 0,4 года отставали от белых американок. Почти 21% афро-
американок имели диплом колледжа (в том числе 11% в объеме 4 курсов и
более) и еще треть — среднее образование. Это привело к важным измене¬
ниям в характере их занятости, и прежде всего к уходу из сельского хо
зяйства и сферы домашнего обслуживания. Еще в 1967 г. в последней бы
ла занята V4, а в 1980 г. — лишь 1/]$ работавших американок, причем в
основном это были вдовы и разведенные старше 50 лет с низким образова¬
нием. За эти 13 лет с 29 до 49% выросла доля черных женщин, занятых в
„беловоротничковых" профессиях (в том числе специалистов на 45%, торго¬
вых работников — на 55, конторских служащих — на 81, управляющих —
на 93%)*.
Иначе говоря, за последние 20—25 лет значительная часть афроамерика-
38
нок ушла из низкооплачиваемых и не обеспечивавших регулярную заня
тость профессий в лучше оплачиваемые, с более высокой долей полночасо¬
вой и круглогодичной занятости. Обусловленный связанными с развитием
НТР сдвигами в структуре хозяйства и рабочей силы огромный приток в
сферу сервиса и конторских профессий стремившихся работать обученных
черных женщин позволил нанимателям заполнить ими низшие должности,
что было выгоднее, чем ставить на них черных мужчин или белых жен
щин.
Тем не менее половина афроамериканок все еще сконцентрирована в
низшей образовательной группе и многие из них не могут найти полночасо
вую и круглогодичную работу потому, что ее скорее дадут претендентке с
более высоким образованием и квалификацией. Так же обстоит дело и с
перспективой продвижения по службе у тех, кто работает. И хотя в целом
положение афроамериканок в некоторых аспектах несколько улучшилось,
средние показатели заслоняют все более растущую среди них социальную
дифференциацию. В 1980 г., например, медиана трудового дохода черных
женщин с образованием менее 8 классов составляла 2963 долларов в год, а
с образованием 5 курсов колледжа и более — 16 782. Но последние со
ставляли всего 2,8%, а первые — 1/4, работавших черных женщин. Следует
учитывать также, что афроамериканки с более высоким образованием и по¬
тенциальным заработком обычно и замужем за мужчиной с более высоким
образованием и заработком. Кроме того, какая-то часть их располагает дохо¬
дом от собственности. Иначе говоря, современные формы участия черных
женщин в рабочей силе способствуют концентрации дохода среди тех из
них, кто уже оказался в лучшем положении^.
Но, хотя части афроамериканок удалось добиться относительных успе¬
хов и поднять свой заработок до уровня белых женщин, медиана трудового
дохода первых в целом и ныне едва превышает половину дохода белых
мужчин, а большинство афроамериканок с низким образованием страдает от
невозможности обеспечить и сохранить полную занятость. Они же чаще
всего являются незамужними главами самых беднейших семей.
Только с 1970 по 1986 г. доля замужних среди взрослых афроамерика¬
нок сократилась с 61,7 до 44,5%, а овдовевших — с 15,8 до 12,5%, тогда
как доля одиноких (никогда не бывших замужем) выросла с 17,4 до 31,5%,
разведенных — с 5,0 до 11,5%. Если же учитывать и подростков, то уже в
1981 г. лишь 33% черных женщин были замужем и жили с мужьями, дру¬
гая треть их никогда не были замужем и еще треть приходилась на долю
живших раздельно, а также разведенных и овдовевших*".
В известной степени это связано с растущей нехваткой черных мужчин.
Число их на 100 черных женщин в XX в., по данным официальной статис¬
тики, сократилось с 99 в 1900 и 1920 гг. до 91,4 в 1976 г. В результате
черная женщина, по словам эксперта Бюро цензов США П. Глика, оказа
лась перед лицом острого „брачного давления" (squeeze). А негритянская
общественная деятельница, профессор права П. Муррэй назвала „дисбаланс
между полами в негритянском населении... драматическим". Одной из ос
новных причин такого соотношения полов явился растущий разрыв в сред¬
ней продолжительности жизни черных женщин и мужчин. У первых с
1950 по 1974 г. она выросла с 62,9 до 71,2 лет (на 13,2%), а у вторых —
с 59,1 до 62,9 лет (на 6,4%), т.е. только за 25 лет этот разрыв увеличился
39
с 3,8 до 8,3 лет. В 1986 г. на 100 черных женщин пришлось уже только
90 черных мужчин*'.
Кроме того, понижавшийся в США до 1956 г. средний возраст вступ
ления американцев в первый брак за 25 лет после 1960 г. поднялся на 2,6
года, составив в 1984 г. для мужчин 25,4 лет, а для женщин — 23 года.
Это привело к более позднему рождению как у белых, так и у черных аме
риканок первого ребенка, а следовательно, к снижению числа возможных
последующих рождений и падению уровня рождаемости: в 1980 г. он был
на 40% ниже, чем в 1950 г." Для афроамериканок откладывание рождения
ребенка менее характерно, чем для белых американок, и фертильность сре
ди них выше: у черных на 1000 женщин в 1983 г. пришлось 208 рожде
ний, а у белых — 144. Но две из каждых трех афроамериканок, родивших
первого ребенка, одиноки**.
Урбанизация и рост образовательного уровня, особенно за последнюю
четверть века, сыграли важнейшую роль в падении фертильности у черных
женщин. Так, в 1975 г. афроамериканки с низким образовательным уров
нем в среднем имели четырех, окончившие среднюю школу — трех, кол
ледж — двух детей. Фертильность падает также с повышением доходов и
профессионального уровня. У незамужних она ниже, чем у замужних, в гет
то „центральных городов" ниже, чем в пригородах, а в последних ниже,
чем в семьях черных фермеров**.
Наконец, важным фактором, способствующим падению рождаемости,
является невиданный рост числа разводов и раздельного проживания супру
гов, а также числа домашних хозяйств, состоящих из одного человека. В
60—70-х годах число разведенных на 1000 женатых пар в США выросло
почти втрое, ив 1981 г. там был поставлен мировой рекорд разводимости:
на каждые 100 заключенных браков пришлось 50 разводов. Но если среди
белых американцев с 1960 по 1980 г. число разведенных на 1000 живу
щих вместе супругов выросло в 2,8 раза, то среди черных — в 3,6 раза, в
том числе у черных мужчин — с 45 до 151, у женщин — с 78 до 258. В
1982 г. этот показатель у женщин равнялся 265. Наиболее высока доля
разводов у молодежи**.
Таким образом, в афроамериканских семьях проблема разводов стоит
еще острее, чем в белых. Число разводов значительно превышает число по
вторных браков, которое тем не менее в США довольно высоко. Изучение,
проведенное в 1975 г., показало, что 57,7% афроамериканок были замужем
один раз, 11,8% — два и 1,5% — три раза. Трое из каждых четырех разве¬
денных вновь вступали в брак (в отличие от овдовевших, вступавших в но
вый брак гораздо реже)**.
Вследствие столь интенсивного роста числа разводов и затяжки — в
связи с неуверенностью молодежи в своем экономическом будущем — вре
мени вступления в первый брак, а разведенных — во второй сократилась не
только доля мужчин и женщин, состоявших в браке, но и время пребыва
ния в нем. Если в начале 50-х годов последнее составляло в среднем 45%
ожидаемой продолжительности их жизни, то в начале 80-х — лишь 22%. В
1950—1955 гг. первый брак у афроамериканок продолжался в среднем
27,3 года, а в начале 80 х годов — 16,2 года. В связи с повышением воз
раста вступления в повторный брак и учащением случаев его разрыва со
кратилась длительность и вторых браков*^. Результат — увеличение числа
40
возникших после второго брака смешанных семей, где один из родителей
(как правило, отец) не был родным, а также неполных семей, возглавляе¬
мых обычно матерью-одиночкой, часто вообще никогда не состоявшей в бра¬
ке. В 1960 г. доля последних у черных была почти такой же, как и у бе¬
лых американок (11,8 и 10,8%), а в 1980 г. — в 3 раза выше. Причем в
основном такой рост произошел за счет небывалого увеличения числа мате-
рей-подростков. В 1960 г. добрачные роды у американок в возрасте 14—19
лет составляли 15%, в 1970 г. — 30, а в 1982 г. — 51% всех родов.
В 1982 г. 22% черных и 8% белых американок в возрасте менее 18 лет, а
также 41% черных и 19% белых американок в возрасте менее 20 лет уже
рожали. На долю матерей-подростков в 1982 г. пришлось V4, всех родов у
черных и */g — у белых американок. Однако у последних доля добрачных
родов составила 38%, а у черных — 87%, хотя темпы роста ее в 80-е годы
у белых оказались выше".
„Сексуальная революция" 60—70-х годов в США и „свобода добрачных
сексуальных отношений" привели к тому, что и в 80-х годах ежегодно око¬
ло миллиона девушек-подростков беременеют и более половины их рожа¬
ют. Причем, по словам социолога Р. Кирка, „самое резкое увеличение рож¬
даемости наблюдается в 11-летней возрастной категории". Создано даже
специальное Бюро подростковой беременности, и если раньше беременных
учениц исключали из школы, то теперь разрешают оставаться в ней. В то
же время с ослаблением общественного нажима в отношении заключения
брака с целью узаконить ребенка и в связи с неспособностью стать эконо¬
мической опорой семьи большинство подростков-отцов избегает брака.
Доля афроамериканок в возрасте 15—17 лет, вступивших в брак, за
время с 1960 по 1980 г. сократилась на 74,1%, а в возрасте 18—19 лет—
на 61,6%. Более 2/д первых детей, рожденных матерями-подростками, были
зачаты до брака. К тому же, как отмечалось выше, в отличие от молодых
белых американок, как правило, избавляющихся от добрачной беременнос¬
ти либо отдающих добрачных детей в приюты для усыновления бездетными
супругами, 90—94% черных сохраняют и воспитывают своих добрачных де¬
тей. В частности, по данным за 1982 г., в США отдавала ребенка для усы¬
новления приемными родителями в среднем каждая 12-я мать, родившая
младенца вне брака, но среди афроамериканок — лишь одна из 100. И этим
же отчасти объясняется непропорционально высокий в официальной статис¬
тике процент „незаконнорожденных" детей у черных американок по сравне¬
нию с белыми. Доля внебрачных среди детей, рожденных афроамериканка-
ми, выросла с 21,6% в 1960 г. до 60,1% в 1985 г. (белыми американками
— с 2,3 до 14,5%), и число внебрачных детей у них в последнее десятиле¬
тие росло быстрее, чем рожденных в браке".
При всем том необходимо отметить, что, хотя отмеченные выше процес¬
сы в той или иной мере затронули все слои негритянского населения
США, гораздо сильнее они проявляют себя в гетто „центральных городов".
Именно здесь живет ныне большинство афроамериканок вообще и особенно
тех, кто составляет основную массу не представительниц престижных про¬
фессий с дипломами университетов, а плохо оплачиваемых, часто обре
мененных детьми и не имеющих мужей, а иногда и постоянной работы чер¬
ных женщин. Поэтому, например, в гетто таких городов, как Вашингтон,
Нью-Йорк, Чикаго и некоторых других, от 2/g до 3/^ всех родившихся в
41
конце 70-х — начале 80-х годов детей были внебрачными. Если в I960 г. в
семьях с обоими родителями жили и воспитывались 69% черных детей в
возрасте до 18 лет, то в 1986 г. — лишь 42,4%, а 57,6% их (у белых аме¬
риканцев — 17,3%) жили и воспитывались с одним родителем: 54,4% — с
матерью, 3,2% — с отцом^.
* * *
В американской социологии широко используется термин „хаусхолд", под
которым имеется в виду домашнее хозяйство или лица, занимающие отдель¬
ное общее для них жилище, хотя и не обязательно являющиеся семьей в
общепринятом значении этого понятия. Статистика так и делит хаусхолды
на семейные и несемейные, включающие лиц, не состоящих в семейных
отношениях. Семейные хаусхолды, в свою очередь, подразделяются на пол¬
ные, включающие супружеские пары, и неполные, возглавляемые женщи¬
ной без мужа или мужем без жены. Несемейные хаусхолды делятся на
"мужские", возглавляемые мужчиной, и „женские", возглавляемые женщи¬
ной. Часть из них состоит из мужчин или женщин — одиночек.
В прошлом большинство семейных хаусхолдов в США представляли
классическую полную нуклеарную семью из мужа-кормильца, жены-домохо¬
зяйки и их детей. Но в 1982 г. среди 83,5 млн хаусхолдов семейные со
ставляли 73%, в том числе полные — с мужем, женой и детьми — 59,4%
(из них 5% — смешанные, с двумя разведенными в прошлом супругами и
детьми от разных браков), а традиционные, в которых работал только муж,
— всего 13%^'.
Общее число негритянских хаусхолдов в 1981 г. превысило 8847 тыс.
и только 62 тыс. (0,7%) их приходилось на фермерские. 71,4% черных ха¬
усхолдов были семейными, но лишь немногим более половины последних
составляли супружеские пары, 2/g — неполные семьи во главе с женщи¬
ной без мужа, и около l/go — неполные семьи во главе с мужчиной без
жены. На долю несемейных черных хаусхолдов приходилось 29,7%, и она
делилась почти поровну между возглавляемыми женщиной или мужчиной
(14,6 и 15,1%)".
Как известно, в эпоху монополистического капитализма доля, а затем и
численность фермерства в США неуклонно сокращались и в то же время
росли темпы урбанизации населения. Отделение в городе производственной
жизни от домашней, расширение общественной системы образования, изме¬
нение характера медицинского обслуживания и социального обеспечения,
рост безработицы, обусловившей мобильность рабочей силы, способствова¬
ли постепенному распаду характерных для сельских жителей больших
трудовых семей, состоявших из трех-четырех поколений прямых и других
родственников. Поэтому еще до второй мировой войны в США окрепло и
широко распространилось представление о „нормальной семье" как семье,
включавшей мужа и жену с детьми. Она получила название малой, или
иуклеарной. Однако после войны в условиях НТР и особенно на ее втором
этапе — в 70—80-х годах — тенденции, проявившиеся в первой половине
XX в., резко усилились. В результате семья в США вообще как в плане ее
особенностей в разных социальных слоях, так и ее размеров, внутренней
структуры и характера связей с родственниками, как показано в предыду¬
щей главе, претерпела большие изменения.
42
Среди афроамериканцев эти процессы происходили вначале более за¬
медленными темпами, поскольку гораздо большая доля их все еще была за¬
нята в сельском хозяйстве. Однако в эпоху НТР черные американцы по
темпам ухода из сельского хозяйства и урбанизации намного превзошли бе¬
лых, и ныне доля первых, занятых в сельском хозяйстве, не превы
шает 1%.
Что же касается семьи, то уже в конце 60-х и в 70-х годах в ответ на
утверждения П.Д. Мойнихена и ряда других американских социологов о
распаде, „нежизнеспособности" и патологии негритянской семьи в США
появились исследования сторонников концепции ее „жизнеспособной (или
„здоровой" — healthy) адаптации". Под этим подразумевались развитие и из¬
менения в структуре и функционировании такой семьи в качестве реакции
на постоянно присутствовавшие неблагоприятные социальные условия,
стремление реализовать и укрепить ценности, придающие истинный смысл
и содержание семейной жизни. Сторонники этой точки зрения считают, что
в своей основе семьи черных американцев — такие же, как и семьи белых,
однако им приходится постоянно сталкиваться с расизмом, расовой дискри¬
минацией, нищетой. Поэтому различия между теми и другими существуют
не сами по себе, а обусловлены главным образом различиями в экономичес¬
ком и социальном статусе. „Многие из описанных так называемых расовых
различий между черными и белыми можно гораздо проще объяснить разни¬
цей в образовании, профессии, доходе и занятости", — считает социолог-аф-
роамериканка Ж. Джексон. И далее: „В большинстве отношений нет важ
ных различий между черными и белыми одного образовательного уровня,
сходных профессий, занятости и дохода, сходства в размере семей. Вероят¬
но, лучшим объяснением тех различий, которые сохраняются, следует счи¬
тать расизм"^. Социолог А.Д. Мак-Куин в 1979 г. утверждал, что „черные
семьи не отличаются фундаментально от американских семей вообще. Но
распределение характерных черт и типов отличается в ряде аспектов от
статистических показателей для белых семей, и существуют значительные
различия в культурных, а также в поведенческих моделях. Например, чер
ные реже вступают в брак и в повторный брак, чем белые. Они стремятся
вступать в брак в несколько более старшем возрасте. Средний размер чер¬
ных семей, следуя общенациональной тенденции, с 1960 г. сократился,
но... был еще большим, чем семей белых"^. Наконец, профессор Г. Майерс
в 1982 г. полагал, что „афроамериканская семья по существу оказалась
принесенным в жертву менее удачным и безрадостным вариантом белой
семьи"^.
Другие противники „патологистов" писали об особой — гибкой и спо¬
собной приспособляться афроамериканской культуре, основанной на
двойном вкладе, — африканской исходной культурной основе, модифициро¬
ванной специфическим историческим взаимодействием с культурой и обще¬
ством белой Америки. Эта культура якобы и породила афроамериканские
семейные формы, обладающие особой гибкостью и прочностью. „Мы пола¬
гаем, что черную семейную систему следует рассматривать как африкан¬
скую по природе и американскую по воспитанию", — считает У. Ноблес^.
Существуют иные точки зрения, однако большинство исследователей
согласно в том, что афроамериканское население является сложным, высо-
костратифицированным комплексом, внутри которого существует не какой
43
то один тип моногамной семьи, а разнообразие семейных структур, имею¬
щихся на всех уровнях социально-экономической страты. Вместо характер¬
ного еще в 50—60-х годах акцента на межрасовые сравнения широко при¬
знается необходимость учета социально-классовых различий среди афроаме¬
риканских семей. В частности, социолог-афроамериканец Э. Биллингсли в
конце 60-х годов относил 10% их к высшему, 40% — к среднему и 50% —
к низшему классам, подробно охарактеризовав состав каждого. Последний,
например, он делил на три качественно различные социально-экономичес¬
кие группы: а) работающие небедняки — те, кто имеет постоянную работу
в промышленности, на транспорте, стройках; б) работающие бедняки — те,
кто работает тяжело и регулярно, но зарабатывает недостаточно, т.е. неква¬
лифицированные рабочие в промышленности, сфере сервиса, личном услу¬
жении и т.д., которых увольняют первыми, а нанимают последними; в) не¬
работающие бедняки, часто женщины — хронически безработные, составля¬
ющие от 15 до 20% низшего класса. Именно среди этой группы в те годы
проводилось большинство исследований семейной жизни в негритянских
кварталах, а результаты представлялись как характерные для всех афроаме¬
риканцев (другие авторы предлагали и более дифференцированную страти¬
фикацию семей низшего класса)".
В своей, по выражению Г. Майерса, „классической работе", Биллин¬
гсли предложил структурную модель негритянских семей, включающую
три основные формы: 1) исходная или нуклеариая семья, состоящая из му¬
жа, жены и детей; 2) расширенная (extended) семья, включающая также
других родных и иных родственников главы семьи, живущих вместе с чле¬
нами нуклеарной семьи; 3) увеличенная (augmented) семья, включающая
лиц, не являющихся родственниками главы семьи, но разделяющих жилье,
пищу, проблемы и заботы семейной жизни с нуклеарной семьей. Подразде¬
лив каждую из трех основных структурных форм на несколько различаю¬
щихся типов семьи, Биллингсли создал типологию, состоящую из 12 кате¬
горий, которую считал более точным изображением структурной сложнос¬
ти афроамериканской семьи. Примерно 2/g афроамериканских семей в то
время составляли нуклеарные, около '/4. — расширенные и V]Q увеличен¬
ные семьи"*.
Но в начале 80-х годов в нашумевшей книге „Третья волна" американ¬
ский футуролог и философ Э. Тоффлер писал: когда три исследователя по¬
пытались зарегистрировать разновидности семей, существовавшие в одном
из чикагских гетто, они обнаружили там „не менее 86 различных комбина¬
ций взрослых". И не случайно, замечает он далее, даже многие ортодок¬
сальные социологи стали приходить к выводу о том, что происходит пере¬
ход к новому обществу, характерная черта которого — многообразие семей¬
ных форм".
В 1981 г. 53,7% семейных черных хаусхолдов составляли полные
семьи, состоявшие из мужа и жены с собственными детьми, но в 80-х го¬
дах доля таких хаусхолдов сокращалась еще быстрее, чем в 70-х. В 1985 г.
она уменьшилась до 51,1% и в полных семьях жили только 39,5% черных
детей. К этому времени 43,7% черных семейных хаусхолдов возглавляла
женщина без мужа и 5,1% — мужчина без жены. Однако доля неполных
семей, возглавляемых мужчиной, невелика. Иное дело — неполные семьи во
главе с женщиной без мужа. Именно их динамика свидетельствует о том,
44
что структура семьи афроамериканцев за последние четверть века особенно
быстро менялась: в то время как доля полных семей сокращалась, доля не
полных во главе с женщиной без мужа в 60-х годах выросла на 20%, в
70-х — на 37%. Причем средний возраст этих женщин сократился с 43,8
лет в 1960 г. до 37,6 лет в 1980 г. В 80-х годах доля таких семей росла
быстрее даже не столько за счет разведенных и отделившихся женщин с
детьми либо с другими родственниками, сколько за счет внебрачных родов
у женщин, никогда не бывавших замужем. Так, в первой половине 80-х го
дов число черных семей, возглавляемых отделившейся или разведенной
женщиной, росло в среднем на 11,5 тыс. в год, тогда как возглавляемых
женщинами, которые никогда не были замужем, — почти на 167 тыс. Свя
зано это было прежде всего с подростковой беременностью".
Следует иметь в виду также, что ныне существует уже второе поколе
ние одиноких матерей-подростков, а их матерей в возрасте 30—35 лет на¬
зывают в США „группой МБ" — „молодых бабушек". Поскольку большая
доля последних так никогда и не была замужем, не имела возможности за¬
вершить среднее образование и пробиться выше по социальной лестнице,
они и во взрослом состоянии живут в бедности. В результате появилось
третье поколение детей, воспитываемых слабо подготовленными к такой
роли бабушками и матерями, часто также не окончившими средней школы,
неспособными получить постоянную работу и обеспечить уход за ребенком.
Одно из проведенных в США исследований показало, что матерям, ро
лившим до 18 лет, вдвое реже удается завершить среднее образование по
сравнению с теми, кто рожает впервые после 20 лет. Если даже отдельным
из них удастся выйти замуж, то юные мужчины, ставшие отцами до 18
лет, имеют на 40% меньше шансов завершить среднее образование, чем те,
кто подождал обзаводиться семьей. А без среднего образования в условиях
НТР и жестокой конкуренции на рынке труда ни те, ни другие не способ
ны найти работу, позволяющую прокормить семью. Уровень безработицы в
октябре 1985 г. у черных подростков-мужчин составлял 41,4%, женщин —
37,9, тогда как у взрослых афроамериканцев соответственно 18,8 и 15,5% ".
В результате большинство одиноких черных матерей-подростков, в том чис
ле и тех, кто время от времени работает, имеет меньшие профессионала
ный опыт, почасовую оплату и обречены на зависимость от социальных по
собий. В 1985 г. пособия получали З/5 всех черных матерей-подростков. Не
случайно новый директор исследовательского центра Национальной город¬
ской лиги (НГЛ) Д. Макги назвал неуклонный рост подростковой беремен
ности и его социальные последствия „самой серьезной проблемой, встав
шей перед черной общиной" в 80-х годах".
В 1980 г. 70% неполных черных семей, возглавляемых женщиной без
мужа, имели доход ниже уровня бедности, в том числе почти 40% их жили
на социальные пособия. Причем бедные семьи, возглавляемые черной жен
шиной, обычно еще беднее, чем живущие ниже уровня бедности семьи,
возглавляемые черным мужчиной, белой женщиной или белым мужчиной".
И если в 50—60-х годах армия черных бедняков пополнялась в основном за
счет безработных мужчин, то в 70—80-х — главным образом за счет жен
шин — глав семей без мужа.
Американцы с „легкой руки" социолога Дианы Пирс так и называют
это явление „феминизацией бедности", а некоторые политики даже объяви
45
ли быстрый рост числа возглавляемых женщиной без мужа черных семей
чуть ли не главной причиной растущей бедности и всех других проблем
афроамериканцев. Действительных причин большей бедности этих семей,
однако, много, и одна из них — процветающая в США половая и расовая
дискриминация в оплате труда. В 1986 г. средний доход семьи, возглавляе
мой черным мужчиной, составлял 71,3%, а семьи, возвглавляемой черной
женщиной, — 35,4% среднего дохода семьи, возглавляемой белым мужчи
ной. При этом следует иметь в виду, что, хотя доходы большинства непол
ных черных семей во главе с женщиной значительно ниже среднего дохода
подобных белых семей, средний численный состав их больше, чем у белых
семей. Алименты от бывшего мужа в 1982 г. получали лишь 34% имевших
на них право черных матерей**.
Уровень дохода, ежегодно определяемый официально (с учетом инфля
ции и роста потребительских цен) как „черта бедности", в 1985 г. состав
лял */3 дохода средней американской семьи, в том числе для семьи из че
тырех человек — около 11 тыс. долларов, из двух человек — около 7 тыс.,
одного человека — около 5,5 тыс. долларов. В среднем бюджет семьи из
двух человек, самой распространенной среди бедняков, составлял 4,8 тыс.
долл, в год или 400 долларов в месяц. Из них 40% тратилось на жилье и
предметы быта, 20% — на погашение задолженности по покупке в кредит
товаров и услуг, 10% — на выплату федеральных и местных налогов. Ос
тавшихся 30% — 120 долларов в день на человека — должно было хватить
на еду (1 кг сливочного масла стоил 4,6 долларов, мяса — 3—5, творога —
2—3, хлеба — 2, картофеля — 0,40, 1 л молока — 0,45 долларов) и транс¬
порт. Старые, уцененные модели телевизоров и другие бытовые приборы
приобретались в таких семьях за счет снижения потребления необходимых
товаров, продуктов и услуг. Отсюда — постоянные бреши в бюджете, хро¬
ническое недоедание, витаминное и белковое обеднение, некачественное
питание, желудочные и другие заболевания. Для таких семей недоступно
большинство современных социальных благ**.
Трагедией обернулась „феминизация бедности" для маленьких афроаме¬
риканцев. Если в 1960 г. с обоими родителями жило более % черных де¬
тей, то в середине 80-х в семьях, возглавляемых матерями-одиночками, жи¬
ли и в большинстве своем страдали от бедности уже более половины всех
черных детей. Авторы подготовленного в 1985 г. в федеральном конгрессе
США доклада подсчитали,что „средний черный ребенок может провести в
нищете 5 лет своей жизни, средний белый ребенок — 10 месяцев"**.
В 50—60-х годах американские социологи полагали, что расширенная
семья в США не только среди белых американцев , но и среди черных пос¬
тепенно уходит в прошлое. Однако в 70-х годах она привлекла сопровож
давшееся оживленными спорами внимание исследователей, ибо не только
не исчезла, но, наоборот, пережила своего рода возрождение, правда в
трансформированном виде: в то время как число черных семей, включавших
три-четыре поколения лиц, живших в одном хаусхолде, резко сократилось,
поддержка друг друга родственниками, живущими в разных хаусхолдах, от¬
нюдь не уменьшилась.
Например, доля черных детей (в том числе и рожденных вне брака), не
формально усыновленных, или на время принятых в хаусхолды бабушек и
дедушек, тетей и дядей, старших братьев и сестер за 9 лет (с 1970 по
46
1978 г.) выросла с 1,3 до 15%, а число их к 1980 г. достигло 1,4 млн, не
считая тех детей, которых родственники забирали к себе, кормили и уха¬
живали за ними, когда родители были заняты на работе либо болели. Как
показало обследование „Неформальное усыновление в черных семьях", про¬
веденное НГЛ в 1977 г., благодаря такой повседневной помощи в воспита¬
нии и заботе о детях и другим формам поддержки со стороны широкой се¬
ти родственников расширенная семья оказалась важным инструментом
социального и экономического выживания сотен тысяч черных семей в
труднейший для них период экономического кризиса 1974—1975 гг. Без
такой поддержки многие матери-подростки не смогли бы закончить школу,
а взрослые родители одиночки сохранить возможность работать. Именно на¬
личие системы взаимопомощи в рамках широкой сети родственников позво¬
лило переместить многих черных детей в более благоприятное для них ок¬
ружение^.
Иначе говоря, в новых условиях массовой миграции из сельских райо¬
нов и мелких городов в крупные промышленные центры черная расширен¬
ная семья, как показали в своих книгах, посвященных ее структуре и фун¬
кции, американские этносоциологи Э. и Д. Мартины, Д. и Э. Шимкины,
Д. Фрейт, К. Стэйк и др. (на основе ряда эмпирических исследований, ох¬
вативших в 70-х годах многие десятки черных расширенных семей в горо¬
дах и сельских районах Севера, Запада и Юга), трансформировалась, выйдя
за географические рамки одного хаусхолда, а нередко даже одного города и
штата. При этом сохраняются тесные социальные и экономические связи
всех ее „ответвлений" как между собой, так и особенно с „родоначальни-
ком" и главой семьи. Следует также отметить, что черная расширенная
семья никогда не была ограничена только кровными родственниками и не
редко включала ближайших друзей, выполнявших роли бабушек, тетушек и
даже матери и отца иногда более эффективно, чем самые близкие род¬
ственники. Обычно это имеет место в крупных городских общинах на Запа¬
де и Севере, где отдельные („субрасширенные") семьи живут вдали от ос¬
тальной родни".
О том, что взаимопомощь в афроамериканской расширенной семье от¬
нюдь не ограничивается воспитанием детей родственников, являясь жизнен¬
но важным фактором выживания и достижения определенного уровня бла¬
гополучия для семей многих черных бедняков, говорят и материалы иссле¬
дования „Черный пульс", проведенного НГЛ в масштабах всей страны в
1979—1980 гг. В частности, были опрошены 1100 черных женщин — глав
хаусхолдов без мужей, и 86% их сообщили, что имеют живущих в том же
городе родственников. Более З/4 этих женщин виделись со своими род¬
ственниками не менее раза в неделю, а остальные ежедневно. Это свиде¬
тельствует о прочных семейных связях, имеющих практическое значение
для материального, психологического и эмоционального благополучия жен¬
щин без мужей, глав хаусхолдов. Исследование показало, что между ними
и их родственниками существует широко разветвленная неформальная сис¬
тема взаимного обмена деньгами, вещами и услугами: 27% хаусхолдов одал¬
живают деньги родственникам, 28% хаусхолдов воспитывают детей род¬
ственников, 22% помогают родственникам из других хаусхолдов одеждой и
продуктами, а 17% получают их, 19% хаусхолдов оказывают родственникам
помощь транспортом и т.д. Столь интенсивная система неформальной под¬
47
держки в данном случае была обусловлена, по-видимому, экономической
необеспеченностью возглавляющих хаусхолды женщин без мужей, посколь¬
ку более половины их не имели работы и многие не получали социального
пособия. В таком же положении оказываются и одинокие старики родите¬
ли, которые не в состоянии прожить на мизерную пенсию**.
Значение системы родственных связей и интенсивной поддержки для
жизнеспособности афроамериканских семей в США вообще и семей черной
бедноты в частности ныне признает большинство исследователей. Они счи
тают ее уникальным эволюционным и адаптивным элементом, существен
ной частью семейных отношений афроамериканцев, „ключевой чертой", от¬
личающей их культуру от культуры большинства американцев. Правда, од¬
ни ученые полагают, что по мере повышения социального статуса отдель
ных семей родственные связи рвутся, по мнению других, большинство аф¬
роамериканских семей даже при переходе из разных слоев низшего класса
в средний сохраняют тесные связи с родителями, братьями, сестрами и
другой родней"*.
* * *
Длительное время в американской социологии был принят тезис „патоло¬
гистов" о том, что рабство помешало развитию прочных семейных форм у
рабов, обусловив появление у них и у первого поколения их свободных по
томков так называемой материнской, или матрифокальной, семьи. А это, в
свою очередь, якобы способствовало широкому распространению среди аф¬
роамериканцев в XX в. неполных семей во главе с женщиной, а в полных
семьях — наличию своеобразного матриархата. Однако противники „патоло¬
гистов" опровергли как концепцию матрифокальности негритянских семей
вообще, так и тезис о „матриархате" в их полных семьях.
Вопрос о преобладании влияния и власти в афроамериканской семье с
обоими супругами в 60—70-х годах был предметом многих эмпирических
исследований, охвативших сотни черных и белых семей рабочего и средне
го классов. Так, А. Миддлтон и С. Патни нашли, что I) большинство се
мей, как черных, так и белых, были эгалитарными; 2) в обеих социальных
группах эгалитарный характер имели больше черных семей; 3) наибольшее
число эгалитарных семей оказалось в черной группе из среднего класса, а
в черной группе из рабочего класса „матриархат" был обнаружен лишь в
двух семьях из десяти. Д. Мэк в своем исследовании пришел к выводу, что
уровень власти и влияния жены во всех четырех расово-половых группах в
общем выше, чем мужа. При этом наименьшим оно было в семьях черного
рабочего класса, а наибольшим — в семьях белого среднего класса. Однако
в рабочем классе мужья оказались несколько сильнее, чем в среднем. Поэ
тому социальный класс, по мнению Мэка, — более важный показатель при
определении степени влияния жены, чем раса^'.
Результаты более сложного изучения У. Тен-Хоутеном 550 черных и
белых полных семей показали большее влияние черных мужчин, чем бе
лых, и мужчин из низших социальных слоев, чем из среднего класса. Что
касается структуры супружеской власти, то среди семей были как патри¬
архальные, так и матриархальные, эгалитарно-автономные (равные и гармо¬
ничные) или эгалитарно-конфликтующие. Однако преобладание жены вооб¬
ще встречалось нечасто, особенно редко в черных семьях низшего класса.
48
Среди белых семей отмечалось меньше эгалитарно-автономных и больше —
с преобладанием отца. Другие семьи были по своему характеру в основном
эгалитарно-автономными".
Г. Хаймен и Д. Рид на материалах общенациональных обследований
также показали, что „доминирование жены" встречается и в семьях белых
американцев и отнюдь не является спецификой черных семей".
В то же время, отмечает социолог афроамериканец Р. Хилл, по мере
повышения в 70-х годах образовательного и профессионального уровня чер¬
ной женщины в некоторых семьях, особенно среднего класса, заметно уси¬
лилась напряженность между супругами, поскольку многие мужья сопро
тивляются стремлению жен играть с ними равную роль в семье"."Статус и
власть мужчины в афроамериканской семье, — резюмирует результаты мно¬
гих исследований Г. Майерс, — вероятно, значительно варьируют и зависят
от того, каково его положение с работой, с определением его личной роли
в семье, от индивидуальных качеств обоих супругов". По его мнению, чер
ные семьи не являются ни матриархальными, ни патологическими".
Что касается другого постулата „патологистов" — более низкого уровня
семейной стабильности у черных американцев, чем у белых, то опять-таки,
как свидельствуют эмпирические исследования 70—80-х годов, более низ
кая стабильность черной семьи — прямой результат гораздо большей эконо
мической уязвимости и психологической неустойчивости афроамериканцев
в условиях постоянного воздействия на их жизнь ранее институционного, а
ныне в той или в иной степени завуалированного, но все еще существую¬
щего повсеместно в стране расизма, призванного всячески ограничивать их
экономический потенциал. „Гораздо большая доля небелых пар, чем белых,
— пишут, опираясь на ряд исследований, X. Росс и И. Соухилл, — облада¬
ют почти всеми чертами, характерными для семейной нестабильности. Они
с большей вероятностью состоят из мужей с низким заработком и меньшим
имуществом, работающих жен, живут в трущобных кварталах больших го
родов. Еще важнее, что в последние годы для них был более характерен
высокий уровень безработицы, и это стало важнейшим показателем более
низкой стабильности небелых семей"".
Разумеется, прочность черной семьи подвергают испытанию и такие об
стоятельства, как уход мужчин в армию, участие в подпольных и других
незаконных операциях, заключение в тюрьму (которому черные, являясь
объектом дискриминационной политики, подвергаются гораздо чаще, чем
белые), но прежде всего — безработица. Черные теряют работу вдвое чаще,
что для семьи становится шоком не только финансовым, но и эмоциональ
ным, а длительная неспособность найти работу наносит ущерб престижу
супруга в глазах жены и его самооценке, нередко ведет к формальному ли
& фактическому прекращению брака. В обществе, где престиж человека
определяется величиной заработка, а женщины на вопрос, что они имеют в
виду под словами „настоящий мужчина", отвечают: „Тот, кто хорошо обес¬
печивает семью", — отец-бедняк, видя свою неспособность содержать
семью, нередко уходит из нее или просто исчезает, предоставив матери са
мой выходить из положения.
49
* * *
Важная роль принадлежит семье в социализации личности и формировании
ее духовных черт, в том числе социального и этнического самосознания.
Основным содержанием процесса социализации является передача (т.е. ос¬
воение и использование) каждому новому поколению социального опыта. И
хотя в наше время многие функции социализации перешли к специализиро-
ванным институтам общества, решающее влияние на личность ребенка ока¬
зывает семья. В XX в. средняя черная семья в США по своей численности
обычно была почти на треть больше средней белой прежде всего за счет
быстрого роста числа детей в черных гетто. Именно в них проживало в
70—80-х годах большинство афроамериканцев. За последние 60—70 лет там
успела сложиться своеобразная локальная городская культура, а носители
ее в большинстве своем представляют наименее экономически обеспечен
ную часть афроамериканцев.
Материнство в черных гетто почетный статус. Для многих женщин оно
— единственный надежный символ приличия, силы, стабильности, а дети —
своего рода страховка на случай безработицы, болезни, старости. Несмотря
на бедность, многие мужчины хотят, чтобы их жены имели больше детей и
не предохранялись, а некоторые, желая, видимо, доказать, что они „силь¬
ные мужчины", хвастают числом детей, которых от них имели женщины.
Сексуальная доблесть и сила — концепция с глубокими историческими и
психологическими корнями, показывающая, что, несмотря на века жестоко¬
го рабства и господства белого человека, черные мужчины выстояли.
Сопротивление политике и практике контроля над рождаемостью неза¬
мужняя мать трех детей в гетто Нового Орлеана выразила при опросе сле¬
дующим образом: „Все эти разговоры, которые мы сегодня слышим о пи¬
люлях, только новый заговор белых людей, чтобы избавиться от негров. С
тех пор, как я получила пособие по социальному обеспечению, белые док
тора и работники социального обеспечения упорно уговаривали меня делать
это для того, чтобы я не имела детей. Я знаю, что они об этом же говорят
и другим женщинам. Белые люди делают все, чтобы избавиться от нас. От
меня они этого не дождутся". Концепция — „наша сила в количестве" —
особенно популярна у молодежи: 50% опрошенных возражали против огра-
ничения размеров семьи, 80% (в том числе 94% мужчин) отвергли стерили¬
зацию, 88% — аборты^.
Обитатели черных гетто не только физически (в силу фактической жи¬
лищной расовой сегрегации), но и психологически отторгнуты от главного
потока жизни в городах, где они живут. Они хорошо знают, что белые аме¬
риканцы идентифицируют их с презираемой „субкультурой гетто", со сте¬
реотипами „лишенных культуры" и „социально ущербных" существ. Знают
обитатели гетто и то, что в американском бирасовом обществе все то, что
хорошо для людей подчиненной расы, вовсе не обязательно хорошо для гос¬
подствующей. Поэтому даже те, кто занимает „позолоченную" часть гетто,
стремятся, если нет особой необходимости, избегать контактов с белыми
американцами. Отдельные лица и семьи в гетто в силу условий, существу¬
ющих во все еще пропитанном расовыми предрассудками и расистскими
мифами „большом" американском обществе, жестко ограничены в реше
нии очень многих важнейших для их выживания проблем. И хотя критерии
социальной дифференциации и стратификации там не всегда уловимы для
50
постороннего наблюдателя, в гетто существует своя иерархия статусов и
различных социальных миров, в которых реализуется социализация молодо¬
го поколения. Основные среди них: полная нуклеарная семья, семья во гла¬
ве с женщиной без мужа, средний класс, шайка, маргинальность.
Для родителей в черных гетто проблема воспитания особенно сложна и
трудна, потому что их дети должны научиться жить и действовать в двух
не просто совершенно разных, но и конфликтующих социальных мирах —
„черном" и „белом". Поэтому они должны, с одной стороны, научиться то¬
му, как выжить и справляться с постоянными негативными проблемами в
гетто, а с другой — знать, как выжить и продвинуться вперед в мире, ори¬
ентированном на ценности среднего класса господствующего „большого
общества", от которого им придется зависеть в отношении работы и общей
обеспеченности.
Характерно, что наиболее общей заботой, выраженной родителями в но
воорлеанском гетто, был страх, связанный с тем, как бы их дети не оказа¬
лись под отрицательным влиянием детей соседних „ плохих" семей. Сама
же практика воспитания хотя и варьирует от одной семьи к другой, но в
целом ориентирована сугубо реалистически. Родители установили для себя
достаточно гибкий набор целей, которых должны и, по их мнению, могли
бы добиться их дети. Причем 2/g родителей считали своим долгом в ка
честве побуждения к этому применять в раннем детстве наряду с поощре¬
нием также и телесное наказание^.
Что касается родительской власти над детьми, то, по данным эмпири
ческих исследований, в полных семьях разных социальных слоев имеются
различия, но в черном низшем классе матери имеют большую власть, чем
отцы. Однако матери в таких семьях, как правило, работают и большую
часть дня отсутствуют дома, а это иногда приводит к пропуску детьми за
нятий в школе. В новоорлеанском гетто только 19% матерей закончили
среднюю школу и лишь 1% — колледж. Почти все они готовы были идти
на любые жертвы, чтобы их дети получили образование, однако рассматри¬
вали его чисто прагматически — как средство получения детьми, особенно
девочками, лучшей работы. Но большинство матерей, не говоря уже об от¬
цах, практически не способны были дать детям необходимый запас дош¬
кольных знаний. Поэтому, как правило, ребята из бедных семей отставали
интеллектуально еще до поступления в школу. И тем более родители в та
ких семьях не могли помочь своим детям в старших классах школы. В ре¬
зультате в Гарлеме, например, по свидетельству социолога афроамериканца
К. Кларка, в 3-м классе ученики отставали на год, к 6 классу — почти на
два года, а к 8 классу — на два с половиной года от среднего уровня уче¬
ников по Нью-Йорку и на три года от среднего уровня учащихся в целом
по стране. Исключение составляют дети из относительно зажиточных чер
ных семей и особенно из семей интеллигенции, где родители обычно сти
мулируют их духовное развитие и вообще отдают их воспитанию больше
времени, чем в семьях рабочих и рядовых служащих^.
Особое внимание американские социологи, однако, уделяют социализа¬
ции детей в неполных семьях, возглавляемых черной женщиной и традици
онно считающихся „разбитыми". На черную женщину, переживающую вину
за свой неудачный брак и неуверенную в будущем ребенка, ложится вся
ответственность, которую положено разделять обоим супругам: тяжелые ма
51
термальные заботы, воспитание и обучение. Все это отражается на ребенке.
Сочетание безотцовщины с хронической безработицей и нищетой не так уж
редко ведет ко многим тяжелым для значительной части молодежи в чер
ных гетто последствиям. С этим связан вдвое более высокий рост психоло¬
гической неустойчивости среди черных подростков.
Исследование „черный пульс" в числе 3 тыс. черных хаусхолдов вклю¬
чало 1100 хаусхолдов, возглавляемых женщиной без мужа. 41% этих жен¬
щин работали и почти З/g не работали. Лишь 5% последних получали посо¬
бие по безработице, 38% — пособие на детей, 10% — алименты (хотя детей
имели более Vg этих глав хаусхолдов). Однако, как показал социолог Д.
Щульц, поддержку семье черной женщины без мужа иногда оказывали
мужчины, которых он делит ( в порядке увеличения степени маргинальное
ти) на четыре типа: „друг", тесно связанный с матерью и ее детьми; отсут
ствующий биологический отец; любовник — „компаньон"; сводник, тип
крайне редкий, но воплощающий стереотип эксплуатирующего характера.
Роль этих мужчин в семье зависит от их положения с работой, дохода, же¬
лания взять на себя родительскую ответственность, веры женщины в их ис¬
кренность и способности. В целом такие мужчины играют важную, даже
если и косвенную, роль в жизни и „эффективности функционирования" по¬
добных семей*".
Тем не менее, поскольку более 2/g указанных семей жили в условиях
безработицы и бедности, это не могло не сказываться на положении и во¬
спитании детей, а также на характере взаимоотношений в семье, в т.ч.
между матерью и детьми. Хотя исследования подтверждают, что в среднем
афроамериканская семья, возглавляемая женщиной с низким доходом, забо¬
тится о своих детях не меньше, чем оказавшаяся в подобном положении бе¬
лая семья, в разных такого рода семьях существуют различные модели вое
питания детей. Одни матери эффективно заботятся о них, другие прилага-
ют большие усилия, но, видимо, не способны добиться многого; третьи со¬
всем не заботятся о своих детях, а если и пытаются как-то их воспитывать,
то результативность этих попыток невелика.
Наконец, исследования показали, что негативные последствия воспита
ния детей в неполных черных семьях вызваны не столько тем обстоятель-
ством, что в семье один родитель, сколько такими факторами, как социаль
но-экономический статус, образовательный уровень, личные возможности
оставшегося родителя и наличие поддержки со стороны расширенной
семьи и общины. Так, Р. Моррис сообщает, что многие афроамериканцы,
выросшие в семьях, возглавляемых женщиной, отнюдь не считают, что их
семья была „разбитой" (broken), ибо отцы, хотя и отсутствовали дома, про¬
должали играть важную роль в их жизни**.
От степени стабильности занятости, уровня доходов родителя, его или
ее образовательного уровня и личных качеств во многом зависит, в состоя
нии она или он успешно справиться со своими родительскими обязанности
ми. Качество и возможности поддержки со стороны родни из расширенной
семьи служат важным подспорьем в решении одинокими родителями своих
трудных проблем.
По мнению многих социологов, наличие обоих родителей само по себе
еще не делает семью прочной и здоровой, о чем говорит тот факт, что бо¬
лее трети таких семей распадается в результате разъезда или развода суп
52
ругов. В то же время многие семьи с одним родителем оказываются более
здоровыми, чем иные с двумя. Не случайно дети чаще убегают из „проч
ных", казалось бы, семей с обоими родителями , проживающими в приго
родах, чем из „разрушенных" семей с одним родителем, обитающих в гетто.
Социологи Г. и М. Фелдмены вообще считают, что социализирующая роль
отцов в американских семьях сравнительно невелика и неполные семьи
представляют собой такие же жизнестойкие семейные формы, как семьи
полные*^. По мнению Э. Тоффлера, несмотря на связанные с этим трудное
ти, жизнь в неполной семье для ребенка при определенных обстоятель-
ствах лучше, чем в полной, но потрясаемой постоянными ссорами**.
Разумеется, при всем том отсутствие мужской поведенческой и ролевой
модели, а также мужского контроля над дисциплиной подростка, особенно
в старшем возрасте, с увеличением внесемейных факторов социализации то¬
же не может не сказываться на нем, тем более что многие матери в первые
год-два после ухода мужа чувствуют себя подавленными и раздраженными,
нередко срывая свое раздражение на детях, подвергая их жестокой и ме¬
лочной опеке, что приводит к инфантилизму и пассивности у одних подрос
тков, к протесту, бунту, отклоняющемуся и антисоциальному поведению
(бессмысленный вандализм, ранние половые связи, хулиганство) у других.
В выборке исследования „черный пульс" более половины хаусхолдов,
возглавляемых женщинами, имели детей, в том числе 44% школьников.
Причем 28% этих семей имели детей, временно исключавшихся из школы,
а 8% — уже исключенных, что являлось крайней мерой. Проблема дисцип¬
лины в школе приобрела острый характер, ибо две из каждых пяти мате
рей приглашались туда по вопросу о поведении своих детей**.
Как в неполных, так и в полных афроамериканских семьях, особенно в
гетто, где большинство матерей работают по найму, многие дети дошколь¬
ного и школьного возрастов длительное время остаются без надзора. Не
случайно почти все родители со страхом думают о том, что их дети не су¬
меют противостоять соблазнам телевизора и улицы и, „упаси бог, попадут
в беду". Многие социологи все чаще связывают антисоциальное поведение
подростков не с их социальным происхождением и доходами семьи, а с
внесемейными факторами влияния — друзьями, школой, телевизором, ули¬
цей, роль которых в социализации детей ввиду резкого роста числа работа¬
ющих матерей неизмеримо возросла. Сотни тысяч черных подростков, пре
доставленных самим себе, сидят часами перед телевизором. В среднем аме
риканский школьник проводит у телевизора больше времени, чем в школе
за 12 лет учебы**.
Безнадзорные подростки в гетто прогуливают уроки в школе и слоня¬
ются по улицам, приобщаются к наркотикам, ставшим подлинным бедстви
ем в школах, втягиваются в антисоциальные, а то и преступные компании
сверстников и взрослых, столь характерные для трущобных кварталов. Со
общая о результатах упомянутого выше исследования в гетто Нового Орле
ана, Д. Томпсон пишет: «Во многих случаях родители заявляли, что над их
детьми издевались и регулярно угрожали им сверстники из соседних квар¬
талов за то, что они отказывались участвовать в антисоциальной и противо
законной деятельности. Это является особенно сильным „аргументом" для
мальчиков, которые часто вынуждены связываться с шайкой, чтобы защи¬
тить себя»**.
Для того чтобы быть принятым в такую шайку (gang), черный подрос
ток должен прежде всего „не быть бабой" (с чем ассоциируются „хорошие
манеры", уважение к моральному кодексу, стремление к „респектабельное
ти" и законопослушанию) и „показать себя мужчиной", что означает незави¬
симость, секретность, агрессивность, презрение к стандартам среднего
класса, сексуальную доблесть, ненависть к полиции и установленным авто¬
ритетам, особенно к авторитету женщины'?. В кварталах, где не только без
работная черная молодежь, но и взрослые мужчины демонстрируют драма¬
тические примеры антисоциального поведения, не всякий черный подрос¬
ток, не получающий внимания и тепла в родительском доме, устоит против
искушения примкнуть к такой же группе сверстников.
Трансформация в последние десятилетия главных институтов, на кото¬
рые ранее опиралась молодежь, прежде всего семьи и школы, ослабление
традиционных путей ее социализации привели к распространению среди
определенной части черных подростков и безработных, а поэтому экономи
чески ущербных молодых людей чувства отчужденности. Основными причи
нами этой, да и большинства других проблем афроамериканской семьи яв¬
ляются хотя и завуалированная, но все же существующая фактическая ра
совая дискриминация при найме на работу, продвижении по службе, в оп¬
лате труда и т.п., а также бытовой расизм, о чем пишут многие американ¬
ские социологи".
* * *
Особое место среди семей афроамериканцев занимают так называемые чер¬
но-белые семьи — продукт межрасовых браков между черными и белыми
американцами. В эпоху рабства правящая верхушка колоний, а поздее США
делали все, чтобы не допускать браков между черными (даже если они бы¬
ли свободны) и белыми. После ликвидации рабства законы о запрете меж¬
расовых браков отменили, и в годы Реконструкции даже на Юге заключа¬
лись многие сотни, а возможно, и тысячи таких браков. Однако на рубеже
XIX—XX вв. в рамках созданной для сохранения возможностей сверхэксплу
атации теперь уже „свободных" потомков черных рабов системы Джим
Кроу в южных (а позже и ряде северных и западных) штатах были приня¬
ты законы о запрете браков и внебрачных связей между белыми ^'цветны¬
ми". Накануне второй мировой войны в 31 штате (16 на Юге, 15 на Севере
и Западе) межрасовые браки под страхом наказания все еще запрещались
законом".
Точных данных о динамике численности межрасовых браков вообще и
черно-белых в частности по стране за первую половину XX в. нет, ибо по
давляющее большинство штатов материалов такой статистики не хранили и
не публиковали. За последние сто лет были проведены эмпирические ис¬
следования в ряде штатов и крупных городов. Но только в переписи
1960 г. появились данные о положении дел по стране в целом. До второй
мировой войны даже там, где не было законов о запрете черно-белых бра¬
ков, пара, заключившая такой брак, становилась объектом социального ос¬
тракизма со стороны белых, а иногда и черных общин, друзей и родни, ей
не сдавали квартир в белых кварталах, и жить приходилось в черной общи
не либо в периферийных зонах на границе между белыми районами и чер¬
ными гетто.
54
Положение стало меняться после второй мировой войны. Этому способ¬
ствовали возвращение многих солдат из стран Тихого и Индийского океана
с женами восточного происхождения, резко возросшие темпы урбанизации
афроамериканцев, увеличение притока в страну иностранных студентов, а
также иммигрантов из Азии и Латинской Америки, подъем самосознания
афроамериканцев, успехи в борьбе за равные гражданские права и законы
60-х годов о гражданских правах, ликвидировавшие юридическую структу¬
ру системы Джим Кроу и разделения рас. За время с 1940 пл 1965 г. бы¬
ли отменены законы о запрете межрасовых браков в 15 штатах и число
черно-белых браков возросло, хотя отношение к ним со стороны подавляю¬
щего большинства белых американцев все еще оставалось враждебным.
Перепись населения 1960 г. зарегистрировала в США 141,6 тыс. сме
шанных в расовом отношении пар, что составляло 0,4% всех брачных пар.
Лишь 51,4 тыс. из них, или 0,13%, были черно-белыми. В середине 60-х
годов из 1,8 млн в среднем ежегодно заключавшихся в США браков черно
белых было менее 2,4 тыс. Наконец, 12 июня 1967 г. Верховный суд США
принял решение, объявляющее законы о запрещении межрасовых браков,
существовавшие еще в 16 штатах, противоречащими конституции и недей¬
ствительными. Очередная перепись населения засвидетельствовала, что в
1970 г. число черно-белых пар было на 27% больше, чем в 1960 г., соста
вив 65 тыс. Еще более быстрым темпом оно росло в последующие 10 лет,
увеличившись в 1980 г. до 167 тыс., или 2,6 раза*.
Большинство проведенных с 1874 по 1965 г. эмпирических исследова¬
ний показало, что в черно-белых браках преобладали гипогамные, т.е. вклю
чающие черного мужчину и белую женщину, хотя некоторые исследования
(П. Якобсона и др.), а также перепись 1960 г. показали, что соотношение
численности черно-белых гипогамных и гипергамных (белый мужчина и
черная женщина) брачных пар оказалось 1:1 с незначительным превышени
ем последних. Зато перепись 1970 г. констатировала 41 тыс. гипогамных и
24 тыс. гипергамных пар, перепись 1980 г. соответственно 122 тыс. и 45
тыс. пар, данные 1986 г. — 136 тыс. гипогамных и 45 тыс. гипергамных
пар*'. Явное преобладание числа гипогамных черно-белых пар над гипергам¬
ными подтвердили и результаты проведенных в начале 70-х годов региональ¬
ных исследований профессора Алабамского университета Э. Портерфилда.
Проанализировав положение 40 черно-белых семей в двух северных и
двух южных городах, он обнаружил, что и в 70-х годах большинство их ис¬
пытывали неодобрение и враждебность со стороны окружающего общества.
Только восемь из этих семей (в том числе шесть гипергамных) сохранили
близкие отношения с белой общиной, соседями и друзьями. 12 семей сооб¬
щили, что в белой общине их подвергают остракизму и полной изоляции
все, включая соседей и бывших друзей. В черной общине 14 семей встре¬
тили положительную реакцию, 16 — нейтральную и 10 — отрицательную.
Из семей, живших преимущественно в белых кварталах, девять находились
в университетском городе Шампань-Урбана (Иллинойс) и одна в Кэмбридже
(Огайо). Другие семьи жили в черных либо относительно смешанных квар¬
талах. На Юге в Бирмингеме (Алабама) и Джэксоне (Миссисипи) все черно¬
белые семьи жили в черных кварталах*.
Новым оказалось не то, что к черно-белым семьям относились негатив
но в белых кварталах, а то, что они (особенно белые партнеры) в 70-х годах
55
испытывали враждебность к себе и в черных кварталах, причем особенно
со стороны афроамериканок (из-за нехватки мужчин в черной общине)".
В процессе воспитания своих детей большинство черно-белых семей
сталкивались со множеством проблем, непонятных тем, кто состоял в браке
с представителем своей расы. Дети-мулаты из за неопределенности их
идентификации нередко сталкивались с ситуациями, вызывавшими у них
реакцию вины и тревоги, ощущение незащищенности и эмоциональной нес¬
табильности. Кроме того, желая идентифицировать себя с обоими родителя¬
ми и разрываясь между лояльностью к ним обоим, они оказывались в очень
трудном положении. В результате у подростков часто развивалось чувство
недовольства против одного или обоих родителей".
Подводя итоги своих исследований, Э. Портерфилд вынужден был при¬
знать, что, несмотря на постепенно выявляющуюся тенденцию к ликвида¬
ции дискриминационных барьеров и ослаблению расовых предрассудков в
США, черно-белые браки все еще осуждались большинством белых амери¬
канцев". В 1986 г. число черно-белых пар в США составило 181 тыс., т.е.
0,35% всех брачных пар в стране". И уже сам этот показатель, свидетель¬
ствующий, как высок в стране уровень расовой эндогамии в области брач¬
ного отбора, говорит о том, насколько далека еще перспектива полной ин¬
теграции афроамериканцев в „большое" американское общество.
* * *
Создается впечатление, что целенаправленной федеральной политики укреп¬
ления семьи в США долгое время просто не существовало. Принятые в
60-х годах администрацией Л. Джонсона в рамках „войны с бедностью"
программы мероприятий по социальному обеспечению слабо финансирова¬
лись, оказались несистематичны, а поэтому и не очень эффективны. В
1976 г. более 50 федеральных социальных программ в области здравоохра¬
нения, образования, помощи безработным и семьям, жившим в бедности,
были урезаны, либо упразднены".
В то же время правящие круги, широко используя средства манипули¬
рования общественным сознанием, внедряли и закрепляли в нем искажен¬
ные представления о беднейших слоях, об их семьях и специфических
проблемах. Буржуазная пресса и некоторые политики распространяли те¬
зис о том, будто беднякам удобнее получать дотации, чем работать. Но, хо¬
тя это утверждение и не всегда безосновательно, сама система социальных
пособий по бедности построена так, что часто ведет к распаду семей бед¬
няков. Например, в ряде случаев пособие на детей оказывается более су¬
щественным, если семью возглавляет мать-одиночка, чем если в ней имеет¬
ся хронически безработный и потерявший право на пособие по безработице
отец. В таких случаях отец-муж предпочитает лучше скрываться, чем вы¬
нуждать голодать остальных членов семьи". Некоторые не имеющие квали¬
фикации матери-одиночки предпочитают жить на пособия, нежели на гро¬
ши от временных заработков. Привлекая внимание к росту среди афроаме¬
риканцев числа таких матерей-одиночек, живущих на социальные пособия,
и спекулируя на этом обстоятельстве, консервативные элементы обвиняют
всех черных в падении нравов и расшатывании института семьи. В созна¬
нии среднего американца исподволь, но весьма целеустремленно формиро¬
56
вался стереотип не желавшего работать, но имевшего кусок хлеба черного
бедняка, аморального и готового на любое преступление".
Между тем службы социального обеспечения ставят получателей посо
бий под свой прямой контроль, имея возможность вмешиваться в личную
жизнь людей, следить за их поведением, характером их расходов и даже
указывать, сколько они могут тратить на пищу, одежду, жилище и т.д. Чи¬
новники этих служб следят за своими „подопечными", собирают сведения о
них от соседей и в любое время суток могут проверить, кто посещает по
лучающую пособие на детей мать-одиночку, не вернулся ли в семью отец и
т.д. Более того, эти службы занимаются „планированием семьи", в том чис
ле принудительной стерилизацией женщин из семей бедняков, направлен
ной прежде всего на ограничение рождаемости афроамериканцев, чиканос,
пуэрториканцев"".
Неудивительно, что неимущие американцы — белые и темнокожие —
выступают против подобной политики властей. Целями состоявшейся в
1977 г. Национальной конференции женщин были провозглашены ликвида
ция всех проявлений расового и полового неравенства, а также принятие
целого ряда мер, направленных на обеспечение положения черных женщин,
их семей и детей. Администрация Д. Картера (1977—1980) вынуждена бы¬
ла повысить размер пособий на детей в семьях бедняков, а также инвали¬
дам и престарелым, одиноким родителям. Однако, хотя эти пособия все
еще были далеки от удовлетворения многих важных потребностей неиму
щих семей, администрация Р. Рейгана резко сократила ассигнования на
многие принятые ранее программы социального обеспечения трудящихся и
помощи беднякам, доля которых среди афроамериканцев в 80-х годах замет¬
но увеличилась.
Ряд штатов (в том числе Мэриленд и Нью-Йорк) предпринимают некото
рые меры, призванные ослабить последствия угрожающего роста масшта¬
бов подростковой беременности и матерей-одиночек, а в штате Висконсин в
1985 г. был принят закон об ответственности родителей за своих детей до
18 лет, имеющих младенца, и обязанности этих родителей участвовать в
оплате издержек по воспитанию внебрачного ребенка. Закон предусматри
вает также ассигнование 1 млн долларов в год на финансирование консуль
таций, поликлиник и больниц для беременных девушек-подростков"". Одна
ко на федеральном уровне в целом эта проблема так и не нашла своего ре
шения.
* * *
Представленный выше материал свидетельствует, что:
1. Афроамериканские семьи в США являются сложными социальными
системами с некоторыми особенностями структуры и внутренней динами
ки, а также с широкой сетью родственников и черной общиной.
2. Структура, стабильность и функционирование этих семей в большой
степени зависит от экономических и социальных факторов, влияющих на
занятость как черных мужчин, так и женщин, многие из которых оказались
главами семьи, но без мужа.
3. Популярные в 50—60-х годах концепции о „матриархальной" природе
и матрифокальной структуре афроамериканских семей ошибочны, ибо по¬
следние в большинстве своем эгалитарны.
57
4. Статус и власть мужчины в них значительно варьируют и зависят от
его положения с работой, роли в семье и личных качеств супругов.
5. Системы расширенного родства и поддержки родственников сыграли
и продолжают играть важную роль в выживании, жизнеспособности и
прогрессе афроамериканцев.
* Си;/иая Я. The Black family in slavery and freedom, 1750—1925. N.Y., 1976. P. 34, 51, 89—
90, 123—139, 145, 149; Mem. Family and kinship groupings among enslaved Afro-Americans
on the South Caroline Good Hope plantation: 1760—1860 // Comparative Perspectives on
Slavery in New World Plantation Societies / Ed. V.Rubin, A.Tuden. N.Y., 1977. P. 242—252;
The Afro-American family: Assessment, treatment and research issues. N.Y., 1982. P. 10.
3 ' Frazer F.F. The Negro in the United States. N.Y., 1957. P. 629.
< й/адмядя/я^ V.W. The slave community. N.Y., 1975. P. 475; См?/яая Я. The Black family... P.
425—431; The Afro-American family... P. 8.
' Frazer F.F. The Negro... P. 628; йга/я L., С/еяя Я. The transformation of the Negro American.
N.Y., 1965. P. 15—18.
'йййядл/gy A, Gravammy 7. Children of the Storm: Black children and American child welfare.
N.Y., 1972. P. 131—137, 177—209; Яй/ Я. Informal adoption among black families. W., (N
111), 1971; Mg/я. The Strengths of black families. W., 1971. P. 6—8,43.
^ ТАа/яруая DC. Sociology of the Black Experience. Westport, 1975. P. 67; The Social and
Economic status of the Black population in the United States: a historical view, 1790—1978 (Да¬
лее: SESBP. 1790—1978). W., 1979. P. 9, 10, 13, 14, 17; Statistical Abstract of the United
States (Далее: SA) — 1972. P. 24—29.
' СмЫяая Я. The Black family... P. 455—456; Яа//я^л М?г?ая F. Restoring the traditional Black
family // New York Times Magazine. 1985. 2.VI. P. 93.
" Dra%g Д., Сяу;<?я Я. Black Metropolis: a study of Negro life in a Northern city. N.Y., 1945. P.
590; йгаа/яС., С/^яяЯ. Op. cit. P.15, 17—18; Fraz/grF.F. The Negro... P.243—247,298,
340—341.
SESBP. 1790—1978. P. 75; SA-1979. P. 415; U.S. News and World Report. 1965. 13.XII. P. 69.
" SA-1972. P. 26; SA-1979. P. 23.
и Vavas 7.Я. Discrimination, U.S.A. N.Y., 1962. P. 118; CPR. 1972. Ser. P-23. N 42. P. 13, 18.
" SESBP. 1790—1978. P. 6, 21; SA-1965. P. 216; SA-1975. P. 119, 120. Labor Fact Book-17.
N.Y., 1965. P. 73.
" Ажумрсем Женщины и американская демократия. М., 1976. С. 8: Dgg/gr CJV.
Af Women and the Family in America from Revolution to the Present. N.Y., 1980. Ch-s
XV-XVII; SA-1972. P. 217.
" Labor Fact Book—17. P. 32-33; 72; SESBP-1974. W., 1975. P. 74.
PgMigrgw A. A profile of the Negro American. Princeton, 1964. P. 16; Уамяд W. To be equal.
N.Y., 1964. P. 25; Fortune. March 1962. P. 91.
" The Negro Family... P. 24—27,36; SA-1975. P. 391; SA-1984. P. 47.
" Saturday Evening Post. 1965. 18.ХП. P. 32.
The Negro Family... P. 21,27.
* й'яМеяйбгд F.D., Лся/яая ЯЖ. These United States. N.Y., 1965. P. 226; The Negro family... P.
79; SESBP, 1790—1978. P. 109.
Dra%g S., Сау;зя Я. Op. cit. P. 531—559; Frazer F.F; Black bourgeoisie. N.Y., 1965. P. 53,
127, 223; Idem. The Negro... P. 443; Саг&ж M. Assimilation in American Life. N.Y., 1964. P.
172—173; йййядл/gy A. Black families in White America. Englewood Cliffs, 1968. P. 9—10;
Scaaz^y 7.Я. The Black family in Modem Society. Boston, 1971.
= SESBP. 1790—1978. P. 103, 130; The Negro Family... P. 9.
" Look. 1962. 10.1V. P. 29; Frazier E.F. The Negro... P. 634—636.
* SA-1982—1983. P.- 21,22—24; America's Black Population: 1970-1982. W., 1983. P. 11.
* CPR. 1981. Ser. P-25, N 904. P. 1—2; American Demography. 1983. Vol. 5, N 7. P. 19—21,
42-^13; Journal of Geography. 1983. Vol. 82, N 3. P. 94—102; SA-1985. P. 31.
58
* The State of Black America-1980 (Далее: SBA—). W., 1980. P. 27—38, 41—43, 45, 55; SA
1979. P. 144,415; SA-1984. P.463; SA-1985. P. 32; SA-1988. P. 427.
^ American Demography. 1983. Vol. 5, N 7. P.15—18; America's Black Population... P. 4;
SA-1984. P.405, 465; СЛ^гйя A. Marriage, Divorce, Remarriage. Cambridge, 1981.
P. 104—105.
"За рубежом. 1987. № 24. C.ll.
" CPR. 1980. Ser. P-20, N 350. P. 36; U.S. News and World Report.1980. 4.У1П. P. 47-—19;
Public Opinion. 1984. December-January. P. 27; Journal of Human Resources. 1985. Vol. 20, N
2. P. 242—246.
" CPR. 1980. Ser. P-20, N 350. P. 29; America's Black Population...P. 9; SA-1986. P. 392, 397,
406; SA-1988. P. 381.
" SBA-1980. P. 36, 51; The American Family: Dying or Developing. N.Y., 1979. P. 88; American
Demography. 1985. Vol. 7, N 10. P. 23—27; Economic Bulletin for Europe. 1985. Vol. 37, N 1.
P. 43-47; SA-1985. P. 409,422.
i The Review Economics and Statistics. 1983. Vol. 65, N 4. P. 570, 578; SA-1984. P. 469; SA-
1988. P. 432.
" Т/имярлзя D C. Op. cit. P. 97.
* The American Family. Dying... P. 85.
" U.S. News and World Report. 1986. 17.П1. P. 18.
* The New York Times Magazine. 1985. 2.VI. P. 93, 96.
" SBA-1983. P. 129,132—133.
" Ibid. P. 120—131; Monthly Labor Review. 1980. Vol. 103, N 8. P. 17—21; WaMace PA. Black
Women in the Labor Force. Cambridge, 1981. P. 23—27.
" SBA-1983. P. 121,123—124,126—130.
<° SA-1984. P. 44; SA-1986. P. 37; SA-1988. P. 41; CPR. 1982. Ser. P.-20, N 372. 7—9.
" CPR. 1977. Ser. P-25, N 643. P. 5; PA. A demographer looks at American families //
Journal of Marriage and the Family. 1975. Febr. Vol. 37, N 1. P. 17; Black women in white
America / Ed. G.Lemer. N.Y., 1972. P. 597; SA-1986. P. 28; SA-1988. P. 17.
* CPR. 1985. Ser. P.-20, N 399. P. 1—27.
" SESBP—1974. W., 1975. P. 115; CPR. 1985. Ser.P-25, N 965. P. 1; America's Black
Population... P. 20; The New York Times Magazine. 1985. 2.V. P. 43.
* Population Bulletin. 1975. Vol. 30,4. P. 20—24; Social Biology. 1980. Vol. 27, N 4. P. 251—
260; Demography. 1984. Vol. 21, N 4. P. 596—611.
" SBA-1985. P. 58; SA-1984. P. 45; The challenge change. N.Y., 1983. P. 181—198.
** CPR. 1976. Ser. P-20, N 297. P. 11, 21; The challenge change. P. 181—198.
*7 Population and Development Review. 1985. Vol. 11, N 2. P. 199, 206.
* SBA-1980. P. 46,47; SBA-1986. P. 70; SA-1984. P. 54; The Afro-American Family... P. 61.
* SBA-1986. P. 73; SBA-1990. P. 63; American Demography. 1984. Vol. 6, N 1. P. 21—25; 1986.
Vol. 8, N 3. P. 42, 44—45; /M/ 7?. The Strengths of Black families. P. 43-^4; Tne New York
Times Magazine. 1985. 2.VI. P. 49; SA-1988. P. 62.
" SBA-1980. P. 46; CPR. 1984. Ser. P-20. N 380. P. 53, 54; The Afro-American Family... P.
61—62; WMe Г.Я. America in Search of Itself. N.Y., 1982. P. 355—357; SA-1988. P. 48.
" CPR. 1983. Ser. P-20. N 381. P.2, 195; Дырьямоза Of. Кризис американской семьи.
Минск, 1986. С. 43.
RSA-1982—1983.Р. 46.
" УясАлзя VJ. Family and Ideology // Comparative Studies of Blacks and Whites in the United
States / Ed. K.S. Miller, R.M.Dreger. N.Y., 1973. P. 407, 440. См. также: Heis J. The Case of
the Black Family: A sociological inquiry. N.Y., 1975. P. 227.
* Мс(3мзея д g adaptations of urban black families: Trends, problems and issues // The
American Family. Dying... P. 86.
" The Afro-American family... P. 44.
* Мэ№л W.W. Toward an Emphirical and theoretical framework for defining Black families //
Journal of Marriage and the Family. 1978. Vol. 40, N 4. P. 684.
^ Дййядл/зу A. Black families in white America. Englewood Cliffs, 1968. P. 122—146. См. так¬
59
же: Class, Status and Power. N.Y., 1970. P. 38—55.
"ВИйпдл/еу A. Op. cit. P. 16—21.
* Toiler A. The Tlurd wave. Toronto, 1981. P. 215.
"SA-1982—1983. P.46; SA-1986. P.74; SA-1987. P.43; SA-1988. P.44, 50; SBA-1983.
P.40,117.
" SBA-1986. P. 72.
" SBA-1986. P. 72,74; SBA-1983. P. 19.
" SBA-1983. P. 118—119; CPR. 1984. Ser. P-20, N 388. P. 151; American Demography. 1986.
Vo!.8,Nl.P. 46,48.
* CPR. 1981. Ser. P-23, N 112. P. 11, 32, 35; 1985. Ser. P-23, N 140. P. 7; SBA-1983. P. 153; SA-
1988. P. 428.
"США: Экономика, политика, идеология. 1988. № 3. С. 21 22.
" SA-1984. Р. 53, 54; SA-1986. Р. 43; CPR. 1983. Ser. Р-20. N 380. Р. 5; The New York Times
Magazine. 1985. 2.VI. P. 79.
" SB A-1980. P. 48—50, 58; Мягйп E.P., Мягйп 7.M. The Black extended family. Chicago, 1978.
P. 41—48; The extended family in black societies. The Hague, 1978. P. 25—142.
" SB A—1980. P. 50; The extended family in black societies. P. 67, 109, 128, 140, 314; Мягйп
E.P., Мягйп7.М. Op. cit. P. 8—9,17—21, 85—86.
* SBA-1980. P. 51—51; 1985. P. 53, 67.
ЯеглДоуйл M. Myth of the Negro Past. Boston, 1958. P. 171—172; /Jem. The new world Negro.
Bloomington, 1966. P. 33; Ая7яег 7. Tomorrow's Tomorrow. N.Y., 1971. P.4—5; AM/ Я. The
Strengths of Black families. P. 5—8; 5гяс% C. All our kin. N.Y., 1974. P. 28, 31; Мягйп E.P.,
Мягйп V.M. Op. cit. P. 71—80; The extended family in black societies. P. 33, 113, 129, 141, 391,
393, 396; Journal of Marriage and the Family. 1978. Vol. 40, N 4. P. 761—776; Psychology
Today. 1979. May. Vol. 12, N 12. P. 67—70, 79—100; SBA-1980.
ч American Journal of Sociology. 1960. Vol. 65, N 6. P. 605—609; The Black family: essays and
studies. Belmont, 1978. P. 144—149.
" Psychiatry. 1970. Vol. 33, N 2. P. 145—173.
" Black Matriarchy Reconsidered // Public Opinion Quarterly. 1969. Vol. 33, N 3. P. 346—354;
The family life of Black people / Ed. C.V.Willie. Columbus, 1970; Journal of Marriage and the
Family. 1978. Vol. 40, N 4. P. 691—693, 749—759; Journal of Black Studies. 1976. Vol. 7. P.
107—127; Family Life Coordinator. 1972. Vol. 21. P.21—27; The Challenge of Change.
P. 297—310.
SBA-1980. P. 53.
" The Afro-American family... P. 54, 57, 63.
7* Волл Я., Ляу^/ий 7. Time of Transition: the growth of families headed by women. W., 1975. P. 6.
^ 77ю;прлоп DC. Op.cit. P. 81—86; Journal of Marriage and the Family. 1971. Vol. 33, N 1. P.
134; U.S. Population Reference Bureau. Selection. 1971. N 37. P. 5—2.
" ГАо/ярлоя DC. Op. cit. P. 74, 80, 88—90,111—112,116—117.
7* Ibid. P. 107—111; The Afro-American Family... P. 58—59; С/ягА Я. Dark Ghetto. N.Y.,
1965. P. 121; Bowen D.B. Investment in Learning the individual and social value of American
higher education. San Francisco, 1978. P. 198.
" The Afro-American Family... P. 55; SBA-1985. P. 46—49, 60—63.
** The Afro-American Family... P. 55—56.
США глазами американских социологов. М., 1982. Кн. I. С. 73.
" 7o/?7er A. Op. cit. Р. 214.
" The Time. 1977. 29.VIB. Р. 37; U.S. News and World Report. 1984. 9.1. P. 59; 1984. 6.VIB.
P. 48.
* ГАбУярлоп DC. Op. cit. P. 112—113.
*7 Ibid. P. 113—114; SBA-1986. P. 75; The American Family: Dying... P. 126, 129.
** The American Family: Dying... P. 99, 105; Heiss J. The Case of Black Family. N.Y., 1975. P.
228—229.
* Benner L. Before the Mayflower: A History of Black America. Chicago, 1969. P. 263—264;
60
Wt/йа/ялая У. New People, Miscegenation and Mulattoes in the United States. N.Y., 1984. P.
188—190; Подробно о -черно белых браках, см.: ТУм/побурл 3.JE „Черно белые"
смешанные браки в США // „Сов. этнография". 1989. № 1. С. 100-110.
" U.S. News and World Report. 1967. 26.V. P. 25; Яеял^Е. Op. cit. P. 271; Social Forces. 1963.
Dec. Vol. 42, N 2. P. 156—165; The Time. 1970. 6.1V. P. 52; Social Biology. 1970. Vol. 17, N
4. P. 292-298; SA-1987. P. 39.
*' Carter //., С/к% E. Marriage and Divorce. Cambridge, 1976. P. 119—180; SA-1988. P. 40; Ги
погамия — форма смешанного брака, когда мужчина женится на женщине, облада
ющей более высоким статусом, и тем самым поднимает свой статус (раса, класс,
каста). Гипергамия — смешанный брак, когда женщина выходит замуж за мужчину
с более высоким статусом.
** P(?rte/^e/y Е. Black and white mixed marriages. Chicago, 1978. P. 126—130, 136.
" Ibid. P. 140—148; Black women in white America. P. 584, 597.
* Сог&уя A. Intermarriage. Boston, 1964. P. 333—334; Яеггу Я. Race and Ethnic relations.
Boston, 1965. P. 280, 291, 292.
* Porter/teM E. Op. cit. P. 141—142, 144, 149.
* SA-1988. P. 40.
^ЕеялД. Poverty: America's Enduring Paradox. N.Y., 1971. P. 311—315, 321—330.
*CLUA. Экономика, политика, идеология (Далее: США. ЭПИ). 1978. № 2. С. 20-
22; 1981. И 2. С. 70; 1989. И 10. С. 23-24.
" США. ЭПИ. 1978. № 2. С. 19-20.
"" Там же. С. 19-20, 22.
"" The Afro-American Family... Р. 61; SB А—1985. Р. 54; 1986. Р. 76—81; The New York Times
Magazine. 1985.2.VI. P. 95; New York Times. 1985. 14.XI.
Индейцы в США
Я.71 С/яельмаж
Семья американских индейцев изучалась на протяжении столетий широко
и разнообразно. Однако это касается исключительно традиционных ее форм
или их остатков, бытовавших в так называемой дорезервационный период.
И нельзя не пожалеть, что семейные отношения у коренного населения в
современный период практически не анализировались. В настоящее время
при огромном количестве социологических и демографических обследова¬
ний семьи в США как таковой вопросы, связанные с индейской семьей,
почти не освещены. Из работ, наиболее подробно затрагивающих интересу¬
ющую нас проблему, можно выделить статьи американских ученых Э. Уэр-
хефтига и Л. Раффинг, а также советского этнографа С.В. Чешко. Те мате¬
риалы о современной семье индейцев, которые все же можно извлечь из
американской статистики, официальных документов и этнографических ра¬
бот, привлечены нами максимально*.
Целесообразно предварить статью следующим комментарием. Семья nit
дейцев по определению, используемому в переписях населения США,
представляет группу совместно проживающих людей, связанных супружес
кими отношениями (зарегистрированными либо незарегистрированными)
или отношениями „родители—дети". Наряду с этим единицей социодемогра-
фического обследования является также хаусхолд (домохозяйство), т.е. лицо
61
или группа лиц, занимающих отдельное жилище. Таким образом, семья мо
жет насчитывать минимально два человека, а хаусхолд может состоять и из
одинокого человека, и из семьи в общепринятом понимании этого термина,
и, наконец, из таких объединений, в которых живут близкие и дальние
родственники, и т.п.
К началу нашего столетия семья стала основой социальной организации
коренных американцев, если не вытеснив полностью, то по крайней мере
резко уменьшив значимость рода. Переселение индейцев в резервации, за¬
вершившееся в целом к 80-м годам XIX в., внедрение в общины законода
тельным порядком частного землевладения, сломав традиционные хозяй
ственные модели тех или иных племен, уничтожили родовые коллективы
как экономические ячейки. Их место заняла семья, а точнее, хаусхолд. И
хотя отдельные пережитки родовой организации у некоторых индейских на
родов в определенной степени обнаруживались до начала 60-х годов XX в.,
упомянутое исследование С.В. Чешко убедительно показало, что ее функци-
опальная роль была символической.
Если систематизировать имеющиеся на первое десятилетие нашего века
крайне фрагментарные данные по индейским хаусхолдам, что мы увидим,
что обычно они состояли из расширенной семьи, которая в то время встре¬
чалась в двух типологических вариантах. Первый — это полигамный брач
ный союз. К 1910 г. у американских индейцев зафиксировано около 490
таких семей; все они были полигиническими. В основном полигамные бра¬
ки были распространены среди навахов, на долю которых приходилось бо¬
лее 90% подобных союзов. Основная причина устойчивости полигамии у
навахов — сохранение практики наследования скота по женской линии.
Чтобы стать владельцем крупного стада, мужчина должен был вступать в
брак одновременно с несколькими женщинами^. Однако уже в те годы по¬
лигамия, по словам очевидца — агента резервации навахов, „становилась
непопулярной и уходящей формой брака", оставаясь уделом лиц старшего
поколения^. Достаточно сказать, что среди молодых индейцев, не достигших
30-летнего возраста, в полигамных браках в начале столетия состояло всего
80 человек; в целом же полигамные семьи насчитывали менее 2% общего
числа индейских семей. Кроме навахов, единичные случаи полигамных бра¬
ков отмечались у тетонов, апачей, блэкфутов, кайова и северных чейенов*.
Вторым, доминировавшим вариантом семейного союза у коренного насе
ления США в первой половине XX в. была брачная пара с несколькими
(как правило, тремя) поколениями родственников. Указанный тип в целом
был сходен с общеамериканским типом сельской семьи, однако он имел
ряд характерных черт, в совокупности составляющих некоторую специфику
индейского семейного коллектива. Прежде всего это касалось его состава.
Обычно в расширенную семью индейцев, помимо родителей и их нежена
тых детей, входили не только старшие женатые дети, имевшие собственное
потомство, но и иные родственники ее главы, в том числе и приемные^. В
условиях, когда основой жизнеобеспечения коренных жителей страны явля
лось сельское хозяйство и вся тяжесть экономической деятельности ложи
лась непосредственно на семейный коллектив, неразделенная семья индей
цев сохраняла на протяжении всего периода до второй мировой войны зна
чительную устойчивость. В этой связи очень характерны данные переписи
населения США 1940 г., из которых явствует, что в каждой зарегистриро
62
ванной индейской семье, кроме ее ядра, проживало в среднем 3,8 род¬
ственников". Таким образом, расширенная семья оставалась типичным ком¬
понентом социальной жизни индейцев дольше, чем остальных их со¬
граждан.
Определенное своеобразие отличало семью коренных жителей в сфере
брачно-семейных отношений. В предвоенное время в ней, пожалуй, в наи¬
большей степени сохранялись пережитки родовых норм и этнические тра¬
диции дорезервационного периода. Так, например, у калифорнийских майду
вплоть до 30-х годов бытовал обычай, по которому молодые супруги после
вступления в брак обязаны были жить с родителями жены около полугода.
У их соседей — йокутс — в те же годы отмечались признаки родовой экзо¬
гамии. Индейцы Большого Бассейна, особенно шошоны, довольно широко
практиковали крос-кузенные браки. У народов Юго-Запада США — хопи,
пуэбло — существовали матрилинейный счет родства и матрилокальность
поселения. Аналогичные явления в 40-е годы зафиксированы и у фоксов
Айовы^.
Что касается среднего возраста вступления в брак, то по этому показа¬
телю индейцы США существенно не отличались от остальных жителей
страны. Накануне второй мировой войны он составил около 20 лет для
женщин и 25 лет для мужчин*. Однако в начале XX в. у отдельных корен¬
ных народов иногда все же наблюдали браки, заключенные в детском воз¬
расте. „Хотя индейцы не более аморальны, чем другие люди , — отмечалось
в документах того времени, — среди них практикуются безобразные вещи...
наихудшая из которых выдача замуж девочек. Ребенка в возрасте 10—13
лет продают 40—50-летнему мужчине за несколько голов пони Впрочем,
уже в то время подобные явления носили единичный характер: перепись
1910 г. выявила всего 44 случая, когда девушка моложе 15 лет состояла в
браке'".
В целом же брачность у коренных американцев была на высоком уров¬
не. На протяжении первой половины XX в. доля женатых мужчин старше
18 лет составляла 54%, а женщин соответственно — 60%". Браки, как пра¬
вило, регистрировались у агента соответствующей резервации, значительно
реже — в церкви. Правда, в начале века имели место случаи уклонения
многих супружеских пар от официальной регистрации своего союза. При¬
чина заключалась в необходимости оплаты юридических формальностей,
которой индейцы старались избежать. Но под давлением американских
властей процедура регистрации брака по законам США стала нормой и для
коренного населения'*.
По таковому показателю, как разводы, ситуация в индейских семьях в
общем-то соответствовала нормам сельского патриархального общества, це¬
ментировавшего брак в силу экономической необходимости, что отчасти
подтверждается данными статистики. 8 начале XX столетия среди жителей
резерваций доля лиц, состоявших в разводе, не превышала 0.5% для муж¬
чин и 0,7% для женщин. К 1940 г. она, правда, возросла соответственно до
1,4 и 1,9%'*. Эти более чем благополучные статистические данные, естес¬
твенно, не могли отражать фактический распад семей без официальной бра¬
коразводной процедуры. Вероятность подобных случаев, на наш взгляд, бы¬
ла достаточно велика, если учесть, что коренные народы в то время сравни¬
тельно терпимо относились к до- и внебрачным сексуальным связям'*.
63
В первой половине нашего века индейские семьи отличал высокий уро¬
вень детности. Ценностные установки коренных американцев стимулирова¬
ли материнство. „Индеанка, замужняя и незамужняя, всегда хочет иметь ре¬
бенка, даже если у нее нет ни гроша за душой и она будет вынуждена пе¬
ленать его в тряпье. Она не стыдится родов... которые происходят порой на
глазах других детей, а они — в курсе того, что происходит с их матерью,
когда она собирается иметь еще одного ребенка", — свидетельствовал аме¬
риканский публицист, занимавшийся изучением жизни в индейских общи¬
нах в конце 20-х годов'*. Вследствие подобных установок показатели рож¬
даемости у коренных американцев в предвоенный период оставались ста¬
бильно высокими, и в среднем на каждую женщину в фертильном возрасте
приходилось по четверо детей'*. Велика была и доля многодетных семей:
почти в 40% всех семейных коллективов росло более чем по пять детей.
Если к ним добавить 45% семей с тремя-четырьмя детьми, то на долю ма¬
лодетных оставалось всего 15%". Иными словами, воспроизводство индей¬
цев носило ярко выраженный расширенный характер, и можно было бы
ожидать очень быстрых темпов естественного прироста индейского населе¬
ния, если бы не крайне высокий уровень детской смертности, связанной с
плохим медицинским обслуживанием жителей резерваций и особенно с
недостаточным вспомощенствованием при родах. Последнее обычно осущес¬
твлялось не медицинским персоналом в клинике, а старшими родственника¬
ми в домашних условиях, причем единственным инструментом, использовав¬
шимся при этом, были ножницы, которыми перерезали пуповину. И хотя у
большинства индейских народов по обычаю мать новорожденного освобож¬
далась на первое время от работы по хозяйству и она имела возможность
посвятить себя уходу за младенцем, антисанитария и распространенность
инфекций делали свое дело'*. В итоге за период с 1900 до 1940 г. числен¬
ность коренного населения увеличилась всего в 1,2 раза — с 265 до 333
тыс. человек.
Семейные отношения и семья у индейцев Соединенных Штатов после
второй мировой войны претерпели существенные изменения, обусловлен¬
ные всем ходом социально-политического развития страны и интеграцией
коренного населения в американскую экономику. Это особенно проявилось
с 60-х годов, когда начались бурный отток индейцев из сельского хозяйства
в другие отрасли производства и связанное с ним быстрое увеличение доли
городских жителей. Достаточно напомнить следующее: если к началу 60-х
годов в сельском хозяйстве было занято свыше 33% коренных американцев,
а в городах жило не более 26% их, то в 70-х годах соответственно — 2 и
50%. Наконец, важно подчеркнуть, что упомянутые обстоятельства привели
к изменению социального состава индейского населения, которое из преи¬
мущественно мелких сельских хозяев превратилось в наемных работников.
В 1980-х годах по найму работало более 80% коренных жителей США,
тогда как двумя десятилетиями ранее — менее 35%* .
* Здесь и далее количественные характеристики индейских семей (численный со
став, брачность, детность и пр.) рассчитаны нами по следующим источникам: U.S.
Census of population. 1960. Subject report: Non white population by race. Wash., 1964; Ibid.
1970. Subject report: American Indians. Wash., 1973; Ibid. 1980. Vol. 1 (U.S. summary). Pt 1,
tabl. 69. Wash., 1985.
64
Наиболее важной проблемой существования современной индейской
семьи является устойчивость ее как особого социального института. Ста
тистика показывает, что у коренных американцев в этом отношении ситуа¬
ция достаточно стабильна: в 60-х годах семьи образовывали свыше 80%
официально зарегистрированных индейских хаусхолдов, в 7&х — 82 и в
80-х — более 77%. Эти показатели, заметно превышающие общенациональ
ные, в первую очередь связаны с весьма высоким уровнем брачности индей¬
цев: в 80-х годах в браке состояли более 49% индеанок в возрасте старше
18 лет и почти 50% мужчин. Впрочем, средние данные по брачности варьи¬
руются в зависимости от возраста индивидов. В возрастной группе 18—25
лет число женщин, заключавших брак, в 1,5 раза больше, чем мужчин, что
объясняется несколько более высоким в среднем возрастном вступлении в
брак последних. В группах 26—35 и 36—45 лет показатели брачности у
обоих полов почти одинаковы. После 45-летнего возраста доля женщин, со
стоящих в браке, начинает постепенно превышать аналогичную долю
мужчин, причем в группе старше 65 лет довольно значительно — в 1,5 ра¬
за. Это объясняется более низкой средней продолжительностью жизни лиц
сильного пола и как следствие — довольно большим числом (около 44
тыс.) овдовевших индианок, чья доля среди совершеннолетних женщин со¬
ставляет почти 10%.
Падение престижа семьи и брака, затронувшее Соединенные Штаты
Америки в истекших десятилетиях, коснулось, правда в меньшей степени,
и коренных американцев. В начале 60-х годов доля лиц каждого пола среди
индейцев, состоявших в браке, была выше, чем в начале 80-х — соответ¬
ственно 55 и 61%.
Из факторов, подрывающих устойчивость семьи, следует выделить раз¬
воды, число которых постепенно увеличивается. В 1960 г. доля лиц среди
коренного населения, состоявших в разводах, равнялась 4,7% у мужчин и
5,2% у женщин. К 1970 г. эти показатели увеличились до 6,3 и 9,3%, а к
1980 г. достигли 10,5 и 14,1%. Конечно, они более низкие; чем у осталь¬
ных жителей Соединенных Штатов, однако тенденцию к росту количества
распавшихся браков у индейского населения отрицать нельзя. Но более
серьезная проблема здесь, на наш взгляд, заключается в резком увеличении
числа юридически неоформленных разводов среди актов такого рода. Если в
60-х годах подобные случаи носили единичный характер, то в 80-х на их
долю пришлась без малого Vg всех разводов, причем число женщин, бро¬
шенных своими мужьями, превышает аналогичный показатель для мужчин
в 2,4 раза.
Причины распада индейских семей разнообразны. Здесь и неудовлетво¬
ренность супругов совместной жизнью, и разрыв между возлагавшимися на
брак надеждами и их реальным воплощением — словом, все то, что может
разрушить любую семью. Однако, как подчеркивают американские средства
массовой информации, основную роль в развале семей коренных американ¬
цев играют факторы социально-экономического порядка: плохие жилищные
условия и во многих случаях элементарная нехватка средств существова¬
ния, которая очень часто выступает как первопричина семейных конфлик¬
тов и непреодолимое препятствие для дальнейшего совместного прожива¬
ния супругов". Таким образом, в современных условиях семья индейцев
США в целом проявляет довольно большую устойчивость, однако перечис¬
3 Тмж. мд. 1065
65
ленные выше негативные факторы, результатом которых стали многочис-
ленные разводы, ведут к медленному, но неуклонному увеличению доли
лиц, живущих вне семьи: в 70-х годах она равнялась 18%, а в 80-х — уже
23%, т.е., иными словами, одинокими по последним данным были 212 тыс.
индейцев и 190 тыс. индеанок.
С точки зрения структуры семья индейцев в послевоенный период эво¬
люционировала от неразделенной многопоколенной к малой нуклеарной, со¬
стоящей из родителей и их неженатых детей. В начале 60-х годов основная
масса коренных американцев, особенно в резервациях, находящихся в боль¬
шинстве случаев в сельской местности, жила в составе больших семей со
сложным переплетением вертикальных, или отцовских, и горизонтальных,
или братских, связей. Наглядным примером существования подобных род¬
ственных коллективов является следующее описание типичной для того
времени семьи в резервации Пайн-Ридж (Южная Дакота). „Неподалеку от
Вундед-Ни (название поселка. — Д.&) живет обыкновенная семья — пожи
лые муж и жена, двое их женатых взрослых детей и шестеро внуков...Хозя-
ин, его жена и внук-сирота занимали старую однокомнатную лачугу, к ко¬
торой примыкало так называемое летнее жилище — участок двора, прикры¬
тый от солнца тентом, натянутым на сосновые столбы. Летний дом являлся
общей кухней, но в жаркое время там спали. Женатые дети, правда, жили
в домах из досок неподалеку отдельно"**. Впрочем, не следует думать, буд¬
то такие расширенные семьи были характерны только для индейских об¬
щин в сельской местности. Американские средства массовой информации
отмечали, что и в городах проживало немало большесемейных индейских
коллективов^'.
Сохранение у индейцев больших семей в различных районах страны за¬
фиксировала перепись 1960 г. Как явствует из содержащихся в ней дан
ных, индейская семья могла включать, помимо родителей и их неженатых
младших детей, также и состоящих в браке старших детей с потомством. В
такой семье, как и в довоенное время, жили непрямые родственники ее
главы — по крови, по браку и даже приемные члены. В среднем по стране
на каждый индейский хаусхолд в то время приходилось 3,5 таких лиц,
причем в сельской местности их было больше, чем в городах, — соответ¬
ственно 3,6 против 3,4 человека. Еще одним косвенным подтверждением
факта существования крупных родственных коллективов является сопостав¬
ление данных о количественном составе семей коренных американцев. Хотя
средняя индейская семьях в то время насчитывала 4,5 человек, более 26%
семей в сельской местности состояло из 5—6 человек, а почти 27% — из 7
и более (в городе доля подобных групп равнялась 23 и 16%).
Основные причины устойчивости расширенных семейных коллективов
были связаны со сферой экономики. В 60-х годах производственная дея
тельность в аграрном секторе хозяйства ложилась преимущественно на
сельскую семью коренных жителей. В условиях низкой механизации на
счету была каждая пара рук, в том числе пожилых людей и подростков.
Однако по мере урбанизации индейского населения и выхода его на рынок
наемного труда экономическая сторона жизни семьи изменилась. Производ¬
ственная деятельность ее членов вышла за семейные рамки, и в быту семья
индейцев стала преимущественно потребляющей единицей, чья хозяйствен¬
ная деятельность ограничилась в основном домом.
66
Подробнее об экономических функциях семьи речь пойдет ниже. Здесь
же подчеркнем, что вышеупомянутые процессы ускорили отмирание нераз¬
деленной семьи как особого социоэкономического организма и вычленение
из него малых нуклеарных коллективов. В 70-х годах, по наблюдениям аме¬
риканских этнографов, большие семьи у индейцев хотя еще и были доста¬
точно распространенным явлением, но сохранялись в основном в резерваци¬
ях^. Об этом же говорят и статистические данные. Средний размер семьи
коренных американцев по сравнению с 60-ми годами почти не сократился,
составив 4,4 человека. Доля крупных родственных коллективов в сельской
местности осталась близкой к прежнему уровню: семьи из 5—6 человек со¬
ставляли там 24%, а из 7 и более — 26%. Однако в городах их число зри¬
мо уменьшилось, достигнув соответственно 21 и 10%. В составе большой
семьи основные изменения проявились в сокращении числа непрямых род¬
ственников ее главы, живущих совместно с ним. Таких лиц в среднем на
хаусхолд в 70-х годах стало не более 2,7 человек, причем в городах этот
показатель равнялся 2 человекам, тогда как в сельских районах — 3,2.
В истекшем десятилетии, несмотря на фрагментарность данных, на наш
взгляд, можно говорить о том, что многопоколенные неразделенные семьи
индейцев практически канули в прошлое. Количество членов индейской
семьи в 80-х годах в среднем равнялось всего 3,8 человек, причем число
родственников ее главы, живущих в одном хаусхолде, даже в резервациях
составляло лишь 0,5 человек. В городах данный показатель еще ниже —
0,3. Интересно отметить, что в немногих сохранившихся большесемейных
коллективах практически распались вертикальные связи: лишь в 6% семей
такого типа взрослые, состоящие в браке дети жили со своими родителя¬
ми. Остальные хаусхолды были братскими многолинейными группами из
родных и двоюродных братьев (сестер) с супругами и потомством. Все это
говорит о том, что малая нуклеарная семья стала доминирующей формой
родственных связей.
Таким образом, в послевоенное время отмирание неразделенных боль¬
ших семей проходило постепенно и различие в темпах их распада было
связано в первую очередь с социально-экономическим развитием индейских
народов. Поэтому расширенные семейные группы лучше сохранялись в
сельской местности, чем в урбанизированных районах, т.е. там, где более
значимыми были их производственные функции. Что касается культурно¬
исторических традиций коренных жителей в семейной сфере, то нам пред¬
ставляется убедительным мнение С.В. Чешко, который считает их роль в
консервации расширенных семей в современный период незначительной^.
Иными словами, почти полное завершение этого процесса к настоящему
времени является следствием перехода индейцев к жизнеобеспечению за
счет наемного труда.
Итак, семья коренных жителей США к 80-м годам нашего столетия
стала двухпоколенной и небольшой по численности. Но по мере ее выделе¬
ния из расширенного родственного коллектива малая семья попадала под
воздействие разного рода негативных факторов социоэкономического поряд¬
ка (безработица, высокая стоимость жизни, проблема жилья и т.п.). Не
имея цементирующей основы, каковой ранее являлась совместная производ¬
ственная деятельность ее членов, нуклеарная семья, в свою очередь, стала
подвергаться разрушению, проявившемуся в постоянном, хотя и медленном
3*
67
по американским меркам росте числа разводов, как формальных, так и не¬
формальных. Следствием этого явилось неуклонное увеличение числа и до¬
ли неполных семей, в основном матрифокальных, т.е. состоящих из матери
и ее несовершеннолетних детей. Если в 60-х годах таких семей у индейцев
было 9 тыс. и они насчитывали менее 14% от их общего числа, то в 70-х
годах их стало уже 17,9 тыс. (18,3%). В 80-х годах количество неполных
семей достигло 50,2 тыс., а доля — 25%, т.е. почти каждая четвертая ин¬
дейская семья состояла из матери и детей, и таким образом без отца росло
около 107 тыс. молодых коренных американцев. Кстати сказать, распрос¬
траненность матрифокальных семей — также косвенное свидетельство отми¬
рания исторических традиций индейских племен, обеспечивавших нормаль¬
ное существование семьи, лишенной кормильца, например обычая левирата
или обычая поселения брата совместно с семьей овдовевшей сестры и т.п.
Эволюция типа индейской семьи от большой к малой стала причиной
изменения ролей ее членов, главным образом пожилого и преклонного воз
растов. Представителям данных возрастных категорий, чье ведущее положе
ние в системе взаимоотношений большой семьи ранее определялось ее бы¬
товым укладом и закреплялось поведенческими нормами, в нуклеарной
семье с иным социальным климатом в буквальном смысле не нашлось мес¬
та (особенно в городах). Пожилые люди, подчеркивалось, в частности, в за
явлении Индейского совета по делам пожилых в г.Лос-Анджелес, „пребыва¬
ют в состоянии тяжкого морального кризиса". С одной стороны, он порож¬
ден материальными причинами: превращение из кормильца семьи в ижди¬
венца многими индейцами воспринимается крайне болезненно. С другой
стороны, это обстоятельство усугубляется факторами социокультурного по
рядка. „Оторвавшись от своих общин, в которых их уважаемое положение
освящалось традицией и ... подчеркивалось системой родства, утратив свою
социальную фукнцию — передачу молодежи культурных ценностей своего
племени, пожилые городские индейцы... лишились в глазах своих молодых
родственников непререкаемого авторитета... что еще больше усилило бремя
преклонного возраста", — отмечалось далее в упомянутом документе^.
Естественно, в моральном плане ситуация в индейских общинах значи¬
тельно лучше, чем в городах, однако проблема пожилых в резервациях сто¬
ит не менее остро. Здесь на первый план встали вопросы материального
обеспечения престарелых. Лишь 6% пожилых индейцев сумели обеспечить
себя посильной работой по найму. Возможность получать государственные
пособия для них практически отсутствует. Действующий в США с 1965 г.
закон о помощи престарелым до недавнего времени не распространялся на
индейцев вообще. После внесения в него в 1978 г. соответствующей по¬
правки на содействие и помощь жителям резерваций преклонного возраста
стала выделяться сумма в 6 млн долларов, но это позволило охватить посо
биями только 16 тыс. коренных американцев^. Поскольку общины, как
правило, также не в состоянии осуществлять программы помощи престаре¬
лым, забота о них полностью ложится на молодых членов семьи. И „хотя к
чести молодежи необходимо отметить, что подавляющее ее большинство де¬
лает для этого все возможное, молодые люди сами располагают слишком
малыми средствами, чтобы как следует помогать своим пожилым роди¬
чам", — подчеркивалось в документах некоторых индейских общин^.
Другой стороной ролевых изменений в индейской семье стало посте
68
пенное превращение замужних женщин из домохозяек в наемных работниц.
Необходимость этого диктовалась экономическими потребностями малой
семьи, поддерживать материальное благосостояние которой порой было не¬
возможно без подключения матери семейства к рынку труда. Рост занятос¬
ти замужних женщин происходил довольно быстрыми темпами. В 60-х го
дах в общественном секторе трудилось всего 7,8% индеаиок (в городах их
доля была несколько выше, чем в резервациях: 9,6 против 7,1%), в 70-х го¬
дах этот показатель вырос почти в 5 раз, достигнув 34% (в городах — 39, в
резервациях — 28%). К 80-м годам доля замужних женщин, трудящихся по
найму, составила уже 41%. Конечно, отмеченный процесс объективно был
положительным, но вместе с тем он внес в индейскую семью типичную
проблему индустриального общества — перегрузку занятой в сфере обще¬
ственного труда женщины, которая физически не в состоянии справиться
одновременно и с работой по дому. Как считает ряд американских экспер¬
тов, это обстоятельство довольно часто выступает первопричиной и сниже¬
ния рождаемости, и увеличения числа разводов, словом, становится факто¬
ром, ухудшающим демографическую ситуацию среди коренного населения
США. Суммировать же приведенные выше сведения об эволюции семьи ко
ренных народов США в современный период лучше всего следующим выс¬
казыванием одного из лидеров папаго: „Мы имеем дело с семейной струк¬
турой, лишенной практически всех традиционных основ
* * *
Семья индейцев независимо от своего типологического варианта выступает,
подобно всякой семье, как определенная социальная система, выполняющая
ряд функций, заданных общественными потребностями (прокреативную,
экономическую, социализации и инкультурации подрастающего поколения
и т.п.). На разных этапах существования семьи на первый план, естествен¬
но, могут выходить различные функции, но одна из них — экономическая —
является постоянно необходимой. Экономическая функция семьи, направ¬
ленная на создание и укрепление ее материальных основ, на практике рас¬
падается на две подфункции: производственную и потребительскую. Рас
смотрим вначале первую из них.
В отличие от других групп населения страны индейская семья значи¬
тельно дольше, приблизительно до середины 60-х годов, сохраняла значе¬
ние производственного коллектива. Это связано прежде всего с изолирован¬
ностью резерваций от рынков наемного труда: основным способом суще¬
ствования жителей общин было тогда сельское хозяйство, которым занима¬
лось свыше l/g коренных американцев. Однако уже в тот период производ¬
ственная деятельность индейской семьи мало отличалась от аналогичных за
нятий белых фермеров и ранчменов. Основное, что, пожалуй, выделяло аг¬
ропроизводителей резерваций, — это низкий уровень развития их хозяйств
и как следствие — невысокая рентабельность, уступавшая общенациональ¬
ным средним показателям в 2—2,5 раза.
Вместе с тем отмеченные обстоятельства способствовали консервации в
индейских семьях некоторых традиционных коллективистских форм и мето¬
дов ведения хозяйства, в особенности животноводческого, которые и соста¬
вили специфику экономической деятельности семей коренных жителей
США. Так, например, в общине навахов в конце 50-х — начале 60-х годов
69
еще существовали отдельные традиции организации скотоводства. Хотя
большинство операций, связанных с разведением и выпасом животных, да
же в то время велось силами нуклеарной семьи, некоторые трудоемкие,
требовавшие большого числа участников работы (кастрация, вакцинация,
подпил рогов) осуществлялись, как правило, сообща группой родственни¬
ков, а порой даже родственной группой семей. Правда, несмотря на это,
потребление продукции, а тем более ее реализация на рынке носили инди¬
видуализированный характер. Однако при церемониях в пределах группы
сородичей, когда требовалось забить животное для праздничной трапезы,
индивидуальная собственность на него не играла существенной роли. Стар¬
ший по возрасту родственник обычно определял, чье животное лучше за¬
колоть*.
Аналогичная ситуация была зафиксирована и у апачей хикарилья. Здесь
в 50-х годах имели место случаи, когда большая семья сохраняла не только
функции хозяйственной единицы, но и потребительского сообщества: дети,
обеспечившие себя какой-либо работой по найму, но не оторвавшиеся пол¬
ностью от сельского хозяйства, могли уступать доходы от своих стад роди
телям или другим старшим родственникам*.
Подобные специфические черты хозяйствования не могли не сказаться
на нормах отношений между родичами. В частности, у навахов в рассматри
ваемый период имелся неписаный кодекс отношений между семьями в род¬
стве, касающихся собственности на землю. Хотя каждая нуклеарная семья
являлась владельцем своего пастбищного участка, нарушение границ кото¬
рого членами общины обсуждалось, краткосрочный прогон через него стад,
принадлежавших родственникам, считался само собой разумеющимся и пла¬
та за это не взималась. Более того, огораживание своего пастбища нередко
расценивалось как асоциальный поступок*. Однако в настоящее время обо
всем этом можно говорить только как о недавней истории. Коммерциализа¬
ция производства в резервациях сильно изменила социальный климат 50—
60-х годов. Исследования показали, что к концу 70-х годов семейные фер
мы индейцев превратились в чисто капиталистические предприятия
Вместе с тем неустойчивое положение коренных американцев на рынке
труда, обусловленное как недостаточным уровнем их профессиональной
подготовки, так и иногда практикуемой дискриминацией в области трудо¬
вых отношений, обернулось для индейцев очень высоким — в отдельных
случаях до 65% — уровнем безработицы и неполной занятости. Это привело
к тому, что экономическое сотрудничество на уровне семьи до конца не ис¬
чезло и приняло различные формы взаимопомощи между близкими род¬
ственниками.
Такое сотрудничество в первую очередь проявилось в сельском хозяй¬
стве. Обычно оно выглядит следующим образом. Пожилая супружеская па¬
ра большую часть года содержит семейную ферму. Ее взрослые дети (со
своими семьями), работающие по найму, в случае потери рабочего места
или окончания срока временного или сезонного контракта возвращаются на
ферму родителей и остаются там до нового трудоустройства. Если предста¬
вителям молодого (среднего) поколения сопутствовал успех, они, в свою
очередь, оказывают родителям-фермерам денежную помощь*.
К способам использования семейных и родственных отношений для ук¬
репления своего положения среди наемных работников можно отнести и до¬
70
вольно распространенную практику создания при трудоустройстве так на¬
зываемых родственных бригад, бытующую среди чироков Оклахомы. Род¬
ственники по материнской линии объединялись в группу, которая затем, по¬
дыскав место работы, стремилась попасть в одно подразделение. Целью соз¬
дания таких „бригад" было желание индейцев защитить себя от дискрими¬
нации. Однако именно это обстоятельство вызвало сильное противодействие
работодателей штата, являющегося по американским меркам одним из наи¬
более нетерпимых ко всем видам организации трудящихся. Поэтому „род¬
ственные бригады" индейцев формально запрещены под предлогом борьбы с
коррупцией и семейственностью на производстве, и судить о том, насколько
теперь распространено данное явление, крайне сложно^. Таким образом, в
наши дни индейская семья уже не представляет хозяйственной единицы:
ее экономические функции в основном ограничились домашним хозяйством.
Что касается потребительской подфункции индейской семьи, т.е. расхо¬
да средств, заработанных ее членами, на основные повседневные нужды
(питание, жилье, приобретение предметов личного пользования), то она в
еще большей, чем производственная сфера, степени лишена теперь этни¬
ческой специфики. Образ жизни семьи индейцев в современный период опре¬
деляется главным образом ее экономическим положением, которое было и
продолжает оставаться незавидным вопреки усилиям индейских общин и оп¬
ределенной помощи со стороны американских властей. По среднему уровню
годовых доходов семьи коренных жителей страны значительно уступают
семьям своих белых сограждан; помимо этого, обоснованное беспокойство
вызывает и тот факт, что, хотя среди индейцев насчитывается ныне немало
состоятельных лиц, основная масса имеет доходы ниже среднего показателя
(табл. 1)
Итак, коренные американцы — одна из наиболее нуждающихся групп
населения США. Данные официальной статистики, однако, не дают возмож
ности проанализировать бюджет их семей, и лишь ряд косвенных источни¬
ков позволяет выделить некоторые его особенности. Прежде всего можно с
уверенностью сказать, что индейская семья, как правило, остро ощущает
проблему жилища. В первой половине 80-х годов в США 43,7% домов ин¬
дейцев не соответствовали стандарту, т е. были лишены элементарных жи¬
лых удобств (у белого населения — менее 12%), в капитальном ремонте
нуждались 66% жилищ. Помимо этого, 28% индейских семей жили в усло¬
виях скученности, а всего в улучшении жилищных условий нуждалось без
малого 70% коренных американцев
ГаЙдица 7. Дммажмка срермезороамх уохоуоа ммуейсжмх сежей
Год
Индейская семья,
тыс. долл.
Семья белых,
тыс. долл.
Удельный вес индейских семей
с достатком ниже среднего, %
I960
1.5
5,7
81,4
1970
5,8
9,5
43,0
1980
11.7
21,7
46,1
71
Основная причина подобной ситуации — крайняя дороговизна жилищно¬
го строительства: воздвигнуть жилой дом со всеми удобствами в конце 70-х
— начале 80-х годов стоило около 74 тыс. долларов. Правда, в данном кон¬
тексте нельзя не отметить, что в то время в рамках различных программ го¬
сударственной помощи для индейских семей было выстроено около 23 тыс.
новых домов, а капитальному ремонту или реконструкции подвергнуто поч¬
ти 25 тыс. старых*. Но эта помощь в конечном счете оказалась недостаточ¬
ной. По свидетельству авторитетной индейской организации Фонд прав ко¬
ренных американцев (ФПКА), за период 1974—1980 гг. в индейских зем¬
лях, например, с 53 до 62 тыс. увеличилось число негодных и ветхих до
мов. Произошло это потому, что темпы государственного строительства яв¬
но не соответствовали темпам роста коренного населения. „Поскольку...
средний возраст индейцев — около 20 лет, процесс создания новых семей
идет непрерывно. Не имея возможности получить нормальное жилище, мо¬
лодежь вынуждена селиться в лачугах", — отмечалось в заявлении ФПКА*.
Другая группа обязательных расходов семьи — питание. По имеющимся
данным, картина здесь также неблагополучна. Как подчеркивалось в этой
связи в заявлении одной из ведущих политических организаций коренного
населения Соединенных Штатов — Национальной ассоциации председателей
советов общин, на рубеже 80-х годов в пищевом рационе индейцев весьма
незначительное место занимало, к примеру, натуральное мясо, которое
обычно заменялось сосисками и иными мясными субпродуктами. Основным
источником протеина выступали, как правило, дешевые сорта мороженой
рыбы, а преобладающими продуктами питания в повседневном рационе яв¬
лялись каши, картофель и недорогие сорта овощей*.
В особо трудном положении, естественно, пребывают многодетные
семьи. Несмотря на то что практически каждая мать в резервациях, имею¬
щая ребенка в возрасте до 5 лет, в рамках правительственной программы
помощи получает с 1984 г. еженедельно так называемый пакет с дополни¬
тельным питанием (в его состав обычно входят упаковки детских смесей,
крупы быстрого приготовления, сухофрукты) на сумму в 75 долларов, по
стандартам США считается, что дети в таких семьях страдают от недоеда¬
ния*. Следствие этого — широкое распространение среди малолетних ин¬
дейцев разного рода дефектов физического развития. По данным Американ¬
ской медицинской ассоциации на середину 80-х годов, практически Vg де¬
тей и подростков в индейских территориях имела дефекты зрения, в основ¬
ном близорукость и астигматизм, а 1/4, — дефекты слуха*". Таким образом,
особенности семейного потребления коренного населения были связаны с
элементарной нехваткой денежных средств, отражавшейся на основных сто¬
ронах ее быта — неудовлетворительных жилищных условиях и экономии на
питании.
Ответственной функцией семьи является прокреативная функция. Ста¬
тистические данные показывают, что в целом в современной семье корен¬
ных жителей Соединенных Штатов ситуация с деторождением вполне бла¬
гополучна. В 80-х годах в семьях с детьми у индейцев было в среднем 2,3
ребенка (в сельских районах эта цифра немного выше — 2,5 ребенка, а в
городах ниже — 2,1). Такой показатель превышал общенациональный при¬
близительно в 1,3 раза и в конечном счете обеспечивал расширенное вос¬
производство индейского населения страны. Вместе с тем статистика бес¬
72
пристрастно свидетельствует, что за истекшие 20—25 лет процесс сокра¬
щения числа детей, характерный для США, затронул и индейцев, правда не
в такой степени, как другие группы населения: в 70-х годах на индейскую
семью приходилось в среднем 2,3 ребенка, а в 60-х — 3,1. Изменился и
критерий многодетности. Если в 60-х годах таковой считалась семья, где
было четверо и более детей, то в 80-х данное определение применялось
уже к семье с тремя детьми, каковая, впрочем, стала довольно редким явле¬
нием, по крайней мере в городах. Таким образом, у коренных американцев
преобладает сравнительно малодетная семья.
Сокращение числа детей в индейских семьях — явление сложное и
многоплановое. В основе его — экономические факторы. С перенесением
производственной деятельности в общественный сектор ребенок, перестав
вносить в семью свой трудовой вклад, превратился из помощника в потре¬
бителя. В условиях бедности, в которых, как известно, живут многие ко¬
ренные американцы, это приводит к тому, что многие родители не спешат
обзаводиться „лишним" потомством. „Детей все чаще рассматривают как
нечто второстепенное, некую обузу", — отмечали американские средства
массовой информации*'. Сказываются и жилищные проблемы, и перегрузка
женщин, которые все чаще вынуждены сочетать домашний труд с наемным.
По данным Индейского исследовательского центра в г.Пьерр (Южная Дако¬
та), многие индеанки, в особенности те, кто живет в городах, вынуждены
отказываться от рождения более 1—2 детей. В этом контексте характерен
следующий факт: уже в начале 80-х годов в США почти 30% индейских
семей, где мать находилась в фертильном возрасте, были бездетными*'.
С прокреативной функцией семьи тесно связаны ее обязанности по со¬
циализации подрастающего поколения. Естественно, в современный период
роль семьи в этом процессе подверглась существенной трансформации: вос¬
питание подрастающего поколения в значительной степени протекает в
общественной сфере ввиду охвата юных индейцев системой школьного обу¬
чения. Тем не менее значение семьи по-прежнему весьма велико не только
в обеспечении здорового и комфортного морального климата для индейской
молодежи, но и особенно в подготовке ее к самостоятельному существо¬
ванию.
Данная сторона жизни семьи коренных американцев как раз и является
областью, где с наибольшей силой сказываются кризисные явления.
Они нарастали постепенно. В 50-х годах сельская по преимуществу ин¬
дейская семья естественным образом, опираясь на традиции дорезервацион-
ного периода, осуществляла процесс социализации ребенка, росшего на
глазах родителей и других старших родственников. Вот пример того, как
шло приобщение молодого поколения к культуре и трудовой деятельности
у навахов. Жизнь юного индейца разделялась на несколько ступеней. Ос¬
новным содержанием воспитания на первых двух из них, охватывавших со¬
ответственно возрастные группы от года до 4 лет и 5—6 лет, было приви¬
тие понятий „земля", „дом", „родители", „прародители". С помощью соот¬
ветствующих легенд и историй мать и отец объясняли своим детям разницу
в поведении мальчиков и девочек. На третьей ступени (7—9 лет) происходи¬
ло приобщение к труду: девочки начинали помогать матери по дому, а
мальчики — отцу на ранчо. На следующей, четвертой ступени (10—15 лет)
основной акцент переносился на духовное развитие: изучение истории свое¬
73
го народа, объяснение детям их места в системе родственных связей. Соб¬
ственно говоря, на этом обучение юных навахов и завершалось. На пятой
ступени (16—18 лет) юноши и девушки включались в хозяйственную жизнь
семьи наравне со взрослыми, и, наконец, на шестой ступени (19—22 года)
молодежь получала право распоряжаться имуществом без ограничений. По¬
сле этого можно было вступать в брак и отделяться от родителей*^. Конеч-
но, здесь мы привели общую схему воспитания, которая не являлась абсо¬
лютом. Она также не могла быть и гарантией успеха на данном поприще.
Тем не менее, поскольку взросление индивида происходило в сельском
обществе с его сравнительно жесткими социальными нормами и непрере¬
каемым авторитетом старших по возрасту, многих проблем воспитания в
том виде, в каком они есть в настоящий момент, в индейской семье в не¬
давнем прошлом не существовало.
Вовлечение резервационного населения в американскую экономику воз¬
действовало на процесс воспитания детей в семьях коренных жителей весь¬
ма неоднозначно. С одной стороны, правящие круги страны, заинтересован¬
ные в том, чтобы работники-индейцы были элементарно грамотными, при¬
ложили немало усилий для охвата их детей системой школьного обучения.
Достаточно сказать, что за 60-е годы среди индейцев доля лиц, получивших
среднее образование, увеличилась в 4,3 раза. Но, с другой стороны, это бе¬
зусловно позитивное обстоятельство перечеркивалось содержанием полити¬
ки американских властей в сфере образования молодых индейцев. В США
вплоть до самого недавнего времени даже на территориях резерваций обу¬
чение индейцев шло исключительно по общеамериканским программам. В
школах молодые представители коренного населения столкнулись с новой
для них системой ценностей: меркантильностью, эгоцентризмом, ежеднев¬
ным соперничеством и ориентацией на успех. Параллельно с этим учебные
программы широко практиковали распространение ложных стереотипов от
носительно традиционных культур индейцев, их истории, языков, чем уни¬
жали достоинство коренных жителей страны. Результатом подобного разры¬
ва между тем, что ребенок получал дома и в школе, стало крайне болезнен¬
ное явление — нарушение диахронных связей между поколениями семьи.
Как отмечал по данному поводу в спецкомитете сената по делам индейцев
лидер резервации Колорадо-Ривер М. Фернандес, „это нанесло тяжкую пси¬
хологическую травму и юным индейцам, и их родителям"**. Результат не за¬
медлил сказаться.
Разрыв межпоколенных связей прежде всего крайне мучительно отра-
зился непосредственно на поколении 60-х годов. Исследование Общеиндей
ской ассоциации здорового образа жизни в середине 80-х годов в этой свя¬
зи выявило следующее. Многие индейцы, пройдя через государственную
систему обучения, практически утратили родные языки и отошли от своих
традиционных культур. Вместе с тем им не удалось полностью интегриро
ваться в американское общество, принять до конца его жизненные ориенти¬
ры. В итоге у них произошло размывание самосознания и „появилось чув
ство non-person — что они — никто: ни индейцы, ни белые". Прямым след
ствием этого духовного кризиса стало пристрастие к алкоголизму и нарко¬
мании, уровень распространения которых среди взрослых членов общин по
некоторым данным составлял от 50 до 85<%Л Неудовлетворенность занятым
в жизни местом, апатию, разочарование, раздражение утратившие свое „я"
74
коренные американцы перенесли ж семью. Вынесенное из официальной
системы образования презрение к традиционному воспитанию не замедлило
сказаться на внутрисемейном климате. „В недавнем прошлом племенные со¬
общества имели жесткие нормы поведения индивидов, которым последние
были обязаны неукоснительно следовать, — прокомментировал это явление
житель общины Форт-Пек Д. Стиффарм. — Теперь мы живем ж ножом для
нас мире... по законам США. Великая нация дала племенам множество цен
ных понятий, облегчивших нашу жизнь. Но вместе с тем в племенные со¬
общества пришло много дурного: распались традиционные системы ценнос¬
тей, люди утратили чувство собственного достоинства и гордости, что при¬
вело к краху родственных связей и структур"*.
На семейном уровне разрыв связей между поколениями в первую оче¬
редь проявился во взаимопонимании и неуважении родителей и детей и их
отчуждении друг от друга. Следствием этого стало получившее широкое
распространение поистине безответственное отношение первых к послед¬
ним. Условия, в которых воспитываются многие индейские дети, ужасают.
Умственно неполноценные дети, родившиеся у пьющих матерей, в отдель¬
ных резервациях составляют до 25% учащихся начальных классов индей¬
ских школ. Впрочем, и другие ученики также лишены возможности нор¬
мально заниматься, так как по свидетельству средств массовой информации
в индейских семьях стала весьма типичной ситуация, когда семилетний ре¬
бенок, вместо того чтобы готовить уроки, вынужден заботиться об алкого
ликах-родителях и опекать младших сестер и братьев*. Из-за отсутствия со
стороны взрослых контроля за досугом индейцев подростков среди послед
них также широко распространились алкоголизм и наркомания. Как пока
зал, в частности, осуществленный в начале 80-х годов индейским исследо
вательским центром г.Пьерр (Южная Дакота) опрос, проживание в семьях
алкоголиков (в таких условиях живет 85% детей индейцев этого штата)
приводит к тому, что без малого 90% подростков ж возрасте до 16 лет
употребляют спиртное, 85% курят марихуану, а 65% употребляют наркоти¬
ческие вещества другими способами*. Между тем даже теперь в Соединен¬
ных Штатах вопреки требованиям прогрессивно мыслящих представителей
индейского населения не осуществляется никаких специальных мер по
борьбе с употреблением молодежью резерваций алкоголя и наркотиков. Это
не единственная беда индейской несовершеннолетней молодежи. Факты
позволяют говорить не только о безответственном, но и о бесчеловечном,
садистском отношении к детям, проявляющемся, в частности, в весьма рас-
пространеных случаях растлений и сексуальных насилий над ними. Только
согласно официальным данным, одна из четырех девочек и один из шести
мальчиков до 18 лет стали в той или иной форме жертвами преступлений
на сексуальной основе, причем количество подобных правонарушений име¬
ло тенденцию к увеличению*. Вот что свидетельствовал по этому поводу
руководитель службы здравоохранения резервации Форт-Пек И. Тротье: „Во
время работы в резервационной клинике мне приходилось наблюдать детей
с венерическими заболеваниями, разрывом влагалища, пролапсом заднего
прохода. Без малейшего сомнения можно утверждать, что они были изнаси¬
лованы. Это типичные случаи для нашей резервации"*. Причем весь ужас
подобного состояния дел заключается ж том, что часть вышеперечисленных
преступлений совершается над детьми в собственных семьях. По иронии
75
судьбы у юных индейцев риск подвергнуться насилию выше не тогда, ког¬
да они остаются без присмотра со стороны старших, а, наоборот, при кон
такте с ними. По словам активистки авторитетной индейской организации
Национального конгресса американских индейцев (НКАИ) С. Харджо, „кри¬
зис семейных связей, алкоголизм родителей, грубость и недоброжелатель¬
ность в домашней среде — вот факторы, усугубляющие вероятность детей
быть подвергнутыми растлению'*'. В этой связи совершенно справедливой
представляется оценка бедственной ситуации в семьях коренных американ
цев, сделанная в 1985 г. Индейским центром исследования ресурсов здраво¬
охранения: „Строго говоря, семья в настоящее время превратилась в инсти¬
тут, наиболее враждебный детям"**.
Приведенные выше факты могут создать впечатление, будто у коренных
американцев вообще нет благополучных семей. Конечно, это не так, ибо в
противном случае давно произошел бы процесс окончательной культурной
деградации индейских народов, тогда как в действительности из их среды
выходит немало представителей научных, культурных или деловых кругов.
Еще в 1983 г. доля служащих и квалифицированных рабочих среди иидей-
цев, трудившихся по найму, составляла более 70%. Но то обстоятельство,
что сведения о насилиях, растлениях и пр. все чаще становятся достоянием
гласности, говорит об остроте проблемы. В дачной связи нельзя обойти
вниманием и попытки общинного руководства как-то изменить ситуацию.
В последнее время советы резерваций, используя для этого свое право ад¬
министративной автономии, начали самостоятельную борьбу с тяжелыми
условиями, в которых растут дети индейцев. Выборочно обследование ряда
общин юго-западных и западных штатов, например, показало, что почти в
50% из них уголовно наказуемым являлось жестокое и циничное обраще¬
ние родителей с детьми, в 64% — так называемое поощрение преступных
действий подростков, куда, в частности, входит вовлечение их в пьянство, а
в отдельных случаях даже приобщение к курению табака, и, наконец, в
85% — безответственное отношение родителей к получению детьми образо¬
вания**. К сожалению, эти усилия не получают достаточной поддержки со
стороны американских должностных лиц, предпочитающих лишение роди
тельских прав коренных американцев и передачу их потомства на воспита
ние в интернаты как наиболее простое средство решения всех проблем не¬
совершеннолетних жителей резерваций.
Подобная практика получила в Соединенных Штатах довольно большое
распространение. По данным БДИ, к началу 80-х годов, почти 35% детей
индейцев были насильственно разлучены со своими родителями, а их доля
среди попавших в интернаты в 10—12 раз превышала аналогичные показа
тели для белых**. Представители резервационного населения, в свою оче
редь, стали выражать резкий протест против вмешательства американских
властей в их семейные дела. Оно, по мнению лидеров-иидейцев, носило и
носит характер откровенной дискриминации, поскольку, помимо разрыва
родственных связей, передача индейской молодежи на воспитание в интер¬
наты имеет результатом и навязывание ей не свойственных коренным аме
риканцам ценностей и образа жизни, что в перспективе ведет к полной ут
рате этнической самобытности"*.
С целью ослабить недовольство коренных американцев в ноябре 1978 г.
был принят гражданский закон 95 608, который должен был „прекратить
76
процесс отрыва детей индейцев от своих родителей и предотвратить развал
индейских семей". Этого, однако, не произошло. Закон 95-608 в принципе
не запретил насильственную передачу малолетних индейцев в интернат, ибо
основная его суть заключалась как раз в определенной ситуации, когда та¬
кая передача приобретала законный характер. Поэтому, как показали по
вторные слушания в конгрессе, проблема положения индейских детей, как
и ранее, далека от разрешения*.
Успехи по борьбе с растлением малолетних оказались еще более скром¬
ными, ибо здесь законодательные инициативы касаются весьма деликатной
сферы внутрисемейных отношений. Тем не менее в ряде резерваций в нача¬
ле 80-х годов были приняты законы, карающие за принуждение к половому
сношению подростков до 16 лет, соблазнение детей, урофилию, копрофи
лию, садизм, кровосмешение, содомию и пр. Кроме того, было расширено
юридическое толкование понятия „кровосмешение", которое стало распрос¬
траняться и на двоюродное родство. Наконец, в 1985 г. конгресс США при¬
ступил к обсуждению законопроекта о внесении в так называемый пере¬
чень наиболее тяжких преступлений все виды сексуальных насилий, чини
мых в отношении живущих в резервациях детей*. Активность американских
законодателей в данном вопросе можно было бы приветствовать, если бы
предложенный ими проект закона не нес в себе недостаток любого запрета,
который не затрагивает объективные основы правонарушений. В этой связи
понятна более чем сдержанная реакция НКАИ на закон 1985г.: „Мы надеем
ся, все понимают, что более строгие наказания за растление несовершенно
летних в конечном счете не могут искоренить этот порок. Преступления
подобного рода имеют мириады скрытых корней: крайняя степень безрабо
тицы среди индейцев, их культурная деградация, повсеместное распростра¬
нение алкоголизма — вот истинные причины дезинтеграции и распада ин¬
дейских семей"*.
С осуществляемым в рамках семьи воспитанием подрастающего поколе¬
ния неразрывно связана ее функция по воспроизводству этноса. Поскольку
американские власти не оказывают прямого содействия сохранению культур
индейцев, а общины, за небольшим исключением, не в состоянии институа¬
лизировать (например, посредством преподавания родного языка или изуче¬
ния истории своего народа) передачу из поколения в поколение самобытных
традиций коренных жителей, даже среди разервационного индейского насе¬
ления, не говоря уже о городском, основное значение в формировании этни¬
ческого самосознания детей приобретает семья. Обычно данный процесс
происходит в опосредованной форме — через определенный бытовой уклад,
повседневное общение родителей и детей и т.п. Вот как расценивают эту
ситуацию сами коренные американцы. „Неверно думать, будто все свободное
время мы сидим и думаем о том, что мы индейцы, — заявил опрошенный
американским социологом Б. Эшенбреннером один из жителей общины ок-
лахомских пауни. — Ведь моя жена и я — оба работаем и, как и все осталь
ные люди, загружены повседневными обязанностями. Однако и мы и наши
дети знаем историю своего народа, общаемся с нашими друзьями-пауни, по
возможности участвуем... в фольклорных праздниках общины. Словом, хотя
нам постоянно приходится делать неиндейские дела, мы — пауни"*.
Естественно, в отличие от своих резервационных соплеменников индей¬
цы, поселившиеся в крупных городах, лишены возможности в такой мере
77
соприкасаться с культурой своих народов. Здесь-то роль семьи в межпоко¬
ленной передаче этнической информации становится решающей. Характе¬
рен в данном контексте рассказ студента — выходца из общины пуэбло сан-
ильдефонсо, который зафиксировал Эшенбреннер. Когда информатору был
год, его родители, покинув резервацию, перебрались в предместье Лос-Ан¬
джелеса. Пригород, где семья сняла угол, населяли в основном выходцы из
Латинской Америки. Мальчик рос среди них, и его сверстники считали
его одним из своих. Конечно, подчеркивал информатор, „я знал, что я — ин¬
деец, но не задумывался над этим фактом, который тогда не значил для ме¬
ня особо много". Ситуация изменилась, когда молодой человек услышал от
жившей с ними бабушки историю героической борьбы пуэбло за землю.
Это стимулировало его дальнейший интерес к культуре и фольклорной тра¬
диции своего народа. „Рассказы бабушки, — подчеркнул далее молодой ин¬
деец, — помогли мне впоследствии понять многое... я — часть народа пуэб¬
ло; я — индеец сан-ильдефонсо; у меня особая культура, и сознание этого
дает мне возможность ощущать себя полноценным человеком"**. Иными сло¬
вами, в данном случае семья выполнила свою функцию по поддержанию эт¬
нической непрерывности.
Однако встречаются и обратные примеры. Исследования Э. Уэрхефтига
среди чироков Оклахомы показали, что в ряде их семей в воспитании детей
превалируют негативные этнические автостереотипы. Многие родители,
сталкивавшиеся в повседневной практике с дискриминацией, внушают сво¬
им детям, что основное препятствие улучшению благосостояния — их ин¬
дейская культура, а „единственный способ преуспевать в жизни — попы¬
таться перестать быть индейцем". Результатом такого воспитания стало по¬
явление у части молодых чироков крайне негативного отношения к тради¬
циям собственного народа. И неудивителен тот факт, что к середине 80-х
годов без малого половина их уже не участвовала ни в социальной, ни в
культурной жизни своей общины**. Тем не менее в целом семьи коренных
жителей США справляются с ролью механизма диахронной передачи наци¬
ональной культуры. Предпосылки процесса этнического возрождения, охва¬
тившего коренные народы с середины 80-х годов, были заложены именно
на семейном уровне. ** WaAr/K!%? /!. Report of Cherokee Indians of Oklahoma // American Indian economic development.
P., 1978; L. Dependence and underdevelopment // Economic development of American
Indian reservations. Albuquerque, 1979; Уешяю CL А Семейно родственные и родоплеменные
отношения у индейцев США во второй половине XX в. // Сов. этнография. 1985. ^ 6.
1 US Census of population, 1910: Indian population of the US in 1910. Wash. (D.C.), 1915. P. 157,
162.
' Annual report of Commissioner of Indian Affairs to Secretary of the Interior, 1906. Wash. (D.C.),
1906. P. 185. (Далее: ARCIA).
' US Census of population, 1910. P. 157.
' Acculturation in seven American Indian tribes / Ed. R.Linton. N.Y., 1940. P. 265, 305.
' Рассчитано no: US Census of population, 1940: Characteristics of nonwhite population by race.
Wash. (D.C.), 1943. P. 30.
7 Handbook of North American Indians. Wash. (D.C.), 1978. Vol. 10: California. P. 283. (Далее:
HNAI); Acculturation... P. 96—98; HNAI. Wash. (D.C.), 1979. Vol. 9; South-west. P. 261,425;
Acculturation... P. 305.
* US Census of population, 1940. P. 17.
78
'ARCIA. 1906. P. 172,174,185.
"* Рассчитано no: US Census of population, 1910. P. 161; 1940. P. 17.
" US Census of population, 1910. P. 163.
* ARCIA. 1906. P. 191, 202,217,357.
" Рассчитано no: US Census of population, 1910. P. 161; 1940. P. 17.
" Acculturation... P. 198—199.
'* Седул^г Я. Massacare: Survey of today's American Indian. N.Y., 1931. P. 27.
" Acculturation... P. 439.
" Рассчитано no: US Census of population, 1940. P. 17.
" Седдл^г Я. Op. cit. P. 242—249.
** US News and World Rep. 1981. Mar. 30. P. 40.
"N.Y. Times. 1967. Oct. 15.
i* Great Falls Leader. 1956. Jan. 2. Цит. no: Congr. Rec. Vol. 102. P. 381.
" WdAr/M/Hg A. Op. cit. P. 457—8.
^ Уеммк? C.A Указ. соч. C. 111.
з* Los Angeles American Indian Council on Aging: Testimony, 1981 // Federal Aging Programs
Oversight (далее: FAPO): Hearing before Select Committee on Indian affairs (далее: SCJA), 97
congr., 1 sess., Dec. 9,1981. Wash. (D.C.), 1982. P. 93.
* FAPO. P. 3.
* Testimony of Gila-river Indian community, 1982 // FAPO. P. 147.
^ Native American children, youth and families: (далее: NACYF): Hearing before Select
Committee on children, youth and families, 99 congr., 2 sess.,, Jan. 9, 1986. Wash. (D.C.), 1986.
P. 23,42.
3*D<?MVbyV. Animal husbandry in Navajo society and culture. Berkeley, 1964. P. 62—3.
* И%у<?л A. Jicarille — Apache political and economic structure. Berkeley, 1964. P. 343.
* Downg 7. Op. cit. P. 83—85.
" Ям#1лд L. Op. cit. P. 96.
^ Relocation of certain Navajo — Hopi Indians: Hearing before SCIA, 96 congr., 1 sess., May 15,
1979. Wash. (D.C.), 1980. P. 329—30.
" Wa/мУм/йд A. Op. cit. P. 495—505.
* Рассчитано no: Census of population, 1960. PC(2)-1C. P. 104; 1970. PC(2)-1F. P. 120; US
News and World Rep. 1983. May 23. P. 70.
" Federal Housing Assistance for Indian Families (далее: FHAIF) // Oversight hearings before
Committee on interior and insular affairs (далее: CJJA)), 97 congr., 2 sess., Mar. 4, 1982. Wash.
(D.C.), 1983. P. 170; Nation. 1983. Febr. 12. P. 179.
* FHAIF. P. 50.
^ Testimony of Native American Rights Fund, 1980 // Federal Indian Housing Programs: Hearing
before SCIA, 96 congr., 2 sess.,Aug. 19, 1980. Wash. (D.C.), 1980. P. 99.
* National Tribal Chairmen Association. Position Paper, 1979 // Indian Economic Development
Programs: Oversight hearing before CJJA, 96 congr., 1 sess., June 26 - Nov. 27, 1979. Wash.
(D.C.), 1980. Pt 2a. P. 7—8.
" Congr. Rec. 1984. Vol. 130. P. S121.
Indian Health Care Improvement Act Amendments (далее: IHCIAA) of 1984: Hearing before
CIIA, 98 congr., 2 sess., Apr. 22—29,1984. Wash. (D.C.), 1984. P. 285, 397.
" US News and World Rep. 1980. June 16. P. 60.
^ Pierre Indian Learning Center. Testimony, 1982 // Oversight of BIA and IHS budget
submissions: Hearing before SCIA, 97 congr., 2 sess., Febr. 26, 1982. Wash. (D.C.), 1983. P.
290—97.
Report of Navajo — Hopi Relocation Comission: Hearing before SCIA, 96 congr., 2 sess., May
20, 1981. Wash. (D.C.), 1983. P. 173—180.
"NACYF. P. 15.
" Testimony of United Indian Recovery Association, 1985 // Indian Juvenile Alcoholism
Eligibility for BIA schools (далее: НА): Hearing before SCIA, 199 congr., 1 sess., Sept. 18,
1985. Wash. (D.C.), 1985. P. 89.
79
^ Testimony of J.Stiffarm, member, Fort Peck Tribe, Nov. 18, 1985 // Sexual molestation of
children in Indian country (далее: SMCIC): Hearing before Committee on judiciary, 99 congr., 1
sess., Nov. 19, 1985. Wash. (D.C.), 1986. P. 9.
" US News and World Rep. 1985. Sept. 2. P. 53.
' Pierre Indian Learning Center. Testimony, 1982 // Oversight of BIA and IHS budget
* submissions. P. 290, 296.
о SMCIC. P. 18.
" Statement of I.Trottier, Indian Health Service, Fort Peck Indian Reservation, 1985 // SMCIC. P. 6.
" Statement of S.Haijo, executive director, National Congress of American Indian. Nov. 19, 1985
//SMCIC. P. 19.
*IJA. P. 75.
" American Indian Law. Relationship to child abuse and neglect. Special report of National
center of child abuse and neglect, Department of Health and Human Services. Wash. (D.C.),
1981. P. 28.
* Indian Child Welfare act of 1978: Hearing before СПА, 95 congr.,2 sess., Febr. 9 - Mar. 9, 1978.
Wash. (D.C.), 1981. P. 29—30.
Ethnic Groups, 1983. N 3. P. 151—171.
* Oversight of Indian Child Welfare act of 1978: Hearing before SCIA, 98 congr., 2 sess., Apr. 25,
1984. Wash. (D.C.), 1984. P. 271—272.
" Congr. Rec. 1985. Vol. 132. P. S 14688.
" SMCIC. P. 18.
* Ал/:ал&гаял^г В. To live in two worlds: American Indian youths today. N.Y., 1984. P. 119.
<° Ibid. P. 8—9.
" Wa/tr/ta/Hg A. Op. cit. P. 473—75.
Американские эскимосы
Я.А. Лапулемм?
В американской этнографической литературе существуют несколько точек
зрения относительно главной единицы традиционного общества эскимосов.
Сторонники одной из них считают основой эскимосского общества нуклеар-
ную семью, которая вела свое домашнее хозяйство (Поспишил, Габсер). С
другой стороны, канадский ученый Л. Гемпл определил эскимосскую
семью как коллектив личностей, живших в одном жилище. По его мнению,
в большинстве районов американской Арктики были распространены нук-
леарные семьи, хотя в них часто входили единокровные или адаптирован¬
ные родственники брачной пары, их супруги и дети. Несколько семей, ко¬
торые располагались вместе лагерем и ставили свои жилища поблизости
друг от друга, Гемпл называет локальной группой*, а их совокупность —
региональным объединением, которое занимало уже более обширную тер¬
риторию, используя ее как охотничью.
Точка зрения американского этнолога Э. Берча несколько иная. Он счи¬
тает, что основой эскимосского общества была родственная группа, и, по¬
скольку она использовалась как охотничья, родство являлось фактором со¬
циальной организации. Родственные связи становились абсолютно необходи¬
мыми для защиты индивидуума, так как жестокость к тем, кто не имел
родственной поддержки, например к сиротам, была распространена повсе-
80
местыо. Поскольку подобные связи играли основную роль, некоторые або¬
ригенные деревни, по мнению Берча, были почти полностью многопоколен-
ными едиными семьями. Он исследовал такие деревни в северо-западной
Аляске еще в 60-х годах XX в.* Берч замечает также, что, рассматривая
нуклеарную семью как основу социальных отношений, нельзя объяснить
размах и гибкость родственных связей у эскимосов.
Рассмотрим конкретно традиционные формы и типы семей у различных
групп эскимосов США и Канады, какими их наблюдали ученые в начале
XX в. У тихоокеанских эскимосов хозяйство состояло из нескольких замуж
них сестер, их семей и нескольких неженатых сиблингов. Оно могло охва¬
тывать одну более старую пару и нескольких обедневших родственников
или сирот. Статус последних был ненамного выше, чем положение рабов,
добытых путем обмена или в результате военных действий. Этот вид семьи
в американских исследованиях называют расширенной, считается, что она
образовывалась в результате расширения нуклеарной. Последняя, в свою
очередь, сокращалась, когда отдавали ребенка на усыновление, или расши¬
рялась, когда преуспевающий муж брал вторую жену".
У эскимосов юго-западной Аляски нуклеарные семьи жили в одном жи¬
лище только в тундре, в охотничьем или рыболовном лагере, образуя общее
домохозяйство (хаусхолд). Когда они селились на берегу моря, мужчины и
мальчики жили в кажиме (общинном доме), в то время как женщины и де¬
ти занимали индивидуальные жилища*.
Домохозяйство нунивакских эскимосов (Западная Аляска) могло охваты¬
вать, например, двух братьев и их семьи или более старую пару с соб¬
ственными детьми и детьми одного или обоих супругов от предыдущего
брака". До начала XX в. постоянными обитателями дома были женщины с
детьми, а мужчины жили в мужских домах.
На о-ве СвЛаврентия эскимосы селились в разбросанных мелких посе¬
лениях, в каждом из которых доминировала патрилинейная расширенная
семейная группа. Основной единицей являлась семья-домохозяйство, ко¬
торая могла быть и нуклеарной, и расширенной. Расширенная включала по¬
коления дедушек, женатых и неженатых сиблингов супружеской пары".
Основной социальной единицей у эскимосов Берингова пролива явля¬
лось домохозяйство, которое занимало отдельное жилище. Оно могло состо¬
ять из жены и супруга, одного или двух детей и нескольких других род-
ствеников^.
У эскимосов залива Коцебу семьи также различались по структуре. Не¬
которые были маленькими, географически изолированными, включающими
примерно шесть человек, другие увеличенными, билатерально расширенны¬
ми, „локальными", по выражению Берча, семьями, которые могли включать
и 20 и 100 членов. Каждая локальная семья подразделялась на несколько
„домашних семейных союзов" (домохозяйств), чьи члены жили в отдельных
жилищах. Локальные семьи являлись самообеспечивающимися коллектива¬
ми, т.е. их члены могли значительный промежуток времени существовать
без контакта с другими группами, поскольку они осуществляли полный
цикл производства и потребления. Кроме того, локальная семья выполняла
функцию защиты своих членов. Такая группа жила под руководством ста
рейшины (умилика) и имела общественный дом — кажим". Домохозяйства,
на которые дробились локальные семьи, объединяли шесть семь человек,
8!
хотя численность семьи могла быть и больше и меньше. Большинство домо-
хозяйств представляло тип расширенной супружеской семьи.
На северном побережье Аляски эскимосский поселок также состоял из
группы отдельных билатерально расширенных семей, вступавших между
собой в брачные отношения*. Их основой являлись домохозяйства, а фун-
кцией — кооперация, взаимная помощь и защита.
Для внутренних районов северной Аляски была характерна нуклеарная
семья. Она редко функционировала отдельно; чаще такая семья включалась
в более расширенную семью родителей одного из супругов, обычно
жены".
У эскимосов р.Маккензи продуктивное объединение в зависимости от
сезона варьировало от простой нуклеарной семьи или групп семей (в пери
од рыбной ловли) до большой группы в 300 и более человек (в китобойный
сезон). Зимой каждая нуклеарная семья „поддерживала свою кухонную лам¬
пу", имела свои запасы пищи и готовила еду отдельно", т.е. выполняла
функции домохозяйства.
У канадских эскимосов нетсилик хаусхолд включал группу родственных
нуклеарных и расширенных семей. Первые основывались на супружеской
паре, вторые — на связи сиблингов и их семей". Летом и осенью в связи с
охотой на карибу и рыбной ловлей расширенная семья нетсиликов функци-
онировала как дискретная экономическая единица. Самый старший охотник
в такой семье был ее главой и решал вопросы передвижения, выбирал
охотничьи места, давал молодым советы".
Расширенная семья иглуликов также представляла собой производ¬
ственное объединение. Распределение мяса и шкур координировалось на
этом уровне. Руководил деятельностью такой семьи, как правило, отец. Да¬
же в старости, когда лидерство переходило к старшему сыну, он продол¬
жал консультировать своих родичей.
Локальные группы эскимосов карибу состояли из нуклеарных и расши¬
ренных семей. Так, канадский ученый Арима писал, что из 18 семейных
союзов изучаемого им поселка четыре основывались на связи „родители-
сын", шесть — „родители—дочь", пять — „брат—брат", три — „брат—сестра".
В этих семьях преобладала билатеральность, а наиболее типичной была
патрилокальная расширенная семья, жившая или в большом снежном доме,
или в большой палатке, или в малых палатках, расположенных рядом".
Семейная организация эскимосов коппер и Баффиновой земли — это
изолированная нуклеарная семья". Иногда наблюдались формы расширен¬
ной семьи, внутри которых существовала кооперация.
У лабрадорских эскимосов также известны и нуклеарные, и расширен¬
ные семьи. Нуклеарные встречались реже, а расширенные различались по
виду. Одни состояли из мужа с несколькими женами, другие наряду с суп¬
ружеской парой включали родственников: неженатых взрослых детей, вдо¬
вых сестер, престарелых родителей". Домохозяйство лабрадорских эскимо¬
сов было шире, чем нуклеарная или расширенная семья. Оно состояло из
семей родителей и их женатых сыновей или семей женатых братьев.
Если систематизировать данные по бытовавшим в начале XX в. формам
семей у эскимосов, то можно сделать несколько выводов. Во-первых, основ¬
ной экономической ячейкой эскимосского общества являлось домохозяй¬
ство, которое, в свою очередь, могло состоять из нуклеарной или расши¬
82
ренной семьи или их сочетания. Во-вторых, тип домохозяйства зависел от
преобладающего вида хозяйственной деятельности, которым занималась та
или иная группа в определенный период времени. Индивидуальные охота и
рыбная ловля требовали малых нуклеарных семей, охота на кита или загон
ная охота на карибу — расширенных семей, объединение которых превра
щалось в локальные группы.
Расширенные семьи делились на несколько типов. Первый — это брач-
ная пара с родственниками одной из супружеских сторон. Родственниками
могли быть и родители, и неженатые сиблинги. Второй тип — совокуп¬
ность нескольких нуклеарных семей, связанных родством. Третий тип осно
вывался не на брачной паре, а на полигамном союзе.
Все эти виды и подвиды семей или объединялись в различных сочета¬
ниях, или жили раздельно, но в любом случае основой семьи оставалось до
мохозяйство. Так, у тихоокеанских эскимосов основной ячейкой была рас¬
ширенная патриархальная семья, которая вела собственное домохозяйство.
Подобный же вид семьи отмечен у эскимосов о-ва Нунивак, Берингова про¬
лива, о-ва СвЛаврентия и залива Коцебу. Наряду с ними в тех же регионах
существовали нуклеарные семьи со своими домохозяйствами.
Локальная семья, которую Берч выделяет в самостоятельный тип, в на
шем понимании является общиной, находящейся на стадии перехода от ро
довой к соседской, как ее идентифицировал советский ученый Л.А. Фай
нберг". Это доказывается теми функциями, которые она выполняла у эски
мосов: 1) внутри локальных семей существовали брачные отношения, но
между ними их не было, т.е. поддерживалась эндогамия; 2) существовала
идентификация ее с определенной территорией; 3) каждая община имела
свой годовой цикл движения по собственной территории; 4) каждая локаль
ная семья являлась самообеспечивающимся обществом, объединяемым как
хозяйственной деятельностью, так и совместными праздниками и церемони
ями.
Фактически большинство аспектов деятельности традиционной семьи у
эскимосов Аляски наблюдалось еще в начале XX в. Спенсер отмечал ста
бильность больших билатеральных семей, которые были, по его словам,
краеугольным камнем деревенской социальной системы, фокусом экономи¬
ческих отношений общин.
Поскольку семейным отношениям предшествует заключение брака, рас
смотрим кратко этот институт у эскимосов. Эскимосские общины были,
как правило, эндогамны. Хотя не существовало никаких специальных пра
вил, эндогамия соблюдалась как общепринятая норма. Однако в маленьких
общинах часто недоставало людей подходящего брачного возраста, что вы
нуждало мужчин покидать общину, чтобы найти себе жену. Поэтому мож
но сказать, что при обычном соблюдении эндогамии не было и твердого
запрета нарушать ее.
У большинства групп эскимосов отмечены твердо установленные прави
ла относительно того, кто может или не может быть брачным партнером.
Запрещались браки между близкими кровными родствениками: параллель
ными кузенами и сиблингами, родителями и детьми, дядями и племянница
ми, тетями и племянниками. Исключение составляли эскимосы карибу, у
которых, хотя и редко, могли жениться дяди и племянницы, тетки и пле
мянники. Кроме того, у эскимосов северной Аляски супруг избегал сексу
83
ального общения с сестрами жены. Повсеместно нельзя было жениться тез
кам (одно имя могли носить и мужчины, и женщины) и людям, имеющим
одинаковые амулеты". У нунивакских эскимосов мужчина мог жениться на
женщине и ее дочери или на своей мачехе после смерти отца. Допускался
брак с кросс-кузеном или наследовавшим ему партнером.
У эскимосов о-ва Нунивак первый брак был предпочтителен между
юношей 20 и девушкой 13 лет. Эскимосы внутренних районов северной
Аляски женились обычно между 16 и 25 годами. У эскимосов Берингова
пролива девочки обручались уже с десятилетнего возраста с мужчинами
гораздо старше них". Большая разница в возрасте между супругами обьяс
няется нехваткой брачных партнеров.
Почти у всех групп эскимосов брак начинался с переговоров между ро
дителями молодых и обмена подарками. У тихоокеанских эскимосов брак
считался заключенным после обмена подарками, после чего мужчина посе
лялся вместе с женой. У эскимосов Берингова пролива также отсутствова
ли формальные церемонии: мужчина обычно давал своей избраннице парку
или другую одежду, демонстрируя этим свое намерение жениться на ней.
У эскимосов центральной Арктики обручение происходило в раннем
возрасте, иногда сразу после рождения детей. У иглуликов родители невес
ты во время обручения получали подарок. У нетсиликов обручением зани-
мались матери будущих супругов, причем предпочитались родственники их
ближайшего окружения (кузены). На Баффиновой земле брак основывался
на договоре между семьями, в результате чего эти семьи фактически обме-
нивались детьми разного пола. В северном Квебеке при первом браке авто
ритет старших превалировал над желанием потенциальных супругов. Но
при повторном или если мужчина уже стал самостоятельным охотником, он
мог сам выбрать себе жену".
У эскимосов о-ва Св.Лаврентия брак устраивали родители или старшие
родственники. Иногда там встречалось обручение детей. Заключение брака
проходило несколько стадий. Сначала семьи жениха и невесты обменива
лись подарками: орудиями труда, оружием и любыми другими товарами.
Потом жених поселялся в доме невесты для выполнения „работы жениха",
которая длилась около года. Его обязанности были безграничными: он охо
тился со своим будущим тестем и делал все, что необходимо было делать
мужчине по хозяйству. В конце этого периода начиналась сексуальная связь
между женихом и невестой. Следующая ступень социального признания
была решающей. Молодая пара переселялась в дом жениха, затем туда при
ходили родственники девушки с нартами, груженными подарками: шкурами,
продуктами, охотничьими принадлежностями. С переселением в дом жениха
и получением подарков брак признавался совершенным^'.
Как видим, форма заключения брака у эскимосов о-ва Св Лаврентия со
стояла из двух частей. Первая — отработка за супругу и добрачное сожи¬
тельство и вторая — обмен подарками. У других групп эскимосов также
прослеживаются обе эти части, но в разных контекстах. Так, отработка
встречалась у иглуликов и эскимосов о-ва Баффин, а широкое распростра
нение добрачной свободы девушек отмечали многие исследователи.
Однако у некоторых групп эскимосов брак окончательно признавался
только после рождения ребенка, например у эскимосов северного побе
режья Аляски, при условии, что мужчина приносил в хозяйство дичь и по
84
мещал в общем жилище свою собственность^. У эскимосов о-ва Нунивак
только после рождения ребенка жена могла учить охотничьи песни мужа и
знакомиться с его генеалогией, т.е. становилась полноправным членом
семьи своего мужа. Габсер, исследовавший эскимосов внутренних районов
северной Аляски, отмечал, что семейные связи укреплялись после рожде
ния нескольких детей, когда новое хозяйство становилось составной частью
общины^.
Кроме этой главной и наиболее распространенной формы брака, у эс¬
кимосов, на наш взгляд, существовали и другие формы, не приводившие к
образованию семьи, но игравшие важную роль в социальных и экономичес¬
ких отношениях. Так, Хейнрич отмечал у эскимосов Берингова пролива на¬
личие двух признанных форм брака. Первичный — поселенческий — и доба
вочный, который включал обмен обоими супругами. Социальные связи, су
шествовавшие между супругами после первичного брака, при добавочном
прерывались^. Берч называет указанную форму брака собрачием^. Собра-
чие, по Берчу, это обмен брачными партнерами между двумя супружески
ми парами. Обмен мог осуществляться и часто, и всего один раз за всю
жизнь.
Кроме добавочного брака, у некоторых групп эскимосов отмечалась по¬
лигамия, причем наиболее часто в полигинийной форме. У эскимосов зали-
ва Коцебу, северного побережья Аляски, устья р. Маккензи она составляла
не более 5% всех браков. Гораздо шире она была распространена у эскимо¬
сов центральной Арктики — иглулик, нетсилик, карибу, несмотря на то что
у этих же групп наблюдалась и наиболее сильная диспропорция полов в
виде нехватки женщин брачного возраста. Кстати, эта нехватка способство¬
вала развитию там обычая умыкания женщин как с убийством супруга, так
и без него^.
У эскимосов Берингова пролива вожди и хорошие охотники имели двух
и более жен, между которыми обычно происходило разделение труда в хо
зяйственной сфере. Первая жена занималась шитьем одежды, вторая, более
молодая, вела хозяйство. Полиандрические браки отмечались у тихоокеан
ских эскимосов, причем статус второго мужа не превышал статуса слуги.
У эскимосов иглулик, карибу, нетсилик полиандрия была спорадической и
нестабильной.
В полигинии и полиандрии эскимосов о-ва Нунивак прослеживается
тенденция к бракам с двумя сестрами или с братьями. Полигамия эскимо¬
сов юго-западной Аляски и Лабрадора, а также карибу чаще всего была со-
роральной. В противоположность этому на северном побережье Аляски по
лигамные браки никогда не заключались с братьями и сестрами^.
Твердых правил поселения после заключения брака не существовало.
Так, например, у тихоокеанских эскимосов молодые обычно уходили жить
к родителям жены. Такое поселение чаще всего было временным. У эски¬
мосов юго-западной Аляски поселение тяготело к матрилокальному, поэто
му женщина не только своих дочерей растила в родном доме, но и ее доче¬
ри растили следующее поколение детей в том же самом доме. На о-ве Св.
Лаврентия молодые селились в доме жениха. У эскимосов Берингова про
лива поселение могло быть и патрилокальным, и матрилокальным, и даже
иногда неолокальным, у лабрадорских — вирилокальным и уксорилокаль-
ным. На о-ве Баффина брачное поселение было вирилокальным после того,
85
как муж жил какой-то период в доме тестя. Но, когда семья имела только
одну дочь, ее родители могли требовать, чтобы ее семья жила с ними по¬
стоянно. Практически только обстоятельства диктовали, где поселить¬
ся молодой паре: они могли жить и у родителей одного из супругов, и в
новом жилище, и с сиблингами одной стороны или даже уйти в
новую общину.
На наш взгляд, эскимосская семья выполняла четыре основные фун¬
кции: экономическое производство и потребление, воспроизводство нас еле
ния, обучение и социализации молодого поколения, расширение связей вза¬
имной помощи и кооперации. Причем в случае сосуществования нуклеар-
ной и расширенной семей происходила специализация в их функциях. Нук-
леарная заботилась о рождении и воспитании детей, социализации и обуче¬
нии молодежи, а главной функцией расширенной семьи становились эконо¬
мическое производство и потребление. Таким образом, на индивидуума воз
действовали два взаимосвязанных процесса — развитие его личности в нук-
леарной семье и подавление индивидуализма в системе расширенной
семьи.
Супружеская пара, создавая семью, вступала не только в интимные, но
и в экономические отношения, т.е. отношения производства и потребления,
которые необходимы для существования ее членов. В рамках этих отноше
ний происходило четкое разделение труда по полу: мужчины убивали жи¬
вотных, необходимых для пропитания, шитья одежды, строительства жи-
лищ, женщины готовили еду, ухаживали за детьми, шили и чинили одеж
ду, занимались собирательством. Они контролировали семейные запасы пи¬
щи и те предметы материальной культуры, которые делали сами. Посколь¬
ку семья-домохозяйство была в большой степени экономически самообеспе¬
чивающейся ячейкой, главным центром производства, в который оба супру¬
га вовлекались на равных, то страдала вся семья, если кто-то уклонялся от
своих обязанностей или не справлялся с ними.
Экономическая поддержка семьи мужчиной осуществлялась даже в том
случае, когда он жил в общинном доме — кажиме и ему приходилось толь¬
ко навещать свою жену, как это было, например, на о-ве Нунивак. Стари
ки, достигшие преклонного возраста и жившие в семьях детей, также уча
ствовали в хозяйственной деятельности по мере возможности.
Вторая функция — воспроизводство населения. Как уже отмечалось вы
ше, рождение детей в эскимосском обществе могло происходить и без об
разования семьи. В таком случае ребенок входил в семью родственников,
чаще всего родителей матери. Но в большинстве случаев рождение ребенка
означало окончательное формирование семьи, ее укрепление и даже обще
ственное признание.
Третья функция — обучение и социализация молодежи. В эскимосской
семье дети были в высшей степени желательны^. Их кормили грудью до
трех лет, а иногда и дольше. Они росли в обстановке вседозволенности, их
редко или никогда не наказывали. От дурных поступков детей удерживали
увещеваниями, иногда насмешкой. В то же время их закаливали и учили
терпеливо переносить невзгоды.
Дети младшего возраста пользовались неограниченной свободой, но, вы¬
растая, они должны были безоговорочно повиноваться родителям вплоть до
зрелости. Детство длилось от 1,5 до 12—14 лет. Дети много играли, но в
86
играх, имитируя старших, они обучались навыкам, необходимым для выжи
вания в суровых условиях.
Между сиблингами одного пола существовала возрастная субординация.
В отношениях сиблингов разного пола наблюдалась сдержанность.
Отношения между родителями и детьми одного пола отличались особой
любовью. Девочки были тесно связаны с женщинами, обучаясь искусству
обрабатывать шкуры, делать обувь. Они самостоятельно выполняли такую
работу, как сбор топлива или растений и ягод, присматривали за младшими
братьями и сестрами. Шестилетние девочки на юго-западе Аляски уже по¬
могали плести маты. Хотя дочери с малолетства знали обычаи и правила по
ведения, взрослые контролировали их до тех пор, пока они не начинали де
лать всю женскую работу самостоятельно. У тихоокеанских эскимосов тату¬
ировка подбородка означала, что девушка достигла пубертатного возраста**.
Мальчики до 12 лет в играх копировали взрослых охотников. Совсем
маленькими они впрягали в игрушечные нарты щенят, а с 12 лет уже мог¬
ли использовать собачий транспорт для доставки мяса в лагерь, рубить дро
ва и ходить в короткие охотничьи походы. У тихоокеанских эскимосов
мальчики в этом возрасте переходили под покровительство взрослого, чаще
всего дяди. У нунивакских эскимосов ребенок с пяти лет жил в кажиме с
мужчинами, где он должен был быстро идентифицироваться с ними, слу¬
шая их, наблюдая за их деятельностью и перенимая их опыт. Там мальчики
приобретали знания местной географии, повадок животных. Умения и улов
ки, которые способствовали успеху в охоте, переходили от отца к сыну,
часто при передаче предметов охотничьего снаряжения или охотничьих пе
сен, имевших по воззрениям эскимосов особую силу. В возрасте 16 лет
юноши уже принимали участие в охоте наравне со взрослыми. Юношеский
период длился от пубертации до брака.
Если в семье эскимоса с о-ва Баффин не было ребенка желанного по¬
ла, то родители обучали сына женским занятиям, а дочь — мужским, соот¬
ветственно чему давались имя и одежда. Детский травестизм встречался и
у аляскинских групп эскимосов.
С образованием новой семьи возникали и новые связи родства и свой¬
ства, которые выполняли функции взаимной помощи и кооперации. В аме¬
риканской литературе отводится особое место этим институтам".
Основой партнерства могли стать различные проявления общественной
жизни: охотничьи и рыболовные артели, усыновление, помолвка, отношения
тезок, обмен женами. Основой, на которой могло возникнуть объединение,
были брак, развод, вдовство, серьезное или шутливое партнерство, обмен
товарами или тороговля, дележ мяса, танцы, песни, спортивная борьба,
амулеты и ритуальное покровительство. Но нас в данном случае интересу¬
ют те формы объединений, которые создавались на основе брачного или се¬
мейного союза: помолвка, обмен супругами, усыновление.
У эскимосов получили сильное развитие кровнородственные связи, ко¬
торые обязывали ко взаимной ответственности и помощи. Кровное родство
поддерживалось очень активно, вплоть до кровной мести. Некоторые прави¬
ла и привилегии такого родства переносились и на родню брачного партне¬
ра. Кроме того, в круг кровных родственников входили усыновленные дети
или адоптированные родственники с отцовской и материнской стороны. Это
родство распространялось на второе и третье поколения. Дети, появившие¬
87
ся Б результате обмена женами, также фактически становятся родней друг
другу. Мужчины, жившие с одной женщиной до ее брака, становились в
особые отношения друг к другу, т.е. неродственные отношения заменялись
псевдородственными.
После создания семьи жена могла быть отдана другому на время, что
становилось основой для возникновения партнерства между мужчинами, ук¬
репляло связь между неродственниками. Партнерство по жене считалось та¬
ким же сильным, как кровное родство. Как же соблюдался этот обычай?
Хеннай отмечал, что обряд по обмену женами был более сложным, чем
считалось; существовали особые правила, определявшие тех, кто мог обме¬
нять жен. При таком обмене заключался формальный договор, который из¬
менял социальную структуру общества в пользу семей всех участвующих
сторон и не противоречил другим социальным институтам*'. Инициаторами
обмена могли быть как мужья, так и жены. Наилучшим образом институт
обмена женами изучен на северном побережье Аляски.
Все потомки любого брачного союза (поселенческого, собрачия, поли¬
гамного) считались сиблингами друг другу, хотя между ними были тонкие
различия, такие, как „полные", „наполовину", „сводные". Браки между ни¬
ми запрещались, а общая идентификация препятствовала инцесту в буду¬
щем, что, по мнению Берча, подтверждало его идею: „каждая из форм эс¬
кимосского брака была реальной формой брака и ничем больше"*'.
У всех групп эскимосов получила широкое распространение адопция,
т.е. усыновление детей. Она принимала различные формы, среди которых
существовали и временное использование молодых помощников, и воспита¬
ние сирот или усыновление детей при рождении. С приемными детьми об¬
ращались как с родными. Широко практиковавшаяся адопция влекла за со¬
бой обязательства родства, связывающие не только приемных родителей, но
и их сиблингов с этими детьми. Адопция обычно сопровождалась платой,
если усыновлялся не родственник.
Женщина в семье имела сравнительно высокий статус, хотя она и не
могла участвовать в общественных делах или давать советы мужчинам. И от
мужчины и от женщины требовалось уважительное отношение к родителям
супруга. В юго-западной Аляске это облегчалось проживанием мужа от¬
дельно от семьи. Но даже тогда он не должен был смотреть на отца жены,
говоря с ним. Иногда он просил свою жену вместо себя говорить с ее от¬
цом. Здесь мы сталкиваемся с обычаем избегания тестя.
Приспособление молодой жены к новому окружению не всегда прохо
дило легко. Трения между супругами или новыми родственниками часто
приводили к разводу, который не был слишком формализован. Практически
развод у эскимосов состоял нг разрыве поселенческих связей и окончании
половых отношений. Подобно браку, он не сопровождался специальной це¬
ремонией. Просто один супруг покидал другого либо выгонял, в зависимос¬
ти от обстоятельств. Любой из супругов мог быть инициатором разрыва.
Фактически все, что было получено за женщиной, возвращалось в ее род¬
ную семью или к ее родственникам. После развода любой из бывших суп¬
ругов мог жеииться снова и не раз, родственные связи, установленные в
результате брака, сохранялись.
Эскимосский развод больше походил на разделение (сепарацию), чем на
развод в современном понимании, т.е. связи разрушались не полностью, они
88
дезактивировались. Развод в традиционном эскимосском обществе встречал¬
ся достаточно часто. Берч, например, отмечал, что хоть однажды, но каж¬
дый нарушал поселенческую связь, особенно в начале семейной жизни^.
Основной причиной развода являлась неверность одного или обоих суп¬
ругов. Однако в данном случае „неверность" означала сексуальные отноше¬
ния вне сферы традиционной брачной системы. Другой серьезной причиной
для развода служили неудачи одного из супругов в хозяйственной деятель¬
ности, ведении хозяйства, выполнении своих экономических обязательств,
могли быть также и разногласия в вопросе воспитания детей.
Если разводящаяся пара имела одного и очень маленького ребенка, он
обычно усыновлялся другой семьей, чаще родственниками одного из роди¬
телей. Если детей было несколько и они были постарше, они оставались с
матерью и усыновлялись ее новым супругом. Однако дети в любом случае
не теряли связей со своими реальными родителями, они просто получали
добавочных. Во втором случае ребенку, несмотря на возраст, разрешалось
проявлять свободу выбора — с кем из родителей жить.
Имущественные споры редко осложняли развод, поскольку при узкой
специализации производственной деятельности каждая вещь имела своего
хозяина. Следовательно, когда происходил разрыв, каждый брал то, что
принадлежало ему и что было необходимо для работы.
Таким образом, можно выделить основные черты семейно-брачного сою¬
за у эскимосов в начале XX в. Основной экономической единицей было до¬
мохозяйство. Оно могло состоять как из нуклеарных, так и из расширенной
семьи. При заключении брака эскимосами соблюдались определенные зап¬
реты, однако устройство брака не было формализовано. Практиковалось об¬
ручение младенцев, отработка за жену, добрачная свобода девушек, обычай
дарить свадебные подарки.
У эскимосов можно выделить три формы брака: основной (он же пер¬
вичный и поселенческий), собрачие и полигамия. Сосуществование различ¬
ных форм брака являлось, по-видимому, остаточным явлением господство¬
вавшего прежде группового брака. Эти черты сохранились благодаря спе¬
цифическим природным условиям, препятствовавшим развитию производи¬
тельных сил. Для выживания народа стали необходимыми расширенные
родственные связи и кооперация, основанная на псевдородственных связях.
Основными функциями традиционной эскимосской семьи являлись про¬
изводство и потребление, воспроизводство населения, обучение и социали¬
зация молодого поколения, расширение связей взаимопомощи, в которые,
кроме кооперации и родства по жене, входила широко практиковавшаяся
адопция детей.
Социально-экономическое развитие севера Северной Америки в первой
половине XX в. в разных регионах происходило неодинаково: на юго-восто¬
ке Аляски быстрее, на севере Аляски и в Северо-Западных Территориях
Канады медленнее. В зависимости от степени проникновения капитала и
товарно-денежных отношений шло разрушение хозяйственного уклада обще¬
ства охотников циркумполярной зоны, размывание традиционных экономи¬
ческих отношений, нарушение родо-племенных связей, постепенная консо¬
лидация отдельных племен эскимосов, их языковая унификация. Соот¬
ветственно и традиционная эскимосская семья подверглась сильным изме¬
нениям.
89
Если в начале века эскимосское общество могло существовать только
за счет объединения людей в крупные семьи и общины, то развитие капи
талистических отношений способствовало распаду расширенных семей, вы¬
делению нуклеарных. С введением пушной охоты, огнестрельного оружия
отпала необходимость в корпоративном объединении и как следствие — во
взаимопомощи и взаимозависимости, т.е. в тех элементах, которые были ос¬
новой расширенной семьи в прошлом.
Видоизменились системы взаимной помощи, социального контроля, вза¬
имных обязательств, присущие некогда большой семье. Исчезли коллектив¬
ная ответственность и кровная месть. Функция расширенной семьи — снаб¬
жать продуктами своих членов — была подорвана появлением сначала тор¬
говых агентов, позже магазинов, а также введением системы социальной
помощи.
Продолжавшаяся деятельность миссионеров и христианизация эскимо¬
сов сказались на исчезновении или сокращении таких институтов, как
убийство новорожденных девочек, стариков, обмен супругами и детское об¬
ручение. Под их влиянием эскимосы стали отдавать своих детей в школы
при миссиях. Однако это обучение было ориентировано на социальную,
языковую и экономическую аккультурацию.
К середине XX в. произошли оседание и концентрация коренного насе¬
ления, сселение их из маленьких стойбищ в поселки.
В 60—70-х годах XX в. на структуру и функцию эскимосской семьи
продолжали влиять различные факторы. Одни из них были следствием ак¬
тивного экономического освоения северных территорий, другие — частью
государственной политики по отношению к коренному населению.
В связи с промышленным бумом значительно увеличилась численность
белого населения, особенно в крупных городах и промышленных центрах
Севера. Под влиянием как промышленного развития, так и правительствен¬
ных программ среди коренных жителей усилились миграционные процес¬
сы, причем миграция изменила свое направление. Если раньше процесс
концентрации происходил в основном за счет увеличения числа жителей
мелких поселков, то в 60—70-х годах начался ярко выраженный процесс
урбанизации, который шел за счет переселения жителей из мелких в более
крупные поселки и города. Развитие нефтедобычи на Аляске в 60-х годах
направило миграцию эскимосов в районы с преобладающим пришлым насе¬
лением и одновременно увеличило приток белых в поселки коренных жи¬
телей.
Факторами, активно повлиявшими на эскимосскую семью, стали такие
правительственные акции, как внедрение медицинской помощи и программ
строительства дешевого жилья для эскимосов Аляски и Канадского Севера.
Результатом осуществления медицинских программ стал популяционный
взрыв, который повлек изменения в демографической структуре общества
— многодетность семей и омоложение популяции. Проведение программ жи¬
лищного строительства привело к массовому оседанию, отказу от лагерного,
охотничьего образа жизни. Поселок стал основной базой для охотника. Рабо¬
та по найму и социальная помощь приобрели экономическое значение.
Американские ученые отмечают, что, несмотря на концентрацию эски¬
мосов и укрупнение поселков, стало труднее найти супруга. Если раньше
выбор партнера был ограничен определенными семьями невест и женихов,
90
то теперь, когда рамки эндогамных запретов распались, потенциальных же¬
нихов и невест все равно не хватает из-за возрастания миграций
молодежи на заработки или учебу. После шестого класса образование мож¬
но получить только вне родных поселков, которые ученики вынуж¬
дены покидать надолго, что привело к отсрочению браков и как следствие
— к половой беспорядочности. Девушки стали выходить замуж значи¬
тельно позднее, чем в традиционном браке: средний возраст брачующихся
21 год.
Отсрочение браков, повышение брачного возраста привели к резкому
снижению количества браков на севере Канады. Например, исследование
канадского ученого Холла показало, что в поселке Грейт-Уэйл-Ривер на 19
молодых мужчин в возрасте 21—25 лет приходилось только 4 женатых*. У
эскимосов иглуликов также отмечался рост числа неженатой молодежи
брачного возраста, проживавшей вместе с родителями. С 1955 по 1973 г.
эта категория выросла в Понд-Инлет с 2,55 человек па семью до 3,49; в
Арктик-Бэй — с 2,42 до 3,08; в Иглулике — с 2,75 до 4,16 и в Рипалс-Бэй
— с 2,52 до 3,20 *.
Миграции в города, урбанизация коренного населения породили дис¬
пропорцию полов, поскольку переселялись преимущественно бессемейное
и более молодое, чем прежде, поколения.
Это подтверждается и переписями населения. Если посмотреть общую
численность эскимосского населения Аляски, то по всем районам число
мужчин превышало число женщин, однако в крупных городах (Анкоридж,
Фэрбанкс, Джуно, Кетчикан, Ситка и др.) картина была совсем другая —
женщин было больше мужчин. В Канаде в 60-х годах в сельской местности
проживало 47 742 мужчины и 44 167 женщин — индеанок или эскимосок,
а в городах — 7 832 мужчин и 9 655 женщин. Та же закономерность про¬
являлась и в 70-х годах*'.
Однако из-за нехватки брачных партнеров только 10% женщин брачного
возраста в городах Аляски находились вне брака (мужчин 41%Р\ Такая
большая разница в цифрах показывает, что эскимосским женщинам удава¬
лось выйти замуж за людей другой национальности, поскольку эти города,
как правило, расположены вне районов традиционного расселения эскимо¬
сов. В исконно эскимосских местах расселения пропорция между полами
продолжала выдерживаться*.
Функционирование семьи американских эскимосов в условиях межкуль¬
турных контактов наложило определенный отпечаток на ее характер. Одна¬
ко в американской этнологии исследования семьи в межкультурном контек¬
сте недостаточны. Научная литература рассматривает ее особенности под
углом социальных изменений, анализируя внутренние связи, задачи и фун¬
кции семьи только как социальной системы.
Несмотря на скудость материалов, перепись 1971 г. дает нам возмож¬
ность выявить некоторые закономерности семейно-брачной структуры на
Аляске именно в контексте межкультурных контактов. В зависимости от
соотношения численности приезжего и коренного населения мы условно
выделили четыре типа расселения эскимосов. I тип — преимущественно эс¬
кимосские места обитания при малом числе белых; II — большая числен¬
ность эскимосов в окружении крупной популяции белых; III — индейско-
эскимосское население в окружении крупной популяции белых; IV — ин-
9!
Таблица* брачмал c/apy^fnypa зскмичосон Ааясла
Тип
расселения
Численность эскимо¬
сов от всего населе-
иия данной террито¬
рии, 9Ь
% от общей численности эскимосов брачного возраста
Одиноких
находящих¬
ся в браке
отдельно про¬
живающих
ВДОВЫХ
разведен¬
ных
1
84
41
57
1.2
5,4
1,3
П
14
35
54
1.9
5,5
3,9
Ш
5
45
43
2.4
6,5
5,5
IV
67
39
52
4,3
5,9
0,5
дейско-эскимосская популяция при небольшой численности белых. Приве¬
денная выше таблица дает представление об отдельных элементах
брачной структуры эскимосов Аляски в кросс-культурном контексте, т.е. не
только в местах преимущественного расселения эскимосов, но и в контактных
зонах.
Из таблицы видно, что процент одиноких был почти одинаково большой
во всех видах расселенения; он колебался от 35 до 45, так же как и про¬
цент находящихся в браке (от 43 до 57). Большая разница существовала в
показателях отдельно проживающих, которых больше всего было именно в
IV типе расселения, — 4,3%. По-видимому, при нехватке брачных партне¬
ров своего этноса эскимосы сочетались браком с приезжими, поскольку
при тех же обстоятельствах, но в окружении большого числа белых про¬
цент отдельно проживающих значительно меньше (2,4). Доля вдовых была
примерно одинакова по всем типам, а самый высокий процент разведенных
— в третьем типе расселения, т.е. в местах смешения с индейцами в окру¬
жении крупной популяции белых, — 5,5 и меньше всего там, где белых
мало (тип I — 1,3, тип IV — 0,5).
В Северо-Западных Территориях Канады в 70-х годах большую часть
всех женатых составляли коренные жители (53% против 25% европейцев)^.
Однако даже при таком положении вне брака находилось 49% аборигенов
старше 15 лет (у белых 26%). Среди них очень большой процент вдовых —
4,2 (у приезжих 1,1), зато процент разведенных значительно выше у неко¬
ренного населения — 2,2 (у коренного 0,2).
В 60—70-х годах расширенная семья становится преобладающей формой
семейной организации. Это связано с отсутствием материальных возможнос¬
тей у молодых людей иметь свой дом. Незамужние матери с детьми жили
также в одной семье со своими родными. Рост числа таких матерей объяс¬
няется, с одной стороны, отказом от браков по традиционным связям и со¬
ответственно разрешенных родителями, а с другой — подавлением добрач
ных отношений в одновозрастных группах молодежи.
При рассмотрении структуры эскимосской семьи в 60—70 х годах нами
выделены следующие ее характеристики: количество детей, процент непол¬
ных семей, проживание в семьях, кроме супругов и детей, других род¬
ственных глав семей, проживание с ними лиц, не связанных родством с
92
главами семей. Переписи показывают, что структура эскимосской семьи
также зависит от места проживания эскимосов.
Наибольший процент неполных и многодетных семей, а также семей с
живущими в них родственниками приходился на районы преимуществен¬
ного расселения эскимосов. В их семьях жили также люди, не принадле
жавшие, с точки зрения статистиков, к этим семьям, но связанные род¬
ством с главами семей. Среди коренного населения процент таких людей
составил 42 против 3,5 от общего числа населения. Кроме того, в перепи¬
сях выделяются категории лиц, вообще не связанных родством с главой
семьи. Процент таких людей среди коренных жителей достигает 24,6 про
тив 2,3 от общего числа населения*".
Проживание в семьях родственников и неродственников главы, в том
числе и детей, указывают на сохранение, особенно в сельской местности,
остатков бывшей расширенной семьи, а также на пережиток адопции, ког¬
да в семью принимались те, кто не мог обеспечить себя пропитанием. Со¬
хранению этих черт способствовали низкий уровень доходов и бедность в
местах основного расселения эскимосов.
Во главе множества семей коренных жителей Аляски в 60—70-х годах
стояли женщины. Количество таких семей возрастало вследствие развода,
сепарации или смерти мужа. Сила семейных связей слабеет, если главе
семьи — мужчине приходится работать, а часто и жить вдали от дома. К
1970 г. на Аляске 12,4% семей эскимосов возглавлялись женщинами (у бе
лых 4, а в среднем по Аляске — 5,14%)**. Это совершенно новое явление,
поскольку в традиционном обществе семья без кормильца существовать не
могла. Оно прождено новыми производственными отношениями и поддер
живается системой социального обеспечения.
В течение 80-х годов особенности социальных, экономических и демо
графических процессов оказали свое влияние на структуру эскимосской
семьи. Эффективная программа ее планирования значительно снизила рож¬
даемость, что, в свою очередь, повлияло на размеры семьи*^. Многие эски¬
мосские женщины стали стремиться к тому, чтобы иметь не больше двух¬
трех детей, рожать первого ребенка они стали позже. Количество молодых
людей брачного возраста, находящихся вне брака, остается достаточно высо-
ким. К тому же появилось много бездетных женщин в фертильном возрасте.
Приведенные факты подтверждаются данными обследования Централь¬
ной Канадской Арктики*^. Так, на о-ве Хольман пик рождений падает на
60-е годы (87), тогда же отмечались самый короткий промежуток между
рождениями детей (26,8 мес.) и самый низкий возраст первородящих мате¬
рей (17,9 лет). К концу 80-х годов эти показатели значительно изменились:
рождений стало 67, интервал между ними вырос до 44,9 мес., а средний
возраст первородящих матерей достиг 19,8 лет.
Состав семей также подвергся изменению в сторону сокращения числа
расширенных семей и увеличения нуклеарных. Если в 70-х годах
расширенная семья в 8 и более человек не была необычной, то теперь хо¬
зяйство составляет 4—5 человек. Это отразилось и на строительстве
жилья для эскимосов: в 70-х годах для них требовались в основном трех
четырехкомнатные дома, а в 80-х основным типом домов стали одно- двух
комнатные.
Возрастание числа хозяйств и уменьшение их размеров связаны также с
93
тем, что молодые люди, как и молодые семьи, имеют возможность приобре-
тать небольшие дома и жить отдельно от родителей.
Сравнение размера и состава семьи эскимосов на о-ве Хольман (Канада)
за 1978 и 1988 гг. показало, что основным типом семей стали нуклеарные,
их число выросло с 31 до 48. Увеличилось число одиноких (в три раза) и
неполных семей (в два раза). Сократилось число членов семей как нуклеар-
ных (с 3,7 до 3,2 человека на семью), так и расширенных (с 6,4 до 4,6)**.
В 80^х годах отмечен бурный рост как разводов узаконенных семей, так
и распада внебрачных отношений. Молодые пары, неженатые официально,
как правило, живут у родителей, дожидаясь возможности покупки соб
ственного жилья. Если раньше такая форма семьи в конце концов узакони¬
валась, то в настоящее время она напоминает пробный брак, который часто
кончается разделением пары.
Вторжение капиталистической экономики и европейской культуры на
Север продолжает изменять социальную структуру эскимосского обще¬
ства. Исчезают системы взаимных обязательств и помощи, социального кон¬
троля, уменьшается количество и разнообразие традиционных объединений,
которые способствовали их экономической стабильности.
С возросшей миграцией населения, уходом молодежи на учебу или ра¬
боту в города все труднее вступать в брак, следуя традицонным связям.
Брачный возраст повысился, достаточно большим остается процент людей,
находящихся вне брака. Высокий процент одиноких в городах связывается с
ростом там психических отклонений в среде коренного населения. Число
разводов выше в тех районах, где значительно преобладает приезжее насе¬
ление.
На социализацию детей влияет и школьное образование, и нарушение
преемствености поколений. Эффективность эскимосской семьи как провод¬
ника социализации сведена к минимуму. Упал родительский контроль и ав¬
торитет старших. Внешкольное время дети и подростки проводят в группах,
которые почти не отличаются поведенческими нормами от групп молодежи
из более южных районов США и Канады. Однако в наиболее отдаленных
районах родители все еще чуствуют себя ответственными за обучение де-
тей некоторым традиционным навыкам.
Разрушающе подействовало на традиционные институты появление
средств массовой коммуникации. Если в традиционном обществе неотъемле¬
мой частью образа жизни был прием гостей, угощение, обмен подарками и
информацией об общинной деятельности, то в настоящее время люди пред¬
почитают сидеть у телевизоров.
В городах и районах с преобладающим пришлым населением растет чи¬
сло межнациональных браков. Ясно прослеживается зависимость размера,
вида и положения эскимосской семьи не столько от этнических или куль¬
турных факторов, сколько от социально-экономических условий ее суще
ствования. ** Сме/лр/б L. Eskimo band organization and the „D.P.Camp" hypothesis // Arctic Anthropology.
1972. Vol. 9. N2. P. 83.
* Лиге/: E. (Jr.) Eskimo kinsmen: changing family relationships in Northwest Alaska. St. Paul,
1975.
' Handbook of North American Indians. Wash. (D.C.), 1984. Vol. 5: Arctic. P. 192.
94
' &ywa/f W. The Kuskokwimiut: riverine Eskimos // This land was theirs: A study of North
American Indians. N.Y., 1978. P. 112—119.
'Еяяйл M. The social culture of the Nunivak Eskimo. Philadelphia, 1946. P. 162—168, 235—244.
' Сй. An Eskimo village in the modem world. N.Y., 1960; 7^/я. An Eskimo deviant from
the „Eskimo" type of social organization//Amer. Anthropologist. 1958. Vol. 60. P. 1140—1147.
^ Яяу D.V. Nineteenth century settlement and subsistence patterns in Bering strait // Arctic
Anthropology. 1964. Vol. 2, N 2. P. 61—94.
'ДмгсЛ E. (Vr.). Op. cit.; Зреясег Я.Е. The North Alaskan Eskimo: A study in ecology and society.
Wash. (D.C.), 1959. P. 152—155.
*ДреясегЯ.Е. Op. cit. P. 75—92.
Gahyer NJ. The Nunamiut Eskimo: hunters of Caribou. New Haven, 1965; Ябыр/л/н/Е. Law and
societal structure among the Nunamiut Eskimo // Explorations in cultural anthropology. N.Y.,
1964. P. 395-^t31.
" D. Mackenzie Delta Eskimo // Handbook... P. 349—356.
ч йя/йит/ A. Development of basic socioeconomic units in two Eskimo communities // Bull. Nat.
Museum Canada. Anthropol. Ser. 1964. Vol. 69, N 202. P. 29.
" Sfeen/ioven G. уяя </ея. Legal concepts among the Netsilik Eskimos of Pelly Bay // Canada. Dep.
North. Affairs and Nat. resources. Rep. 1959. N 3. P. 18.
" AW/ия E.Y. Caribou Eskimo // Handbook... P. 447—462.
" Ммг&?с% G.P. Social structure. N.Y., 1949.
*' Тяу/яг 7.G. Labrador Eskimo settlements of the early contact period // Canada. Nat. Museum
man. Publ. Ethnology. 1974. N 9. P. 67, 75.
" Фабмберз JL4. Очерки этнической истории Зарубежного Севера. М., 1971.
" Едяйл Af. Eskimo childhood and interpersonal relationships. Seattle, 1960; йя/йиг; A. Regime
matrimonial des Eskimaux Netsilik // Homme. 1963. Vol. 3, N 3. P. 89—101; Фабмберз ./L4.
Указ. соч. С. 148.
Яяу DJ. Op. cit.
*Р'Аяд/мг^ 5.Й. Mission chez les Esquimaux Tarramiut du Nouveau-Quebec (Canada) // Homme.
1967. Vol. 7, N4. P. 92—100.
I* ЗУня^м M. Notes on marriage customs of the St. Lawrence island Eskimos // Anthropologica.
1963. Vol. 5, N 2. P. 199—208.
n Дреясег Я.Е. Op. cit. P. 75—82.
^ Смйлег MJ. Op. cit. P. 115.
* Я^япсА A.C, Divorce as an alliance mechanism among Eskimos // Alliance in Eskimo society.
Seattle, 1972. P. 79—88.
^ ДмгсЛ E. (Jr.) Marriage and divorce among the North Alaskan Eskimos // Anthropology for the
eighties. N.Y.; L., 1970. P. 109.
* Дя/йкг/A. Le Regime... P. 89—101.
^ Дреясег Я.Е. Op. cit. P. 75—82.
* йм-%е;-5яи;/: Я. The Chugach Eskimo. Copenhagen, 1953.
^ЕяяГьу M. Alaskan Eskimo ceremonialism. N.Y., 1947.
* Alliance in Eskimo society. Seattle; L., 1972; Ря/яялР. Three kinship systems from the Central
Arctic //Arctic Anthropology. 1975. Vol. 12, N 1. P. 10.
" Яеяя/дЛ E. Function and limitations of Alaskan Eskimo wife trading // Arctic. 1970. Vol. 23,
N 1. P. 24—34.
^ ДмгсЛ E. (Jr.). Marriage and divorce... P. 113.
" Ibid. P. 115.
* йитсА E. (Jr.). Eskimo kinsmen...; Hall L. Great Whale River Eskimo youth: socialization into the
95
Northern town life // Anthropologica. 1973. Vol. 15, N 1. P. 11; //мдАел CA. Under four flags //
Current Anthropology. 1965. Vol. 6, N 1. P. 39.
" Handbook... P. 445.
" 1961 Census of Canada. Ottawa, 1961. Vol. 3, pt 2. Tab. 106. 1971 Census of Canada:
Population. Ethnic groups by age groups. Ottawa, 1971. Tab. 4.
^ Мйая F., Рампой & The demography of the native population of an Alaskan city // Arctic. 1975.
Vol. 28, N4. P. 280.
* 1970 Census of population. Wash. (D.C.), 1973. Vol. 1: Characteristics of populations, pt 3:
Alaska. Tabl. 36, 37.
* 1971 Census of Canada: Population. Marital status by ethnic groups. Ottawa, 1974. Tab. 15.
Census of population. Tab. 36, 37.
<' Ibid. Tabl. 31.
^ 1980 Census of population. Wash. (D.C.), 1981. Vol. 1, chap. A: Number of inhabitants, pt 3:
Alaska. Tabl. 36, 37.
Я. Adolescence and changing family relations in the Central Canadian Arctic // Arctic
Med. Research. 1990. Vol. 49, N 2. P. 87.
" Ibid. P. 90.
Пуэрториканцы в США
RR ДУалмаммо
Влияние североамериканских стандартов жизни на пуэрто-риканскую семью
началось еще с конца XIX в., т.е. сразу после оккупации острова Соединен¬
ными Штатами. Учитывая форсированные темпы „американизации Пуэрто-
Рико, можно было бы предположить, что ко времени массовой эмиграции
на материк островное население уже в значительной степени утратило те
характерные черты семейной жизни, которые являются составной частью
латиноамериканской культуры вообще. Однако, как показано в разделе на¬
стоящего издания, специально посвященному острову, трансформация се¬
мейных традиций на Пуэрто-Рико в XX в. — процесс очень неоднозначный,
идущий на разных уровнях с неодинаковой скоростью и далеко не в одном
направлении. В условиях иммиграции эволюция семьи как этнокультурного
организма особенно осложняется. Давление норм жизни, предлагаемых
американской действительностью, в значительной степени нейтрализуется
такими факторами, как социальная и этнорасовая изоляция пуэрториканцев
в США; двустороний характер эмиграции, препятствующий окончательному
разрыву переселенцев с родиной, ее культурой и традициями; полярность
традиций латиноамериканской и так называемой среднеамериканской
семьи. Что же происходит с пуэрто-риканской семьей в сложившейся ситу¬
ации? Каковы основные тенденции ее развития?
Первое, о чем следует упомянуть, — это условия жизни пуэрто-рикан¬
ской семьи на материке. Несмотря на то что наиболее значительная часть
пуэрториканцев приезжает на материк из города, их лишь относительно
можно называть городскими жителями. Социально-экономические переме¬
ны, начавшиеся на острове после войны, стронули с места огромные массы
96
сельского населения, которые, быстро переполнив промышленные
предприятия страны, устремились дальше, используя город лишь как пере¬
валочный пункт для переезда на материк. В США среда обитания Пересе
ленцев становится качественно иной — современный город гигант с высо
коразвитой промышленностью. По официальным данным американской ста
тистики на 1970 г., в г. Нью-Йорке проживало 98,4% всех семей пуэрто-
риканских иммигрантов. К 1980 г. эта цифра уменьшилась, но несущест
венно (94,5%)', главным образом за счет семей, переехавших в пригород.
По основным социальным показателям семьи пуэрто-риканских иммиг¬
рантов следует отнести к категории низших слоев населения города, при¬
чем со временем положение только ухудшается. Так, если в 1970 г. ниже
официального уровня бедности (около 5 тыс. долларов на семью из четырех
человек в год) в США находились 20,9% пуэрто-риканских семей, то к
1982 г. их насчитывалось уже 42,4% ( при уровне бедности около 10 тыс.
долларов). Для сравнения можно сказать, что в том же 1982 г. ниже офи¬
циального уровня бедности среди населения США в целом находились
25,2% семей, а среди наиболее многочисленной группы испаноязычиого
меньшинства страны мексиканцев — 24,1% семей. К средним слоям населе¬
ния можно отнести лишь 15,2% пуэрто-риканских семей США, доход кото¬
рых в 1982 г. составлял 25 тыс. долларов в год, т е. соответствовал средне¬
американским показателям^.
Не менее выразительна картина жилищных условий пуэрториканцев.
Переселенцы с острова, как правило, селились у своих родствеников и
друзей. Снять квартиру где-либо в другом месте, особенно там, где преоб¬
ладало белое население, было практически невозможно.На фотографиях, по¬
мещенных в американских иллюстрированных изданиях, дома в пуэрто-ри¬
канских кварталах Нью Йорка, окруженные кучами давно не убиравшегося
мусора, с облупленными по всему фасаду стенами, без намеков на зеленые
насаждения*, выглядят крайне убого. Некоторые пуэрториканцы селились
в муниципальных домах, другие снимали жилье у частных домовладельцев.
Последние, пользуясь бедственным положением иммигрантов, делили одну
квартиру на отдельные помещения и сдавали втридорога каждое, обставляя
его приготовленной к выбросу мебелью. По данным официальной статисти¬
ки, квартира пуэрто-риканской семьи в Нью-Йорке в 1970 г. состояла в
среднем из 4,2 комнат, однако фактически эти комнаты получались путем
деления двух- или даже однокомнатной квартиры, причем под полезную
площадь использовались и подсобные помещения*. Кухня часто служила и
ванной комнатой, а в высвободившемся помещении ванной также устраива¬
лись спальные места. В 1970 г. 75,5% пуэрто-риканских семей в Ныо-Йор-
ке не имели необходимых удобств: водопровода, центрального отопления,
ванн и т.п. Собственное жилье было у 14,2% семей*.
Средняя численность семьи иммигрантов, составляющей одно домохо¬
зяйство, на конец 80-х годов равнялась 3,7 человек*. Характерно, что с
1970 г. этот показатель практически не меняется, заняв промежуточное по¬
ложение между среднеамериканским (3,3) и мексиканским (42,1). В 1950 г.
средний численный состав городской семьи пуэрториканцев и на материке,
и на острове был примерно одинаков — 4,6 человека, однако за последую¬
щие 20 лет островной показатель уменьшился, но не в такой степени, как
материковый, составив к 1970 г. 4,2 человека^.
4 Тмя. 3*К. 1065
97
Одна из наиболее существенных причин резкого сокращения числен
ности иммигратской семьи — снижение рождаемости. Особенно это замет¬
но при межпоколенном сравнении. По данным переписи 1970 г., среди
женщин первого поколения в возрасте 25—34 года было 2812 рождений на
1000, а среди женщин второго поколения — 2272 рождений на 1000. За¬
метно уменьшилась доля пуэрто-риканских семей в США, имеющих более
трех детей. Если в 1970 г. такие семьи насчитывали 43,3% от всех семей
пуэрто-риканских иммигрантов с детьми, то в 1986 г. — уже только 31,6.
Сравним: среднеамериканские семьи, имеющие более трех детей, в 1986 г.
составили 25,4%, мексиканские семьи в США — 58,1%*. Таким образом,
многодетная семья — характерная черта культурной традиции пуэрторикан¬
цев — частично сдала свои позиции, заняв все то же промежуточное поло¬
жение между среднеамериканской и мексиканской семьей.
Уменьшение числа детей в пуэрто-риканской семье, с одной стороны,
вызвано такими общими для всех современных городских популяций соци¬
альными процессами, как участие женщин в общественном производстве,
повышение их образовательного уровня, расширение кругозора, а также по¬
требностей, лежащих вне традиционного круга семейных забот. Но, с дру¬
гой стороны, не последнюю роль здесь, видимо, играет и такой фактор, как
безработица кормильца. По данным статистики 1969 г., среди женщин фер¬
тильного возраста, мужья которых имели постоянное место работы, дети
были у 82,3%, а среди женщин той же группы, мужья которых постоян¬
ной работы не имели, только у 4,5%. В последующие десятилетия эконо¬
мический статус пуэрто-риканских семей в США практически не менялся
(к 1982 г. 32% их не имели постоянного заработка кормильца в течение го¬
да) *, так что тенденция к снижению ее репродуктивных установок в зави¬
симости от такого фактора, как безработица кормильца, видимо, сохраняется.
Немаловажным представляется и еще один аспект проблемы. В 1969 г.
детность среди пуэрто-риканских замужних женщин, участвовавших в
общественном производстве, была не только ниже, чем, скажем, у женщин
той же группы среди других испаноязычных меньшинств, но даже ниже,
чем у работающих замужних женщин всего населения США в целом. Этот
факт, отмеченный и среди других иммигрантских групп (и не только в
США), по сей день является предметом обсуждения в этнодемографической
науке, однако удовлетворительного объяснения ему пока не дано. Исходя из
того материала, который имеется в нашем распоряжении, можно предполо¬
жить, что причину следует искать и в области психологии женщин-иммиг-
ранток, о чем подробнее будет сказано ниже.
Формы семейной организации пуэрто-риканских иммигрантов варьиру¬
ют от самых простых (супружеская пара, родители с несовершеннолетними
детьми) до очень сложных, часто сочетающих „вертикальные" и „горизон¬
тальные" виды родства. Надо сказать, однако, что сложные формы семьи
никогда не были нормой для пуэрто-риканской культуры. Различные их ти¬
пы и подтипы довольно часто встречались среди крестьян, но существовали
лишь до тех пор, пока у вновь образовавшейся пары (или пар) не появля¬
лось достаточно средств для покупки участка земли и дома. Нормой, идеа¬
лом семейной организации была малая семья.
Совместное проживание иммигрантов, состоящих в родстве различной
степени, под одной крышей также носит вынужденный, временный харак¬
98
тер. Такал семья не представляет собой единого целого в экономическом
смысле. Подселенцы (даже если это семья брата хозяина) обычно платят за
жилье самому хозяину и пользуются известной автономией в быту. Многие
семьи постоянно сдают часть своей жилплощади, так как плата за нее со¬
ставляет весьма существенную часть их бюджета'*. Что касается простой
формы семейной организации пуэрто-риканских иммигрантов (или малой
семьи), то она насчитывает несколько типов, среди которых особое место
занимает матрифокальная семья. Оговоримся, кстати, что матрифокальная
семья очень характерна и для сложных форм семейной организации пуэрто¬
риканцев. В большинстве случаев — это "вертикальная" связь родства меж¬
ду линиями женского пола. Образование такого типа семей носит ярко вы¬
раженный отпечаток преемственности внутрисемейных установок.
На острове матрифокальная семья является довольно устойчивой тради¬
цией, сложившейся еще во времена плантационного рабства и до сегодняш¬
него дня широко распространенной среди сельскохозяйственных рабочих в
районах выращивания сахарного тростника, а также в окраинных трущобах
больших городов, т.е. там, где бедняцкие слои составляют основную массу
населения. В США матрифокальная семья — характерная черта жизни пуэр¬
то-риканского квартала. Причем, как отметил еще в середине 70-х годов
американский исследователь Д. Фитцпатрик, темпы роста числа матрифо-
кальных семей среди иммигрантов значительно превышают островных. Осо¬
бо примечательно то, что число таких семей растет во втором поколении
иммигрантов. С точки зрения Фитцпатрика, указанная тенденция обязатель¬
но должна была стать одной из определяющих в будущем развитии пуэрто¬
риканской семьи".
Действительно, в комментарии к материалам последней переписи насе¬
ления США среди оценок основных тенденций развития семьи иснаноязыч-
ных меньшинств в первую очередь упоминается беспрецедентный рост пуэр¬
то-риканских матрифокальных семей в стране. В 1982 г. только 40% детей
до 18 лет жили с двумя родителями (по сравнению, например, с 76% мек¬
сиканских,) 54% — с одной матерью. В том же году матрифокальные семьи
среди пуэрто-риканских иммигрантов составляли в общей сложности 45%,
что более чем в 1,5 раза превышало этот показатель на 1970 г. (26%)'^.
Основные условия возникновения матрифокальных семей иммигрантов в
принципе остались теми же, что и на острове, а именно внебрачная бере¬
менность и консенсуальный брак, который всегда отличался меньшей ус¬
тойчивостью, нежели церковный или гражданский. В отношении первого
можно сказать, что внебрачная беременность, давно ставшая привычным яв¬
лением для пуэрто-риканских городов, на материке не встретила какого-ли¬
бо социального или культурного противодействия. Скорее даже наоборот:
растущий процент ранних внебрачных беременностей среди белого населе¬
ния Соединенных Штатов, модели поведения которого воспринимаются им¬
мигрантами как эталон, только способствовал закреплению подобной уста¬
новки среди пуэрториканцев. И негативная реакция матери, живущей в
эльбаррио, на такую новость, как предстоящие роды дочери-подростка, в
первую очередь бывает вызвана, скажем, слишком негроидной соматикой
партнера последней, а уж потом — самим фактом ее беременности'^.
Консенсуальный брак, широко практикуемый на Пуэрто-Рико среди не¬
имущих и малоимущих слоев населения в основном из соображений эконо-
4*
99
мики (при учете, конечно, традиционной лояльности общественного мнения
к такого рода союзам, особенно в районах, где велика социальная гомоген¬
ность населения), на материке становится еще более выгодным. Причина
проста: женщина с детьми, не имеющая мужа, получает в Соединенных
Штатах пособие (так называемое домашнее пособие), которое по сумме час¬
то превышает заработок пуэрто-риканского иммигранта (настолько он ни¬
зок). А учитывая к тому же высокий процент безработицы среди пуэртори¬
канцев мужчин на континенте (в Нью-Йорке, например, он самый высокий
даже по сравнению с другими этническими меньшинствами и неграми)",
государственное пособие часто является единственным источником суще¬
ствования семьи. В результате среди пуэрто-риканских иммигрантов стано¬
вятся частыми случаи имитации матрифокальной семьи. На самом деле ро¬
дители состоят в консенсуальном браке, сознательно не регистрируя его, а
в дни визитов инспектора социального обеспечения мужчина скрывается. В
целях пресечения этой практики, широко распространенной среди пуэрто¬
риканцев Нью-Йорка, визиты инспектора обычно приурочиваются к 5 часам
утра, когда наиболее велика вероятность застать мужчину дома.
Надо сказать, однако, что как только семья иммигрантов приобретает
более или менее стабильный достаток, дающий ей возможность существо¬
вать без пособий, консенсуальному браку всегда предпочитается узаконен
ный, желательно католический. Это и понятно, ибо успех вхождения им¬
мигранта в структуру американского общества невозможен без принятия
устава последнего. А общественное мнение в США по отношению к про¬
должительным консенсуальным союзам является значительно более жес¬
тким, чем на острове. Пуэрто-риканские дети в государственной школе, на¬
пример, стыдятся своих нерасписанных родителей, так как подвергаются
насмешкам со стороны сверстников и недоброжелательным взглядам со сто¬
роны учителей. Давление общества включает подчас и более прямые санк¬
ции против консенсуальных браков. Так, например, ребенка могут не взять
в престижную школу (а юношу или девушку в колледж) только на том ос¬
новании, что их родители — пусть даже состоятельные люди — официально
не зарегистрировали свой брак. Иными словами, узаконенный брачный со¬
юз является одним из немаловажных условий успешной ассимиляции пуэр¬
то-риканских иммигрантов в США.
Вместе с тем среди последних необычно высок коэффициент разводи-
мости. Так, в 1982 г. на 1000 человек пуэрто-риканского населения США
приходилось 7,5 разводов. Это очень много, особенно если учесть, что об¬
щий коэффициент разводимости в целом по США (одному из мировых „ли¬
деров" в этом смысле) составил 6,3".Большая часть расторжений брака сре¬
ди пуэрто-риканских иммигрантов, как практически и во всем мире, проис¬
ходит по инициативе женщин. Характерно другое: интенсивность разводов
среди женщин значительно выше, чем среди мужчин. Причем год от года
этот разрыв все более увеличивается. Например, в 1970 г. доля разведен¬
ных среди пуэрто-риканских мужчин составляла 2,0%, а среди женщин —
5,3%, к 1979 г. эта доля среди мужчин практически не изменилась (1,9%),
а среди женщин достигла 8,4% ". Отдавая себе отчет в том, что выяснение
причин этого явления — предмет специальных социологических исследова¬
ний, отметим все же, что немаловажное значение имеет и этнопсихологи¬
ческая сторона вопроса, т.е, изменение традиционной системы ценностей
юо
внутрисемейных отношений мужчин и женщин, о чем подробнее будет ска
зано ниже.
Так или иначе, рост числа разводов становится еще одним условием
увеличения матрифокальных семей среди пуэрто-риканских иммигрантов,
значение которого делается все весомее. Неустойчивость брачных союзов
влечет за собой заключение повторных браков. Надо сказать, что этот про¬
цесс протекает под заметным воздействием модели брачного поведения, ши¬
роко распространенной в США и получившей название последовательной
полигамии (т.е. последовательная смена брачного партнера)".
Возникающую в результате заключения повторного брака семью, где
присутствуют не только дети нынешних супругов, но также дети от их
предыдущих союзов или союза, можно считать особым типом пуэрто-рикан¬
ской семьи. Она широко распространена и на острове: наличие у предпола¬
гаемого брачного партнера детей никогда не было для пуэрториканцев пре¬
пятствием при заключении брака, особенно консенсуального. Критерием
для выделения такого типа семьи, на наш взгляд, служит специфика внут
рисемейных отношений, вызванная отсутствием кровнородственной связи
одного из родителей с приемными детьми. В отношении пуэрториканцев
этот факт имеет немаловажное значение, особенно если „переменный" ро¬
дитель — отец (наиболее частый вариант). Комплекс мачизма*, определяю¬
щий поведение мужчины, мешает последнему относиться к дочерям своей
новой жены только как отцу. В результате часты случаи сожительства его с
падчерицей, что не исключает и заботы о ней как о дочери'*. Отношение
матери с приемными детьми противоположного пола также носят отпечаток
сексуальной напряженности. Хотя, надо сказать, такой вариант этого типа
семьи встречается значительно реже по той причине, что дети при созда¬
нии новой семьи обычно остаются с матерью. Передача их в новую семью
отца происходит только в том случае, если мать сама еще не замужем и ей
не на что содержать детей. Отношение мачехи или отчима с детьми того
же пола, как правило, носят довольно прохладный, часто просто враждеб¬
ный характер.
Вообще надо сказать, что все названные варианты отношений родителей
и детей в такого рода пуэрто-риканской семье заметно отличаются от аме
риканской, где новый брак изначательно предполагает отношение к прием¬
ному ребенку как к своему собственному. В американской социологии от¬
мечается даже тенденция к переносу центра тяжести заботы о детях с род¬
ных на приемных. Такая постановка вопроса, кстати, имеет и негативную
сторону, так как осложняет положение самих детей, порой насильно втяги¬
ваемых в новую для них структуру родственных связей. Эта проблема за
последние годы приобретает в США все более острое социальное зна¬
чение".
* Термин „мачизмо" имеет довольно широкий диапазон значений, причем в различных латино
американских странах — свое, преимущественное значение при употреблении. Выборочный
опрос, проведенный в 1955г. американским исследователем Дж. Стикосом, показал, что на
Пуэрто Рико под термином „мачизмо" понимаются мужественность, обостренное чувство соб
ственного достоинства мужчины, его стремление к обязательному завоеванию общественного
уважения, особый стиль поведения, демонстрирующий высокую сексуальную потенцию,
превосходство над женщиной, детородные способности.
10!
Семья пуэрто-риканских иммигрантов сохраняет традиционное для нее
лояльное отношение к вопросу усыновления и (или) воспитания детей в
другой семье, не заостряя внимания на правовой и моральной сторонах де
ла. Особенно показательна в этом смысле семья, состоящая из супружес
кой пары с детьми, но воспитывающая еще и приемных детей со стороны.
Такую семью можно было бы рассматривать как разновидность предыду¬
щей (или подтип). Однако по характеру отношений родителей к приемным
детям она может быть выделена и в особый тип.
Сам факт передачи детей в другую семью, вызванный неспособностью
родителей обеспечить ребенка самым необходимым, негативной окраски
для пуэрториканцев, как правило, не имел. Юридическое закрепление акта
передачи ребенка из-за дороговизны и бумажной сложности этой процеду¬
ры не практиковалось. Мать навещала своих детей, когда ей было удобно, а
впоследствии, если позволяли условия, обычно забирала их обратно. Ребе
нок, хотя и не усыновлялся новыми родителями, воспитывался ими наравне
с собственными детьми, если те были. Сами дети считали приемыша бра¬
том или сестрой, но все знали, что мать ребенка жива и, скорее всего, од¬
нажды заберет его. В отношении пуэрториканцев Нью-Йорка чаще употреб¬
лялось выражение „child raising" (т.е. ребенок, выращенный не своей ма¬
терью, а приемной), что свидетельствует о достаточно широкой распростра¬
ненности этого явления. Возможно, теплое отношение к приемным детям
объясняется тем, что в большинстве случаев они попадали в новую семью в
грудном возрасте (но не новорожденными).
В последующие годы, однако, традиция передачи детей в другую семью
среди иммигрантов нередко уступает место подбрасыванию их, например в
Отдел социального обеспечения или какое-либо другое государственное уч¬
реждение, что самими родителями воспринимается как трагедия*.
Все выделенные выше разновидности малой семьи, типичные для пуэр¬
то-риканских иммигрантов, различаются в основном, как уже было замече¬
но, по характеру внутрисемейных связей. Это не случайно, так как в целом
семья пуэрториканцев по форме и основным типам аналогична европейской
модели. И лишь сфера межличностных отношений родственников в наи¬
большей степени отражает этнические особенности.
Подверглась ли эта сторона семейной жизни пуэрториканцев трансфор¬
мации в условиях иммиграции? И если да, то в каком направлении и в ка¬
кой степени? Попытаемся ответить на этот вопрос, рассмотрев три типа се¬
мейных связей: муж—жена, родители—дети и отношения родственников, не
живущих под одной крышей. Первые два вида связей условно обозначим
микроструктурными, так как они не выходят за рамки малой семьи, третий
— макроструктурным, поскольку он объединяет все остальные виды род
ственной связи, включая свойство и ритуальное родство.
I. Отношения мужа и жены в пуэрто-риканской семье на протяжении
веков характеризовались четким разделением их прав и обязанностей при
авторитарной власти мужа. „Американизация" острова в какой-то мере раз¬
рушила целостность этого стереотипа, умножив его региональные и соци¬
альные модификации. Миграция же на материк создала условия для еще
большей нивелировки ролевых установок полов в пуэрто-риканской семье,
способствуя превращению последней из патриархальной в эгалитарную.
Однако процесс этот крайне противоречив и, что самое главное, неравноме
102
рен. „Врастание" пуэрто-риканских женщин в социально-экономическую
структуру американского общества на протяжении всех последних деся¬
тилетий шло заметно более быстрыми темпами, чем мужчин. В профессио¬
нальной сфере, например, с 1950 по 1980 г. доля специалистов (адвокатов,
учителей, врачей) среди работающих женщин выросла на 4,8%, а среди
мужчин — на 2,9%. Доля неквалифицированных рабочих промышленных
предприятий среди женщин за этот же период сократилась на 49,1% (с
72,5 до 23,4), а среди мужчин практически осталась такой же (33% в
1970 г. и 28,1% в 1980 г.). Можно добавить также, что доля квалифициро¬
ванных работниц среди пуэрториканок в 1979 г. составила 2,2%, что на
0,5% превысило аналогичный общенациональный показатель, а среди пуэр¬
ториканцев, наоборот, была меньше, чем в целом среди занятого мужского
населения СИ№'.
Не менее важно сравнение и по такому социальному показателю, как
образование. До начала массовой эмиграции с острова в 50-х годах образо¬
вательный уровень женщин там был значительно ниже, чем мужчин (соот¬
ветственно 4,2 и 6,7 условных класса)*. На материке женщины очень ско¬
ро сравнялись с мужчинами в этом отношении, а среди тех иммигрантов,
для кого английский язык стал родным, образовательный уровень женщин
уже в 1970 г. оказался выше, чем у мужчин, составив даже в первом поко¬
лении соответственно 10,7 и 10,4 условных класса*.
Молодая пуэрториканка Кармен Эрнандес, приехавшая в США с роди¬
телями в раннем детстве, так высказывалась на этот счет: „Проблема раз¬
ной адаптации мужчин и женщин ощущается буквально во всем, отражает¬
ся на всех ситуациях жизни. И мужчины и женщины чувствуют себя неу¬
веренно в США, но, я думаю, мужчины — больше... Они более запуганы,
не чувствуют в себе ни способности подниматься наверх, ни необходимос¬
ти в этом"*.
Чем объяснить разницу в адаптационных возможностях пуэрто-рикан¬
ских мужчин и женщин в США? Во-первых, немалое значение (по мнению
многих авторов — решающее) имел более удачный „старт" женщин на мате¬
рике. Действительно, пуэрториканки, которым с детства прививали навыки
ведения домашнего хозяйства, на первых порах сравнительно легко могли
устроиться на предприятиях, где существовала большая потребность в жен¬
ском неквалифицированном труде (в 50—60-х годах особенно в швейной
промышленности). Мужчины же, специализация которых на острове преи¬
мущественно была связана с сельским хозяйством, в промышленно разви¬
тых центрах США испытывали большие затрудения; доля безработных сре¬
ди них всегда была выше, чем среди женщин (ни в какой другой группе
испаноязычных меньшинств в США, заметим, такой диспропорции не суще¬
ствовало, и ситуация с пуэрто-риканскими иммигрантами, по-видимому,
связана именно с их преимущественным расселением в Нью-Йорке).
Во-вторых, ценностные установки имигрирующих на материк пуэртори¬
канских женщин изначально носят более позитивный характер, чем муж¬
чин. Особенно это относится к незамужним. Численность данной категории
пуэрториканок постоянно увеличивается. Скажем, если в конце 50-х годов
их было 1,6, то к концу 70-х они составляли более Vg всех пуэрто-рикан¬
ских женщин, приезжающих в США*. Фотодокументы 50—70-х годов крас
норечиво свидетельствуют о высоком эмоциональном подъеме девушек,
шз
отъезжающих на материк, об определенно положительном восприятии ожи¬
дающих их перемен^. Уместно вспомнить зажигательную сцену из художес¬
твенного фильма „Вестсайдская история", поставленного в 1961 г. амери¬
канским режиссером Робертом Уайзом. Две группы молодых пуэрторикан¬
цев Нью-Йорка — мужчин и женщин — ведут в ритме латиноамериканских
танцев шутливый по форме, но серьезный по содержанию спор о том, хоро¬
шо ли жить в этом городе. Девушки восторженно доказывают, что в Амери¬
ке все хорошо — от чулок до зрелищ; юноши, со смехом передразнивая их,
стараются развенчать рекламный идеал благополучия американцев. Несмот¬
ря на развлекательность, сцена эта на самом деле очень реалистична. Пуэр¬
то-риканская женщина, особенно незамужняя, переезжая на материк, в це¬
лом оказывается психологически более подготовленной к тем переменам,
которые ее там ожидают, связывая их для себя с возможностями матери¬
ального и духовного раскрепощения, разрушением традиционной зависимос¬
ти от мужчины. Изменение стереотипа поведения пуэрто-риканской женщи¬
ны на континенте, по мнению многих исследователей, производит впечатле¬
ние настоящего бунта, особенно очевидного из-за контраста с обычной для
нее покорностью. По образному выражению Д. Фитцпатрика, „пуэрто-ри¬
канские женщины на материке — это восставший монастырь"^. Ниже при¬
водятся самооценки молодых пуэрториканок, родившихся в 50-х годах в
США или приехавших туда маленькими, по поводу тех изменений, которые
происходят в их половом статусе.
Кармен Эрнандес: „Стереотипы меняются. Пуэрто-риканская девушка в
США сейчас идет на такую работу, где максимально можно проявить свою
женскую сущность (например, стюардессами), и не стесняется этого. Она
уже не прячется от посторонних мужчин...Я не боюсь трудностей и предпо¬
читаю работу в больших фирмах, где можно легче выдвинуться. Когда из
меня стала получаться хорошая секретарша, я разозлилась: хочу, чтобы лю¬
ди прежде всего воспринимали меня как личность... Мне нравится прини¬
мать решения и отвечать за свои поступки".
Мария Диас: „Я всегда чувствовала, что колледж — это то, что мне надо
в действительности. Женщина должна работать и учиться, а не оставаться
дома и быть зависимой от мужа".
Роза Моралес: „Я полагаю, что пуэрто-риканская женщина адаптируется
в США быстрее и легче, чем мужчины... Мне проще жить в Америке, инте¬
ресно играть несколько ролей сразу, а не только быть женой и матерью'**.
Однако, несмотря на мажорное настроение приведенных выше высказы¬
ваний, внутреннее раскрепощение женщин иммигрантов не ведет напрямую
к эгалитаризации ролевых установок в семье, во всяком случае все не так
просто. Прежде всего далеко не каждая пуэрториканка оказывается способ¬
ной изменить традиционную структуру взаимоотношений в семье. Известно
немало случаев, когда работающая женщина, мать и жена, получая факти¬
чески большую зарплату, чем муж, не расценивает ее как основной источ¬
ник дохода в семье; эти деньги откладываются как побочный заработок, а
семья живет на то, что заработает мужчина (обычно, правда, и отложенные
деньги идут в ход, но под благовидным предлогом, не затрагивающим об¬
щую установку). Американская исследовательница В. Берл, изучая на кли¬
ническом материале причины стрессов в семье пуэрто-риканских иммигран¬
тов, описывает, в частности, случай, когда мужчина в течение 18 месяцев
104
из-за болезни не мог устроиться на работу и жена с помощью случайного
приработка содержала всю семью. Однако предложение Отдела социально¬
го обеспечения устроить ее на постоянную работу она отвергла на том ос¬
новании, что муж в этом случае перестанет быть главой семьи и потеряет
свой авторитет^.
Иными словами, одна из наиболее важных функций, осуществляемых
семьей, — экономическая, хоть подчас и номинально, но остается привиле¬
гией мужчин.
Еще более сложным и тонким представляется вопрос о таких насыщен¬
ных традиционными представлениями и обычаями функциях семьи, как эк¬
спрессивно-рекреационная и сексуально-эмоциональная, в жизни часто не¬
разрывно связанных между собой. Необходимо отметить, что в этом направ¬
лении развития внутрисемейных отношений имеется много инновационных
черт. Так, муж и жена в сегодняшней семье иммигрантов — это не просто
два контрагента, отвечающих каждый за свою сферу деятельности. Между
ними становится обычным эмоциональное общение, обсуждение, например,
таких вопросов, как выбор профессии одним из супругов. Роза Моралес: „Я
считаю, что взаимоотношения между мужем и женой среди молодого поко¬
ления меняются быстро... Мой муж положительно относится к тому, что я
собираюсь профессионально работать. Он считает, что я хорошо работаю с
детьми, но если не хочу работать в школе, то, как он полагает, могу рабо¬
тать и дома, где буду получать больше удовлетворения от работы. Все это
вполне согласуется с моими планами'*".
Очень характерный случай, иллюстрирующий новые тенденции в разви¬
тии взаимоотношений мужа и жены, описывает Мария Диас. Будучи сама
темнокожей, Мария обвиняет своего мужа (который, по ее словам, вполне
мог сойти за белого американца, если* бы не испанский акцент в произно¬
шении) в приверженности расистским взглядам. „Между нами с мужем по¬
стоянно случаются стычки по поводу цвета кожи. Дорожное происшествие
на улице, где регулировщик — негр, муж ставит обязательно в вину по¬
следнему. Мои аргументы в защиту негра на мужа не производят никакого
впечатления, только злят ею. Но я должна делать это. Я не могу позволить
ему обсуждать эту проблему так, будто меня нет'*'. По традиционным ка¬
нонам, Мария должна быть вдвойне зависимой от мужа — женщина, да еще
и с более темной кожей (для межрасовых браков среди пуэрториканцев бо¬
лее характерен обратный вариант: более темнокожим обычно бывает муж¬
чина). Протест ее поэтому особенно показателен. Имеет значение не только
тот факт, что традиционная для пуэрториканцев внутренняя зависимость бо¬
лее темнокожего от светлокожего в семье, очевидно, теряет свою прежнюю
значимость, но гораздо важнее то, что инициатива в этом вопросе может
исходить от женщины.
Вообще в отношении к цвету кожи брачного партнера среди материко¬
вых пуэрториканцев происходят довольно заметные изменения. Традицион¬
ный стереотип „темнокожий муж — светлокожая жена" часто уступает
место обратному варианту, и, как правило, пуэрто-риканская женщина на
материке в отличие от своей соотечественницы на острове не воспринимает
такой союз как одолжение со стороны мужчины. Составные компоненты в
сложной зависимости „цвет кожи — пол — социальный статус " меняются
один относительно другого. И сегодня достаточно престижная профессия и
105
высокий образовательный уровень американки в США вполне компенсиру¬
ют для эмигранта с острова такой ее „минус", как темный цвет кожи.
(Межрасовые браки пуэрто-риканских иммигрантов с афроамериканцами
США — большая редкость, прежде всего в силу живучести предубеждения
островитян против негритянского наследия в пуэрто-риканской культуре.
Иммигранты не скрывают своего желания отмежеваться от американских
негров, стремясь к сохранению и укреплению „белой", испанской доли
своего генофонда. Относительно сильная по сравнению с островом расовая
дискриминация в США только укрепляет эти позиции иммигрантов).
Несмотря на очевидные признаки эгалитаризации взаимоотношений му¬
жа и жены в пуэрто-риканской семье, процесс этот, как уже было сказано,
очень противоречив. В частности, все стороны семейной жизни, где так
или иначе затрагивается комплекс мачизма, оказываются практически не
подвластными изменениям. Роза Моралес: „Ваш муж не может без конца
повторять вам, что вы с ним равны и свободны, но как только вы захотите
в воскресенье выйти одна из дома, то сразу же нарушите традицию, охра¬
няющую права мужчины по отношению к женщине, и это создает пробле¬
му"^. Айрис Моралес, активная участница пуэрто-риканского молодежного
движения в США, вспоминает: „В моем отце очень сильно был развит ма¬
чизм. Он чувствовал себя просто обязанным пойти куда-то с другой женщи¬
ной. И сколько я себя помню, моя мать всегда плакала по этому поводу...
Отец много работал и, даже если болел, не пропускал ни одного рабочего
дня. А семья тем не менее не сводила концы с концами. Это очень расстра¬
ивало отца, разрушало его внутреннюю концепцию настоящего мужчины.
Но, с другой стороны, при этом он продолжал делать вид богатого, одевал
своих любовниц, ездил на остров, одаривал родственников деньгами"^.
Комплекс мачизма, лишаясь своих социально-экономических корней
(когда мужчина в доме, являясь основным кормильцем, держит в руках ав¬
торитарную власть), тем не менее довольно прочно сохраняется в традици¬
онных поведенческих моделях иммигрантов и даже усиливается, что в сло¬
жившейся ситуации можно расценить как своего рода защитную реакцию
мужчин на перемены, происходящие в их отношениях с женщинами.
В одном из социологических исследований, посвященном пуэрторикан¬
цам США, особенно затрагивался вопрос об изменениях в интимной сфере.
Традиционные нормы поведения предписывали женщине сексуальную пас¬
сивность, подвластность мужчине в браке. Анкетирование же показало, что
пуэрториканки, живущие продолжительное время в США, довольно быстро
ломают этот стереотип, в то время как мужчины настойчиво пытаются его
сохранить^. Дисгармония, возникающая в результате этого конфликта суп¬
ругов, довольно ощутимо подрывает стабильность семьи, что вполне может
служить одной из причин большого числа разводов среди пуэрториканских
женщин (см. выше).
Система запретов, действующая в традиционной культуре по отноше¬
нию к женщине, на континенте под давлением объективной необходимости
становится менее жесткой. Однако возникают другие, в известной степени
инновационные ограничения ее личной независимости, которые, возможно,
компенсируют мужчинам частичную утрату их традиционного приоритета
во взаимоотношении полов. Кармен Эрнандес: „Пуэрто-риканская девушка
обычно не обижается, если ее соотечественник назначает свидание амери-
106
каике или, например, ирландке. Но мужчины, если аналогичным образом
поступит пуэрториканка, негодуют и возмущаются"^.
Надо сказать, однако, что межэтнические браки, в целом не характер¬
ные для пуэрто-риканских иммигрантов США (в 1982 г. они составляли
около 10% всех браков), заключаются, как правило, все-таки женщинами,
которые подвергаются за это значительно большему осуждению со стороны
своих соотечественников, чем, например, за внебрачную беременность.
Авангардистская позиция пуэрториканок в ассимиляционном процессе
по сравнению с консерватизмом и этноцентризмом мужчин (а может быть,
именно эта вилка в динамике их адаптационных возможностей) в конечном
счете оказывается источником не только увеличения напряженности во внут¬
рисемейных взаимоотношениях, но и процесса эгалитаризации последних.
2. Ролевые установки в сфере родители—дети также достаточно четко
дифференцированы культурной традицией пуэрториканцев по принципу
двойственности (межпоколенная дихотомия). Функции родителей были раз¬
делены таким образом, что отец занимал формально главенствующее поло¬
жение в воспитательном процессе, мать — подчиненное. Отвечая за мате¬
риальное обеспечение семьи, учет и распределение доходов, отец контроли¬
ровал и поведение детей, нес ответственность за соблюдение ими традици¬
онных норм отношений внутри семьи, определял род занятий детей по дос¬
тижении ими совершеннолетия и т.п. В обязанности матери входило удов¬
летворение бытовых и эмоциональных потребностей ребенка.
Кроме общих принципов функционального распределения родительских
обязанностей в семье, существовали и более конкретные, связанные прежде
всего с половой принадлежностью ребенка. Так, если до семилетнего воз¬
раста воспитание и мальчиков и девочек полностью находилось в ведении
матери, то впоследствии она фактически начинала заниматься только девоч¬
ками, обучая их домашнему хозяйству, шитью, уходу за младшими братьями
и сестрами и т.п. Часто домашняя работа становилась обязанностью девочек
— так начиналось их трудовое воспитание. Мальчики пользовались значи¬
тельно большей свободой, а если семья жила в городе, то их воспитание
сводилось в основном к тем внешним поведенческим моделям, которым
следовал отец: быть независимым, мужественным, сексуально активным,
уметь постоять за себя и за достоинство женщин в своей семье, нести от¬
ветственность за честь последних. Иными словами, общение мальчиков с от¬
цом имело целью прежде всего воспитание в них комплекса мачизма, одно¬
го из наиболее устойчивых стереотипов пуэрториканцев. Надо сказать, одна¬
ко, что культивирование в мальчике черт, присущих „настоящему мачо",
проводилось и матерью: еще в сосочно-пеленочном периоде развития ребен¬
ка она, находясь в самом тесном физическом и эмоциональном контакте с
малышом, подолгу и с удовольствием ласкала его гениталии, до 2—3 лет (а
иногда и до 7) не отнимала его от груди, не ограничивала созерцание им
обнаженного тела, иными словами, активно способствовала раннему полово¬
му созреванию ребенка, что являлось непременной составной частью ком¬
плекса мачизма. В отношении отца с дочерьми, напротив, соблюдалась стро¬
гая дистанция с самого рождения последних, отсутствие каких-либо физи¬
ческих контактов (поцелуи, объятия, совместные игры). Такая „физическая
сегрегация" также диктовалась комплексом мачизма, препятствовавшим ма¬
лейшим проявлениям кровосмесительных тенденций.
107
Традиционная двойственность родительских обязанностей в пуэрто-ри¬
канской семье со временем утрачивала свои четкие контуры в первую оче
редь в связи с тем, что менялись сами ролевые установки мужчин и жен
щин. В иммигрантской семье этот процесс протекает особенно сложно. От
цовство как институт стремится к сохранению и утверждению своих тради¬
ционных функций, связанных с авторитарной властью мужчины. И, надо
сказать, в определенной мере это стремление достигает цели. Айрис Мора¬
лес: „Мать по сравнению с отцом находилась для нас на ступеньку ниже.
Она никогда ни о чем не спрашивала отца. Когда мне нужны были карман
ные деньги, мать всегда отсылала меня к отцу. Чтобы пойти куда-то, я так
же должна была спрашивать разрешение отца **. Устойчивость отцовского
авторитета, по всей вероятности, не находилась в прямой зависимости от
социального статуса семьи. Так, Хосе Рамирес, в отличие от Айрис вырос
шей в довольно зажиточной семье пуэрто-риканских иммигрантов, также
отмечает, что его отец отличался особой строгостью по сравнению с ма-
терью: отчитываться за свои успехи в школе мальчик должен был прежде
всего перед отцом, все вопросы о покупке для ребенка необходимых для
его возраста предметов (игрушек, спортивного инвентаря и т.п.) также ре
шались в первую очередь с отцом".
Однако сферы влияния отца в воспитании детей пуэрто-риканских им
мигрантов с течением времени заметно сокращаются. Вызвано это причина¬
ми двоякого рода: с одной стороны, усиливается роль общественных орга
низаций в социализации детей, с другой — и это представляется особо
важным в контексте изучения семьи — расширяется диапазон воспитатель
ных функций матери. Общение матери и детей перестает носить только ка
мерный, домашний характер, традиционный для пуэрто-риканской женщи
ны. В стрессовой ситуации, которой является адаптация иммигрантов к но
вой этносоциальной среде, женщина оказывается более способной влиять
на судьбу детей, и „бразды семейного правления" все чаще оказываются в
ее руках.
По данным опроса Герреро, проведенного в конце 60-х годов, уже в то
время 58% мужчин и 73% женщин ответили, что считают влияние матери
решающим в воспитании детей**. Показательна и оценка складывающейся
ситуации молодыми иммигрантами, родившимися в Нью-Йорке в 50-х годах.
Так, Педро Ривера, росший в относительно благополучной семье, где отец
пользовался уважением и конфликт полов ощущался не так остро, решает
выбрать профессию врача вопреки планам отца, но по настоянию матери.
Хосе Рамирес вспоминает: когда в семье встал вопрос о том, чем мальчику
заниматься в дальнейшем, отец ограничился тем, что советовал сыну „дер
жать линию мужчины", т е. иметь деньги, дающие финансовую независи
мость, и возможность делать только то, что он хочет, без нажима сверху.
Все конкретные решения и действия исходили от матери. „Сколько я себя
помню, — рассказывает Хосе, — мною всегда руководила мать... Когда я
был маленьким, то по ее просьбе делал домашнюю работу: выносил мусор,
убирал в своей комнате и т.п. Мать контролировала все мои занятия и сво
бодное время". Когда Хосе достиг юношеского возраста, мать помогала ему
найти работу на время школьных каникул и в конечном счете сыграла ре
шающую роль в формировании его мировоззрения и политических убежде
ний. „Мой отец, — вспоминает Хосе, — был в стороне от политики, только
108
голосовал; а мать действительно принимала активное участие в обществен¬
ной жизни'**. Какое-то время мать Хосе работала на политическую партию
Германа Бадильо — политического лидера, пуэрториканца по происхожде
нию, поддерживаемого либералами и тысячами испаноязычных рабочих в
США. Сына растила в духе идеалов Дж. Кеннеди, внедрявшего в общество
мысль, что любой ребенок независимо от его этнического и социального
происхождения может быть воспитан так, чтобы стать президентом.
Кроме изменения баланса в ролевых установках отца и матери, в им¬
мигрантской семье пуэрториканцев существует еще один блок проблем,
связанных с отношениями типа дети—родители. Здесь достаточно четко
прослеживаются два направления развития, которые условно можно опре¬
делить как позитивное и негативное. В основе такого деления лежит харак¬
тер реакции пуэрто-риканских детей, выросших в США, на то напряженное
состояние маргинальности, в котором они оказываются: с одной стброны,
семья, сохраняющая если не букву, то хотя бы дух патриархальности, с
другой — американская действительность, диктующая совсем другие прави-
ла жизни. Особенно остро реагируют на эту ситуацию подростки, прежде
всего потому, что сами они находятся на стадии становления личностного
сознания вообще и этнического в частности.
Суть первого варианта отношений (позитивного) заключается в том, что
кризисная ситуация в жизни подростка-иммигранта разрешается мирным
путем. Накопив в значительно большем количестве по сравнению с родите
лями информацию об окружающем его мире, подросток буквально стано¬
вится „поводырем" последних в чуждой для них среде. Айрис Моралес:
„Это случается со многими старшими детьми в пуэрто-риканских семьях —
они оказываются связующим звеном между пуэрто-риканской культурой и
американской, пуэрто-риканским образом жизни и американскими институ¬
тами. Выступая в качестве переводчика для своих родителей в различных
инстанциях, старшие дети проходят весь путь родителей, принимают, как
свои, их беды и огорчения, становятся их заступниками"*". Эта модель по¬
ведения детей в иммигрантской семье пуэрториканцев фактически ведет к
тому, что они в той или иной степени усваивают обе культуры — как род¬
ную, так и американскую.
Второй вариант отношений дети—родители (негативный) — разрушение
традиционных форм межпоколенного контакта без замены их новыми. Та¬
кая ситуация, как правило, складывается в семьях (и их среди иммигрантов
немало, если не сказать большинство), где родители придерживаются авто
ритарных принципов в отношении к детям. Традиционная система воспита
ния детей, сложившаяся на Пуэрто-Рико в течение предшествующих веков,
предполагала формирование пассивной личности, скованной рамками услов¬
ностей. Айрис Моралес: „Мое детство проходило вполне в традициях пуэр
то-риканской семьи, когда у родителей — вся власть, а дети не имеют пра¬
ва даже задавать вопросы"**. Старшее поколение иммигрантов часто отрица¬
ет модели поведения даже вполне благополучных американских детей, счи
тая их слишком агрессивными, недостаточно уважительно относящимися к
старшим, неоправданно быстро становящимися на ноги. Пуэрториканцам
чужда сама установка на такое воспитание. И эта черта очень трудно подда¬
ется изменению, так как коренится в самых глубинах этнической психоло¬
гии иммигрантов. Бедность и низкий образовательный уровень, характер-
109
ный для населения пуэрто-риканских кварталов, также не способствуют
экспериментам в области педагогики.
„Перепад давления" — так можно по аналогии с физическим явлением
определить суть межпоколенного конфликта в пуэрто-риканской семье.
Консерватизм традиционных методов воспитания оказывается неоправдан¬
ным в условиях американской действительности, давление родительской
власти слишком высоким по сравнению с „разреженностью" нравственных
устоев новой этнокультурной среды, что буквально выталкивает подростков
из семьи, заставляя игнорировать родительские запреты. Священник, много
лет работавший в пуэрто-риканских кварталах Нью-Йорка, сообщает: „Когда
эти пуэрто-риканские семьи приезжают в Нью-Йорк, их дети проводят на
улице чуть ли не по 24 часа в сутки, и различие между их поведением и
тем, что ожидают от них родители, начинает сотрясать семью"^.
Межпоколенный конфликт внутри семьи пуэрто-риканских иммигрантов
приобрел довольно заметный общественный резонанс в США, поскольку с
ним часто связывали причины антисоциального поведения подростков-им-
мигрантов, высокий процент преступности среди них. Особенно заметным
это явление было в 60-х годах, когда первое поколение подростков, вырос¬
ших уже на материке, столкнулось с проблемой поиска выхода из создав¬
шегося кризиса. Не случайно именно в эти годы искусство и литература
фиксируют ставшие обычным явлением уличные схватки подростков, моло¬
дежи, в которой одной из участвующих сторон обязательно были пуэртори¬
канцы. Так, сюжет уже упоминавшегося фильма „Вестсайдская история"
построен на конфликте двух враждующих групп молодежи — пуэрторикан¬
цев и белых американцев, который разрешается кровавой схваткой лидеров
и гибелью одного из них. Не менее драматично складывается и судьба ге¬
роя книги Маерсона „Two Black's Apart" (1965 г.): юноша также погибает в
уличной схватке, пытаясь отомстить за подругу. В опубликованной в
1967 г. автобиографической книге Пири Томаса „Down These Mean Street"
рассказана история о том, как законы улицы становятся для подростка из
семьи пуэрто-риканских иммигрантов важнее, чем родительские поощрения
и наказания.
Комментируя книгу Маерсона, Дж. Фитцпатрик выделил, на наш
взгляд, очень серьезную мысль: когда подростки что-то ломают в своей
жизни, они ломают это полностью**. Внутрисемейный конфликт приводит к
тому, что значение той роли, которую искони играла семья в процессе со¬
циализации детей, сегодня сводится до минимума. Родители практически
перестают контролировать жизнь своих детей.
Важно и другое: не функционирует связь семьи пуэрто-риканских им¬
мигрантов с другими общественными институтами в США, прежде всего
школой и церковью, участвующими в процессе социализации подростков.
Родители, основную массу которых составляет первое поколение иммигран¬
тов, плохо владея английским языком, обычно стесняются посещать школу,
где учатся их дети. Заинтересованность в образовании детей, как правило,
носит внешний и односторонний характер. Кармен Эрнандес: „Старшее по¬
коление хочет, чтобы молодежь ходила в школу, получала образование, но
при этом не меняла бы традиционных ценностей, не „заклинивалась" бы на
американских установках в поведении...Но это невозможно — слишком тес¬
но вы общаетесь с внешним миром"**. В большинстве пуэрто-риканских се¬
но
мей и сегодня, например, девочкам запрещают после школы посещать дома
своих подруг, ходить в библиотеки, на эскурсии и т.п. Строгий контроль
родителей за соблюдением ребенком принятых норм поведения, однако,
оказывается обратно пропорциональным пониманию ими внутреннего мира
детей. Особенно это видно на примере школы. Молодые пуэрториканцы,
выросшие в США, свидетельствуют, что школа в их сознании была связана
не столько с получением образования, сколько с приобщением к разврату.
Система школьного обучения, в которою попадали дети пуэрториканцев,
приезжающих на материк, предполагала такое распределение их по клас¬
сам, которое зависело не от возраста, а от знания английского языка. В ре¬
зультате в 5-м классе могли оказаться 10—летние и 17—летние. Обычным
явлением становилось развращение старшими младших — последних застав¬
ляли пить , „курить травку*', воровать. По словам Марии Диас, учителя зна¬
ли об этом, но никаких мер не принимали. Родители же, не имея контакта
со школой, держались в неведении. „Если бы моя мать знала об этом, —
вспоминает Мария, — она убила бы меня... Лишь много позже, уже будучи
замужем, я рассказала ей все"**.
В еще меньшей степени можно говорить о взаимосвязи семьи и церкви
в процессе социализации пуэрто-риканских детей в США. Католические
священники в пуэрто-риканских кварталах Нью-Йорка были в подавляющем
большинстве ирландцами. Хосе Рамирес: „Я никогда не вступал с ними в
конфликт, так как чувствовал: они сильно настроены против пуэрторикан¬
цев"**. Такое отношение ирландских священников к населению баррио объ¬
яснялось прежде всего тем, что состав прихожан здесь постоянно менялся,
все новые и новые волны иммигрантов наполняли район. Вновь прибывшие,
плохо владея английским языком, обычно хотели слушать мессы на испан¬
ском, праздновать свои традиционные религиозные праздники. Язык стал
камнем преткновения между семьей пуэрто-риканских иммигрантов и цер¬
ковью. Под тем предлогом, что детям, говорящим по-испански, трудно обу¬
чаться в школе, церковь требовала от родителей общения с детьми только
на английском. Это вызывало ожесточенное сопротивление семьи и в ко¬
нечном счете — неприятие ею авторитета церкви в вопросах воспитания.
Пуэрто-риканские иммигранты, мягко говоря, не настаивали на посещении
своими детьми церкви. Таким образом нейтрализовался один из существен¬
ных рычагов воздействия на формирование приспособленческих механизмов
пуэрто-риканских детей в США. Многие молодые пуэрториканцы второго
поколения выражают твердое убеждение в том, что если бы они с детства
регулярно посещали католическую церковь, то это во многом облегчило бы
им усвоение не только тонкостей английского языка, но и принятых среди
американцев норм поведения, образа мышления.
Следует, однако, оговорить тот факт, что в средних слоях пуэрто-рикан¬
ских иммигрантов опора семьи на церковь в процессе социализации детей
была значительно более весомой. И это не случайно: чем состоятельнее
семья, тем сильнее заинтересованность ее членов в повышении своего ста¬
туса в американском обществе. Зажиточные иммигранты стремятся во что
бы то ни стало устроить своих детей в католические школы — это обеспе¬
чивает детям достаточно высокий престиж и способствует их дальнейшей
карьере.
Относительная изоляция большинства семей пуэрто-риканских иммиг-
рантов в процессе социализации подростков естественно тормозит усвоение
последними американской культуры. Еще более усугубляют эту ситуацию
этноцентристские установки в самой семье, существование которых обу¬
словлено многими факторами. Важнейшим из них, безусловно, является со¬
циально-расовая дискриминация пуэрто-риканского населения в США.
„Мышление гетто" — так сами иммигранты склонны определять суть свое¬
го насильственного противопоставления американскому обществу, чувство
оскорбленного человеческого достоинства. (Кстати сказать, молодые пуэрто¬
риканские мужчины на материке в значительно большей степени по срав¬
нению с женщинами подвержены в связи с этим этноцентристским настро¬
ениям именно в силу своей повышенной психической уязвимости, связан¬
ной опять-таки с комплексом мачизма). Подчеркнутое обращение иммигран¬
тов к материнской культуре в условиях дискриминации, или, как говорят
социологи, „феномен компенсации", дополняется и желанием иммигрантов
отмежеваться от негритянского населения США. Темнокожий пуэрторика
нец в Нью-Йорке, стремясь подчеркнуть свое островное происхождение, на¬
меренно будет пользоваться испанским языком, а не английским, всем сво¬
им поведением демонстрировать принадлежность к латиноамериканской
культуре.
Этноцентризм пуэрториканцев в США во многом определяет социализи¬
рующие функции семьи. Для иммигрантов первого поколения вообще ха¬
рактерна двойственность родительских ожиданий в процессе воспитания
детей: ребенок должен обладать всеми качествами, необходимыми для ус¬
пешного функционирования в американском обществе (знать язык, получить
образование, уметь обеспечить себе продвижение по службе, быть способ
ным адекватно реагировать на все проявления иноэтчической среды), и в то
же врейя знать и соблюдать все наиболее важные установки родной куль¬
туры. Пуэрториканцы в этом смысле не являются исключением. Однако
обостренное желание доказать значимость своих, а не американских этно
культурных ценностей часто побуждает их игнорировать (если не сказать
„дискредитировать") последние в процессе воспитания детей.
В этом смысле уместно провести параллель между восприятием роди¬
телями „американизмов" в поведении детей на острове и в США. Молодым
кузинам Кармен, живущим на Пуэрто-Рико и, так же как и она сама, веду¬
щим наполовину пуэрто-риканский, наполовину американский образ жизни,
отклонение от островных традиций не ставилось в вину, а воспринималось
родителями и другими родственниками как проявление индивидуальности,
личных склонностей и способностей. На материке явно выраженное жела¬
ние подростка быть похожим на американца вызывает резко негативную ре
акцию старших, стремление „умерить пыл" своих детей. Даже такая необ¬
ходимая в процессе адаптации иммигрантов вещь, как язык принимающего
общества, освоение которого детьми заметно облегчало, как уже упомина¬
лось, существование самих родителей, и то воспринималось последними
достаточно сдержанно. Хосе Гонсалес, например, рассказывает, что если он
говорит по телефону, когда невозможно видеть цвет кожи, его все прини¬
мают за белого американца. Владение английским в совершенстве, без ак¬
цента, использование принятых среди американцев интонаций и выражений
Хосе считает очень важным. Но он с горечью отмечает, что его родители в
лучшем случае просто не обращали внимания на это его достижение и не
112
отмечали различия в овладении английским языком между ним и его кузи¬
нами, живущими в том же баррио*^.
Степень проявления этноцентристских тенденций семейного воспитания
иммигрантов находится в довольно сложной зависимости от социального
статуса самой семьи. Так, для членов семьи Риос, ведущих образ жизни,
типичный для наиболее малоимущих слоев пуэрто-риканского населения
США, проблема „быть или не быть американцами" имела менее актуальное
значение, чем проблема „выжить". Дети, растущие в семьях, подобно клану
Риос, с детства привыкают к мысли о неодолимости для них барьера „мы
— они". Последние, т.е. белые американцы, воспринимаются пуэрто-рикан¬
скими подростками очень противоречиво: с одной стороны, как модель для
подражания, недостижимость окончательной идентификации с которой зара¬
нее известна, с другой — как „образ врага", что в значительной мере и яв¬
ляется результатом семейного воспитания. Психологически оправдан и тре¬
тий вариант, когда „комплекс этнической неполноценности" и объективная
невозможность его преодоления порождают враждебность по отношению к
лидирующей в обществе этнорасовой группе.
Одним из крайних проявлений такого пути формирования этнического
самосознания второго поколения является экстремистский национализм пу¬
эрто-риканской молодежи в США, ставший особенно заметным в начале
70-х годов. „Нью-Йорк тайме", например, в течение всего 1971 г. почти
ежемесячно публиковал материал о выступлениях наиболее радикально на
строенной молодежной организации пуэрто-риканских иммигрантов „Моло¬
дые лорды", устраивавших погромы правительственных учреждений и тре-
бовавших ликвидации социально-расовой дискриминации в отношении своих
соотечественников на материке. При характеристике арестованных особенно
подчеркивался подростковый возраст членов этой организации**.
Иначе складывается этническое самосознание подростков в семьях, где
родители имеют относительно высокий образовательный уровень. Целиком
отождествлять подобные семьи с зажиточными нельзя, но такая тенденция,
безусловно, наблюдается. Как правило, родители в этих семьях хотя и явля¬
ются иммигрантами первого поколения, но росли в основном на материке,
а не на острове. Воспитание ими детей носит заметно целенаправленный
характер и имеет в виду, как уже упоминалось, дать своим детям более ка¬
чественное образование в привилегированных школах (по выражению Пед¬
ро, дети реально начинали ощущать заботу родителей об их будущем, толь¬
ко когда те всеми средствами пытались обеспечить им обучение в частной
или католической школе)**, избавить от влияния уличных групп и т.п.
Важным представляется следующее: чем выше социальный статус
семьи, тем менее возможна сугубо эмоциональная реакция ее членов на
проявление дискриминации. Успехи в процессе приспособления к новой эт¬
носоциальной среде на определенном этапе начинают диктовать компромис¬
сные варианты решений конфликтных ситуаций национального толка, что и
прививается детям. Однако традиционные культурные ценности могут быть
пересмотрены. Из положения „бедной родственницы", несущей функции
релаксации иммигрантов или снятия напряжения, этнокультурная традиция
переходит в ранг самодовлеющей ценности, фиксируя новый этан в разви¬
тии этнического самосознания.
Конечно, далеко не все элементы традиционнной культуры начинают
из
демонстративно культивироваться; как правило, „ренессанс" переживают те
из них, которые кажутся престижными с точки зрения пуэрториканца,
живущего в США (или в крайнем случае не задевают приобретенного им
здесь престижа). Детей в таких семьях стараются приобщить к изучению
истории острова, его искусства и литературы, празднованию традиционных
католических праздников и т.п.
Отражением процесса ревитализации национальной культуры среди оп¬
ределенных кругов пуэрто-риканских иммигрантов можно считать появле¬
ние уже в конце 60-х годов таких общественных организаций, как „Проект
развития пуэрто-риканской общины", „Пуэрто-риканский форум", „Аспира".
Их основной целью было повышение образовательного уровня пуэрто-рикан¬
ской молодежи на материке. Небольшие сообщества интеллигентов, стояв¬
ших во главе этих организаций, держали настоящую связь с молодежью
Вест-Сайда и других кварталов Нью-Йорка, населенных пуэрториканцами,
разрабатывали специальные школьные программы, насыщенные информа¬
цией о национальной культуре, и т.п. Социолог Антония Пантоха, созда¬
тель и глава наиболее эффективной организации — „Аспиры", не только
успешно знакомила молодых пуэрториканцев с культурным фондом острова,
но и активно преподавала его.
Такое направление в формировании этнического самосознания („дипло¬
матический", правый национализм) в условиях явной социально-расовой
дискриминации большинства пуэрто-риканских иммигрантов вряд ли можно
назвать приоритетным. Между ним и экстремистским национализмом, безу¬
словно, есть и промежуточные формы, более адекватно отражающие суще¬
ствование на сегодняшний день положение пуэрториканцев в этнорасовой
структуре США. Но этот вопрос требует специального рассмотрения.
Здесь же для нас представляет интерес тот факт, что наличие этноцен¬
тристских тенденций как левого, так и правого толка вкупе не могло не
оказать влияния и на процесс семейного воспитания. В 1978 г. выборочный
опрос, имевший целью исследовать межпоколенные отношения в малых
семьях, выявил, что среди пуэрто-риканской молодежи, рожденной в США,
не намечается тенденции к исчезновению этнического самосознания под
влиянием американского образа жизни, скорее наоборот. 45% опрошенных
исследователями молодых пуэрториканцев заявили, что считают себя ис¬
ключительно пуэрториканцами, остальные — частично пуэрториканцами,
частично американцами. Ни один из опрошенных не ответил, что считает
себя американцем^".
Бикультурализм второго поколения имеет диалектически противоречи¬
вую сущность, во многом, в свою очередь, осложняя внутрисемейные отно¬
шения. Актуальность этой проблемы уже в 60-х годах вызвала к жизни по¬
явление специального Института пуэрто-риканской семьи в Нью-Йорке —
одной из общественных организаций иммигрантов, созданной с единствен¬
ной целью — возродить традиционную пуэрто-риканскую семью. В задачи
немногочисленного штата Института семьи входили разработка мероприя¬
тий, способствующих установлению взаимопонимания между родителями и
детьми, рекомендации и советы но налаживанию психологического климата
в семье. В основе всей деятельности института лежало твердое убеждение
его создателей в том, что укрепление малой семьи с ее традиционной
структурой взаимоотношений между отцом и матерью, между родителями и
114
детьми облегчит адаптацию пуэрториканцев в США, ослабит постоянное
стрессовое состояние давно живущих на материке и ускорит адаптацию к
новому миру вновь прибывающих.
Однако постепенно психологические проблемы были вытеснены более
насущными: устройство матерей на работу, детей в ясли, ходатайства об
обеспечении многодетных матерей необходимыми пособиями и т.п. А со
временем в Институт семьи стали обращаться с просьбами, не имеющими
никакого отношения к семье, только в надежде получить какую-нибудь по¬
мощь. Это обстоятельство сильно снизило активность института и, вероят¬
но, в дальнейшем могло вызвать прекращение его деятельности. Во всяком
случае в настоящее время данных о функционировании в Нью-Йорке Инсти¬
тута пуэрто-риканской семьи не имеется.
Кроме изменений, происходящих на микроструктурном уровне, не мень¬
шее значение имеют изменения в системе родственных связей, существую¬
щих вне семьи-домохозяйства, в макроструктуре семьи. Эта система у пуэр¬
ториканцев включает три типа родственных отношений: кровнородственные
связи, свойство и ритуальное родство, или „компадрасго". Значимость всех
трех типов родства и соотносимость их между собой на острове со време¬
нем менялись, и к середине XX в., как полагают многие исследователи, они
необратимо утратили свои традиционные черты, суть которых заключалась в
материальной и духовной поддержке всех членов семейной макросреды.
Существует также мнение, что миграция на материк повлекла за собой
дальнейшее ослабление родственных связей. Департамент социального
обеспечения в Нью-Йорке, считает Дж. Фитцпатрик, в случае необходимос¬
ти оказывает больше помощи пуэрто-риканской семье, чем родственники,
живущие в отдаленных кварталах города и не поддерживающие между со¬
бой связи. Однако конкретные исследования показали, что пуэрториканцы
в Нью-Йорке личные встречи практикуют чаще, чем телефонные разговоры
(соответственно 3 и 1,8 раз в неделю)^.
Большие семейные сборы происходят как минимум раз в неделю. Хосе
Рамирес: „У меня в Нью-Йорке много родственников, и я очень близок с
ними. Это три кузины, два дяди, несколько тетей. Мой отец был единствен¬
ным членом семьи, который имел свой дом в городе. Все другие наши род¬
ственники снимали квартиры. На уик-энд они обычно приезжали к нам на
большой семейный обед. Каждую субботу обязательно находился какой-ни¬
будь предлог. Наш дом долгое время был излюбленным местом сбора род¬
ственников — это не так далеко от центра, сюда легко добраться обще¬
ственным транспортом. Теперь наши родственники переехали в другой рай¬
он и наши сборища перестали иметь один фокус. Мы с моими младшими
кузинами теперь кочуем : рождество — они с тетей здесь, Новый год, ска¬
жем, мы с сестрой там"^.
Любопытно подробное описание сбора семьи Риос по такому поводу,
как приезд в США ее главы — Фернанды: „Когда Фернанда приезжала в
США, в аэропорту ее встречали: средняя дочь Фелисита и ее муж Эдмун-
до, младшая дочь Крус, которая специально для этого приехала из Флори¬
ды, один из компадрос Фернанды, три внука и бывший муж старшей сес¬
тры Соледад — Артуро, а кроме того, младший сын Симплисио и его жена,
их друг, который подвез последних на машине"^.
В стрессовой ситуации, когда психическое напряжение человека в уело
115
виях иммиграции возрастает до предела, также происходит сбор родных и
друзей, присутствие которых помогает снять стресс. Больной пуэрториканец
всегда оказывается окруженным целой толпой „домашних психотерапевтов ',
которые во всем помогают лечащему врачу, достают лекарства, обеспечива
ют сиделку и т.д. По наблюдениям А. Харвуда, тяжелобольные или умираю¬
щие пуэрториканцы категорически отказываются ложиться в больницу и
проводят свои последние часы только в общении с родственниками. В Нью-
Йорке не было зарегистрировано ни одного случая, когда пуэрто-риканские
иммигранты отказывались бы от своих престарелых родственников^.
Есть основания утверждать, что пуэрториканцы в США поддерживают
более близкие отношения со своими родственниками, чем на острове, при¬
чем не только с кровными родственниками, но и со свойственниками, и с
компадрес. Однако, как нам кажется, сам характер родственных связей на
материке изменился. Традиционные отношения свойственников, цдпример,
включали достаточно близкое общение на повседневном уровне. Ослабление
такого рода взаимосвязей на острове за последнее время компенсировалось
возникновением новых на материке, основанных скорее на материальной за¬
висимости, чем на моральной помощи. Мария Диас: „Конечно, вся семья по¬
могала моей матери после смерти ее мужа, да и другим нашим родственни¬
кам, у которых было много детей. Нам покупали одежду, брали нас в кино,
на всякие представления, парады и т.д. Но у нас у всех было постоянное
чувство зависимости от них, потому что мать обязательно должна была рас¬
плачиваться с ними какими-нибудь услугами '^.
Отношения компадрасго на материке среди социально равных семей пос¬
тепенно приобрели форму исключительно моральной поддержки, а среди со¬
циально неравных вновь превратились в форму внеэкономической эксплуата¬
ции. Усилилась тенденция к использованию личных отношений в деловых свя¬
зях. Из двух компадрес тот, кто более высоко стоял на социально-экономичес¬
кой лестнице, становится патроном для неимущего. Компадре-натрон часто
был почти единственным посредником между иммигрантом и американским
обществом. Он обеспечивал своего соотечественника работой, давал в долг
деньги, улаживал юридические казусы, выступая как адвокат. Но в результате
бедняк оказывался почти в полной зависимости от своего имущего компадре.
Межродственные связи пуэрто-риканских иммигрантов, так же, впро¬
чем, как и микроструктурные отношения внутри семьи, заметно трансфор¬
мировались по сравнению с островными как традиционными, так и иннова
ционными формами. В целом процесс изменений, объективно отражая всю
сложность и противоречивость ассимиляции иммигрантов вообще, с одной
стороны, направлен на создание условий для их оптимальной адаптации в
США, с другой — на возрождение в приспособленном к новой этносоци¬
альной среде в виде традиционных этнокультурных ценностей.
' US Bureau of the Census. Subject report (Final report). PC(2)-1E. Puerto Ricans in the United
States, 1970. Wash. (D.C.), 1973. Tab. 4. p. 34; US Bureau of the Census. C.P.R. 1982. Ser. P-
20. N 396. P. 6.
* US Bureau of the Census. C.P.R. 1971. Ser. P-20, N 224. Tab. 3. p. 7; 1982. N 390. Tab. 2, p. 9.
' Наглея Й.Л The Puerto Ricans in America. N Y 1973. P. 113.
* US Bureau of the Census. Subject report... 1970. Tab. 9, p. 89; Lewis O. La Vida. N.Y., 1966. P.
198—199,204.229.
116
' US Bureau of the Census. Subject report... 1970. Tab. 9. P. 89.
'' US Bureau of the Census. Subject report... 1970. Tab. 9. P. 89.'US Bureau of the Census. C.P.R.
1986. Ser. P-20, N 396. P. 7.
' US Bureau of the Census. Census of population. Wash. (D.C.), 1950. Vol. 2: Characteristics of
the population. Wash. (D.C.), 1953. Ser. P-53: Puerto Rico. Tab. 25, p. 162; US Bureau of the
Census. Census of population. Wash. (D.C.), 1970; Characteristics of the population. Puerto
Rico, 1973. Tab. ll,p.51.
' US Bureau of the Census. N.Y., 1971. C.P.R, Ser. P-20, N 226. Tab. 3, p. 15; Tab. 2, p. 14.
* US Bureau of the Census. N.Y., 1970. C.P.R. Fertility variations by ethnic origin. N 224. Tab. 5,
p. 16; US Bureau of the Census. N.Y., 1982. C.P.R. Ser. P-20, N 396. P. 6.
Lewig (9. Op. cit. P. 206; Marge D.W. Pride against prejudice. N.Y., 1980. P. 73.
" Fitzpatrick/.P. The Puerto Rican family // Ethnic families in America. N.Y., 1976. P. 215.
ч US Bureau of the Census. N.Y., 1982. C.P.R. Ser. P-20, N 396. P. 6; US Bureau of the Census.
Census of population and housing, 1970: Employment profilics of selected law income areas:
' (Final Report). PHC (3)... 1972. P. 239; Puerto Rican population of survey areas. N.Y., 1973.
P. 45.
"Marge D.W. Op. cit. P. 85.
" US Bureau of the Census. N.Y., 1982. C.P.R. Ser. P-20, N 396. Tab. 2, p. 9.
" Ibid. Tab. 1, p. 7.
" US Bureau of the Census. N.Y., 1970. C.P.R. Ser. P-20, N 264; Ibid. N.Y., 1979. N 354.
" Stycag У.Я. Family and fertility in Puerto Rico. N.Y., 1955. P. 108.
"twigO, Op. cit. P. 181, 221, 249, 262—263.
" ЙДйлмлима МД. Профессор А.Черлин (США) о проблемах семьи и брака в США //
Американский ежегодник, 1984. С. 238.
" Marge D.W. Op. cit. Р. 188.
I' Puerto Ricans in the continental United States: An uncertain future. Wash. (D.C.), 1976. Tab. 24,
p. 18; US Bureau of the Census. N.Y., 1980. C.P.R. Ser. P-20. N 360. P. 21.
i* US Bureau of the Census. Census of population, 1950. Vol. 2. Tab. 28, p. 171.
^ US Bureau of the Census. N.Y., 1971. C.P.R. Ser. P-20, N 226. Tab. 10, p. 12.
^ Marge D.W. Op. cit. P. 28.
^ Fitzpatrick V.P. Puerto Rican Americans: The meaning of migration to the mainland. N.Y., 1971.
P. 20; Statistical abstract of US. Wash. (D.C.), 1979. Tab. 36, p. 34.
* Wagenkeim A survey of Puerto Ricans on the US mainland in the 1970s. N.Y., 1975.
P. 18, 45.
^ Fitzpatrick V.P. Puerto Rican Americans... P. 95.
з* Marge D.W. Op. cit. P. 215, 232, 251.
* Дег/е Й. 80 Puerto Rican families in New York City. N.Y., 1958. P. 79.
* Marge D.W. Op. cit. P. 255.
" Ibid. P. 255.
* Ibid. P. 260.
" tapez A., Petrag G. Puerto Rico and Puerto Ricans: Studies in history and society. N.Y., 1974.
P. 425.
* 7arreg-MatrM#a ЛГ.М. Acculturation, sex-role values and mental health among mainland Puerto
Ricans // Acculturation, theory, models. N.Y., 1980. P. 118.
" Marge D.W. Op. cit. P. 208.
* Lcpez A., Petrag G. Op. cit. P. 427.
^ Marge D.W. Op. cit. P. 176.
* Gerrera D. Op. cit. P. 21.
* Merge D.№. Op. cit. P. 159,191.
Lcpez A., Petrag G. Op. cit. P. 424.
<' Ibid. P. 429.
Fitzpatrick V.P. Puerto Rican Americans... P. 119.
" Ibid. P. 212.
* Morse D.W. Op. cit. P. 226.
117
"Ibid.P.180.
"Ibid. P. 168.
"Ibid.P. 166.
1971. Febr. 11, Mar. 18, May 8, July 25.
** Могле D.W. Op. cit. P. 168.
** L.Z/., OrHz V. Intergenerational change in ethnic identity in the Puerto
Rican family. N.Y., 1979. P. 213. *
" Ibid. P. 202.
** Могле D.W. Op. cit. P. 154.
" А^л О. Op. cit. P. 98.
** Z/arwood A. Mainland Puerto Ricans // Ethnicity and medical care. N.Y., 1981. P. 401.
" М?гл2 D.W. Op. cit. P. 178.
Китайцы в США
ZL4. Слгрозммкояа
В традициях семьи американских китайцев усматриваются глубокие исто
рические корни'. В Древнем Китае формой социальной организации дере¬
вень и небольших городков были кланы, объединявшие семьи всех мужчин
— потомков одного общего предка. К древним обычаям этих семей относил
ся прежде всего культ предков, связываемый у китайцев с их представле
нием о семье как об „одном звене в непрерывной смене поколений" —
умерших и тех, кто еще не родился^. К особенностям традиционной китай
ской семьи относились и такие, как предпочтительно расширенные семьи,
почитание предков по линии мужа, главенствующая роль в семье отца и
старшего сына, обязательное для жены рождение сына, т.е. продолжателя
рода, воспитание в детях послушания и любви к родителям, а также чувств
моральных обязательств и долга по отношению к ним. Послушание детей
являлось как бы стержнем, который сохранял китайскую семью и в диас
поре. Родственники, как и во всех семьях эмигрантов — выходцев из Азии,
также занимали важное место в семейных традициях китайцев: именно в
поддержке многочисленной родни черпали китайцы уверенность при обще
нии с некитайским миром^.
Для неимущих и бесправных крестьян, составлявших большую часть
эмигрантов из Китая в конце XIX — начале XX в., проблемой первостепен¬
ной важности являлось фактическое выживание. Ее решение они видели в
том, чтобы быть как можно незаметнее, не выделяться и не обращать на
себя внимание тех, кто богаче, сильнее и могущественнее их. Поэтому ки
тайские семьи были особенно замкнутыми. Так формировались, приспосаб
ливаясь к условиям жизни в США, и семьи первого поколения выходцев из
Китая в Калифорнии во время разгула расизма и шовинизма, направленного
против „желтой расы" (конец XIX в.). Представители следующих поколений
американских китайцев постепенно воспринимали некоторые общеамери
канские ценности, долгое время не теряя при этом многих своеобразных
черт своего этнического наследия*.
Модель китайской семьи в США не могла, разумеется, быть копией
118
традиционной китайской семьи, свойственной сельскохозяйственному обще¬
ству Китая. Такие семьи не сохранились неизменными в быстро менявшем¬
ся, урбанизированном и сориентированном на научно-технический прогресс
обществе США. Кроме того, с начала китайской иммиграции (т.е. со второй
половины XIX в.) среди выходцев из Китая преобладали мужчины. Далее,
большинство молодых иммигрантов были настроены в то время лишь на
временное проживание в США — они намеревались вернуться в Китай , а
не привозить оттуда своих невест, жен и детей. Поэтому в первые годы и
десятилетия массовой эмиграции у многих из китайцев были семьи, называ¬
емые американскими исследователями „поврежденные" или „неполноцен¬
ные". Члены их были лишь юридически связаны узами брака, а фактичес¬
кие долгие годы жили раздельно. Их соединению препятствовали законы об
иммиграции, носившие ярко выраженный дискриминационный характер.
Здесь, правда, следует сказать, что часть мужчин, покинувших Китай, жени¬
лись в Соединенных Штатах на мексиканках, иммигрантках с Гавайских ос¬
тровов и индеанках. Подобным бракам способствовало, вероятно, равнознач¬
ное отношение представителей этих этнических групп к таким вопросам,
как, к примеру, понимание места и назначения человека в его „земном су¬
ществовании", почтительное отношение к своему клану или племени и т.дЛ
Неполноценные семьи превалировали среди китайцев США вплоть до
издания в 1945 г. более либерального закона, увеличившего число иммиг¬
рантов из Китая. Это событие имело непосредственное отношение к струк¬
туре семьи американских хуацяо, т.е. китайцев, в диаспоре. Прежде всего
среди них исчезла свойственная первым иммигрантам диспропорция полов.
Если в 1890 г., например, в США проживало 103,6 тыс. мужчин и 3,8
тыс. женщин, иммигрировавших из Китая, то в 1960 г. эти показатели уже
равнялись 136 и 102 тыс., а в 1970 г. — 228 и 206 тыс. соответственно*.
Более равномерное соотношение полов среди хуацяо США, в свою оче¬
редь, повлияло на изменение числа холостых и состоявших в браке лиц,
особенно в связи с обычными для представителей ранней иммиграции эндо¬
гамными браками. Так, в период с 1890 по 1970 г. для китайцев США ха¬
рактерна тенденция к значительному уменьшению численности холостяков
мужского и женского пола и увеличению числа лиц, состоящих в браке.
Подобная направленность более четко выражена среди мужчин. Так, в
1890 г. доля женатых мужчин-китайцев составляла всего 29,9%, а в
1960-м она равнялась уже 62,6%. Аналогичный показатель для замужних
женщин китайского происхождения был 63,5% в 1890 г. и 76,3% в
1960 г. К 1970 г. холостяки хуацяо мужского пола составляли 35,2 и же¬
натые — 60,8%, женского — 27,8 и 61,7% соответственно*. В 80-х годах
соотношение полов почти не изменилось.
Один из элементов китайской традиционной культуры, сохранившейся
в США, заключается в неравных нравах членов семьи мужского и женского
пола. Подчиненное положение женщины выражается, в частности, в том,
что в детстве она обязана прислуживать отцу, выйдя замуж, — мужу, а ов¬
* Переписная информация 1980 г. в основном содержит материалы о лицах азиатского проис
хождения в целом, что затрудняет в рамках данной статьи сравнение со статистикой 1960 и
1970 гг.
!!9
довев, — сыну. Характерно и разное отношение китайцев к сыновьям и до¬
черям. Старинное китайское изречение гласит, что мальчик рождается с ли¬
цом, как бы обращенным к своей семье, а дочка устремляет свой взгляд за
ее пределы. Иными словами, сыновья считаются продолжателями и храни¬
телями рода и его обычаев, а дочери — временными членами семьи, они
выгодны лишь семьям своих будущих супругов. Подобное отношение к де¬
тям в семьях американских хуацяо практически не изменилось и ныне. На
мальчиков семья возлагает большую ответственность за участие в так назы¬
ваемом семейном бизнесе, в предпринимательской деятельности, поэтому
она уделяет особое внимание образованию сыновей. Если оба родителя ра¬
ботают, именно дочери остаются дома и нянчат младших детей, в связи с
чем некоторые девочки-китаянки даже в настоящее время начинают посе¬
щать школы лишь в 10—12 лет. В целом женщины китайского происхожде¬
ния достаточно образованны и вполне отвечают стандартам, предъявляемым
к другим американцам, но в семье они по-прежнему стараются держаться
на заднем плане. И хотя идея о большей ценности мальчиков в семье глубо¬
ко укоренилась в психологии повседневной жизни китайцев, в последнее
время эта тенденция несколько трансформируется в связи с растущей
ролью женщин, иногда являющихся даже главами семей. Таким образом,
можно сказать, что в некоторых китайских семьях происходит нетипичный
для них ранее процесс передачи главенства от мужа к жене^.
Традиционно семьи китайцев были многодетными, размер же их
в США сократился в средием до четырех человек. Анализ данных переписи
1970 г. о детях в возрасте до 18 лет в семьях хуацяо США показал, что бо¬
лее 1/3 из 95 тыс. охваченных переписью семейств не имели детей вооб¬
ще, а нормой для американских китайцев были семьи с одним или в край¬
нем случае с двумя детьми. Еще в конце 70-х годов, как свидетельствует
автор китайского происхождения Б.Л. Сан, китайцы, рожденные в Китае,
имели обычно больше детей, чем те из них, кто родился в США. Китаянки,
длительно проживающие в США, замуж обычно выходят в возрасте от 20
до 30 лет, рожают, по словам того же автора, сравнительно поздно и, как
правило, имеют меньше детей, чем женщины из других этнических групп.
Своих младенцев матери-китаянки кормят грудью, не прибегая к искус¬
ственному питанию, и отлучают от груди осторожно и терпеливо*.
Заслуживают внимания вопросы воспитания детей в китайской семье.
Первые несколько лет маленьких балуют, они находятся под неусыпным над¬
зором взрослых и даже спят рядом с ними. Но уже с шести лет переходят к
строгому воспитанию, наказывают за любые провинности и согласно старым
традициям учат подавлять в себе агрессивность, избегать публичного прояв¬
ления любых чувств и т.д. Форму наказания для детей предпочитают в виде
временного исключения провинившегося ребенка из участия в жизни семьи
или лишения его какого-нибудь удовольствия, а не применения физического
воздействия или убеждения сухими рациональными доводами. Системы рас¬
ширенной семьи Китая, обеспечивающей воспитание детей дедушками, ба¬
бушками и другими близкими родственниками, в семьях американских ху¬
ацяо не существует. Поэтому при работающих родителях случается так, что
маленькие дети остаются безнадзорными в течеиие всего рабочего дня и
ощущение заброшенности и покинутости нередко влияет на физическое и
умственное развитие таких детей. Следует упомянуть и то, что с раннего
120
возраста дети принимают посильное участие в выполнении поручений, свя¬
занных с семейным бытом, причем по мере взросления их повседневные обя¬
занности усложняются. Начиная с 10 лет они обычно работают летом почти
наравне со взрослыми, трудоустраиваясь не только в городах, но и на близ¬
лежащих фермах. Существенно то, что дети китайцев США растут в посто¬
янном общении с многочисленной родней (дедушками, бабушками, дядями,
тетями, кузенами * кузинами и прочими родственниками, когда они есть).
Родители китайцы приводят детей на дни рождения, обручения, поминки, ре¬
лигиозные празднования, а также на сугубо общественные собрания и дело¬
вые встречи. Этот обычай соблюдался вплоть до последнего времени боль¬
шинством представителей второго, третьего и четвертого поколений выход
цев из Китая, которые тем самым приучают детей ценить связи со своими
родственниками и соотечественниками и уважать семейные традиции*.
Иными словами, китайцы постоянно стремились сохранять родственные
взаимосвязи и контакты. Бесспорно, за счет воздействия китайской семьи
наряду с умением приспособиться к условиям жизни, выработанным у них
годами, когда эти люди подвергались особо изощренным формам дискрими¬
нации, можно отчасти отнести достижения американских китайцев в сфере
образования и в их профессиональной карьере, засвидетельствованные в по¬
следние годы.
С одной стороны, китайцы в США стремятся сохранить свои этничес¬
кие ценности, обычаи, но с другой — они находятся под постоянным воз¬
действием американского образа жизни и культуры. Национальную одежду,
к примеру, американские хуацяо надевают лишь по праздникам, да и то
только в китайских кварталах; китайская кухня сохранилась главным обра¬
зом в стилизованных китайских ресторанах. Из всех национальных праздни¬
ков особенно пышно отмечаются в китайских кварталах новогодние, кото¬
рые привлекают большое число посетителей и таким образом не только де¬
монстрируют соблюдение лицами китайского происхождения своих тради¬
ций, но и служат чисто коммерческим целям. Наряду с китайскими праз¬
дниками (например, связанными с культом предков или новогодний праз¬
дник по лунному календарю) большинство американских хуацяо отмечают в
США и христианские (рождество, пасху), и сугубо американские (День не¬
зависимости — 4 июля, День благодарения — последний четверг ноября и
др.). Следы американского влияния можно увидеть и в том, что нередко, не
утрачивая китайских фамилий, многие китайцы имеют европейские личные
имена. Кстати сказать, в китайских семьях США широко используются и
уважительные термины родства, часто употребляемые ими вместо имен, та¬
кие, например, как Старший Брат, Самая Старшая Сестра, Вторая (Третья,
Четвертая...) Старшая Сестра и т.п.'"
Укрепление китайских традиций в семье является одной из прерогатив
матерей-китаянок, которые упорно прививают своим детям китайские куль¬
турные и нравственные нормы, понятия о китайском этикете, обязательное
уважение к старшим и т.д. В свои национальные праздники эти женщины
изощряются в изготовлении специфически китайских блюд, а отмечая аме¬
риканские знаменательные даты, вносят в них свой национальный колорит:
в обычную для американских семей праздничную индейку добавляют сое¬
вый соус, начиняют ее фаршем из сладкого риса, овощей, ветчины, жаре¬
ных креветок и т.д."
121
Особенно строго придерживаются национальных традиций старые и по¬
жилые люди китайского происхождения. Так, например, дни рождений не¬
молодые мужчины обычно празднуют по старинке, полностью изолируя сво¬
их жен от гостей, а после похорон старики китайцы обязательно устраива¬
ют поминки только в китайских ресторанах, где, во-первых, все едят из од¬
ного блюда, подчеркивая этим свое единение и братство, и, во-вторых, где
считается грубостью и бестактностью по отношению к родне покойника
быть печальным.
Несмотря на упорное сопротивление старших, в среде китайцев США
появилось много смешанных браков. Так, в 1970 г. 30% мужчин и 22%
женщин в возрасте от 16 до 24 лет из числа китайцев, живущих в Кали¬
форнии, имели супругов некитайского происхождения, а в 1974 г. процент
межэтнических браков у американских китайцев равнялся 25. Престарелые
родители мужа-китайца обычно относятся неодобрительно к своим невес¬
ткам иного этнического происхождения. Белых жен своих сыновей, к при
меру, они считают распущенными, легкомысленными, непочтительными,
безответственными, а главное — чуждым элементом в семье. Нежелание не¬
которых китайцев США вступать в смешанные браки объясняется не толь¬
ко отношением их родителей, но еще и тем, что подобные союзы затрудня¬
ют общение супруга или супруги некитайского происхождения с китай¬
ской семьей, ее родственниками и друзьями. Рост этнического самосозна¬
ния хуацяо США в целом выразился в том, что, хотя среди китайцев второ¬
го и даже третьего поколений обычны смешанные браки, некоторые моло¬
дые китайцы проявляют приверженность к эндогамии. Охотнее всего они
женятся на китаянках, рожденных в Китае, мотивируя это обычным незна
нием американками китайского происхождения родного языка, их отрица¬
тельным отношением к многодетности, тратой больших денег на модную
одежду, обувь, белье и пр.^
К разводам большинство китайцев относится неодобрительно, причем
это не является результатом их сугубо религиозных убеждений (если толь¬
ко они не принадлежат к чрезвычайно набожным католикам)^, а скорее
всего, происходит по причине боязни остракизма окружающих, которому
подвергаются разведенные супруги. Число разводов в китайских семьях не¬
велико и в связи с традиционным отношением к этому акту как к постыд
ному и трагическому, особенно для женщин. Разводы чаще всего происхо¬
дят по причине неуважения женой родителей мужа, ссорами с его матерью
или неспособностью родить наследника семьи — сына. Все эти доводы счи¬
таются вполне достаточными для оформления развода. Некоторые женщины-
китаянки с целью сохранения семьи относятся спокойно и по-философски
к наличию у мужа любовницы (или так называемой по традиции младшей
жены), в глубине души надеясь, что если при таком альянсе появится по¬
томство для продолжения мужской линии семьи, они все же сохранят свой
статус замужних женщин'*.
Об использовании китайцами родного языка можно сказать следующее.
Если иммигранты первого поколения едва говорили по-английски, то пред¬
ставители второго и более поздних поколений хуацяо (особенно молодежь)
отказывались, по мнению ряда исследователей, общаться на китайском язы
ке, и, по их данным, английский язык ныне стал основным языком комму
никации в китайских семьях. В то же время автор китайского происхожде¬
122
ния утверждает, что первая школа для детей китайских иммигрантов от¬
крылась в 1884 г. Со временем, по сведениям того же автора, число таких
школ возросло, и они имеются фактически во всех общинах, их посещают
дети китайцев ежедневно во второй половине дня. Но здесь возникает иная
сложность: дети из китайских семей изучают в государственных школах ан¬
глийский язык достаточно фундаментально и потому, если родители работа¬
ют и общаются с ними только утром и вечером, эти дети со временем ут
рачивают навыки общения на китайском языке, привитые им в раннем дет
стве в семье и в китайских школах. Тем не менее данные переписи
1970 г. показали, что по крайней мере 3/4 американских китайцев призна¬
ли китайский язык родным'*.
Нельзя не упомянуть и об особенностях семей недавних выходцев из
Китая. Новая (с 1965 г.) китайская иммиграция в США отличается от
прежней своей численностью и половозрастной структурой (многочислен
ность молодых людей обоего пола), наличием среди иммигрантов большого
числа квалифицированных специалистов, а также тем, что в последние го
ды китайцы приезжают не поодиночке, а целыми семьями. Взаимоотноше
ния в семьях этой категории эмигрантов из Китая, очевидно, отражают из¬
менения, происшедшие в китайских семьях на их бывшей родине. Поэтому
для семей иммигрантов, недавно прибывших из сельских или отдаленных
от крупных городских центров местностей Китая, характерно более дли
тельное сохранение таких обычаев, как ранние браки, заключение брачных
союзов по расчету или по сговору родителей, совершаемые чаще всего без
согласия будущих супругов (в том случае семьи невест получают довольно
значительное вознаграждение, как бы компенсирующее прибыль, которую
впоследствии получат от молодых женщин семьи их мужей). Воббще, по-ви
димому, в семьях лиц, живших в сельских районах Китая, традиционная
внутрисемейная сплоченность сохраняется значительно дольше, чем у быв
ших городских обитателей этой страны. Среди последних, вероятнее всего,
четче развивается уже сложившаяся там направленность к значительно
большему отрыву от семьи, ее уз и обычаев. Таким образом, в семьях вы¬
ходцев из городов Китая зачастую отсутствует согласие, обычное для ки
тайской семьи. У американских китайцев даже между отцом и сыном су
ществуют денежные расчеты. Если в Китае работающие холостые юноши и
девушки, не говоря уже о детях, отдают весь заработок родителям, то в
США деньги, заработанные молодыми людьми, принадлежат только им и
отнюдь не предназначены для семьи. При этом старые и пожилые китайцы
как в Китае, так и в США все реже и реже обращаются к помощи своих
детей и вынуждены сами заботиться о себе'*.
Тенденция к трансформации и разрушению былых семейных отноше¬
ний в Китае наряду с влиянием, оказываемым на семьи хуацяо американ¬
ским бытом и образом жизни, повлекла за собой нарушения в семейном
укладе не только недавних иммигрантов, но и вообще всех американских
китайцев в целом. Молодежь, особенно та ее часть, которая родилась в
США, выражает все большее неудовольствие стремлением родителей сохра¬
нить в них все „китайское", начиная от обязательного изучения китайского
языка и общения на нем в семье и кончая соблюдением неукоснительного
послушания младших старшим. Это расхождение во взглядах и особенно
разное отношение родителей и детей к духовным ценностям создают неред¬
123
ко тяжелую ситуацию и напряженный моральный климат в американо-ки
тайских семьях, особенно в тех, где родители прибыли из Китая, а их дети
родились уже в США. Наиболее острые межпоколенные конфликты возни¬
кали долгое время при решении вопроса о заключении брака. Правда, спра
ведливости ради нужно сказать, что, не соглашаясь на браки по выбору ро
дителей, большинство молодых китайцев США добилось права замужества
или женитьбы по любви. К глубоким конфликтам между поколениями при¬
водит адаптация американских китайцев ко многим общеамериканским цен¬
ностям (манера поведения дома и на улице, повседневные, свойственные
всем американцам обычаи и привычки и т.д.). Кстати, проблема „отцов и
детей" становится менее острой в более ассимилированных семьях хуацяо,
в которых вообще нарушены многие китайские традиции (неодинаковое от
ношение к мальчикам и девочкам и др.), чем, скажем, в семьях недавно
прибывших в США иммигрантов.
Одной из серьезных причин, разрушающих основы семьи американских
китайцев, стал также рост преступности среди молодежи китайского про
исхождения. Отклонение подростка от общепринятых норм поведения всег¬
да расценивалось самими китайцами не как семейная неурядица, а как воп¬
рос, касающийся и семьи, и всей родни в целом, т.е. всех тех, на которых
могла бы упасть „тень бесчестья и позора". Доля представителей китай¬
ской молодежи в преступном мире США еще сравнительно недавно была
невелика".
Поток эмигрантов-китайцев из Гонконга и Тайваня, которые в силу це¬
лого ряда причин до настоящего времени трудно абсорбируются среди аме¬
риканцев, оказывает большое влияние на новую модель поведения многих
американских подростков китайского происхождения. Выходцы из Гонконга
организуют преступные шайки, популярные среди остальных молодых ки
тайцев. Так, в Нью-Йорке в середине 60-х годов существовала целая сеть
банд подростков с такими экзотическими названиями, как „Белый Орел",
„Беженцы из Гонконга" или „Сестры Востока" и др. На западном побе
режье США, в частности в г.Сан-Франциско, в последние годы также резко
возросло число таких шаек**.
Рост преступности среди китайской молодежи, особенно в пределах
чайнатаунов, несомненно, отражает разрушение старых устоев и обрядов,
причем естественно, что на этом сказывается и общее положение с пре
ступностью в американском обществе.
Все вышеизложенное не позволяет считать семьи американских китай¬
цев столь же крепко спаянными социальными ячейками, как раньше. Если
в них и не всегда можно обнаружить следы распадения, то обычного для
этих семей духовного единства и близости между старшим и младшим по¬
колениями ныне зачастую не существует. ** О проблеме рода у древних китайцев и его отношении с другими формами соци
альных организаций, о родовом имени, патронимии и правиле эндогамии, а также
об основных чертах древнейшей системы родства см. подробнее: Хрюков M.F.
Формы социальной организации древних китайцев. М., 1967. С. 3—10, 106—150 и
др.; Он же. Система родства китайцев: Эволюция и закономерности. М., 1972. С.
136-171.
^ 7ллкыма Я.#. О клановой организации в китайской деревне первой половины XX в.
124
// Социальная и социально экономическая история Китая. М., 1979. С. 181—204;
Lang О. Chinese family and society. New Haven, 1946. P. 180.
' АГДяпя M .M.L. Race relations. Englewood Cliffs (N.Y.), 1974. P. 201—202.
<Ibid.
* Ibid.; MarAD.M.L., CAM G. A place called Chinese America. Indialantic, 1982. P. 75—76.
' ДАяД Liang CAL The changing size and changing character of Chinese immigration to the United
States. Singapour, 1976. P. 31—35; Historical statistics of the United States: Colonial times to
1970. Wash. (D.C.), 1975. P. 14; Statistical abstract of the US, 1987. Wash. (D.C.), 1987. P. 36.
^ МягА DJMi,., CAM G. Op. cit. P. 61—62, 70; Vern#n PA.E. The abilities and achievements of
orientals in North America. P.; Toronto, 1982. P. 14—16; ЯДяпя //7/.L. Op. cit. P. 203. Пер¬
вые китайцы были приняты в высшие учебные заведения уже в 1874 г., а китаян
ки - лишь в 1902 г. Этот факт является, конечно, результатом влияния не только
старых семейных устоев, но и открытой дискриминации, испытываемой в то время
китайцами в США.
' ЯМзпя /LT/JL Op. cit. Р. 203—204; У^гпяп РАЕ. Op. cit. Р. 14; T/aang^Ll/. The Chinese
American family // Ethnic families in America: Patterns and variations. N.Y.; Amsterdam, 1976.
P. 133—134; Sting PL. A survey of Chinese American manpower and employment. N.Y.; L.,
1976. P. 96—103; МягА DM L., CAM G. Op. cit. P. 70—72.
' Ibid.
Vernon PA.E. Op. cit. P. 16; Wong V. Fifth Chinese daughter. N.Y., 1945. P. 2; Eting S.W.
Chinese in Amencan life: Some aspects of their history, state, problems and cotributions.
Seattle, 1962. P. 212.
" МягА D.ML., CAM G. Op. cit. P. 69—70.
ч Dt^ng L.G. Op. cit. P. 130—131, 142; Harvard encyclopedia of American ethnic groups.
Cambridge (Mass ), 1981. P. 229. Многие представители ассимилировавшихся аме¬
риканских китайцев значительно расширили социальные контакты, вступив в клу
бы и другие молодежные объединения своих сверстников вне своей этнической
среды, что определенным образом повлияло на уменьшение эндогамных браков,
особенно среди более молодого поколения.
^//t^ngL.G. Op. cit. Р. 133. В вопросах вероисповедания китайцы всегда проявляли
значительную гибкость и маневренность. И в настоящее время среди старшего по
коления можно встретить сторонников наиболее распространенных религиозно¬
философских учений (конфуцианства, буддизма и даосизма). Есть среди них при¬
верженцы политеистической религии, соединяющей воедино все три указанных
учения. Примерно от 15 до 20 всех американских китайцев исповедуют ныне
христианство, причем 2/3 из них - протестанты. Есть последователи и других ве¬
роисповеданий. Harvard encyclopedia... Р. 229; Vernon РА Е. Op. cit. Р. 14.
"МумЕЕ.Я. Americans and Chinese. Garden City (N.Y.), 1970. P. 142; Dt^ngLJ. Op. cit.
P.133.
" The Chinese Sociology and Anthropology. 1982. Vol. 14, N 4. P. 87; Sting PL. Op. cit. P. 27—
28; MvAD.ML., GAM G. Op. cit. P. 73.
Chinese family: Old and new // China News Analyses. Hong Kong, 1985. June 1, N 1286. P. 1—
9.
" Яия^ L.G. Op. cit. P. 142—144. В 50 x годах среди китайской молодежи, проживаю¬
щей в США, вообще не наблюдалась преступность. См.: Look. 1958. Vol. 22. Р. 75—
85; Р^гАи/у Я.: The new gangs of Chinatowns // Psychology Today. 1977. N 10. P. 60—69.
'* Harvard encyclopedia... P. 228—229; Chen J. The Chinese of America. Cambridge; Sydney,
1980. P. 241—243; Ю;яля//.ЯЕ. Op. cit. P. 205.
125
Филиппинцы в США
Й.4. Сжрозммжояа
Характер этнического самосознания филиппинцев и, в частности, их этни-
ческие ценности (принципы поведения, основанные на представлении о не
коем „внутреннем долге", глубоко осознанные обстоятельства и ответ¬
ственность перед семьей и родственниками и т.п.' позволяют считать, что
за последние десятилетия в среде филиппиноамериканцев, казалось бы, не
произошло ощутимой ломки понятий о семье и браке и что имеющиеся в
нашем распоряжении данные^ достаточно репрезентативны и по ним можно
дать общую характеристику семьи филиппинцев США.
Наибольшая концентрация филиппинцев всегда отмечалась на Гавайских
островах и в Калифорнии (особенно в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско),
где они стремились селиться потому, что там еще с 20—30-х годов прожи
вали их соотечественники. Много филиппинцев, согласно официальным ис
точникам, живет сейчас и в восточной части страны. Согласно статистике,
в 1970 г. их насчитывалось в США 336,7 тыс. (в том числе 183,2 тыс.
мужского и 153,3 тыс. лиц женского пола), а в 1980 г. — уже 795 тыс.
человек. Следует сказать, что в 70-е годы, помимо традиционного расселе¬
ния филиппинцев в общинах Калифорнии (кроме городов Лос-Анджелеса и
Сан-Франциско, большое их число живет в графствах Аламеда, Контра-Кос-
та, Керн, Монтерей, Сакраменто, Сан-Диего, Сан-Хуакин, Сан-Матео, Санта-
Барбара, Санта-Клара, Солано, Сонома и Туларе), часть недавних эмигран¬
тов с Филиппинских островов селилась некрупными замкнутыми группами.
Этим они отличались от большинства своих соотечественников (обычно, как
уже сказано, предпочитавших проживать в общинах). Оседая вне общин,
новые иммигранты все же придерживались принципа расселения по род¬
ственным связям. Немало таких групп, к примеру, проживало в 70-х годах
в графствах Куинс и Уэстчестер штата Нью-Йорк, в населенных пунктах
Ривердейл, Джерси-Сити, в также в графстве Берген (штат Нью-Джерси).
Социологические опросы подтвердили, что при подобном поселении филйп
пинцы не так уж сильно отличались от прочего населения и, возможно,
именно этим объясняется новая тенденция выбора мест своего проживания
в США некоторой частью эмигрантов филиппинского происхождения^.
Заметная миграция филиппинцев из сельских местностей в города име
ла место еще в 50-х годах. Так, если в 1950 г. 50% из них проживало в
городах, то к 1968 г. эта цифра возросла до 80%. В 1970 г. в городах
США продолжало жить около 81%, а в сельских местностях — около 19%
их общего числа*. Хотя абсолютная численность филиппинцев, обита¬
ющих в городах, в настоящее время возросла, это соотношение сохраняется
и ныне.
Первые официальные сведения о семейном статусе филиппинцев США
относятся к 1930 г.^ При том, что мужчин-филиппинцев, по сведениям пе
реписи, было тогда значительно больше, чем женщин, почти из 42 тыс.
лиц мужского и 2 тыс. женского пола одинокие мужчины (15 лет и стар¬
ше) составляли 78,5% в городах и 80,8% в сельских местностях, а женщи
ны — 21,3 и 15,5% соответственно. Доля женатых мужчин составляла в то
126
время в городах 18,7%, а в сельских местностях — 17,5%, для замужних
женщин эти показатели были равны 73,5 и 83,8%. Иными словами, если
процент одиноких мужчин-филиппинцев был крайне высок, то большинство
женщин (особенно в сельских местностях, где проживали тогда основные
массы филиппинских иммигрантов) состояло в браке. Объяснить это можно
следующим образом. Среди эмигрантов из Филиппин преобладали молодые
люди или (реже) мужчины средних лет. С учетом малого числа женщин-фи-
липпинок и сравнительно редкими в то время браками филиппинцев с жен¬
щинами других национальностей становится понятным, почему филиппин¬
цев в целом не только определяли тогда как группу с преобладанием муж¬
чин, но считали убежденными холостяками. Многочисленность женщин мог¬
ла быть, как считает американский автор Б. Ласкер, следствием соблюде¬
ния филиппинцами католических традиций (известно, что большинство из
них было католиками), согласно которым женщинам не разрешалось самос¬
тоятельно путешествовать, а потому они редко покидали свою родину. Не¬
маловажно и то, что, во-первых, большая часть филиппинских иммигрантов
считала свое проживание в Штатах временным и не собиралась обзаводить¬
ся там семьями и постоянным жильем и, во-вторых, что при бракосочетани¬
ях филиппинцев решающим фактором были не их личные эмоции и привя¬
занности, а родительская воля в выборе супругов. Поэтому более естес¬
твенным для лиц филиппинского происхождения являлось вступление в
брак у себя на родине или уж во всяком случае со своими соотечествен¬
ницами*.
Молодые иммигранты вначале были энергичны и убеждены в том, что в
недалеком будущем улучшат свой жизненный статус. Но, оторвавшись от
родных, часть представителей филиппинской молодежи настолько подда¬
лась соблазнам теневых сторон американской цивилизации, что в конце
концов их поведение в определенной степени стало противоречить нормам
жизни белых американцев. К тому же, живя вдали от семейных традиций
и быта филиппинской семьи, при столкновении с чуждым для них обще¬
ством многие молодые эмигранты психологически надломились.
В результате обездоленности и одиночества в условиях чрезвычайно
низкого социально-экономического положения эти люди нередко пополняли
ряды правонарушителей. Участвуя в таких акциях, как создание воровских
шаек, распространение и употребление наркотиков, шулерство, проявляя к
тому же сексуальную извращенность и т.п., они становились тем резервуа¬
ром преступников, которым успешно пользовались в своей криминальной
деятельности дельцы подпольного бизнеса. Все это содействовало распрост¬
ранению среди населения США резко отрицательного стереотипа филип¬
пинцев и мешало осуществлению любых контактов, а тем более брачных
союзов с представительницами других этнических групп, не говоря уже о
белых американках. Для последних филиппинцы являлись своеобразным
„сексуальным пугалом", похотливо преследовавшим и насиловавшим их.
Как людям, принадлежавшим к смешанной и переходной форме между мон¬
голоидной и австралоидной расами, филиппинцам сначала не запрещалось
жениться на белых женщинах. Однако законодательные органы Калифор¬
нии, Орегона, Аризоны, Айдахо и Невады добились этого запрещения, от¬
мененного как противоречащее конституции лишь в конце 40-х годов. Не¬
прикрытая расовая неприязнь и дискриминация во всех сферах обществен-
127
ной жизни страны, с которыми сталкивались в 20—30-х годах эмигранты с
Филиппинских островов, были серьезной преградой на пути их ассимиля¬
ции в американском обществе^.
Естественное стремление филиппинцев обзавестись семьями несколько
увеличило в последующие годы удельный вес смешанных браков среди лиц
этого происхождения. По имеющимся данным, например, в Нью-Йорке
мужчины-филиппинцы часто женились на женщинах самой разной расовой
и национальной принадлежности (англичанках, канадках, француженках,
негритянках, австралийках, еврейках, гречанках, немках, индеанках и др.).
В Лос-Анджелесе же чаще всего можно было встретить филиппинцев, со¬
стоявших в браке с мексиканками, а на Аляске — с эскимосками. Весьма
примечательно, что опрошенные в ходе социологического обследования
женщины мексиканского происхождения дали мужьям-филиппинцам луч¬
шую характеристику, чем мужчинам своей национальности. По-видимому,
положительные качества, замеченные этими женщинами у своих мужей,
можно приписать не только обычным для филиппинцев отношениям в
семье, но и благодарности женщинам, связавшим с ними свою жизнь. Су¬
ществование подобных смешанных браков фактически подтверждается наи¬
менованиями для определения потомков филиппинцев и лиц из числа дру
гих этнических групп, приведенными американским автором Б. Кейтапью-
саном: например Filnipon и Filniponesa для мужчин и женщин филиппино-
японского, Filjudio и Filjudia филиппино-еврейского, Filixicano и Filixicana фи-
липпино-мексиканского происхождения и т.п. Тот же автор, исследовав ас¬
симиляцию филиппинцев в США, отмечал, что если они и женились на бе
лых американках, то последние, как и их мужья, принадлежали не к иму¬
щим классам, а были обычно профессиональными танцовщицами в дансин¬
гах, участвовали в том или ином качестве в бизнесе хозяев отелей, рестора¬
нов, госпиталей, домов терпимости, а нередко были и проститутками. По
скольку большинство филиппинцев в ту пору чаще всего являлись
сельскохозяйственными рабочими (главным образом мигрирующими), они
вступали в брак с дочерьми таких же рабочих иного этнического проис¬
хождения*.
С 1930 по 1970 г. произошли заметные изменения социального статуса
филиппиноамериканцев. Прежде всего это касается расширения сферы их
занятости, а потому относительного улучшения экономического положения
их семей. Всего переписью 1970 г. было учтено 71,3 тыс. семей филиппи
ноамериканцев, из которых 86,5% приходилось на городские, 0,69% — на
семьи лиц, проживавших на фермах, и 12,7% — в остальных сельских мес¬
тностях*. Эти данные относятся и к семейным, и к одиноким лицам, но в
целом они воспроизводят картину их профессиональной занятости. Так,
среди горожан-филиппинцев в указанное время большая часть мужчин ис¬
пользовалась как квалифицированные рабочие, т.е. в качестве мастеров, ме¬
хаников, электриков и т.п., но довольно много было занято в сфере обслу¬
живания, т.е. работали уборщиками, носильщиками, лифтерами и т.п. В то
же время заметное число филиппинцев было вовлечено в сферу умственно¬
го труда — занимались вопросами науки, техники, культуры, медицины и
т.п. Значительная доля живших в городах филиппинок, обладая более высо¬
ким уровнем образования, чем мужчины той же этнической принадлежнос¬
ти, являлись квалифицированными специалистами, т.е. принадлежали к на¬
128
учно-технической интеллигенции, но многие из них занимались и контор
ским трудом — работали телефонистками, кассирами, операторами теле¬
графа и т.п. Были среди филиппиноамериканок и работницы, обладавшие
определенной квалификацией — специалистки швейного дела, упаковщицы
и пр., но достаточно большое их число по-прежнему существовало за счет
самой разнообразной работы в сфере обслуживания — горничные в отелях,
уборщицы, младший обслуживающий персонал больниц и т.п. Наибольшая
доля лиц мужского пола, проживавших на фермах и в прочих сельских
местностях, была занята сельскохозяйственным трудом. В то же время сре¬
ди живших на фермах филиппинок преобладали конторские работницы, а в
прочих сельских местностях — главным образом работницы сферы обслу¬
живания. Все же, по свидетельству американских авторов Г. Китано и Р.
Дэниелса, филиппинцы еще в 70-х годах не ощущали полного равноправия
во всех сферах общественной и хозяйственной жизни страны. По словам
этих ученых, большое число филиппинцев было в те годы занято в оптовой
и розничной торговле, в производстве промышленных товаров широкого по¬
требления, в лесничествах, на рыбных промыслах, но легче всего они нахо¬
дят себе применение лишь в сфере обслуживания. При этом до сравнитель¬
но недавнего времени в качестве низкооплачиваемых неквэтифицированных
или малоквалифицированных рабочих использовались и дипломированные
специалисты, иммигрировавшие в США. Среди семей филинпиноамерикан-
цев весьма популярен также мелкий предпринимательский бизнес. Доказа¬
тельством служит бойкая и оживленная торговля экзотическими блюдами
филиппинской национальной кухни во многих небольших лавчонках на 9 й
авеню в Нью-Йорке, жители которого охотно покупают там такие необыч
ные кушанья, как варенье из мякоти кокосовых орехов, жареные сардины,
соленые анчоусы, так называемых рыб-бабочек или особым образом приго¬
товленную свинину'".
Годовой доход у значительного числа филиппиноамерикапцев был еще
в 1970 г. ниже официально установленного уровня бедности, что в опреде¬
ленной степени сказалось на таких вопросах, как связанная со вступлением
в брак необходимость обеспечения прожиточного минимума своих семей,
неизменная многочисленность холостяков среди лиц филиппинского проис¬
хождения мужского и женского пола и нетипичные для филиппинцев слу¬
чаи расторжения браков.
Наиболее показательным для семей филиппиноамерикапцев в указанное
время являлась сильно сократившаяся (и столь заметная ранее) диспропор¬
ция полов: женщин 45,6, мужчин 54,5%. Несомненно также и то, что в
70-х годах имела место большая терпимость при заключении смешанных
браков между филиппиноамериканцами и представителями других этничес¬
ких групп. Хотя браки филиппинцев с белыми американками стали, по-ви-
димому, более частыми, не исключено, что в отношении к ним у американ
ских женщин во многом сохранилась прежняя предубежденность. Именно
она, вероятно, определяет стремление части из них оставаться одинокими
или сочетаться браком с людьми своей национальности. Во всяком случае,
в 1970 г. из числа лиц 14 лет и старше в целом по США у 32,4% мужчин-
филиппинцев и 40% женщин-филиппинок супругами были лица, принадле¬
жавшие к выходцам из Юго-Восточной Азии. Подобные браки можно объяс¬
нить и тем, что, если оба супруга являются уроженцами одних и тех же
3 Тмя. эак. 1065
129
или близлежащих регионов, они реже испытывают духовную или социаль¬
ную несовместимость, у них одинаковое понимание общепринятых норм
американского образа жизни, равнозначное отношение к быту, националь¬
ным традициям, представлениям о семейном укладе, в частности об автори¬
тете мужа как главы семьи, и т.п.*' Неизменная многочисленность одиноких
мужчин и женщин среди филиппинцев США может быть следствием и
традиционного негативного отношения прочих американцев к вступлению с
ними в брак. Так, в городах, согласно переписи 1970 г., процент одиноких
мужчин составлял 32,9, женщин — 31,9, среди жителей ферм — 35,1 и
38,8, а среди обитателей прочих сельских местностей — 25,7 и 37,8 соот
ветственно.
Сравнительно незначительное в семьях филиппинцев число разводов
можно (хотя и несколько условно и частично) приписать тому, что большин¬
ство из них до настоящего времени ревностно исповедуют католическую
религию, которая относится негативно к расторжению браков. Среди охва
ченного переписью 1970 г. рассматриваемого нами городского населения
доля разводов составляла для женщин 2,2% и для мужчин 3,3% по сравне¬
нию с 1,9% среди женщин и 6,4% среди мужчин, живших на фермах, и
1,2% для женщин и 3% для мужчин среди обитателей прочих сельских
местностей.
Что касается численности детей в семьях филиппинцев, то как в США
в целом, так и среди обитателей городов, ферм и других сельских местнос¬
тей в указанное время большая часть учтенных переписью лиц была либо
бездетной, либо имела по одному ребенку.
Значительное число холостяков и бездетных лиц, согласно переписи
1970 г., почти в равной степени отмечено и для обитателей городских аг¬
ломераций, и для жителей ферм и прочих сельских местностей, что, может
быть, связано с тяжелыми социально-экономическими условиями их жизни.
В условиях городов активная деятельность филиппинских общин порой
способствует сохранению традиционной семьи. В то же время на снижение
рождаемости в городских семьях, как считают многие социологи, в том
числе и советские, не могут не влиять такие общественно-экономические
факторы, как работа женщин на производстве, а также более высокий уро
вень образования^. Так, данные переписи 1970 г. показали, что среднее
число лет обучения в школе было выше у филиппинцев горожан: главы го¬
родских семей, к примеру, имели более высокие показатели образования,
чем главы семей на фермах и в прочих сельских местностях — 12,4 по
сравнению с 7,1 и 8,2 годами обучения в учебных заведениях соответствен
но. К тому же среднее число лет обучения в школе среди филиппинцев
США было выше у женщин по сравнению с мужчинами. Наименьший уро¬
вень образования выявлен у лиц мужского пола, обитавших на фермах, осо¬
бенно у филиппинцев, предки которых иммигрировали в США в начале на¬
шего века и использовались на плантациях Гавайских островов и Калифор¬
нии как неквалифицированные сельскохозяйственные рабочие. Только немно¬
гим из этих людей удалось дать своим детям надлежащее образование, поэто¬
му большая часть потомков первого поколения филиппиноамериканцев, в час
тности те, кто жил по-прежнему вне городов, до настоящего времени заняты
низкооплачиваемым трудом. Отсюда и вытекают трудности, стоящие и в 80-х
годах на пути к получению образования у выходцев из этих семей^.
130
Укоренившееся отношение к кровным родственникам и к институту
брака как таковому свойственно и современным иммигрантам, и натурали¬
зовавшимся в США филиппинцам. В отличие от представителей ранней
эмиграции многие теперь приезжают с семьями, намереваясь осесть в
США. Возраст большей их части колеблется от 20 до 40 лет, т.е. они при
надлежит к наиболее производительной и перспективной возрастной труп
пе, причем численность в их среде мужского и женского пола почти оди¬
накова. Придавая большое значение родственным узам, филиппинцы, перее¬
хавшие в США, зачастую вызывают туда и всю свою родню. Значительная
часть нынешних эмигрантов — близкие родственники уже живущих в
США филиппинцев, поэтому их обычно хорошо встречают соотечественни¬
ки в общинах, объединенных на основании происхождения из одного и того
же района Филиппин. Даже при мимолетном знакомстве филиппинцы, жи¬
вущие в диаспоре, стремятся прежде всего установить региональный диа¬
лект или язык своего собеседника и тем самым определить место его бы¬
лого проживания на родине'*.
Как свидетельствует американский автор Дж.Аллен, многочисленные
квалифицированные специалисты, приехавшие в США в конце 70-х годов,
военные из числа филинпиноамериканцев и сельскохозяйственные рабочие
этого же происхождения между собой не общаются, и потому молодежь,
принадлежащая к указанным социальным слоям, вне их пределов, скорее
всего, брачных союзов не заключает. Этнолингвистическое единство и соци¬
альная принадлежность являются теми стимулами, которые издавна побуж¬
дали филиппинцев организовывать небольшие клубы, региональные и про¬
фессиональные братства и прочие сообщества, нередко заменяющие одино¬
ким филиппинцам семейный очаг. Деятельность подобных обществ направ¬
лена на поддержание связей филиппиноамериканцев с Филиппинами, и ор¬
ганизуемые ими мероприятия весьма разнообразны — от благотворительных
вечеров или вовлечения молодежи филиппинского происхождения в танце¬
вальные и хоровые коллективы до активного участия в религиозных праз¬
дниках, отмечаемых общинами. Особенно торжественно и пышно проходят
рождественские праздники. Парадно отмечаются и сугубо семейные тор¬
жества и годовщины — крещение новорожденных, конфирмация, венчание
и т.д.'*
Типичной для филиппинцев США является так называемая расширен¬
ная семья, в которой ведут совместное хозяйство представители трех поко¬
лений (престарелые родители со своими детьми и внуками). Она связывает
их не только кровными узами, но и общностью взглядов и интересов. В
семье заложена для филиппинцев основа их благополучия, и, как им пред
ставляется, она является самой надежной защитой для каждого из своих
членов от неприятностей и невзгод, порой возникающих в новом для них
окружении. Поэтому члены одной семьи считают ее единым целым, они
как бы связаны психологическим представлением „семья — это когда мы
все вместе", т.е. это их надежность, круговая порука, духовная общность и
сплоченность. Заметим, кстати, что верность филиппинцев этим понятиям,
сориентированным на систему внутрисемейных ценностей, заимствована
ими от испанцев, влияние которых они испытывали длительное время'*.
В конце 70-х и в 80-е годы перед бывшими гражданами Филиппин воз¬
ник в США ряд новых и совершенно непредвиденных проблем, не решен¬
5*
131
ных, скорее всего, и поныне. Это относится чаще всего к процессу при¬
способления членов филиппинской семьи к культуре США, который про
исходит в достаточной степени болезненно для большинства лиц всех воз¬
растов, но, как оказалось, особенно затруднена и чревата последствиями эта
психологическая перестройка для подростков.
Неустроенность с жильем, безработица или плохо оплачиваемая работа,
которой заняты многие главы семей и другие трудоспособные их члены,
сказываются прежде всего на психическом состоянии детей. Подобная си¬
туация усугубляется и тем, что в связи с темным цветом кожи они нередко
испытывают дискриминацию в школах. Все это приводит, как свидетель¬
ствуют американские социологи, к отчуждению подростков и даже к их
уходу из семей. Вот почему в последние десятилетия происходят измене
ния в семьях филиппинцев США некоторых норм их национальной культу¬
ры, например замечается отсутствие передачи из поколения в поколение
внутрисемейных традиций. Несмотря на обычную для филиппинцев предан¬
ность семье и общине, одной из непредсказуемых, неожиданных и доста¬
точно серьезных причин, разрушающих основы семьи филиппиноамерикан-
цев, стал рост преступности среди молодежи этого происхождения и ее
тесные связи с уголовным миром. Указанный факт приобретает особо су¬
щественное значение для легкоуязвимых, обидчивых и чувствительных фи
липпинцев, коль скоро для них показателем идеальной семьи и образцовых
качеств родителей как воспитателей всегда являлось примерное поведение
их детей. Таким образом, среди выходцев с Филиппинских островов посте¬
пенно стала меняться система традиционных взаимоотношений в семье. От¬
рицательное влияние оказывает на психику подростков и то, что они не
справляются с потоком обрушившейся на них массовой информации. Пор¬
нографические и эротические сюжеты, фильмы ужасов и насилий, боевики
и комиксы и тому подобная индустрия развлечений через посредство теле¬
видения, кино, видеокассет, газет и других публикаций растлевающе дей¬
ствует на формирование их интеллекта, социального мышления и граждан¬
ского сознания. В школах же им приходится общаться со сверстниками, об¬
ладающими совсем иными, чуждыми для них жизненными принципами и
позициями, а также с не свойственными филиппинцам интересами и по
требностями. Одну часть филиппинской молодежи подобная ситуация при¬
влекает и не вызывает у них отрицательных эмоций, другую же она приво¬
дит к внутреннему конфликту с заложенными с детства правилами поведе¬
ния и морали, вызывает отвращение и неприязнь и порождает развитие
невротических комплексов и неврозов".
Нарушение традиционного уважения и беспрекословного подчинения
филиппинской молодежи старшим ведет в некоторых семьях не только к
отчуждению или вообще к полному разрыву с семьей таких подростков, но
и к жестоким и насильственным поступкам многих из них, к широкому ис¬
пользованию наркотиков (в основном марихуаны), а также к злоупотребле¬
нию алкогольными напитками. Обращение родителей из числа тех филип
пинских семей, где угрожающе растет число трудных и неуправляемых
подростков, в разного рода психиатрические службы чаще всего остается
без каких-либо ощутимых последствий. Родители таких неблагополучных
детей уже отчаялись самостоятельно разрешить эту сложную проблему, все
больше угрожающую стабильности их семей**.
132
Помимо уже упомянутого особо уважительного отношения к семье и к
старшим в семье, значительной для филиппинцев роли католической рели¬
гии, и другие особенности, свойственные семьям выходцев из Юго-Восточ¬
ной Азии**, не могут быть осознаны и поняты большинством американцев.
Такое непонимание этнических ценностей филиппиноамериканцев наряду с
сохранением и поныне, хотя и в несколько завуалированном виде, дискри¬
минации их в некоторых регионах США также является причиной отчужде¬
ния филиппинцев и не может оказывать положительное влияние на сплоче¬
ние филиппинской семьи в целом в условиях современного американского
общества. Все вышеизложенное не позволяет классифицировать семью фи¬
липпиноамериканцев как стабильную социальную единицу, а говорит о том,
что в ней начинают проявляться зачатки разложения и распада.
* Яорйерезскый й^й. Сампагита, крест и доллар. М., 1974. С. 287—288.
* Переписи 1930, 1970 гг., выборочные материалы переписи 1980 г., которые в
основном содержат данные о лицах азиатского происхождения в целом совместно
с выходцами с тихоокеанских островов, что затрудняет в рамках настоящей работы
сравнение со статистикой 1930 и 1970 гг., сведения, полученные американскими
социологами методом опроса и данные отдельных зарубежных и отечественных ис
следователей.
^ Statistical abstract of the US, 1974. Wash. (D.C.), 1974. P. 30; Statistical abstract of the US,
1986. Wash. (D.C.), 1986. P. 34, 87; N.Y. Times. 1971. Mar. 5; LJ. Filipinos in
California: From the days of the galleons to the present. El Cerrito (Calif.), 1982. P. 131.
' ЙЙ. Filipinos in the United States // Pacific Hist. Rev. 1974. Vol. 43, N 4. P. 528.
' Fifteenth census of the United States: (Marital status of the Filipinos in the United States). Wash.
(D.C.), 1930. Vol. 2. P. 845.
Й. Filipino immigration to the continental United States and to Hawaii. Chicago, 1931.
P. 94—98, 117 a.o.; Mefendy Й.Я. Asians in America: Filipinos, Koreans and East Indians.
Boston, 1977. P. 77.
^ Lascar Й. Op. cit. P. 94-98,117 a.o.
' Ся;<2рмлая Й.Т. The social adjustment of Filipinos in the United States. San Francisco, 1940. P. 2,
83,123—124 a.o.
* Здесь и далее все данные о социально экономическом статусе филиппинцев США
в 1970 г. приведены из соответствующих таблиц издания: US Bureau of the Census.
Subject reports: Japanese, Chinese and Filipinos in the United States, 1970. Wash. (D.C.), 1973.
Перепись 1970 г. проведена по местам расселения филиппинцев, и в ней учтены
жители урбанизированных зон и населенных пунктов — больших и маленьких го
родов, поселков и т.п. (Urban), лица, проживавшие на фермах (Rural farm) и в про
чих сельских местностях (Rural nonfarm). Использование этого разделения при ха
рактеристике филиппинской семьи весьма условно. Во первых, состав жителей по
местам их жительства неоднороден. К жителям ферм, например, относятся и вла
дельцы ферм с членами семей, и управляющие крупными фермами, и разные ка
тегории наемных сельскохозяйственных рабочих и т.д. Во вторых, местожительство
не всегда определяло профессиональную занятость филиппинцев: обитатели
ферм—филиппинцы могли работать по найму вне сельского хозяйства, а горожане
нередко трудились на близлежащих фермах и т.д.
ййаяа Z/.//.Z,. Race relations. Englewood Cliffs (N.Y.), 1974. P. 238; й., ЙЦдла /V.T/i,.
American racism: Exploration on the nature of prejudice. Englewood Cliffs (N.J.), 1978. P. 137;
N.Y. Times. 1976. Dec. 30. P. 27.
" Ся;армлая Й.Т. Op. cit. P. 83—84.
** Смаерцеаа Г.Ф. Семья в развивающихся странах Востока: (Социально демографи
ческий анализ). М., 1985. С. 42-46.
133
P^rrtMZ,. Coming to America: Immigrants from the Far East. N.Y., 1980. P. 131.
"Harvard encyclopedia of American ethnic groups. Cambridge (Mass.), 1981. P. 361-362. Под
общим названием „филиппинцы" статистикой обычно объединяются все выходцы с
Филиппинских островов, большая часть которых принадлежит к илокам — жите
лям двух северных провинций острова Лусон, висайя (или бисайя), заселяющим
Бисайские острова и побережье Бисайского моря, и тагалам, проживающим в ос
новном в центральной части острова Лусон. Представители указанных трех групп
являются носителями основных филиппинских языков — илоканского, висайского
и государственного тагальского языка — тагалога или пилипино.
^ А//ая 7.Р. Recent immigration from the Philippines // Geogr. Rev. 1977. Vol. 67. P. 195—208;
Op. cit. P. 100—102.
" LJ. Op. cit. P. 70—76; US News and World Rep. 1978. Febr. 20. P. 31, 101;
Philippine News. 1978. Apr. 29 - May 5. P. 6.
" Philippine News. 1979. June 16-22. P. 12.
" Ibid. 1977. Sept. 10-16. P. 12
** Смаерцеаа 71Ф. Указ. соч. С. 8 10; /7оуберезсжмй Филиппины: Поиски са
мобытности: Современное филиппинское культуроведение. М., 1984. С. 81—86.
Семья
в Латинской Америке
Кубинцы
ТУ.С. й/еймбдуж
Изучение истории кубинской семьи находится на начальной стадии. До сих
пор не опубликовано ни одной монографии по этой проблеме. Тем не ме¬
нее существуют устоявшиеся представления о происхождении и эволюции
семьи на Кубе. Известный кубинский историк X. Потрони Гарсиа в очерке
об истории семьи на Кубе от конкисты до наших дней разделяет точку зре¬
ния американского антрополога Л. Нельсона, который считал, что в генези¬
се кубинской семьи приоритет принадлежит испанской традиции'. В коло¬
нию была перенесена патриархальная структура семьи с доминирующим
авторитетом отца, с жесткой дифференциацией мужских и женских ролей,
с патрилокальностью брака и т.п.
В том, что испанская семейная традиция была продолжена на Кубе, нет
ничего удивительного. С XV! по XVIII в. испанцы и их потомки местного
происхождения представляли господствующую и численно преобладающую
часть населения колонии. Испанские законы, в том числе испанский граж¬
данский кодекс, ставивший жену в полную зависимость от мужа без права
распоряжаться имуществом, приобретенным в браке, без права работать по
найму без согласия мужа и т.д., легли в основу всей колониальной жизни^.
Медленное социально экономическое развитие колонии способствовало кон¬
сервации унаследованного от Испании средневекового семейного уклада.
Однако было бы ошибочным видеть в кубинской семье лишь прямое
продолжение исходной испанской модели. Сильно отличавшиеся от испан¬
ских условия жизни в колонии оказывали на сферу семейных отношений
постоянное воздействие, настолько же противоречивое, насколько противо¬
речивой была сама действительность. Достаточно вспомнить, что институт
рабства негров получил здесь развитие внутри плантационной системы, но¬
сившей черты капиталистической экономики. В результате семейные отно¬
шения на Кубе отходили от тех канонов, по которым развивалась семья в
Испании. При этом дольше всего старые патриархальные устои сохраня¬
лись в семьях имущих слоев населения. Об этом говорят разрозненные сви¬
детельства бытописателей и путешественников, относящиеся к XIX в. Обе¬
регая свои расово-социальные привилегии, представители белой прослойки
стремились сохранять чистоту родословной и эндогамию внутри группы
аристократии, земельных собственников, чиновников, владельцев ремеслеи
ных и торговых предприятий. Они жестко регламентировали свободу жен,
в большой строгости держали дочерей. Известный знаток нравов и обычаев
Кубы середины XIX в. X. Гарсиа де Арболейра писал: „ ...прекрасный пол
отличен в наших городах тем, что женщине не позволяют выходить днем
135
без экипажа, исключая праздничные дни, если церковь близко... Та, ко
торая не имеет коляски, живет с восхода и до захода солнца в постоянном
уединении'*. Примечательно, что попавший на Кубу в 1853 г. уроженец
Колумбии, в которой социально-расовая структура общества из-за ограни
ченного ввоза рабов была иной, крайне удивлялся тому, что среди пешехо-
дов на улицах Гаваны редко можно встретить женщин: „Я никак не мог
объяснить эту странность: то ли причина в силе здешнего климата, то ли в
плохих тротуарах, — факт, однако, в том, что это не случайность, а местная
особенность"*.
Но и среди колониальной элиты со временем обнаруживались различ¬
ные отступления от общих правил старорежимного семейного этикета. В
XVIII столетии этому, в частности, способствовало проникновение в Латин
скую Америку идей просвещения. В семьях владельцев плантаций немало
было случаев, когда женщины брали воспитание и дальнейшее устройство
детей в свои руки, умело пользовались правом первородства, наследуя иму-
щество и титул, иногда даже выходили замуж за представителей других ра
совых групп^.
У представителей низших слоев населения сама жизнь отвергала ста¬
рые нормы. Многие семьи возглавляли здесь женщины, которым приходи¬
лось своим трудом добывать средства существования.
В начале XIX в. за счет интенсивного ввоза рабов „цветное" население
превысило по численности белую группу. Это соотношение держалось дол¬
гое время, став важным фактором формирования кубинского этноса.
X. Потрони Гарсиа в упомянутой статье фактически обходит вниманием
вопрос о влиянии института рабства негров на формировавшуюся кубин¬
скую семью. Он ограничивается известным доводом о том, что в своей пер¬
воначальной форме африканская семья не смогла пересечь Атлантический
океан и что негры рабы оказались лишенными возможности создать на Ку¬
бе новую полноценную семью, в силу чего в их среде получили широкое
распространение свободные сексуальные связи и пережитки полигамии (в
числе причин дестабилизации брачных союзов негров называют также высо¬
кий коэффициент маскулинности, минимальное влияние церкви и др.)*. О
том, как отразилась создавшаяся ситуация на модели семьи белых и мула¬
тов, у кубинского историка ничего не сказано.
Однако нужно учитывать не только влияние на рабов условий их суще¬
ствования и зависимости от белых, но и обратный процесс — широкие кон¬
такты с рабами также влияли на нормы жизни белых и в сфере межрасо
вых отношений.
Многие рабы жили в домах хозяев, и последние принуждали к сожи¬
тельству своих черных служанок. Плантационное рабство, по существу,
вызвало к жизни известный с исторических времен институт наложниц. Ес¬
тественно предположить, что, заботясь о потомстве, рабыни и свободные
мулатки сами проявляли готовность вступать в связь с белыми, поскольку
по мере снижения доли негритянской крови повышались возможности за
нять более высокую ступень в социальной иерархии колониального обще¬
ства. Большинство мулатов рождалось вне брака. По заключению кубинской
исследовательницы В. Мартинес-Алиер, на протяжении большей части XIX в.
внебрачное сожительство было нормой межрасовых связей белого и „цвет¬
ного" населения^.
136
Таким образом, этика брачно-половых отношений на Кубе испытала
прямое воздействие института рабства и расово-социальной структуры
общества. И если верно, что негритянская семья частично унаследовала
традиции, выработанные в период рабства, то в какой-то мере подобное ут¬
верждение можно отнести к кубинской семье в целом.
Ко времени отмены рабства (1886) семьи разных слоев населения отли¬
чались по составу, функциям, внутрисемейным отношениям, нормам добрач
ного поведения и т.д., но можно говорить и о некоторых общекубинских за¬
кономерностях. Несмотря на аграрный характер экономики, немалая часть
кубинцев проживала в поселениях городского типа, где были условия для
развития малой семьи, получившей на Кубе как в переселенческой стране
распространение в самом начале колонизации. Малая (нуклеарная) семья,
состоящая из одной брачной пары или одного из родителей с неженатыми
(незамужними) детьми, со временем расширялась, но до известных преде¬
лов. Можно предположить, что из-за раннего возникновения городов и то¬
варно-денежных отношений (города в Латинской Америке, как известно,
закладывались раньше, чем начиналось освоение сельской зоны) традиция
многопоколенных, разветвленных семей, ведущих общее хозяйство и живу¬
щих под одной крышей, получила на Кубе ограниченное развитие.
Образование вторичных нуклеарных семей, выделявшихся из лона рас¬
ширенных, и более сложных семей, обеспечивалось наличием неосвоенных
земель, а в дальнейшем — парцеллизацией семейных наделов.
Рост латифундий и расширение сахарного производства во второй поло¬
вине XIX в. сопровождались процессом массовой пролетаризации крестьян,
превращениия семьи в поставщика свободной рабочей силы, что в целом
увеличивало число простых по форме семей. Разные подтипы сложной
семьи дольше сохранялись у наиболее зажиточных и у беднейших групп
населения. В обоих случаях решающее значение имели не экономические
интересы, а материальные условия, позволяющие одним строить большие
дома и вынуждавшие других ютиться в тесноте по нескольку родственных
семей. Устойчивость больших семей в наиболее пролетаризированных груп¬
пах черного и "цветного" населения страдала от конфликтов и от интенсив¬
ной миграции рабочей силы, связанной с сезонностью сельскохозяйствен¬
ных работ и с деформациями капиталистического развития*.
Процесс нуклеаризации семьи, т.е. обособления малых семей, ускорил¬
ся в неоколониальный период (с начала XX в.), отмеченный североамерикан¬
ским влиянием на экономику псевдонезависимой республики. Ииую базу и
дополнительные стимулы феномен нуклеаризации семьи получил с победой
революции 1959 г. Становление новых форм хозяйства, гарантировавших
участие в общественно-полезном труде и экономическую самостоятельность
брачных пар, содействовало их отделению от родительских семей.
Размер семьи, детность
С эволюцией структуры семьи от сложной к простой происходит уменьше¬
ние ее размера. На Кубе средний размер домохозяйства (nuclco ccnsal — еди¬
ница учета в переписях) снизился с 4,8 человек в 1953 г. до 4,4 — в
1970 г. и 4,1 — в 1981 г., что отражает тенденцию уменьшения размера
семьи, несмотря на неадекватность понятий домохозяйства и семьи. Разрыв
137
в показателях размера домохозяйств для городской и сельской зон (в
1981 г. они составляли соответственно 4,0 и 4,4) был менее выражен, чем
для крайних полюсов социально-экономического развития страны — запад¬
ного и восточного (3,8 и 4,6У.
Участвуя в изучении традиционной культуры сельского населения Ку¬
бы в нескольких полевых сезонах периода 1983—1987 гг. в составе совмес¬
тной советско-кубинской этнографической экспедиции (с чем связано преи¬
мущественное внимание в работе к сельской семье), автор наблюдала быс¬
трые темпы жилищного строительства на селе. Разного рода кооперативы и
госхозы помогают отдельным семьям сельскохозяйственных рабочих в при¬
обретении участка и материалов для индивидуальных домов. Но основная
часть нового жилого фонда возводится массовым путем по нескольким ти¬
повым проектам. Такие дома предназначены для одной семьи, и в них пере¬
селяются преимущественно молодые пары.
Перемены, происходящие в сельской зоне в связи с коллективизацией
и массовым жилищным строительством, повлияли на общие показатели
прироста новых домохозяйств, на сокращение их размера и снижение в
этом смысле сельско-городских различий.
Внутри сохраняющейся, но все более узкой категории мелких землев¬
ладельцев отделение молодых семей происходит традиционным путем, но
лишь отчасти. По новому законодательству земельная собственность насле¬
дуется только теми из детей, кто при жизни владельца земли занимался ее
обработкой. Размеры семейного надела ограничивают число помощников,
будущих наследников. Практически им становится один сын. Для осталь¬
ных детей работа на семейной финке (усадьбе) потеряла перспективу, в то
же время для них расширялись возможности учебы и трудоустройства в
общественном секторе в том же или более удаленном поселке, но особенно
в городах. Даже в тех случаях, когда женатые дети остаются жить на от¬
цовской финке, они порывают с крестьянским трудом, что ведет к их боль¬
шей самостоятельности.
Механизм сокращения размеров семьи состоит не только в почковании,
но и в уменьшении числа детей в современных семьях. Падение рождаемос¬
ти на Кубе заметно ускорилось в последние два десятилетия. Если сразу
после революции произошло нечто вроде демографического взрыва, пик ко¬
торого был отмечен в 1968 г., когда на каждую 1000 жителей пришлось
35 новорожденных'", то вскоре этот показатель стал быстро снижаться, со¬
ставив к 1988 г. 18 и приблизившись к отметке высокоразвитых стран
(США - 15,5).
Оба эти процесса — нуклеаризация и сокращение рождаемости — ока¬
зываются тесно связанными между собой, поскольку отделение женатой па¬
ры от родителей ослабляет зависимость от старых представлений и облег¬
чает переход к новым стандартам поведения, чутко реагирующим на обще¬
ственные сдвиги. В этом смысле снижение рождаемости и норм детности в
развивающихся странах обычно увязывают с действием таких факторов, как
индустриализация и урбанизация, повышение образовательного уровня,
улучшение медицинского обслуживания (по части обеспечения населения
контрацептивными препаратами), совершенствование средств коммуникации
и массовой информации. Указанные изменения стали частью социальных
преобразований на Кубе. Хотелось бы подчеркнуть роль таких новых факто¬
138
ров, как предоставление женщинам равных с мужчиной конституционных
прав и массовое вовлечение женщин в общественное производство и учебу.
Эти новые для Кубы явления не замедлили сказаться на снижении темпов
воспроизводства населения. Повышение социального статуса женщин во
всем мире становится фактором сокращения рождаемости и социально-пси¬
хологической переоценки предназначения женщины. А последние традици¬
онно на Кубе и во всей Латинской Америке ограничивались замужеством и
материнством; вне собственного дома преимущественными занятиями жен¬
щины были домашняя прислуга и проституция. В 1953 г. женщины состав¬
ляли только около 10% рабочей силы (17% всего женского населения);
70% работающих кубинок числилось в прислугах". В сельской зоне жен¬
щины редко работали по найму. На волне революционного подъема, активи¬
зировавшего движение за женскую эмансипацию, престиж домашней рабо¬
ты снизился в пользу общественно-профессиональных занятий.
Опережающими темпами изменение представлений и традиционной мо¬
дели многодетной семьи происходит в городах, где женщины занимают все
более прочные позиции в общественном производстве и общественной жиз-
ни'з. Они работают или учатся (иногда одновременно), участвуют в добро¬
вольных отработках, совмещая это с домашними заботами, которые теперь
начинают рассматриваться под иным углом зрения, не только как чисто
женские.
Другим условием пересмотра взглядов на семью и осознания необходи¬
мости планировать деторождение стало изменение экономической функции
семьи. Не только в городах (городское население составляет 66%), где
центр производственной деятельности окончательно переместился в обще¬
ственный сектор, но и в сельской зоне в среде сельскохозяйственных рабо¬
чих, не имеющих личного хозяйства, семья перестала быть единицей мате¬
риального производства, оставаясь единицей потребления. Экономическая
функция ее по-прежнему направлена на обеспечение материальных основ, и
по мере роста благосостояния потребности семьи увеличиваются. Соответ¬
ственно отпадают заинтересованность в расширении размеров семьи и уста¬
новка на многодетность.
Даже среди крестьян — мелких производителей, по нашим наблюдени¬
ям, число детей повсюду уменьшается. Семьи крестьян втянуты в орбиту
общих социально-экономических изменений, в том числе через молодое по¬
коление, частично или полностью порвавшее с работой на финке. У пожи¬
лых, неграмотных и малограмотных родителей число детей достигало более
семи десяти, у родителей среднего возраста, имеющих, как правило, шести¬
семилетнее образование, детей почти вдвое меньше. Самые молодые домо¬
хозяйки, которые нередко имеют образование в пределах средней школы (9
классов), считают, что в семье должно быть не больше двух-трех, максимум
четырех детей.
В городской семье малодетность утверждается повсеместно и вполне
сознательно, как явствует из бесед с кубинками. Одна из них, темнокожая
горничная в пригороде Гаваны по имени Дора, ждала второго ребенка. Са¬
ма она выросла в многодетной семье, очень любит детей и хотела бы иметь
шестерых, но, учитывая ограниченные материальные возможности семьи
(муж был трижды женат, от каждой жены у него дети, которым должен
помогать, к тому же выпивает), решила, что может себе позволить только
139
двух детей — „двух и ни одним больше ". На вопрос, почему же раньше
бедные семьи имели много детей, хотя их родители не могли не сознавать
тяжесть условий своей жизни, Дора ответила без колебаний: „Потому что у
них не было противозачаточных средств", — что отчасти верно. Родная ба¬
бушка, дожившая до 92 лет, рассказывала ей о способах, к которым жен¬
щины прибегали для предупреждения беременности и изгнания плода. По
словам Доры, это было варварство и редко помогало". Попутно отметим,
что Дора узнала от бабушки множество секретов народной медицины и
народных преданий, за что городские знакомые называют ее atmacena
(„кладезь").
Рост образования отражает социальные изменения более широкого ха¬
рактера. Этим объясняется наличие четкой обратной зависимости (данные
начала 80-х годов) детности от образовательного ценза матери („по отцу" та¬
кие данные статистикой не учитываются). Среднее число детей на женщи¬
ну 15—49 лет округленно составляло: без образования — 4; неоконченное
начальное образование — 3; оконченное начальное образование — 2; среднее
— 1; высшее — 1 ".
Характерно, что расовые различия слабо влияют на средний показа¬
тель детности матери (для белых он несколько ниже нормы, а для негритя¬
нок и мулаток чуть выше).
С низким образовательным уровнем, по заключению кубинских социо¬
логов, работавших на о-ве Хувентуд, связано и раннее материнство".
Типологические изменения
Отмеченные выше процессы отразились на типологии кубинской семьи, о
чем свидетельствуют данные последней переписи 1981 г. по составу домо¬
хозяйств. Пользуясь терминологией переписи, отметим, что из всего числа
домохозяйств наибольший процент соответствует так называемым базовым
(т.е. образованным иуклеарной семьей) — 53,7 и расширенным (в которых
живут семьи из более чем двух поколений родственников по прямой ли¬
нии) — 32,5. Наименьшую долю составляют униперсоиальные (одноличные,
из одного лица) 9,1% и сложные (связывающие нуклеариую семью с боко¬
выми родственниками и их семьями) — 4,7%.
Типы домохозяйств
но переписи 1981
г. (в %) "
Униперсональные
Базовые
Расширенные
Сложные
Вся Куба
9,1
53,7
32,5
4,7
Города
9,3
50,7
34,5
5,5
Сельская зона
8J2
60,8
27,4
3,6
Таким образом, более половины всех семей принадлежат к иуклеарно-
му типу, при этом подавляющая их часть относится к подтипу полной нук-
леарной семьи. Среди неполных семей, не имеющих одного из родителей,
преобладают матрифокальные.
Общее число неполных семей, в которых дети растут без отца, по пе¬
140
реписи определить нельзя. Социологические же исследования показывают,
что проблема матрифокальной семьи на Кубе, как и во многих странах Ка-
рибского региона, весьма актуальна, хотя и имеет здесь определенную спе¬
цифику. Около половины женщин, официально попадающих в категорию
матерей-одиночек, не могут считаться таковыми, поскольку живут в браке,
хотя он не зарегистрирован. Кроме того, расставшаяся с мужем женщина
обычно возвращается в родительский дом. Один из часто встречающихся ва¬
риантов расширенной семьи включает полную или неполную нуклеарную
семью плюс разведенную дочь с ребенком. Реже после распадения брака
женщина, покидая дом свекра, оставляет детей отцу, будучи не в состоя
нии их обеспечить и учитывая привязанность ребенка к семье, в которой
он родился и рос. Тогда в расширенной семье место разведенной дочери за¬
нимает сын с ребенком.
Из двух подтипов расширенной семьи" преобладает однолинейная (по
кубинской терминологии — расширенная) в нескольких ее вариантах, отли¬
чающихся количеством поколений, их полнотой и составом. Например, в
одном из случаев трехпоколенной семьи частично или совсем отсутствует
второе звено: ребенок живет без родителей, у бабушки с дедушкой. Много-
линейные семьи не характерны для современного периода, хотя пережиточ-
но бытуют и они.
Как показывает анализ фактического материала, в целом развитие
семьи на Кубе идет в общем для многих стран русле — в сторону у меньше
ния состава и упрощения формы. Важно иметь в виду и другое: неразделен
ные семьи, которые кубинская статистика подразделяет на расширенные и
сложные, существенно отличаются от архаичной патриархальной семьи, по¬
скольку взрослые их члены в подавляющем большинстве зарабатывают са
мостоятельно, независимо от главы семьи, и это значительно ослабляет эко¬
номическое единство и иерархию внутри таких семей.
Сокращается абсолютное и относительное число „братских" семей, а
также число дополнительных родственников по прямой или боковой линии
в неразделенных семьях.
Обращает на себя внимание и тот факт, что вопреки распространенным
представлениям расширенная семья имеет большее распространение в горо¬
дах, чем в сельской местности. В этом убеждают нас данные переписи,
приведенные выше, что не противоречит чуть меньшим средним размерам
городской семьи, чем сельской.
Отделение молодой пары в сельской местности происходит в более ко¬
роткие сроки, чем в городах, что связано с возможностями решения жи¬
лищной проблемы. В сельской зоне строительство дома из традиционного
подручного материала не требует больших затрат времени и денег. Сейчас
положение усложнилось, но все же проблема жилья не стоит на селе так
остро, как в городе, где она усугубляется миграционным движением из
сельской зоны в город.
Большой дом с обязательной залой-гостиной, несколькими спальнями,
столовой и кухней — все более типичный для сельских жителей Кубы —
позволяет простой и сложной семьям размещаться свободно, тем более что
с родителями проживают не все дети. Часть детей живет в школах-интерна¬
тах, учащиеся специальных курсов — в общежитии в городе или областном
центре, молодые призывники — в армии.
141
В то же время необходимость для большой части молодоженов на пер¬
вых порах или дольше жить вместе с родителями представляет одну из
причин резко участившихся в последние десятилетия разводов: с 1957 по
1981 г. индекс разводов подскочил в 10 раз — с 0,3 до 3,3 В настоящее
время на Кубе соотношение числа браков и разводов одно из худших в мире.
По единодушному мнению опрашиваемых, у невестки, переселяющейся
в дом мужа, бывают более напряженные отношения с его родителями, чем
у зятя, живущего в доме жены, с тестем и тещей. В данном случае можно
усмотреть отзвуки обычая избегания, характерного для обществ с высокой
ролью патрилокальной семейной общины. В беседах с нами, разумеется, не
многие признавались в существовании семейных конфликтов, но некоторые
характерные сюжеты кубинского фольклора рассказывают как раз о ситуа¬
ции, когда невестка испытывает отчужденность в отношении к свекру.
В сельской зоне расширенные семьи менее долговечны, чем в городе.
Женатые дети (чаще сын с невесткой) проживают с родителями временно,
до тех пор пока смогут построить или купить дом. В то же время традиция
совместного проживания новой семьи с родителями поддерживается рас¬
пространенностью ранних браков. Случаи вступления в брак в 15—16 лет
нередки. По новому кодексу 1975 г. для вступления в брак требуется дос¬
тижение 18-летнего возраста, но допускаются исключения для девушек с
14 лет и юношей с 16" с учетом сложившейся практики. Преодолеть усто¬
явшийся обычай законодательным путем оказалось непросто. По данным со
временных социологических обследований, брачность в раннем возрасте,
когда отсутствуют соответствующие материальные и психологические усло¬
вия стабильности семьи, входит в число главных факторов разводов^.
До революции ранние браки наряду с экономическими причинами объ
яснялись стремлением молодежи освободиться из-под тяжести родитель¬
ской опеки. В наши дни они связаны отчасти с противоположным обстоя¬
тельством — ослаблением контроля за поведением подростков. Только в
80-е годы с повышением образовательного уровня и занятости молодежи в
общественном производстве наметилась тенденция к некоторому повыше¬
нию нижнего порога брачного возраста.
В отношении сложных семей, которые, по определению кубинских со¬
циологов, могут состоять из одной и более базовых (нуклеарных) семей и
родственников по боковой линии или даже из двух персон, связанных род¬
ством по боковой линии, напомним, что, насчитывая в целом менее 5%, они
также в большей степени присущи городу, чем селу. Один из механизмов
их образования связан с переездом молодых людей в город, в семью жена¬
того брата, шурина или дяди.
Нельзя забывать и о том, что грань между расширенной и нуклеарной
семьями весьма подвижна и тип одной и той же семьи со временем меня¬
ется. По типичной схеме нуклеарная семья первоначально ответвляется от
родительской, а на этапе своей зрелости снова трансформируется в расши¬
ренную, вобрав в себя семью вступившего в брак сына или дочери. Расши
рение нуклеарной семьи происходит и другим путем, например в случае
воссоединения ее с разведенными детьми или с одним или обоими преста¬
релыми родителями. Отмечая специфику локальных социодемографических
условий на о-ве Хувентуд, В.В. Пименов писал, что „в силу быстрого миг
рационного роста населения за счет молодых возрастов обычные для Кубы
142
неуклеарные семьи встречаются там особенно часто. Однако в последние
годы этой тенденции противостоит другая — воссоздание семей расширен¬
ного типа за счет притягивания туда родственников, в особенности родите¬
лей... Достигнув некоторого критического предела, семья широкого состава
снова делится'*'.
К типологическим изменениям следует отнести переход от патрило
кальности к билокальному и неолокальному бракам. До революции этому
способствовали процессы, связанные с развитием капитализма: становление
рабочего класса, пролетаризация крестьянства, миграции в города. В наше
время подрыв патрилокальной системы обусловлен дальнейшей урбаниза¬
цией, а также обобществлением земли и производственной деятельности в
сельском хозяйстве.
В то же время в отличие от городского образ жизни сельских жите¬
лей более консервативен и привержен остаточным явлениям патриархально¬
го быта. В целом патрилокальный брак на Кубе поддерживается традицией,
присущей кубинскому этносу „генетически", поскольку он сформировался
на аграрной основе, и на современном этапе развития страны ее еще нель
зя отнести к урбанизированным обществам Запада.
Особенности межсемейных связей
и ритуальное родство
Для характеристики типологии семьи важно учитывать степень не только
распространения нуклеарной семьи, но и ее автономизации, которая зави¬
сит от социально-политической структуры общества и, в свою очередь, ока¬
зывает на нее влияние.
На Кубе малую семью после ее отделения от родительской продолжа¬
ют, как правило, связывать живые нити с семейно-родственной группой,
локализованной или территориально разомкнутой. Функциональная вклю¬
ченность малой семьи в состав более или менее широкого родственного
объединения свойственна обществам с аграрной экономикой и обществам
переходного типа. Считается, что родственная солидарность компенсирует
неспособность социально-экономической системы обеспечить каждой семье
ту хозяйственную стабильность и самостоятельность, какую дают ей индус
триальные урбанистические общества. Сохранение роли семейно-родствен
ной группы при одновременном усилении самостоятельности индивидуаль
ной семьи можно также понять исходя из концепции устойчивости и пре
емственности этнической культуры, предложенной И.М. Кузнецовым. Речь
в ней идет о закреплении в качестве постоянно воспроизводимых и транс
лируемых от поколения к поколению особенностей культуры, присущих
той стадии социально-экономического развития, на которой произошла эт¬
ническая консолидация изучаемой общности^. Роль иерархии родственных
связей в самоопределении личности относится к традиционным ценностям
кубинского этноса. С этим связана, в частности, стереотипная идея о значе¬
нии родственных связей в быстрейшем достижении жизненного успеха.
Интенсивность родственных отношений особенно сильна в сельской зо
не, где исторически сложилось заселение компактными гнездами типа пат¬
ронимообразных групп. Среди частных землевладельцев поселение семей
ным кустом с группирующимися по соседству финками нескольких сиб-
143
лингов и родственников по прямой линии, чаще отцовской, типично до сих
пор, как и сегментация родственной группы на одной и той же многодвор-
ной финке. Отсутствие соответствующих исследований не позволяет уточ¬
нить разнообразие таких объединений.
Для семей, входящих в локализованную родственную группу и сохрани
ющих большую или меньшую хозяйственную самостоятельность, характер¬
ны взаимопомощь, обмен орудиями труда, продуктами питания, участие в
решении внутренних проблем друг друга и в общесемейных церемониях.
Сохраняются и признаки иерархичности системы, особенно в социально¬
идеологическом смысле: приоритет старших, а среди них — главы род¬
ственного объединения.
Одна хозяйка назвала всю свою улицу barrio famiiiar en ei sentido de ia
am is tad у de ia sangre (семейный квартал по дружбе и по крови), потому что
на ней живут сплошные Веласкесы (фамилия ее мужа)". Гомогенные квар
талы существуют чаще всего в периферийных районах.
Консолидация кровнородственных групп усиливается отношениями
свойства. В некоторых местах до сих пор сохранился обычай выбирать
брачных партнеров не только внутри своего селения, но и внутри семейной
группы, когда женятся между собой родственники мужа и жены. В равнин¬
ной части Гранмы, в местечке Летреро на одной финке в 11 домах живут де¬
вять братьев с семьями (две их сестры и еще один брат разъехались кто ку¬
да). Четыре брата работают на финке и делят доход поровну, остальные — на
государственной животноводческой ферме. Старший брат — самый уважае¬
мый. Но после смерти отца мать считается главой родственной группы.
Она родилась на этой финке и не хочет расставаться с родной усадьбой,
поэтому братья не вступают в производственный кооператив. Мать живет с
младшим из сыновей и двумя внуками. В семье одного из братьев по имени
Риго (Ригоберто) семь человек: хозяин с женой, двое неженатых сыновей и
старший сын (acompanado, т.е. состоящий в незарегистрированном браке) с
женой и ребенком. По словам невестки Сони, она поддерживает одинаково
близкие отношения со своей родней, которая живет через дорогу, и с род¬
ней мужа, потому что они с мужем родственники (оказалось, свойственни¬
ки: брат Риго женат на Сониной тетег*.
В случае разбросанности родственных семей внутри одного поселения
или в пределах более широкой зоны между ними поддерживаются регуляр¬
ные связи. Родственники навещают друг друга, чтобы проведать, обменять¬
ся новостями, услугами. Внуки гостят у бабушек, племянники — у теток и
дядей. Во время посещения крестьян в воскресные и будние дни мы часто
заставали семью в кругу прибывших родственников. Одни из них живут по
соседству, другие — на другом конце села или в удаленном месте и приез¬
жают на лошади подчас только за тем, чтобы повидаться и провести вместе
un ratico („немного времени").
Частые взаимные визиты к родственникам — одна из важных сторон
обыденной жизни семьи, что же касается больших семейных праздников,
как Новый год или День матерей (второе воскресенье мая), то в родитель¬
ском доме собираются вместе все дети со своими семьями, где бы они ни
проживали. В эти дни кажется, будто вся Куба приходит в движение, что
создает реальные транспортные трудности.
О том, как поддерживается солидарность родственной группы, разъеди-
t44
пенной территориально и хозяйственно, можно понять, например, из рас
сказа Флора Кеведо, 64 лет, из местечка Какокум провинции Ольгин*. У
его родителей была своя финка, но на всех 12 детей земли не хватило.
Флор устроился работать на финке дяди, Анхеля Кеведо, в качестве парти-
дарио (издольщика) и через несколько лет выкупил кусок земли в 10 ро
сас, так что сейчас у них с дядей общая граница.
У Флора с женой шестеро детей. Раньше в старом доме все восемь че
ловек жили вместе. Потом дети женились и почти все разъехались. На
финке теперь стоят три дома: в одном живут Флор с женой, в другом —
старшая дочь с мужем и тремя детьми, в третьем — сестра жены со своей
семьей. Средняя дочь, у которой тоже трое детей, живет в соседнем посел¬
ке, а младшая — с двумя детьми — в 30 км от Какокума. Все трое женатых
сыновей Флора работают в государственном сахароводческом объединении в
этом же поселке Какокум и живут в отдельных домах для семей сельскохо
зяйственных рабочих. Двое из них комбайнеры, рубщики сахарного трос¬
тника, а младший работает в сельском баре.
По воскресеньям и коротким субботам сыновья приходят на финку но
могать отцу, он выделяет им часть прибыли. Когда нет сафры, почти каж¬
дое воскресенье в доме родителей собираются все дети со своими женами,
мужьями и детьми. По словам Флора, вся семья очень сплоченная, хотя
многие живут врозь. Подобное приходилось часто слышать в сельских семь
ях разных провинций Кубы.
У большинства горожан есть родственники в сельской зоне или других
городах, с которыми они поддерживают регулярные отношения. Жительни
ца Гаваны Грисель сказала об этом емкой фразой: „Los cubanos son muy
unidos, muy famitiares", смысл которой в том, что кубинцы очень дорожат
семейным единством. Между сиблингами есть наиболее дружные пары, с
другими — отношения могут быть прохладнее. С одним из братьев Трисель
живет по соседству, но ближе всего ей старший брат, до которого надо до¬
бираться двумя автобусами, однако они каждую неделю навещают друг дру¬
га и „без этого не могут обходиться"*.
Усилению связей семьи с родственниками по крови и по свойству помога
ют отношения ритуального родства, так называемая система компадразго.
Раньше эта система имела более широкую опору, поскольку основная масса
населения принадлежала к верующим католикам. После революции, когда чи¬
сло верующих сократилось, обычай крестить детей ослаб, тем не менее мы
сталкивались с бытованием его среди части населения. Он воспринимается
самими крестьянами как народная традиция. В сельской местности церквей и
раньше было мало, а после революции стало еще меньше, так что один свя
щенник приходится на большую округу и только раз в год может навещать
прихожан для крещения их детей. Поэтому первый раз новорожденного крес¬
тят сами в присутствии крестной пары, которая нарекает младенцу имя. Часть
сельских жителей вообще крестит детей только дома, без священника, кото¬
рого может заменить выбранный глава спиритуалистического центра.
Предпочтение при выборе крестных почти всегда отдается родственни¬
кам. Падриио и мадриной становится обычно женатая пара, причем если од¬
ному ребенку ее выбирают из родственников по линии матери, то другому
— по линии отца. Крестными бывают чаще всего родные братья, кузены,
племянники (а также их мужья и жены) кровных родителей младенца.
из
По данным приходского архива, в Старой Гаване до середины XIX в.
достаточно было иметь одного крестного — падрино или мадрину. Позже
горожане взяли за правило выбирать обоих духовных родителей, в качестве
которых выступали сначала дедушка и бабушка по материнской линии^,
при том что преобладала патрилокальная форма брака. Таким образом сис¬
тема компадразго укрепила связи семьи с родственниками со стороны мужа
и жены.
Крестные помогают усыновленным детям и главное — их родителям, а
в случае смерти кровных родителей крестные должны их заменить. Кроме
крестных по рождению, у латиноамериканцев, и в частности у кубинцев,
существуют крестные по свадьбе, причем по возможности в роли тех и
других выступает одна и та же пара.
Значимость родственных связей, усиленная системой компадразго, обна¬
руживает себя и в системе родства. Термины типа „золовка, шурин, свояк
и свояченица", которые, например, в современной русской системе родства
все чаще приобретают оттенок анахронизма, вытесняясь чисто описательны¬
ми терминами типа брат жены и т.д."^*, на Кубе, напротив, широко употре¬
бительны. В некоторых местах духовными родителями предпочитают иметь
пользующихся уважением среди односельчан соседей — неродственников.
Значение соседских связей всегда было на Кубе большим. Еще в колони¬
альный период, по утверждению Л. Нельсона, из-за сравнительно слабой
роли церкви на селе, семья и соседские отношения обеспечивали основную
часть социальных контактов населения^.
Тесные соседские связи являются общей чертой повседневной жизни
кубинской семьи, в этом смысле разница между городом и деревней не
столь значительна. В городах двери квартир и домов открыты в буквальном
и переносном смысле слова, так что соседи и их дети в любое время захо¬
дят друг к другу. Один показательный пример. В пригороде Гаваны — Ала-
маре в современном многоэтажном доме на 132 квартиры все жильцы зна¬
комы между собой, но особенно дружат соседи по коридору (12 семей).
Когда в знакомой нам семье готовили что-то особенно вкусное, то обяза¬
тельно приглашали соседей или хозяева сами ходили к ним с угощением.
В контексте с вышеизложенным становится понятнее замечание совре
менного кубинского кинорежиссера Т. Гутьерреса Аласа о том, что кубин
ский зритель воспринимает замкнутое в стенах дома (семьи) действие с не¬
обходимой долей иронии*.
Сохранение широких родственных и соседских связей раздвигает рамки
так называемой референтной группы, на которую ориентируется нуклеар-
ная семья. В то же время это один из признаков этнокультурной системы в
целом, характеризующейся значением коллективистского сознания и бытия.
Именно со структурой референтной группы или кругов общения, как гово
рят социологи, связаны особенности поведения и восприятия, которые ин-
туитивно называются этнопсихологическими. Устойчивость, функциональ-
ность родственных и соседских связей частично компенсирует редуцирован¬
ные возможности малой семьи в воспроизводстве этнокультурных традиций.
146
Ломка традиционных внутрисемейных отношений
и проблема мачизма
Те же самые факторы, которые способствуют нуклеаризации кубинской
семьи, изменению ее состава, размера и функций, ведут к изменению ка
чества внутрисемейных отношений. В новом семейном кодексе 1975 г. уза
конено равенство прав и обязанностей обоих супругов и отменено разделе
ние детей на „законных" и „незаконнорожденных". Кодекс о семье направ
лен в большей мере против предрассудков прошлого, освобождавших муж¬
чину от помощи жене в домашней работе и воспитании детей*'. Но главное,
на чем основана реорганизация семейного этикета по линии его эгалитари-
зации, — это реальный вклад женщины в бюджет семьи, ее способность в
случае необходимости самостоятельно содержать семью.
Старая схема (муж обеспечивает средства существования, а жена ведет
домашнее хозяйство и полностью зависит от мужа) вписывалась в общую
социально экономическую структуру и идеологию общества, основанного на
патерналистских отношениях и авторитарном поведении. С ростом социаль¬
ной активности женщин и изменением структуры занятости стал ослабе¬
вать мачизм, т е. гегемония мужчины в отношениях с женщиной, в том чис¬
ле мужа с женой. В этом смысле отчасти подтверждается известное выска
зывание Энгельса о том, что „господство мужчины в браке есть следствие
его экономического господства и само собой исчезает вместе с послед¬
ним"**. Но выражение „само собой" в данном случае оказалось упрощением
(как, впрочем, и всякое абсолютизирование экономического фактора в ре¬
шении женского вопроса). Процесс этот закономерный, но более сложный,
поскольку семья является частью всей общественной системы и хранитель¬
ницей традиционного культурного наследия страны. В этом смысле в ку¬
бинской семье в силу отмеченных выше особенностей кубинского этноса
механизм торможения обладает повышенной надежностью.
Слово „мачизм" (machismo) происходит от испанского macho (самец), об¬
разованного, в свою очередь, от латинского mascuius (мужской пол). В сло¬
варе Испанской королевской академии 1732 г. приводится возможность
употребления этого термина с намеком на чрезмерную силу и твердость
мужчины**. Мачизм характеризуют определенные социальные стереотипы. В
каждой из латиноамериканских стран, где особенно развито это явление,
свои нюансы, но суть его сводится к возвеличиванию физической природы
мужчины: „настоящий" мужчина не должен проявлять слабость ни в поли
тике, ни со своими подчиненными, ни в личной жизни. По выражению со¬
временного мексиканского автора, мачизм — это невидимая броня из много¬
численных табу, которая ограничивает мужчину, делает его более „твер
дым", особенно в отношении к женщине**.
Формула мачизма не сводится к соотношению ролевых функций мужчи
ны и женщины, к тому множеству привилегий, которыми пользуется муж
в семье; она касается стиля и содержания культуры латиноамериканцев,
глубоко проникших в коллективное сознание понятий и представлений.
Анализ мачизма показывает, что, выйдя за пределы семьи, это явление
продолжает оказывать на нее свое давление. В интерпретации мексиканско¬
го писателя Октавио Паса, феномен мачизма, проникшего в Латинскую
Америку из феодально-патриархальной Испании, получил здесь специфичес¬
!47
кую (историческую) окраску и значение как насилие, совершенное мачо-
конкистадором над девственной и беззащитной культурой индейцев^. Со¬
гласно другой концепции, расцвет мачизма в Латинской Америке был свя¬
зан с потребностью креолов — белых уроженцев колоний, не пользовавших
ся привилегиями выходцев из Испании, самоутвердиться, добиться компен¬
сации за свою униженность^.
В последние десятилетия распространению в литературе и в жизни
термина „мачизм" с негативным оттенком способствовало, в частности, фе
министское движение в США. Некоторые наши знакомые на Кубе призыва
ли даже отказаться от самого термина (на том основании, что он навязан
идеологическими врагами, дискредитирует кубинцев и оскорбляет их наци¬
ональные чувства), предпочитая пользоваться более нейтральным понятием
— hombreria (от hombre — „мужчина"). Но такая замена ведет к затушеванию
сути явления. Сами противники мачизма вкладывают в него особый смысл,
считая, что речь идет об одной из составляющих кубинского национального
характера, лишившись которой кубинцы якобы потеряют свое лицо.
Гегемония мужчины в семье — в значительной степени стадиальное яв¬
ление, в развитых обществах ставшее анахронизмом. Но даже в странах с
далеко продвинувшейся демократизацией семьи наблюдается больший или
меньший перекос, асимметрия отношений в сторону женской зависимости
от мужчины или в лучшем случае — „сохрание некоторых этикетных черт,
традиционно подчеркивающих уважение женщины к мужчине"^. В связи с
этим авторитетными учеными высказывается сомнение в правомерности
подхода к данному явлению как только к пережиточному. Показательны
рассуждения А.И. Першица: «Теперь я задаюсь вопросами: биологические и
в какой-то мере обусловленные ими социальные аспекты полового димор¬
физма, статистически большая экономическая и общественная активность
мужчин, проекция на семейный быт их опять-таки статистически преобла¬
дающих статусов — при всех этих обстоятельствах может ли когда-нибудь
стать общей нормой не только матриархат, но и биархаг? И могут ли ко¬
ренным образом измениться семейные традиции уважения женщины к
мужчине? Думается, что едва ли. Не исключено, что в общественном быту
по-прежнему будут оказываться этикетизированные знаки внимания женщи
не, а в более интимной сфере семейного быта этот специфический „кава¬
лерский" этикет останется менее заметным, чем так или иначе подчеркива
емое признание роли мужа и отца семейства»^. Представляется все же, что
опережающая экономическая и общественная активность мужчин по сравне¬
нию с женщинами не может помешать выравниванию их статусов в семье
по мере осознания обществом высокой социальной значимости женщины-
матери, роли женского начала в жизни семьи и общества.
Не углубляясь в вопрос о естественности и необходимости дифферен¬
циации социальных статусов мужа и жены, которая пока еще обеспечивает
перевес мужскому полу, хотя должна быть, по выражению Н.А. Бердяева^,
условием „равенства своеобразных ценностей", хотелось бы продолжить на¬
шу мысль о том, что латиноамериканский мачизм представляет особую раз
новидность такого широкого явления, как социальная иерархия полов.
Культ превосходства мужчины, признание за ним особых прав над жен¬
щиной нашли в бывших колонониях Испании сильную опору в социально
экономической структуре общества, в юридическом законодательстве и ка¬
148
толицизме. Характеристика наиболее крайнего, мексиканского, варианта
мачизма включает такие, например, черты, как комплекс нарциссизма, аг¬
рессивность, нетерпимость к чьему-либо превосходству. В мачо уживаются
рядом сильная любовь к матери и неуважение ко всякой чужой женщине.
Он не терпит возражений, отказа своим прихотям и в завоевании престижа
придает важнейшее значение половой потенции. Соответственно марианизм,
т.е. представления об идеальной женщине, предполагает добродетельность,
терпимость в отношении неверности мужа, его капризов и деспотических
замашек, требует быть пассивной и покорной*".
Что касается набора мачистских стереотипов на Кубе, то за отсутстви¬
ем специальных исследований мы не беремся давать исчерпывающих фор¬
мулировок, ограничившись предварительным обобщением собственных на¬
блюдений и полученной от кубинцев информации.
Как выяснилось, в сельской зоне и в городе, а также на разных соци¬
альных уровнях мачизм развит в неодинаковой степени: в целом в деревне
эта степень выше. Но во всех случаях мачизм имеет два аспекта: а) потре¬
бительское отношение мужа к жене, место которой в доме и которая дол¬
жна ему готовить, стирать, подавать, ухаживать за детьми и прочее; б)
двойная половая мораль, осуждающая потерю невестой невинности до брака
(пресловутая valor de )а virginidad — „цена девственности"), неверность жены
и в то же время закрывающая глаза на сексуальную свободу мужчины.
Об „эрозии" мачизма на Кубе впервые заговорила художественная лите¬
ратура. Алехо Карпеитьер в романе „Потерянные следы" еще в 1953 г. на¬
делил своих молодых персонажей из среды интеллигенции стремлением к
внутреннему диалогу с самим собой, к рефлексии, „столь чуждым ма¬
чизму"*'.
После революции 1959 г. изживание мачизма, во всяком случае в его
крайних проявлениях в сфере семейных отношений кубинцев, охватило ши¬
рокие слои населения. Обратимся к высказываниям наших ииформатбров.
Мужчина из провинции Ольгин: „Раньше мачизм был сильно развит.
Теперь нет. Раньше мужчина чувствовал себя хозяином мира, он имел боль¬
ше прав и свобод в браке, чем женщина".
Женщина из провинции Гранма: „Раньше муж имел абсолютную власть
над женой. Она была послушной, не перечила ему ни в чем. Женщина тер¬
пела, когда видела мужа с другой, которую он мог приводить даже в дом".
Жительница Гаваны: „Моя ныне покойная мать, уроженка Пинар-дель-
Рио, рассказывала, что одна соседка в их деревне после похорон мужа хвас¬
талась тем, что на кладбище пришли семь его бывших сожительниц. Сегод¬
ня невозможно услышать подобное"*^.
Наиболее устойчив мачизм в семьях крестьян. До сих пор некоторые
хозяева финок относятся к жене „чуть ли не как к своей рабыне", лишают
ее всякой свободы, не разрешают работать вне дома и даже выходить из до¬
ма одной без спроса. Если муж вернется с поля днем пообедать и не заста¬
нет жену, „возникнут проблемы". Жена не знает доходов мужа, поскольку
деньги он держит при себе, а ей выдает только часть, по своему усмотре¬
нию. В молодых семьях жена не вмешивается в личную жизнь мужа, даже
если догадывается, что у него есть женщина.
В иных семьях отношения более эгалитарные: жена командует в доме,
причем власть ее может быть весьма деспотичной, а муж — на финке. Муж
)49
помогает жене, отдает ей все деньги, советуется в житейских вопросах. Ес¬
ли жена заболеет, муж может приготовить что-то. Раньше он никогда не
подходил к кухне, поддерживая марку настоящего мужчины, и в случае бо¬
лезни жены звал на помощь соседку. Все же и в таких семьях положение
мужчины остается всегда „чуть выше".
В сельской зоне в целом все еще сохраняется обычай, согласно которо¬
му мужчины первыми садятся за стол (сначала муж, а в его отсутствие —
старший сын), в то время как женщины их обслуживают. Мать ест с деть
ми в последнюю очередь, чаще всего стоя, с тарелкой на весу. Когда соби¬
рается вся семья, отец садится во главе стола лицом к входу.
Отец — главная персона в семье. Дети обращаются к нему за важным
советом, например, разрешением уехать на учебу, дать свое согласие на
брак. Решающее слово остается за отцом в случае, если их с матерью мне¬
ния расходятся. Если жена не может своей волей запретить что-то детям,
то зовут мужа.
В мунисипии Хибара, провинция Ольгин, хозяин финки, 56 лет, выра¬
щивающий главным образом бананы, ответил отрицанием на вопрос, су¬
ществует ли в наши дни мачизм. По его словам, можно лишь говорить о
разделении обязанностей, о том, что у мужа нет времени помогать жене по
дому. Когда муж вышел, его жена, 45 лет, усмехнулась и выразительно
указала глазами и щелчком большого пальца в сторону закрывшейся двери,
со свойственной кубинцам виртуозностью владея мимикой и жестикуля
цией. Все это можно было безошибочно „перевести" не только как возра
жение мужу, но и как убежденность в совершенно обратном: мачизм еще
как существует! Потом она объяснила, что под этим понимает: „Мало того
что муж не помогает по дому и в воспитании детей, может прилечь после
обеда, а жена — нет, может вечером, не ставя в известность жену, уйти в
сельский клуб (circulo social) выпить и поиграть в домино с дружками или
пойти к женщине и не прийти ночевать, в то время как жена должна си¬
деть дома, — он еще заводит на стороне другую семью"*^.
В той же мунисипии пожилые крестьяне подчеркивали, наоборот, что
старые порядки меняются. Ссылаясь на более молодое поколение, все ши
ре включающееся в государственный производственный сектор, они жалова¬
лись на то, что нынешние семьи стали менее крепкими, чем раньше, при¬
чем теперь чаще изменяют женщины. В отношении динамики измен досто¬
верных данных, естественно, нет. Зато можно с уверенностью утверждать,
что измены приобрели новое качество. Если в не столь давнее время побоч
ные связи не нарушали спокойного течения семейной жизни, то в наши
дни, когда женщина, прежде всего работающая вне дома, решительно рас¬
стается со своей бессловесной ролью, они оказывают дестабилизирующее
влияние на кубинскую семью.
С 1970 по 1979 г. показатель экономической активности женщины (14
лет и выше) увеличился с 18 до 31%**, т.е. почти вдвое. В 1981 г. доля
женщин, занятых в общественном производстве, достигла 35%*^. Более 2/3
молодых замужних женщин работают или учатся. Рост культурного уровня
кубинских женщин подрывает корни мачизма. Мужчины теряют былое пре
восходство в области образования и как носители более богатого социаль¬
ного опыта и широкого кругозора, чем женщины.
Повышение социального статуса женщин относится в большей мере к
150
городам. В сельской зоне доля женщин-домохозяек остается сравнительно
высокой не только в силу традиции, но и из-за существующих трудностей
с устройством сельских девушек на работу. В трудоемкой полевой работе
на Кубе заняты в основном мужчины, а число других рабочих мест из-за
неразвитости инфраструктуры ограничено. Именно в городских семьях рабо¬
тающие вне дома и имеющие гарантированный заработок женщины раньше
всего потребовали уважения к своим личным правам, что в конечном счете
ведет к укреплению семьи. Но на сегодняшнем поворотном этапе часть се¬
мей переживает стресс, особенно молодых. Девушки и молодые женщины
с присущим их возрасту экстремизмом поняли эмансипацию как полное
тождество ролей, решив не уступать мужчине в степени свободы, но муж¬
чины оказались не готовыми к такой ситуации, когда они должны посту¬
питься своими привилегиями. Молодой кубинец, находившийся под впечат¬
лением от недавнего развода, рассуждал в разговоре с нами на типичный
манер, предъявляя бывшей жене обвинение в том, что она не хотела оста¬
ваться с грудным ребенком одна по субботним и воскресным вечерам, кото¬
рые молодой муж, по кубинской традиции, не имел обыкновения проводить
дома.
Если еще недавно общественное мнение, полная экономическая зависи¬
мость от мужа, забота о многочисленных детях делали женщину исключи¬
тельно терпимой в супружеских отношениях, то современные молодые
женщины легче, а порой и слишком легко идут на развод и чаще, чем
мужчины, бывают их инициаторами. Государство ведет большую разъясни¬
тельную работу по воспитанию ответственного отношения к семье, а также
против ранних браков, заключаемых до совершеннолетия и повышающих
неустойчивость семьи.
Другая сторона проблемы заключается в том, что зафиксированные в
„Кодексе о семье" и пропагандируемые государством формы перехода к
эгалитарной семье вступают в противоречие со старыми стереотипами по¬
ведения и предрассудками. Статус мачо требует иметь наряду с женой лю¬
бовниц, иначе мужчина рискует своим престижем. Не только мужчины соп¬
ротивляются ослаблению прежних позиций, но и сами женщины, особенно
в селе, упорно держатся за старое. Один крестьянин рассказал, например,
если муж пытается помочь жене в домашней работе, берется за метлу или
мытье посуды, она его останавливает, боясь, чтобы он не уронил авторите¬
та „настоящего мужчины". Иначе говоря, искоренению мачизма мешает груз
старых представлений, сформировавшихся в эпоху дискриминации женщин,
который тяготеет не только над мужчиной, но и над самой женщиной.
Существуют и объективные причины, связанные со слабостью экономи¬
ческой и социокультурной базы общества на Кубе. По данным социологи¬
ческого обследования, более половины трудящихся женщин (54%) не полу¬
чают помощи в домашней работе. В пос. Эль-Хиваро, провинция Гранма,
молодой крестьянин Хосе, по его признанию, согласился со своим отцом в
том, что женщина должна посвятить себя семье. Сам он женился, чтобы
жена о нем заботилась. Присутствовавшие при разговоре женщины засмея¬
лись, назвав его мачистом, но Хосе стоял на своем. Он хочет, вернувшись с
работы, иметь готовый ужин, ухоженных и накормленных матерью детей (в
их селе нет ни столовой, ни детского сада). „Я не мачист, а реально смот¬
рящий на вещи человек", — заключил свою мысль Хосе*.
151
Городской образ жизни быстрее разрушает косность взглядов и поведе¬
ния в быту. Не раз крестьянки с гордостью сообщали, что их замужним до¬
черям, проживающим в городе, мужья помогают — не как у них в деревне.
В различных социальных группах степень участия мужчин в домашних делах
сильно варьирует. Не располагая точными данными, можно предположить,
что здесь имеют значение возрастные и общекультурные различия, а также
отдельное проживание семьи от родителей и степень ее независимости.
Бывая в Гаване в семьях служащих и интеллигенции, сформировавших¬
ся после революции, мы могли убедиться, что мужья так или иначе облег¬
чают женам домашнюю работу, принимают участие в воспитании детей, во¬
дят маленьких в детский сад, проверяют у школьников уроки, гуляют с
детьми в выходные дни. В воскресенье на улицах, в парках обращает на се¬
бя внимание большое число папаш с детьми. Проведение отцом досуга с
семьей — качественно новая черта в образе жизни кубинской семьи.
Но не так все просто с мачизмом и в городе. Есть вещи, которые не
могут преодолеть даже в семьях, где все за равноправие. Некоторые виды
домашней работы, считающиеся чисто женскими, мужчины категорически
отказываются выполнять как унижающие их достоинство, и „понимающая"
жена не станет требовать невозможного.
Существуют и другие запреты, распространяющиеся на женщин. От де¬
ревенских женщин приходилось слышать, почему они в прежнее время
редко заканчивали даже начальную школу: когда девочки подрастали, отцы
запрещали им продолжать учебу. Школы находились далеко от дома, и от¬
цы, беспокоясь за честь дочери, забирали их и часто насильно заставляли
сидеть дома под присмотром семьи.
В наши дни подобные опасения руководят мужьями, которые не разре¬
шают женам продолжать учебу или устраиваться на работу, быть „на ви¬
ду". Вот свидетельство прессы. В заметке с красноречивым названием „Вой¬
ну мачизму!" столичная газета привела пример абсурдной формы, в которой
очередной раз обнаружил себя мачизм. Мужья-ревнивцы и бдительные отцы
молодых гимнасток профсоюзного общества в Гаване запретили им высту¬
пать на соревнованиях в обычном спортивном костюме без верхней одежды.
Автор заметки резюмирует: „Под действием активной борьбы с этим пережит¬
ком прошлого, противоречащим нормам социалистической морали, он прячет¬
ся вглубь, давая о себе знать подчас столь неожиданным образом"". О том,
что это только пережиток, говорить еще рано. Однако в общем русле жен¬
ской эмансипации и так называемой сексуальной революции идет ослабление
мачизма и в сфере половой морали, о чем частично будет сказано ниже.
В споре о том, насколько живуч мачизм, мнения кубинцев на уровне
обыденного сознания расходятся. Однако факты неопровержимо говорят в
пользу происходящих изменений нормативных правил поведения мужчин и
женщин, о снятии многих мачистских табу.
Показательны в этом плане и приведенные выше свидетельства крес-
тьян-единоличников (в провинциях Ольгин, Камагуэй и Гранма), т.е. катего¬
рии населения, наиболее приверженной старым традициям. Становясь все
менее социально однородной (часть детей, мужья, реже — жены работают в
государственном секторе), крестьянская семья обнаруживает все более оче¬
видные приметы ослабления мачизма. Это связано с новыми стереотипами
семейных отношений в кубинском обществе в целом.
152
Отношения родителей и детей.
Вопросы воспитания
На распределение ролей в семье оказывает влияние и такое новое для Ку¬
бы явление, как всеобщее школьное образование. В семье, где все имеют
образование, отец не является единственным, кто способен принять пра
вильное решение. В большинстве современных семей дети опережают роди¬
телей по уровню образования, чем, по мнению известной на Кубе исследо¬
вательницы — социолога Н. Перес Рохас, объясняется рост авторитета де¬
тей при одновременном ослаблении авторитарности главы семьи**. Кроме
того, школа формирует новое сознание молодежи, и через подростков про
исходит перестройка семейных отношений, ориентация их на повышение
статуса женщин, на ослабление субординации, регламентации и старых
правил этикета для детей.
Изменения, которые претерпевают взаимоотношения родителей и детей,
выражаются в большей степени свободы последних от воли родителей, в
исчезновении некоторых внешних атрибутов уважения старших. Из бесед с
информаторами можно заключить, что и в прежние времена браки заключа¬
лись по взаимному влечению молодых. Но если раньше сын спрашивал со¬
вета родителей, то сейчас это делается реже, и, напротив, все чаще снача¬
ла женятся и только после этого ставят в известность родителей. В свете
происшедших перемен трудно поверить, что еще несколько десятков лет
назад не только девушке, но и юноше до 18 лет не позволяли гулять позд
но вечером без взрослых.
Один пожилой крестьянин жаловался, что среди маленьких детей стало
меньше послушания и уважения к родителям. Когда он сам был ребенком,
детям не полагалось входить без разрешения в комнату, где родители бесе¬
довали с кем-нибудь из взрослых, а сейчас матери не обращают на это вни¬
мания. Приметой изменения функций семьи, оказывающего влияние на
формирование личности, является растущее участие школы в социализации
и воспитании детей, что наряду с положительными моментами несет неиз
бежные потери для самих детей и семьи в целом, смыкаясь с проблемой
работающей матери и отсутствующей бабушки.
В сельских условиях дети особенно много времени проводят вне семьи.
В соответствии с существующим на Кубе подходом к образованию в боль¬
шинстве сел имеется только начальная школа, а учащиеся „второй ступени"
большую часть года живут в школах-интернатах далеко от дома, где они
совмещают учебу с сельскохозяйственным трудом. Дважды в месяц на суб¬
боту и воскресенье они разъезжаются по домам. Порой из-за плохой пого¬
ды и невозможности транспортировки ребят эти свидания с семьей откла-
дываются на более продолжительный срок. Некоторые матери признава¬
лись, что, подолгу не видя детей, они теряют над ними контроль. Система
таких сельских школ, получившая развитие с 70-х годов, охватывает не
только сельских, но и городских ребят.
Городские семьи, в которых оба родителя работают, стремятся устро
ить своих детей в школы-интернаты, и части родителей это удается. Основ¬
ная причина такого странного на первый взгляд поведения взрослых — же
лание быть спокойными за детей, уверенность, что они будут вовремя на
кормлены, а после уроков учителя за ними присмотрят. Это явление, свя
153
заыное с неналаженностью общественного быта, отсутствием сети столовых,
где бы школьники могли обедать после уроков, со слабым развитием орга
низании досуга подростков, которая призвана ограничить власть улицы,
снимает одни проблемы и порождает другие. Отрыв от семьи, ослабление
контактов детей с родителями осложняет их взаимопонимание, приводит к
преждевременной самостоятельности подростков.
Отношение к маленьким детям — продолжение структурных особенное
тей семьи. Нам удалось зафиксировать лишь немногие характерные особен¬
ности ухода за детьми и системы воспитания, в которых появляется этни-
ческая традиция.
Из общих наблюдений можно заключить, что кубинцы относятся к де
тям с нежностью и большим терпением, особенно к малышам до пяти-шес
ти лет. Услышать плачущего малыша нам не приходилось ни в доме, ни на
улице, ни в транспорте. Младенцев не пеленают и часто берут на руки. По
традиции матери нередко кормят грудью до 2 лет, в любое время по жела¬
нию ребенка. С большой теплотой относятся к детям многочисленные род¬
ственники. В результате у детей воспитываются ответные чувства привязан
ности, контактность и общительность.
О ритуальных элементах, связанных с рождением и уходом за младен¬
цами, можно узнать в основном из рассказов стариков. До революции в
сельской местности родильных домов не было. Рожали дома с помощью по¬
витухи, которая первое время наблюдала за здоровьем матери и ребенка.
Народная медицина вобрала в себя элементы африканского и в меньшей
степени — индейского происхождения, как и народный католицизм, прони¬
занный языческими культами. Например, одним из широко распространен¬
ных до недавнего времени способов заживление пупка было прикладывание
кусочка коры священной сейбы.
Для спасения души и защиты ребенка от болезней и „злых духов' на¬
ряду с крещением практиковался обычай ношения „асабаче" — амулета из
гагата (черного янтаря). Асабаче, по народному поверью, наделен магичес¬
кой силой против та! de ojo („сглаза"), и его надевали на шею или прикреп¬
ляли к нательному белью младенца с трехмесячного возраста, „когда он
становится красивым и привлекает всеобщее внимание ". А снимали в год
или два, потому что позже ребенок не так часто болеет**. Той же цели слу¬
жил талисман из кусочка сейбы (ceiba macho), который надевали на шею
или запястье*". Ручку повязывали красной лентой, которая была не видна
под рубашкой. На селе до наших дней сохранился обычай — в этом мы
имели возможность убедиться сами — угощать соседей и родных, приходя¬
щих поздравить родителей с рождением ребенка и взглянуть на него под
шутливым предлогом убедиться, похож ли он на отца, символическим на
питком „алиньяо" — алкогольно-фруктовой настойкой, которая может хра¬
ниться долгие годы.
Преемственность культовых норм в семье осуждается общественным
мнением, сформировавшимся за послереволюционный период, поэтому их
стараются не афишировать и рассказывают о них только в прошедшем
времени.
Все еще бытует предпочтительное отношение к рождению мальчика.
Считается, что чем сильнее мужчина, тем большая вероятность родить от
него мальчика. Отца появившейся на свет девочки кое-где в шутку награж¬
154
дают недвусмысленными эпитетами типа „чанклета" („шлепанец"; никчем
ный, никудышный человек), которые воспринимаются мужчиной как обид¬
ные. Первенцу мужского пола часто дают имя отца, иногда двойное имя:
первое — в честь отца, второе — в честь деда.
Одновременно обращает на себя внимание отход от пережиточных уста¬
новок, идущих от патриархальной семьи. Так, если до революции в соот¬
ветствии с общественными требованиями одним из главных качеств, приви¬
ваемых старшим детям, было послушание, то теперь на первое место выд¬
винулись другие.
Ослабление власти родителей в семье, особенно диктата отца, влияет
на качество внутрисемейных отношений и отношений с другими людьми,
но не подрывает устоев семьи как таковой. Несмотря на определенное из¬
менение ролей, на рост числа семей, возглавляемых женщиной, в большин¬
стве случаев отец продолжает быть признанным главой и мать сохраняет
свои традиционные функции. С матерью кубинских детей связывает наи¬
большая близость. Мать — стержень семьи. Поскольку уход за детьми и
воспитание традиционно лежат на матери, с ней от рождения до зрелого
возраста дети проводят гораздо больше времени, чем с отцом, не говоря
уже о матрифокальных семьях, в которых дети растут без отца. Глубокая
привязанность к матери и сильное влияние ее сохраняется на всю жизнь.
Не будет преувеличением сказать, что на Кубе существует культ матери,
который является своего рода оборотной стороной мачизма. Не случайно
празднование Дня матерей, введенное в странах Латинской Америки в нача¬
ле века, не только привилось на Кубе, но и стало здесь самым большим
общесемейным торжеством.
О матери дети проявляют особую заботу. В разных провинциях мы
встречались с бытованием обычая, когда взрослый сын, начиная зарабаты¬
вать (в сельской местности это происходит рано, примерно с 16 лет), выда¬
ет часть зарплаты матери на ее личные расходы, так, чтобы отец не касал¬
ся этих денег.
Сыновний долг по отношению к родителям преклонного возраста в наи¬
большей степени выполняется теми из взрослых детей, кто с ними живет,
обычно младшими. Если родители или один из них живут отдельно, дети
опекают их, по очереди навещают и оказывают необходимую помощь. Неко¬
торые хозяева финок признавались нам, что не столько женатые дети помо¬
гают им материально, сколько, напротив, они сами оказывают помощь де¬
тям деньгами и продуктами. В городах Кубы существуют и дома для пре¬
старелых. Все же общественное мнение безаговорочно осуждает невнима¬
ние, равнодушие к старым родителям, отдельное проживание одинокой ма¬
тери или отца, и в кубинских семьях с этим очень считаются.
Родители, особенно матери, посвящают детям всю свою жизнь, потом
помогают растить внуков. В крестьянских семьях, живущих по соседству
или на одной финке, к бабушке приводят сразу нескольких внуков. Только
в самые последние годы в Гаване среди пенсионеров, в том числе семей¬
ных лиц, появились группы здорового досуга. Это новое движение свиде¬
тельствует о переменах в самосознании пожилых родителей.
В восточной провинции Гранма, в одной из отдаленных горных муниси-
пий, где традиции сохраняются особенно бережно, мы побывали в доме
членов производственного кооператива Кандидо, 39 лет (образование 6
!55
классов), и его жены Аны, 44 лет, без образования. С ними живут двое из
троих детей Аны от первого мужа. Двое детей Кандидо остались с его
прежней женой. У Кандидо с Аной нет ни собственной земли, ни своего
хозяйства, но они держат двух лошадей главным образом для того, чтобы
навещать стариков родителей в других мунисипиях — отца Аны и мать Кан¬
дидой Отцу Аны за 80 лет, он пережил трех жен, оставивших ему больше
20 детей, и живет с одним из сыновей. Матери Кандидо тоже более 80
лет,и она живет одна. Кандидо каждый день после работы навещает мать,
помогая ей обрабатывать приусадебный участок, где они выращивают самое
необходимое — бананы, юку, боииат, а также тростник для свиньи и кур.
Остается добавить, что в приведенном случае, как и в большинстве се¬
мей, с которыми мы имели дело в сельской зоне, супруги живут в факти¬
ческом, незарегистрированном браке.
Формы брака
и брачно-семейные церемонии
В зарубежной американистике за фактическим браком закреплены термины
„неформальный" или „консенсуальный" (договорный). Для деревенских жи¬
телей Кубы принято начинать совместную жизнь с такого рода брака. В не¬
которых местах вообще не „женятся", а только „соединяются". В разных зо¬
нах в значении „соединиться" выступают собственные синонимы. Всего мы
насчитали четыре: acompanarse, unirse, arrimarse, ajuntarse. Это разнообразие
терминов, по нашему мнению, подтверждает местное происхождение само¬
го обычая, формированию которого среди прочих причин способствовало
слабое влияние католической церкви в сельской зоне колониальной Кубы
сравнительно с тем, как это было в Испании (где даже в настоящее время
консенсуального брака не существует).
Ныне число регистраций увеличивается в основном „из-за закона", в со¬
ответствии с которым женщина лишена юридических прав на приобретен¬
ную мужем собственность, не будучи с ним расписанной. В местечке Аль¬
кала, провинция Ольгин, нам встретилась пара, которая зарегистрировала
брак, имея уже внуков и правнуков, иначе в случае смерти мужа его соб¬
ственность была бы изъята государством. Молодоженам, подавшим заявле¬
ние в ЗАГС, предоставляются льготы на приобретение дефицитных товаров
и предметов длительного пользования. В ряду правительственных мер по
легализации брачных союзов стоит и введенный обряд так называемых кол¬
лективных свадеб, устраиваемых в селе в назначенный день года по случаю
массовой регистрации браков теми членами кооператива, которые прежде
жили в фактическом браке.
В целом по стране увеличение брачности за счет формализованных бра¬
ков идет с переменным успехом, если рассматривать статистические дан¬
ные по категории самых молодых женщин (15—19 лет) (%):
Год
Всего
Замужние
„Соединенные"
Остальные
1953
100
24,6
21,8
53,6
1970
100
34,6
21,3
44,1
1981
100
31,6
46,1
156
Характерно, что опрашиваемые крестьяне единодушно объясняют обы¬
чай заключения брака „соединением" лишь экономическими причинами. По
их мнению, законный брак всегда считался более желанным, более „краси¬
вым", но свадьба, которой он обязательно должен увенчаться, была превра¬
щена богачами в дорогостоящий ритуал, в недоступную для бедняков рос¬
кошь. В действительности дело обстояло сложнее. Можно вспомнить,
что в силу объективных условий рабства и из-за ужесточения колониаль¬
ного законодательства в отношении расового смешения в конце XVIII —
начале XIX в. преобладающей моделью браков среди негров и мулатов и в
сфере межрасовых отношений стали свободные связи. Как показывает мате
риал по другим колониям Карибского региона, свою роль сыграл и тот
факт, что пример семей белых рабовладельцев дискредитировал законный
брак в глазах негров^. Видимо, нельзя не учитывать и такие традиционные
факторы, действие которых продолжается по сей день, как раннее вступле¬
ние в брак и усиленную на почве мачизма зависимость женщин от мужчин,
в массе своей склонных к свободному союзу.
При оформлении брака по-прежнему не принято ограничиваться актом
регистрации у судьи или нотариуса. За этим следует обязательно фьеста —
торжество с застольем, в городе по традиции более скромное, судя по сви¬
детельству прошлого века^. Кроме того, свадьбе в городах, особенно среди
состоятельных слоев населения, предшествовало церковное венчание, роль
которого сейчас заметно ослабла.
Обычно свадьба проходит в доме невесты и ее родители принимают бо¬
лее активное участие в подготовке торжества. В настоящее время крестья¬
нину нужно от одного до трех лет, чтобы накопить необходимую для свадь
бы сумму — примерно 1 тыс. песо в расчете на сто гостей, но их бывает и
больше, потому что стараются пригласить всех знакомых, никого не оби¬
деть. Часть расходов идет на свадебные наряды, в которых молодые должны
быть запечатлены на фотографиях, позируя стоя, сидя и полулежа на кра¬
сиво убранной кровати. Набор таких снимков стандартен, а сама церемония
— непременная слагаемая свадебного ритуала.
Сразу после свадьбы молодожены отправляются в своеобразное
свадебное путешествие до ближайшего города, в соседнюю провинцию или
в Гавану, где они проводят медовый месяц (чуть больше недели) в одном из
отелей.
У крестьян-собственников число незарегистрированных браков по извес
тным причинам ниже и сами браки более стабильны, чем у сельскохозяй
ственных рабочих, но у молодого поколения, порывающего с земельной
собственностью, в этом плане существенных различий с основной массой
сельских тружеников не наблюдается.
В типичной для крестьян горной зоны восточных провинций в семье хо¬
зяина финки „Каридад" в Эль-Хиваро сами родители 32 года назад после
четырехлетнего жениховства расписались „по всей форме раз и навсегда".
Из живущих с ними четверых детей старшая дочь, 30 лет, счетовод в со
седнем селе, разведенная (в 17 лет она соединилась с мужем без брака —
он ее увел, потому что родители не были согласны на их брак из-за семьи
жениха, а когда разошлись, 12-летний сын остался у бабушки со стороны
отца); сын, 24 лет, холостой, развозит хлеб жителям окрестных сел и помо¬
гает в работе отцу на финке; дочь, 18 лет, незамужняя, не работает, помо
157
гает матери вести дом, ухаживает за птицей, ходит за покупками; сын, 14
лет. Раньше с ними еще жил старший внебрачный сын хозяина. Ему 31
год, женат (acompanado), живет с женой у шурина в 4 км от финки, но ра¬
ботает в местной лавке и часто приходит к отцу. В разговоре с нами он
признался, что его и других молодых людей регистрировать брак останав¬
ливают экономические соображения: непосильные траты на свадьбу и из
лишние расходы на возможный развод**.
В постановке вопроса с прикидкой на развод можно усмотреть недове
рие к прочности брака. Факты говорят о том, что за экономическими труд
костями и неверием в силу документа, могущего укрепить семью, стоит
еще желание оставить за собой в браке право на свободу. В некоторых со
циальных группах именно мужчина не хочет регистрировать брак вопреки
желанию женщины, ибо хотя с законной женой можно не во всем считать
ся, однако недокументированный брак дает ему больше шансов сохранять
свободу. Статистика разводов последних лет показывает, что „свободные"
союзы распадаются с большей легкостью.
Обычай сочетаться браком без венчания, возникший в колониальный
период среди бедного населения кубинской деревни, был облечен в своеоб¬
разную форму похищения невесты, не означающую, по верному замечанию
X. Потрони, возрождения более древней традиции**. Умыкание невесты про¬
исходило с ее согласия и было условным актом, данью общественному мне¬
нию, воспитанному на католических догмах и осуждавшему брак без благо¬
словения церкви. Из-за бедности и других причин, не только экономичес¬
ких (здесь мы „поправляем" X. Потрони), вынуждавших молодых избегать
религиозного обряда, бракосочетание упростилось: юноша „похищал" не¬
весту, т е. девушка сама уходила ночью через окно или боковую дверь к
ожидавшему жениху, который уводил ее к своим родителям, друзьям или в
заранее построенный дом. Таким образом, родители девушки, которые не
могли дать согласие на свободный от церковного освящения союз, оказа¬
лись перед лицом свершившегося факта. По свидетельству X. Потрони, не
всегда обязательно было симулировать похищение, но во всех подобных
случаях полагалось говорить, что жених „увел" невесту ради кубинской
традиции, требовавшей, чтобы инициатива исходила от мужчины и осуж
давшей самостоятельность дочери, непочтительность к отцовской власти^.
В наши дни церемония похищения потеряла смысл, поскольку обще
ственная мораль признала консенсуальный брак нормальным явлением, но в
отдаленных горных деревнях случаи „увода" встречаются как след отживаю¬
щей традиции.
В результате эволюции современных общественных нравов консенсуаль¬
ный брак во многих странах становится распространенной формой создания
семьи, так что в настоящее время причины сохранения высокой пропорции
„неформальных" браков на Кубе еще менее, чем в прошлом, укладываются
в рамки чисто экономических.
В пользу такого заключения косвенно говорит и противоположное отно
шение на Кубе к другой, не менее дорогостоящей семейной церемонии, ус¬
траиваемой по случаю исполнения девушке 15 лет и перехода ее в статус
женщины. Источники этого праздника лежат в католической конфирмации,
т е. приобщении к церкви юношей и девушек. Но на Кубе эта церемония
утеряла религиозный оттенок. До революции „посвящение девушки в сень¬
158
ориту" — ее представление общине — происходило в более узком кругу, в
семьях с материальным достатком. В наши дни 15-летие празднуется повсе¬
местно, в городе и деревне, и многие кубинцы считают, что по размаху
подготовки и проведения это торжество затмило собой свадьбу. Согласно
расхожему мнению, все объясняется очень просто: дата 15-летия известна
заранее, тогда как свадьба всегда более или менее неожиданна, поэтому ее
нельзя обставить столь же фундаментально. Представляется, что из-за этой
лежащей на поверхности причины забывается другая. Свадьба по-прежнему
осознается как более важное и значимое событие, но в связи с распростра¬
ненностью неформальных браков, особенно в сельской местности, не прихо¬
дится с уверенностью рассчитывать на свадьбу, и 15-летие превращается в
главный праздник в жизни девушки.
Рост популярности праздника 15-летия стал возможен с повышением
уровня жизни неимущих масс населения. Люди берут своего рода реванш
за недоступность в прошлом соблюдаемой в богатых домах традиции. Одно¬
временно среди молодежи появляется сознание анахроничности праздника в
современной действительности, желание „заменить дорогостоющую церемо¬
нию более скромным и полезным мероприятием"^.
Сам по себе рубеж 15-летия приобретает новые черты условности. С
одной стороны, девочки 12—13 лет подражают женщинам в макияже, туа¬
летах и обзаводятся женихами, с другой — увеличивается разрыв между
временем сексуального и социального созревания молодых девушей и юно¬
шей в результате действия целого ряда новых факторов, в том числе ши¬
рокого охвата подростков системой образования и удлинения периода обу¬
чения.
В колонке „Сексуальное воспитание" молодежная столичная газета пи¬
сала в 1986 г., что еще совсем недавно, в период псевдонезависимой рес¬
публики, многие дети и подростки не ходили в школу: мальчики, помогая
отцу, девочки, участвуя в домашней работе и заботясь о младших сестрен¬
ках и братишках. Доля девочек была особенно нелегкой, и они часто стре¬
мились освободиться, уходя из дома с первым, кто им это предложит, или
убегая в город в поисках фортуны, которую они нередко находили у две¬
рей дома терпимости. На новом этапе государственного развития „уверен¬
ность в завтрашнем дне, доверие и независимость, которые гарантирует
всем молодым людям наше общество, привели к позитивным трансформа¬
циям, элементом которых является пересмотр отношения к раннему заму¬
жеству"^.
Вместе с доверием и большей автономией, которые действительно полу¬
чили подростки, во много раз увеличились возможности контактов сверстни¬
ков разного пола, что существенно влияет на изменение прежних норм доб¬
рачного поведения и придает новое звучание проблеме предотвращения ран¬
них браков. Строгость добрачных норм варьировала в разных расово-социаль¬
ных слоях населения, достигая максимума среди белого населения городов.
Еще совсем недавно, в пору юности нынешних родителей, даже будучи по¬
молвленными, т.е. объявив себя официально женихом и невестой, влюблен¬
ные не имели права видеться наедине ни на улице, ни в доме невесты, ко¬
торую жених мог навещать только в положенные дни и часы.
Разумеется, и раньше девушка находила способ уйти от контроля, нару¬
шая систему atada а !а casa („привязанная к дому"). Одним из приемов, к ко-
159
торым прибегали молодые, было ие обнародовать свою любовь и встречать¬
ся втихомолку. Полулегальной формой свидания стало общение через ре
щетку открытого окна, у которого кубинские девушки имели обыкновение
сидеть в часы вечерней прохлады, когда им не возбронялось завести беседу
со знакомыми прохожими, так как это не нарушало правил приличия".
Хотя многое изменилось с тех пор, надзор за незамужними девушками
нельзя считать совсем исчезнувшим. Степень родительского контроля за до¬
черьми зависит от социальной принадлежности семьи, возраста девушки,
места проживания. В целом нормы и ценности, связанные с добрачным по
ведением и ухаживанием, у кубинцев считаются более консервативными,
чем, например, у североамериканцев*'.
В семье владельца финки в Монте-Оскуро, провинция Ольгин (на кото¬
рой живут еще четверо его братьев), двое детей: 22-летний сын со средним
образованием, который расстался с женой и помогает отцу обрабатывать
землю, и 17-летняя дочь, окончившая школу и выучившаяся на машинист¬
ку, пока без работы; уже год, как она замужем („соединена"), но муж в ар¬
мии. После того как он вернется и начнет работать, хотят расписаться и
устроить свадьбу. Мужу 20 лет, он из провинции Тунас, и, когда приезжал
к ним в село по делам воинской службы, они познакомились, а спустя нес¬
колько месяцев стали женихом и невестой. Еще через несколько месяцев с
согласия родителей они поженились, т.е. „нормально" покинули дом, чтобы
провести медовый месяц в отеле „Пуэрто-Надре" в провинции Тунас, после
чего вернулись жить в дом свекра". Приведенный пример показателен для
современных сельских нравов.
В городах наблюдается большая свобода. Еще сильнее укорачивается
продолжительность noviazgo (жениховства), поскольку оно теряет прежний
смысл, когда служило средством интеграции молодой пары и их родитель¬
ских семей, кооперирования их усилий для строительства нового дома.
Многие родители в Гаване жаловались нам, что девушки легко меняют „же
нихов", а парни — „невест". И хотя воздержание от брачной интимности
частью населения все еще считается нормой для девушек, увеличивается
число пар, вступающих в добрачные сексуальные отношения. Рождается
шутливая поговорка: „Чтобы получить девственную невесту, нужно было
просить у родителей ее руки пять-шесть лет назад". Изменения в этой сфе¬
ре приводят к некоторым негативным социальным явлениям, доказатель¬
ством чему служит рост числа беременных девочек-подростков. По сведени¬
ям Центра изучения молодежи, „из-за абортов, браков, консенсуальных сою¬
зов, разводов среди очень молодых девушек увеличивается число старше
классниц, покидающих школу "". В связи с этим усилилась деятельность
пропагандистских органов по воспитанию подростков, „чтобы они находили
правильное применение широкой свободе, которой пользуются в настоящее
время". В центральных и местных газетах появились специальные рубрики,
большим тиражом издаются книги об этике брачно половых и семейных от
ношений, выпускаются учебные фильмы просветительского и нравоучитель¬
ного содержания. В 1984 г. в Гаване создана Национальная группа сексу
ального воспитания. На решение практических задач, связанных с нормали¬
зацией добрачного поведения подростков и укреплением кубинской семьи,
нацелены и специальные исследования социологического центра при АН
Кубы".
160
Отношение к разводу
Наряду с консенсуальным союзом широкое распространение среди части
населения получило последовательное многократное вступление в новый
брак (во второй, третий, четвертый и более раз). Развитие капитализма в
условиях монокультуры и сезонности сельскохозяйственных работ дестаби¬
лизировало экономику и положение трудящихся масс, максимально обо¬
стрив проблемы семьи. Необходимость для мужчин покидать дом в поисках
работы благоприятствовала в прошлом разъединению семей. Явление „от¬
сутствующего отца" привело к увеличению числа матерей-одиночек и к
двоеженству (если у мужчин были возможности содержать две семьи).
Условия для внебрачных связей и расшатывания семьи существуют и
сегодня. В сельской зоне, например, из-за нехватки производственных мощ¬
ностей образуется излишек рабочей силы, отсасываемый строительством и
промышленностью. Обычным явлением стала маятниковая миграция сель
ских жителей. Молодые мужчины, в том числе главы семей, устраиваются
работать на стороне, в соседнем или более удаленном центре, где они жи¬
вут в общежитии по одной-две недели, возвращаясь домой на выходные
дни. У семьи с таким отцом шансов на „выживание" меньше обычного.
Рост числа разводов на Кубе в 60—70-е годы можно рассматривать и
как явление, сопутствующее социальным преобразованиям в развивающихся
странах. Речь идет не только об эмансипации женщин и вовлечении их в
социально-экономическую и общественно-политическую жизнь страны, но и
о выдвижении на передний план эмоционально-психологической функции
семейного очага, о повышении взаимных требований супругов.
Со стороны может показаться, что на Кубе вообще легко относятся к
разводам. Между тем беседы с кубинскими женщинами показали, что это
не совсем так. При всей коммуникабельности кубинцев среди них не при
нято демонстрировать личные неприятности, например в случае развода,
когда на самом деле todo el mundo sufre („все участники страдают").
В то же время привычность этого явления сказывается на его восприя¬
тии в семье и на уровне широкого общественного мнения. Традиционно
(возможно, из-за постоянного демографического перевеса в сторону мужско¬
го пола) наличие детей для женщины не являлось серьезным осложняющим
обстоятельством для вступления в новый брак, при этом приоритет мужчин
в вопросах заключения и расторжения брака сохранялся вплоть до недавне¬
го времени. Только в 1975 г. отменен закон, по которому женщина, ули¬
ченная мужем в адюльтере, теряла при разводе право на воспитание детей.
Для кубинцев характерно и то, что матери не только не запрещают
контакты между детьми и ушедшим отцом, но и всячески их поощряют.
По-видимому, реальные возможности устроить свою судьбу для кубинки,
оставшейся с детьми, делают ее в данном случае более терпимой и здраво¬
мыслящей.
Одним из побочных явлений, связанных с разводом и вторичным бра¬
ком, стал обычай отдавать ребенка от первого мужа бабушке. Рост числа
внуков на семью при общем снижении рождаемости, отмеченный в перепи
сях 1970 и 1981 гг., можно отнести не только за счет перечисленных в
литературе причин: нехватки жилья, занятость женщин в общественном
производстве, дефицит детских садов", но и за счет участившихся разводов.
6 Тип. зак. 1065
161
Желание оградить внука от возможных коллизий в новой семье, где место
отца занимает отчим, руководит многими бабушками, берущими на воспита
ние внуков. (Другой вариант передачи ребенка наблюдается в случае, когда
многодетная семья хочет помочь своим одиноким родителям и отдает самого
маленького ребенка оставшимся без детей бабушке с дедушкой или одной
бабушке. Внук (внучка) становится им опорой в старости.)
Для возникновения обоих перечисленных обычаев немаловажным уело
вием была высокая рождаемость, а также ранние браки.
Сравнение данных о гражданском состоянии лиц старше 14 лет в пере
писях 1970 и 1981 гг. показывает, что рост числа разведенных опережал в
тот период рост числа вступивших в брак (в %):
1970 г.
1980 г.
Холостые
30,7
28,5
Женатые
40,3
41,5
Состоящие в консенсуальном браке
21,3
20,4
Разведенные
3,3
5,1
Вдовые
4,4
4,5
100
100
Большинство разведенных вступают в новый брак, так что общая их до
ля в населении сравнительно невелика. Однако частота разводов свидетель
ствует о том, что устойчивость кубинских семей подвержена влиянию не
благоприятных факторов, в том числе традиционного характера. В связи с
этим уместно сослаться на результаты сравнительного анализа. Данные пе¬
реписи населения США 1970 г. показали, что среди кубинцев, иммигриро¬
вавших туда между 1960 и 1970 гг., на каждые 100 женатых лиц прихо¬
дилось 6,2 разведенных. Соответствующий показатель для США в целом в
1970 г. был 5,3, а для остальных групп иммигрантов, прибывших в тот же
период, — 2,9 Не исключая специфических проблем у кубинских иммиг
рантов в США, автор очерка о кубинском этническом меньшинстве объяс
няет отмеченный для него высокий показатель разводов консерватизмом
традиционных культурных стереотипов.
Отношение к межрасовым бракам
Отмена рабства на Кубе произошла позже, чем во всех других американ
ских колониях Испании. Но и тогда уничтожение рабства не положило ко
нец расовой дискриминации, которая ограничивала расовое смешение и
стирание социокультурных барьеров между белыми, неграми и мулатами.
Кубинцы очень хорошо помнят о дискриминации и сегрегации черных,
потому что все это продолжалось вплоть до самой революции. Нельзя забы
вать, что совместное обучение белых и черных детей, общие пляжи, общий
спорт — совсем недавние события на Кубе. Наш информатор в Гаване, ро
дившийся и выросший в провинции Пинар-дель-Рио, где негры батрачили
на хозяев табачных плантаций, рассказал живую подробность об отношении
к ним белых. В дом для танцев, построенный в их местечке владельцем
162
лавки, в дни праздников сходилась вся молодежь из окрестных сел и хуто¬
ров (с каждого полагалась плата в 1 песо, с девушек денег не брали), но
обязательно натягивалась веревка для разделения белых и черных".
Происшедшие за короткий период перемены разительны. С дискрими¬
нацией негров на Кубе официально покончено и в социально-экономичес¬
кой, и в культурной областях. Идет рост смешанного населения за счет
увеличения доли межрасовых браков, особенно в городах, где проживает
основная часть негров и мулатов. Все это так. Но утверждать, что полнос¬
тью исчезли расовые предрассудки, означало бы опережать реальность. Се¬
мейно-брачные отношения есть та сфера, где они, быть может, еще наибо¬
лее живучи.
Молодую симпатичную девушку из интеллигентной семьи в Гаване мы
спросили: могла бы она полюбить негра? И услышали в ответ, что для нее
расовый вопрос не стоит при выборе мужа, но, когда дома речь зашла о
чернокожем парне, претендующем на ее руку, отец категорически заявил:
„Только через мой труп!", — хотя один из друзей семьи негр. Другие наши
знакомые из той же прослойки сделали все возможное, чтобы помешать до¬
чери, полюбившей негра, выйти за него замуж. Подобные ситуации далеко
не единичны.
Пока что именно семья — основная опора расовых предубеждений. Ви¬
димо, нельзя за несколько десятилетий новой жизни вытравить представле¬
ния, выработанные за четыре с половиной предшествовавших столетия и
бывшие эталоном для большой массы населения. Если не упрощать пробле
му, то следует также признать необходимость помощи негритянскому насе¬
лению в улучшении материальных условий их жизни и тем самым в прео
долении культурного отрыва от белых.
Молодое поколение имеет, естественно, другой опыт и иное, более сво¬
бодное от предрассудков прошлого сознание, чем отцы и деды. В этом —
важный залог преодоления кубинской семьей расовых барьеров.
* * *
В заключение отметим, что изменения, которые претерпевает кубинская
семья на современном этапе социальных преобразований в стране, имевшей
в недавнем прошлом отсталую аграрную экономику, достаточно типичны
для развивающихся регионов мира. Эти изменения касаются фундаменталь
иого аспекта семьи — ее структуры, а именно упрочения процесса
нуклеаризации семьи, уменьшения ее размеров и сокращения детности.
В ряду универсальных модификаций стоит сокращение или ослабление
некоторых важных функций семьи, которые традиционно обеспечивали вы¬
сокую социализирующую роль и значение семьи в преемственности этно¬
культурного наследия. Эти задачи частично переходят к другим государ¬
ственным структурам и общественным институтам (через средства массовой
информации, школу, территориально-производственные связи).
В то же время кубинская семья сохраняет черты уникальности. Хозяй¬
ственно-экологическое своеобразие окрашивает особым колоритом семей¬
ный быт. Сам процесс отделения и обособления малой семьи на Кубе отли¬
чается национальной спецификой. Сохранение стойких связей индивидуаль
ной семьи с семейно-родственной группой в той или иной степени компен¬
сирует утерянные малой семьей позиции, чем отчасти можно объяснить и
6*
163
отмеченные в работе черты консервативности культурных стереотипов (в
том числе ранние браки, празднование 15-летия девочек, брак „уводом", ма¬
чизм, суеверия, связанные с жизненным циклом). Кроме того, в форме род¬
ственных контактов, заменяющих большесемейные связи, малая семья, бу¬
дучи еще недостаточно устойчивой и экономически окрепшей, получает не¬
обходимую ей дополнительную помощь и поддержку.
Сохранению традиционного значения семейно-родственных связей в
жизни семьи и отдельной личности способствует „переходность" социально-
экономической структуры кубинского общества. Усиление роли государств
в этнокультурных процессах, расширение системы образования, демократи¬
зация семейно-правовых норм ведут к ломке архаичных традиций, ослабле¬
нию мачизма, освобождению подростков от диктата взрослых. Вместе с тем
для закрепления и развития новых, сравнительно недавно заявивших о себе
явлениях необходима прочная социально-экономическая база. Неопределен¬
ность многих проблем улучшения жизни кубинцев затрудняет совершен¬
ствование семейной организации и стабилизацию семьи.
Отдельного изучения заслуживают многие вопросы, оставшиеся за рам¬
ками статьи в силу слабой изученности темы и ограниченности собранной
автором информации. Неизбежный схематизм заложен в самом понятии „ку¬
бинская семья" без дифференциации по социально-классовому и социально¬
региональному принципу, без выявления некоторых различий расового ха¬
рактера. Последние связаны с тем, что в негритянских семьях, составляю¬
щих люмпенские и низшие слои буржуазного общества, дольше сохраня¬
лись свободные связи, матрифокальные, а также расширенные многодетные
семьи, отягощенные плохими жилищными и бытовыми условиями, дефици¬
том образования и воспитания. ** 77а/праии Гарсиа X. Кубинская семья от конкисты до наших дней // Кубинская
этнография. М., 1983. С. 55; Мс/лаяА. Rural Cuba. Minneapolis, 1950. Р. 175.
з Согласно королевскому указу, издаиному Карлом V в 1530 г., гражданское право
Испании распространялось на все Индии. Так называемые законы де Торо дей
ствовали в качестве семейного кодекса на Кубе, равно как и в Кастилии. См.:
Gacrra у Лаяс/:^ Я., Perez Ca&rcra V.M. Historia de la Nacion Cubana. La Habana, 1952. T. 1.
P. 234.
з Garcia de Ar&a/eira V. Manual dc la Isla de Cuba. Habana, 1869. P. 261-262.
' La Isla de Cuba en el siglo XIX vista por los extranjeros // Separata de la Revista de la Biblioteca
Nacional Jose Marti. La Habana, 1940. A. 6, N 2. P. 51.
s Амжес X.C. Движение за освобождение женщины в Латинской Америке: от
прошлого к настоящему // Культуры. М., 1984. .№ 1. С. 62.
* AfarnneZ'/Mer V. Color, clasc у matrimonio en Cuba cn cl siglo XIX // Habana. 1968. A. 59, N
2. P. 110.
?Ibid. P.51.
' 77о/яроми Гарсии X. Указ. соч. С. 58, 59.
* Censo de poblacion у viviendas, 1981. La Habana, 1981. Vol. 16. P. CCXXX.
Gc/яе^ Ferra/ел M. Guando la familia decide todo // Bohemia. 1984. N 4. P. 21.
" LargM^a Га/яамйя У. Hacia una concepcion cicntifica dc la emancipacion de la mujer. La
Habana, 1983. P. 154.
См. об ЭТОМ: Ibid. P. 156 157.
Арх. Ин та этнографии. Кубинская этнографическая экспедиция. (Далее: КЭЭ).
1987. Полевые материалы автора.
^ Censo de poblacion... Vol. 16, P. CLV, cuodro 87.
164
"Domingaez M./. Informc final del estudio sobrc fecundidad en la Isla dc la Juventud //
Bibliografia comentada sobrc cl tcma „Familia": Investigaciones rcalizadas cn Cuba. La Habana,
1987. P. 59.
" Ccnso dc poblacidn... Vol. 16. P. 38, tab. 13.
" Подробнее о типологии семьи, принятой в советской этнографии, см.: Бра*
лей Ю.Д., АСониуйи M.CL Брак и семья у народов Югославии: Опыт историко эт
нографического исследования. М., 1982. С. 82, 83, 86.
' /f^rno^^z У., Ehg М.Г. Estudio sobrc cl divorcio // Cicncias Socialcs. La Habana, 1983. N 5. P.
5.
* Cddigo de familia. La Habana, 1976. P. 11.
" Z^pez Сбрсго Af. Caractensticas dc la divorcialidad cubana. La Habana, 1982. P. 56.
** 77мжемав Д^. Пинеро: Краткая этнографическая характеристика // Кубинская эт
нография. G 83.
** Ауэме^ов АБМ. Адаптивность этнических культур и этнокультурные типы самооп
ределения личности // Сов. этнография. 1988. № 1. С. 20.
** Арх. Ин та этнографии (КЭЭ). Полевые материалы автора. 1986.
** Там же. 1987.
* Там же. 1986.
* Там же. 1987.
*7 СмяжУм Perez /. Contribucion al estudio etnografico de la inmigracidn hispdnica en Cuba: Los
libros bautismales de blancos о "espanoles" del archivo parroquial de Santo Cristo del Buenviajc
en la Habana Vieja, 1707-1898. Доклад, представленный на II конференции CIPS. Га
вана, 1987.
* 9лемав М.Д. Формальные методы изучения систем родства в современной амери
канской этнографии // Этнологические исследования за рубежом. М., 1973. С.
146.
" Rural Cuba. Р. 174.
** Лат. Америка. 1988. № 5. С. 57.
з* Статья 27 Кодекса гласит о том, что каждый из супругов должен участвовать в
удовлетворении потребностей семьи в соответствии со своими способностями и
экономическими возможностями. Но если один из них занимается только домаш
ним хозяйством, то другой должен поддерживать семью экономически, не уклони
ясь при этом от домашних забот и воспитания детей. См.: Cddigode familia... Р. 19.
" Маркс АС Эмеелмг Ф. Соч.2 е изд. Т. 21. С. 84.
^ Real Academia Espanola: Diccionario de autoridades. Madrid, 1963. Vol. 2. P. 446.
* ^/гЫЛзжй? V. El machismo en la narrativa hispanoamericana // Texto critico. Mexico, 1978. A.
4, N9. P. 165.
" Ibid. P. 177.
* Barber V. Mexican machismo in novels by Lawrence, Sender and Fuentes. Mexico, 1975. P. 66.
Этнонациональные аспекты изучения семьи у народов зарубежной Европы, М.,
1987. С. 194.
* У7ерммд( 4.УУ. Рец. на ст. .Этнонациональные аспекты изучения семьи у народов
зарубежной Европы" // Сов. этнография. 1989. № 2. С. 149.
" Бердяев AL4. Эрос и личность: Философия пола и любви. М., 1989. С. 56.
*** Psicoanalisis de la dinamica de un pueblo. Mexico, 1965. P. 275.
игйложй? V. Op. cit. P. 176.
** Арх. Ин та этнографии. КЭЭ. 1986. Там же. 1987. Полевые материалы автора.
* Там же. 1986.
** Аягдшя Дм/яямЙя У. Op. cit. Р. 161.
Censo de poblacion... Vol. 16. P. 16.
** px. Ин та этнографии. КЭЭ. 1987. Полевые материалы автора.
*7 Trabajadores. 1985. 11 febr. р. 8.
"Perez Rojas N. Caractensticas sociodemogrdficas de la familia cubana, 1953-1970. La Habana,
1979. P. 57.
165
** Арх. Ин та этнографии. КЭЭ. 1987. Полевые материалы автора.
S** Са&гегяГ. El Monte: Notas sobre las religiones. La Habana, 1961. P. 168.
s* Арх. Ин та этнографии. КЭЭ. 1987. Полевые материалы автора.
s^Censo de poblacidn... Vol. 16. P. ССХХХП, cuadro 11.
ss См. статью А.Д.Дридзо в настоящем издании.
s* W. Un artista en Cuba. La Habana, 1986. P. 270-271.
ss Арх. Ин та этнографии. КЭЭ. 1987. Полевые материалы автора.
s* /7отромм Горема X. Указ. соч. С. 57.
S7 Там же.
s* Там же. С. 62.
so Мк&згле М. Cuando finaliza la adolescencia? // Juventud rebelde. 1986.12 oct. P. 2.
" Сжи&яяя W. Op. cit. P. 198.
" Harvard encyclopedia of American ethnic groups. Cambridge (Mass.), 1981. P. 259.
^ Арх. Ин та этнографии. КЭЭ. 1986. Полевые материалы автора.
^ Estudios sobre los aspectos de la lucha ideologica en Cuba. La Habana, 1985. P. 56.
^ Изданная в Гаване в 1987 г. ротапринтным способом библиография исследований
социологического центра при АН Кубы по теме -семья" включает следующие раз¬
делы:
Демографический 1
Психологический \ собственно о семье
Социологический J
'связанные с семьей
Положение женщины
в жизни общества
Статистика браков и разводов
Рождаемость
Сексуальное поведение
ss Яя/ял V. Op. cit. Р. 40.
" Censo de poblacion... Vol. 16. P. CXLV, cuadro 75.
^ Harvard encyclopedia... P. 259.
ss Арх. Ин та этнографии. КЭЭ. 1987. Полевые материалы автора.
Г аитийцы
#.//. Хулам? яа
Гаити — моноэтничиая страна, однородная и в расовом отношении: белых
там практически нет. Негры и мулаты социально распределяются по харак¬
терной для Карибского региона схеме: чернокожие — в основном крестьяне
и пролетариат, мулаты — буржуазия, интеллигенция, элита общества. Нес¬
мотря на политические перемены, Гаити во многом остается прежней —
беднейшей в Западном полушарии аграрной и малограмотной страной, ос¬
новную массу населения которой (80%) составляют крестьяне, сохраняющие
традиции своих предков. Поэтому в Гаити, возможно, легче, чем в других
странах, выявляется комплекс влияющих на семью социальных, экономи¬
ческих, экологических и духовных факторов. Речь в данной статье пойдет в
основном о семье крестьян, поскольку она лучше изучена, меньше — о го¬
родской семье, почти в стороне останется семья элиты. Можно, однако,
сказать, что многое в семейном строе характерно для всего гаитийского
общества.
166
Важное место среди семейных форм занимает расширенная семья, кото¬
рую гаитийцы понимают как большую группу людей, необязательно живу¬
щих вместе, но связанных кровным и ритуальным родством, юридическими
и обычноправовыми родственными отношениями,предполагающими целую
систему взаимных прав и обязанностей'. В Гаити это важнейший, всеобъем¬
лющий и активно функционирующий институт, в рамках которого проходит
вся жизнь человека: семья помогает эффективнее использовать ограничен¬
ные материальные ресурсы, облегчает „горизонтальные" и „вертикальные"
передвижения людей, поддерживает традиционный образ жизни,обеспечива-
ет психологический комфорт своих членов.
Одним из скрепляющих факторов для расширенной семьи является сов¬
местное владение так называемой фамильной землей, равные права наследо¬
вания которой имеют все признанные дети обоих родителей. В Гаити, где
средний размер земельного участка 1,4 га, причем часто это суммарная
площадь разбросанных клочков земли, разумеется, не все наследники реа¬
лизуют свое право. Однако значительно важнее экономического ис¬
пользования земли ее символическое значение: владение землей в Карибах
чрезвычайно престижно и связывается даже с понятием свободной
личности* — так преломляется здесь память о рабстве предков. Повторим,
однако, что владение „фамильной землей" — это внешний показатель
принадлежности к семье, дополненный прочными родственными чувства¬
ми, семейной солидарностью и гордостью, которые проявляются в знании
генеалогии (один из членов семьи, специально изучавшейся гаитий-
ским социологом М. Лагером, смог назвать 167 родственников пяти поколе¬
ний*), в желании найти общих с новыми знакомыми родственников,
в таких, например, внушениях, которые может услышать ребенок: „Сын до¬
чери маминой тетушки той же крови, что и ты", в готовности вы¬
полнить свои родственные обязанности. Последние заключаются в оказании
помощи в сельскохозяйственных работах, строительстве домов, в
одалживании друг другу инвентаря и домашних животных в сельской мес¬
тности, при организации праздников, религиозных церемоний, похорон и
обрядов в честь предков, в воспитании детей, уходе за стариками и больны¬
ми — всюду.
Для семейного строя гаитийцев характерно большое значение ритуаль¬
ного родства, возникающего при крещении. Крестные отцы и матери счита¬
ются членами расширенной семьи и нередко в равной мере с кровными
родственниками делят семейные права и обязанности. Человек может полу¬
чить несколько видов „крещения" (необязательно все) и соответствующее
число крестных родителей: сначала „домашнее" крещение, затем христи
анское, традиционно обязательное для всех. В этом случае крестные, как
правило, экономически равны родителям либо несколько богаче их
и обязанности крестных аналогичны родительским: помимо воспитания, они
могут платить за обучение ребенка, помогать взрослому крестнику
оплатить расходы на свадьбу, а то и на дорогу в Нью-Йорк — самое попу¬
лярное место эмиграции. Во время бракосочетания молодые люди тоже
получают крестных, которые считаются покровителями их брака. Ребенок
проходит и водуистское крещение, получая божество-покровителя — loi-
mai-t6te и крестных, обязанных следить за альянсом человека и божества.
Наконец, если человек захочет войти в ряды водуистских священников, он
t67
совершает духовный брак с божеством, по случаю чего также получает
крестных*.
Родственники регулярно общаются, навещая друг друга не реже раза в
месяц, если живут далеко друг от друга. Если же они живут по соседству,
на одной улице, тогда непременным правилом становятся ежедневные визиты*.
В сельской местности члены расширенной семьи, живущие поблизости,
составляют компактное единое поселение, называемое по-креольски taku (от
франц. lacour — „двор"). Традиционно такая единица состоит из родителей,
живущих в одном доме со своими неженатыми детьми, и женатых сыновей
с семьями, занимающими расположенные рядом отдельные дома. В отдель
ных же домах могут жить другие родственники. (Возможно, такое поселе
ние существовало еще во времена рабства: в одном из самых ранних источ
ников, „Истории французских Антил" миссионера-доминиканца Дютертра,
мы находим указание на то, что рабы — кровные родственники поселялись
рядом и группировали свои дома по кругу^. В более поздних источниках о
таком характере поселения сведений нет, но, по видимому, именно этот
элемент социальной жизни негров—рабов лег в основу семейных дворов).
В 1948 г. Р. Бастьен нашел лаку, которое можно назвать классическим:
состояло оно из десяти домов-хаусхолдов, в которых жили 27 родственни¬
ков трех поколений. Отец и четверо его сыновей обрабатывали 3/4 семей
ной земли, остальное было поделено между сестрой, двумя племянниками,
сводным братом отца и сожительницей одного из сыновей и ее ребенком*.
В работах 50—60-х годов ряд авторов называли лаку уходящей в прошлое
формой расширенной семьи, однако в 1984 г. в одном из изданий
ЮНЕСКО появились сведения о том, что в лаку живут 85% гаитийцев*.
Скорее всего, это преувеличение, однако можно предположить, что лаку
еще не изжил себя и существует в каких-то своих модификациях (этот воп¬
рос требует специального изучения).
Во всяком случае, социологическое изучение в начале 6(4х годов посел¬
ка Фюрси, расположенного в 30 км к югу от столицы, показало, что все
390 его обитателей (крестьян, производящих продукцию для своего потреб¬
ления и для продажи на рынках в Порт-о-Пренсе) жили в 49 семейных
дворах, или лаку'".
В Гаити под одной крышей, как правило, живет одна нуклеарная
семья". Взрослые сыновья, намеренные обзавестись семьей, строят отдель¬
ные дома недалеко от родительского и получают от отца надел (землю при
любой возможности стараются прикупать). И хотя, конечно, из-за скудости
ресурсов не всегда удается построить свое жилье и молодой семье прихо¬
дится иногда временно жить у родственников, все-таки собственный дом
остается целью молодого человека и настоящей „материальной базой"
семьи". Любопытен обычай при женитьбе и отселении в свой дом брать в
качестве фамилии имя отца, деда или прадеда. В упоминавшемся уже по¬
селке Фюрси социологи встретили, например, Филистина Пьера, сына Пье¬
ра Дюплана; Жозефа Этьена сына Этьена, вунка Пьера — Поля Пьера
Риваля".
Сильным еще остается авторитет главы лаку, отца либо старейшего
мужчины в вопросах распоряжения землей и регулирования религиозной
практики семьи. Что касается последней, то она является чрезвычайно важ
ным объединяющим началом для членов семьи. Религиозная жизнь гаитий
168
цев сосредоточена именно в родственных группах: они поклоняются общим
предкам, самые выдающиеся из которых становятся божествами — покрови¬
телями семьи; религиозные церемонии устраиваются семейной группой
(участвовать в них могут и соседи), причем полагается, чтобы кульминация
водуистского обряда — одержимость настигла именно члена семьи-устрои¬
тельницы, а не постороннего'*; пищевые табу также подлежат семейному
наследованию.
Родственные связи еще более укрепляются, когда на территории лаку
находится семейное кладбище, что нередко встречается в Гаити. Известный
французский этнограф А. Метро указывал, что, даже когда крестьяне вы¬
нуждены продавать свою землю, они делают это при условии разрешения
им посещать могилы предков, а то и хоронить здесь родственников'*. При
рождении ребенка его плацента закапывается под порогом дома или под
плодовым деревом, растущим во дворе, что, как и захоронение на семейной
земле, символизирует поддерживаемую живущими непрерывающуюся связь
поколений'*.
Само собой разумеется, лаку — дом и двор — это место повседневной
хозяйственной деятельности крестьянских женщин и отчасти мужчин.
Именно в контексте лаку очевидным становится разделение труда: женщина
больше работает по дому, мужчина — в производительной сфере вне лаку;
но мужчина может помогать женщине в уходе за животными, за огородом,
а женщина вместе с мужем работать в поле, которое часто находится дале¬
ко от дома. Такое определенное, но гибкое распределение обязанностей со¬
храняется в любых ситуациях, при любом составе лаку.
Теперь обратимся к формам брака и отметим, что в Гаити существует
характерная для Карибского региона дихотомия официального и неофици
ального браков, причем преобладают в стране консенсуальные союзы. Если
учесть немногие имеющиеся в нашем распоряжении статистические сведе¬
ния, то можно заключить, что в Гаити законных браков примерно в 3 раза
меньше, чем консенсуальных союзов, причем часть последних полигинны
(ценз 1950 г. показал, например, что каждые 100 человек, находящихся в
неоформленных браках, состоят в среднем из 52 женщин и 48 мужчин").
Больше всего юридически оформленных, законных браков наблюдаются
в среде крестьян, имеющих собственную землю и выращивающих на ней
продукцию главным образом для своего потребления и лишь в небольшой
степени участвующих в наемном труде". Такая ситуация характерна для
юга страны — традиционно наименее развитой части ( в смысле товарного
производства сельскохозяйственной продукции). Надо сказать, что в Гаити в
отличие от большинства стран Латинской Америки крестьяне являются соб¬
ственниками земли: по мнению ряда авторов, практически все крестьяне —
56—100% — владеют хотя бы частью обрабатываемой ими земли". 100%,
по-видимому, как раз и относятся к южному региону, хотя и здесь, как по
всей стране, есть арендаторство и издольщина, но практикуются они в не¬
больших масштабах: крестьянин может стать арендатором тогда, когда, на¬
пример, дает своей собственной земле отдых на 2—5 лет**.
Население на юге страны социально сравнительно однородно. Кроме
преобладания индивидуального хозяйства и незначительного социального
расслоения, для этого региона характерна небольшая эмиграция; закономер¬
ный отъезд части людей в поисках земли или на заработки не нарушает де¬
!69
мографических пропорций населения. Все эти особенности социальной си¬
туации и объясняют высокую долю стабильных зарегистрированных и кон¬
сенсуальных союзов.
Иное положение сложилось в других частях страны — северной и за¬
падной, где, помимо индивидуальных крестьянских хозяйств, существуют и
государственные земли, свои и американские плантации кофе, бананов и
других культур. Кроме того, в эти районах развивается гаитийская про¬
мышленность — обрабатывающая, горнодобывающая, легкая. Следовательно,
население здесь социально стратифицировано и состоит из представителей
всех слоев гаитийского общества — от беднейших крестьян-арендаторов и
люмпен-пролетариата до буржуазной элиты. В северной и западной провин¬
циях высок и уровень миграций населения, как внутренних, связанных с
наемным трудом, получением образования и пр., так и зарубежных: десятки
тысяч человек уезжают на сезонные работы в Доминиканскую Республику,
многие — на постоянное жительство в США, Канаду, Францию (последнее
особенно характерно для специалистов, в середине 60-х годов, например
80% их жило за границей^'). Эмигрируют в основном мужчины, что приво¬
дит к ощутимой диспропорции полов: по переписи Гаити 1971 г., в возрас¬
тной группе 20—39 лет на 100 мужчин приходилось 125 женщин^. Эконо¬
мическая нестабильность, социальное расслоение, демографические диспро¬
порции определяют и семейную нестабильность, меньшее число юридичес¬
ких браков на севере и западе страны по сравнению с югом.
Наконец, можно выделить города, где семьи еще более непрочны из-за
низких доходов основной массы жителей, отсутствия собственного жилья,
угрозы безработицы, большого участия женщин в наемном труде (особенно
в качестве домашней прислуги). А диспропорция полов в городах вообще
разительна: в Порт-о-Пренсе в 1971 г. в возрастных группах старше 15 лет
было 647 мужчин на 1000 женщин^. При отсутствии в городах морального
контроля со стороны общины все это способствует относительно
легкому перераспределению мужчин и женщин в их сексуальных и семей¬
ных связях.
Наряду с экономическими и демографическими в распространенности
консенсуальных союзов большое значение имеют и причины морального по¬
рядка, вернее, одни с другими тесно переплетаются. Официальный брак,
привнесенный белыми хозяевами в быт негритянских масс в эпоху рабства,
с тех пор считается престижным и непременно ассоциируется с материаль¬
ной обеспеченностью. Относясь к заключению брака как к одному из серь¬
езных актов в жизни, гаитийцы не мыслят его без широкого празднования,
а следовательно, без огромных расходов. Если только одна регистрация бра¬
ка стоит несколько долларов (церковная церемония — за отдельную плату),
а средний годовой доход крестьянина составляет 63,5 долларов^, то легко
представить себе, во что обходится вступление в официальный брак. Всеоб¬
щая бедность, таким образом, отрицательно влияет на распространение ре¬
гистрации браков.
Живучести консенсуальных союзов способствует и такое важнейшее
социальное установление, как юридическое равенство всех детей, законных
и незаконных, признанных своими отцами, закрепленное еще первой кон¬
ституцией независимой Гаити 1805 г.
В вопросе оформления брака имеют значение и другие обстоятельства.
170
До недавнего времени, например, гаитийские мужчины вообще избегали
любой регистрации в официальных документах, опасаясь, что их заберут в
армию (сейчас нет обязательной воинской службы).
В отношении к моногамии, предписываемой христианской моралью, га-
итийцы не являются ее стопроцентными сторонниками. К тому же идея
супружеской верности во времена рабства была для них дискредитирована
сексуальной эксплуатацией рабынь как хозяевами, так и — при преоблада¬
нии мужчин среди рабов — самими рабами. Определенную роль играли и
играют сохранившиеся африканские традиции многоженства.
В силу всего вышесказанного среди пар, регистрирующих брак, преоб¬
ладают в целом люди зрелого возраста, проживавшие не один год в факти¬
ческом браке, достигшие, возможно, относительного материального благо¬
получия. Законный брак, разумеется, преобладает у элиты, во многом при¬
держивающейся европейских обычаев, но представители и этого социально¬
го слоя иногда вступают в распространенный в стране фактический брак,
называемый plagage и лежащий в основе большинства нуклеарных семей
как в сельской местности, так и в городах Гаити.
Слово „пласаж" происходит от выражения колониальных времен se
placer — „завести одновременно семью и хозяйство". Большинство мужчин
достигают 30—35 лет, прежде чем оказываются владельцами средств, необ¬
ходимых для обзаведения семьей, которую они обычно создают с женщина¬
ми на 10—15 лет моложе себя. В том случае, когда союз крепок и конкрет¬
ные личности пользуются уважением, пласаж почти не теряет в престиже
перед юридическим браком. Конечно, женщину-пласэ никогда не назовут
madam-li — „супруга", а только menage-li — „хозяйка", manze от mademoiselle,
sor от soeur — „сестра", но все-таки это placage honnetc — „честный пласаж",
обычно моногамный^.
Надо сказать, что термин „пласаж" обозначает несколько типов семей¬
ных связей (подобно тому как мулатом называют любого человека смешан¬
ного расового происхождения). Различаются семейные формы, если так
можно выразиться, степенью психологической, эмоциональной, экономичес¬
кой „вовлеченности" сторон. Так, пласэ может жить в доме мужчины, а мо¬
жет и не жить, оставаясь у своих родных или живя в отдельном доме. Од¬
на или две-три пласэ называются по-разному: живущая в доме — главная,
это femme caille; она же или другая, родившая детей, — maman-pitite^. Дан¬
ную классификацию, приведенную в 40-х годах американским этнографом
Дж. Симпсоном для севера Гаити, можно дополнить материалами более но¬
вого исследования (табл.)
Vivavec — это, как пишут авторы, довольно недавнее явление, характер¬
ное в основном для городов. У Дж. Симпсона, впрочем, встречается bien
avec — связь с женщиной, не ограничивающейся одним мужчиной. Однако
это не проституция, поскольку женщина принимает не всех подряд и не за
плату.
Что касается полигамии, вернее полигинии, то при прогрессирующем
обнищании масс позволить ее себе могут лишь лица нерядового ранга в
обществе: „уиганы" — водуистские священники, „бокоры" — „колдуны", ле¬
кари, старосты округов (chefs de section) и зажиточные крестьяне, которые в
состоянии покупать участки земли и поселять на них женщин. Может быть
и такая ситуация, когда стареющий небедный крестьянин, чьи сыновья уже
171
Таблица. Дмум ммсеасуальммх союзок к Гаити
Название
Сожительство
в одном хаусхолде
Экономическая
поддержка
Прочность связи
1. Vivavec
Нет
Небольшая
Небольшая
2. Rinmin
(креольск. -возлюбленный")
-
-
Может последовать
пласаж
3. Fiyansd (-невеста")
*
-
Может
последовать брак
4. Насё
Обычно
Значительная
Большая
5. Мапё
Да
-
Примечание. Порядок установлен нами по возрастающей прочности союза.
обрели самостоятельность, обзаводится молодой сожительницей. Она про¬
изводит на свет второе поколение детей и вносит „свежую струю" в хозяй¬
ственную деятельность, чему femme саШе не препятствует^*.
Юридических прав женщинам пласаж не обеспечивает, моральные же
права на экономическую поддержку и имущество мужчины соответствуют
„рангу " пласэ. Вообще власть в доме принадлежит мужчине, однако при
том, что женщина ведет хозяйство, продает и покупает, значительно больше
общается с миром, муж признает ее опытность и не принимает решений
без обсуждения с нею. А бывает ситуация явной независимости женщины,
когда она, принеся в семью в качестве приданого клочок земли, сама обра¬
батывает его и берет себе всю прибыль с его продукции. В целом семей¬
ная жизнь крестьян при важной экономической и моральной роли женщин
напоминает французскому географу П. Моралю „матриархат, скрытый, но
эффективный
Разводы при оформленном браке случаются редко, что нетрудно попять,
учитывая основательность подобного союза. Дети в таком случае социализи¬
руются в семье матери. Вообще в Гаити мало распространена истинная мат-
рифокальность, т.е. пребывание женщины во главе неполной нуклеарной
семьи, матери-одиночки в основном живут в городах или районах интенсив¬
ных миграций населения.
Надо сказать, что в стране существует и проституция, главной причиной
которой остается бедность. Даже в сельской местности, не говоря уже о го¬
родах, женщина, будучи пласэ, может втайне от малоимущего мужа „подра¬
батывать", добавляя средства к тому немногому, что он ей дает. Кроме бед¬
ности, и другие социальные факторы способствуют распространению прости¬
туции: влияние иностранцев, начиная с американской оккупации, политичес
кая нестабильность и др. В целом отношение гаитийцев к сексу легкое. Сек¬
суальные отношения до брака не возбраняются ни мужчинам, ни женщинам,
наличие детей у последних не становится препятствием для замужества.
Старых дев, напротив, не уважают, а умереть девственницей, по мне¬
нию гаитийцев, — преступление перед богом, и за него следует наказание:
172
несколько лет после смерти такая женщина в виде злого духа (diabless) бро¬
дит по дорогам и лесам, пока господь не простит ее и не возьмет к себе*"
(характерный для верований гаитийцев пример смешения христианства и
водуизма).
В браке муж получает исключительные права на жену или пласэ, про¬
должая сам пользоваться сексуальной свободой и считая сексуальные удо¬
вольствия величайшими в мире. Только смерть, считают гаитийские мужчи¬
ны, может положить конец этим удовольствиям, и нет большего несчастья,
чем импотенция, даже в глубокой старости.
В Гаити почти не знают контрацепции. В основном люди не планируют
количество детей, а полагаются на природу и бога". В поселке Фюрси в
половине семей было по 7—9 детей, а 20% по 3 ", в остальных — по 1—4,
но, может быть, они к моменту обследования еще не успели завести поболь¬
ше. Дети считаются „богатством бедных", но не только их, поскольку и в
семьях элиты много детей, хотя и не так много, как раньше, — в среднем 6.
Детей гаитийцы очень любят. Во французском журнале „Ethnopsychotogie"
в 1980 г. была опубликована статья о семье в Гаити, почти целиком посвя¬
щенная отношению к детям ", и вот что пишет автор. До двух-трех лет
младенец — кумир семьи: его все ласкают, берут на руки, наряжают, даже
пудряд и душат; не отнимают от груди, пока подросший ребенок сам не от¬
кажется от грудного вскармливания.
Но дальше дитя перестает быть „первым чудом света", а видится уже
„зверьком", по выражению автора, которого надо дрессировать, и здесь уже
идут в ход даже телесные наказания. Ребенку прививают покорность и поч¬
тение к старшим, скромность, уравновешенность (за проявление раздраже¬
ния или агрессии наказывают). Хорошим тоном для ребенка считается отка¬
зываться в гостях от еды, но главное — не обращаться ни к кому на крео¬
ле, а отвечать по-французски (отражение положения креоля и французского
на шкале ценностей гаитийцев).
Любопытно, что родители стараются установить близкие отношения
между ребенком и теми из родственников, на кого он похож по характеру,
чтобы ребенок подражал этому человеку и следовал его примеру в жизнен¬
но важных ситуациях.
Дети долго остаются под опекой родителей и родственников, которые
даже при выборе супруга, не говоря уже о профессии, пытаются оказать
свое влияние.
Одним из важнейших институтов, воплощающих систему прав и обя
занностей семьи, является взятие детей родственников на воспитание. О
том, что обычай этот обусловлен не только сегодняшней экономической не¬
обходимостью, а составляет стойкую традицию, говорит, на наш взгляд, су¬
ществование аналогичной практики в Западной Африке: по наблюдению од¬
ного из американских социологов, это „панзападноафриканское явление"",
уходящее корнями в не столь отдаленную эпоху первобытнообщинного
строя в африканских обществах.
Роль обычая воспитания детей родственников в укреплении семьи вели¬
ка: ребенок с детства проникается чувством долга перед воспитателями и с
готовностью выполняет впоследствии свои родственные обязанности. Между
родителями и воспитателями связи также усиливаются, что особенно важ¬
но, если их родство отдаленное.
пз
Конечно, родителями движет не только желание поддержать традицию,
но и необходимость помочь ребенку социализироваться, приобрести какие-
то профессиональные и социальные навыки. Родственники обязательно бе
рут ребенка в случае смерти его родителей или при распаде семьи.
Детей стараются отправлять в городские семьи (а в городах обменива¬
ются ими), считая, как обычно, что в городе человек „цивилизуется" и лег¬
че пробивается в жизни. Наверное, главным преимуществом жизни ребенка
в городе является возможность ходить в школу, что в сельской местности
затруднено из-за плохой организации школьного дела, и из-за участия детей
в крестьянском труде: подсчитано, например, что в 1972 г. 25% детей до
15 лет было занято в труде в сельской местности^. В городах же десятиле
тием раньше из 92 тыс. детей, посещавших школу, 20 тыс. прибыло из
сельской местности, где училось в то время всего 13% детей соответствую¬
щего возрастай
Обычными ремеслами, которым мальчики обучаются у родственников,
являются плотничество, работа каменщика, рыбная ловля. Девочек учат
шить, вести домашнее хозяйство, торговать. Последнее остается традицион¬
ным женским занятием в Гаити, и женщины часто берут с собой на базар
маленьких дочерей и воспитанниц, рано приобщая их к этому престижному
делу. Но мечтают родители все же о том, чтобы их дочь приобрела „солид¬
ную" профессию — от владелицы магазинчика до доктора Самым лучшим
считается устроить ребенка к родственникам, перебравшимся в США или Ка
налу. Иногда несколько семей объединяют средства и совместно отправляют
какого-либо подающего надежды маленького родственника в Америку*.
Несмотря на традиционность и функциональность института „релока
ции"детей, для части их он не несет обычного положительного опыта: не¬
которые семьи попросту эксплуатируют воспитанников, посылая их на це
лые дни на улицу торговать (хлебом, кофе, напитками и т.д.), плохо кормят
и не ухаживают за ними. Такие дети, подрастая, могут влиться в ряды дек
лассированных элементов в городах, а если возвращаются в деревню, то, ес¬
тественно, без интереса и привычки к труду, тем более крестьянскому.
Подводя итоги, можно сказать следующее. Семья в Гаити, по видимому,
не испытывает кризиса в той мере, в какой его испытывает этот институт
во многих других странах. В Гаити семьи можно рассматривать с точки
зрения их стабильности. Тогда по одну сторону будут прочные зарегистри
рованные или незарегистрированные браки, а по другую — относительно
легко распадающиеся консенсуальные моногамные или полигамные союзы.
При этом прочных союзов в стране больше, особенно в регионах с социаль¬
но однородным стабильным населением. Типичен нуклеарный состав домо
хозяйства.
Расширенная семья, институт чрезвычайной важности в Гаити, включа
ет в себя как оформленные, так и неоформленные малые семьи; дети жен¬
щин данной родственной группы, оказавшихся без мужей, социализируются
здесь же. Сохраняется обычай отдавать детей в другие семьи, что считается
полезным для воспитания и образования подрастающего поколения.
Отношение гаитийцев к семье и родственникам основывается на таких
моральных ценностях общества в целом, как почтение к родителям и стар
шим, готовность оказывать помощь, любовь к детям, которые, в свою оче¬
редь, поддерживаются главным образом в семье.
!74
* LagM^rre M. Ticouloute and his folk:, the study of a Haitian extended family // The extended
family in black societies / Ed. D.Shimkin et al. The Hague, 1978. P. 408.
^ 7. Symbolic aspects of land in the Caribbean: The tenure and transmission of land rights
among Caribbean peasantries // Peasants, plantations, and rural communities in the Caribbean /
Ed. M.Cross, A.Marks. Guilford, 1979. P. 105.
' M. Op. cit. P. 411.
* Ямгяж? У. Structures familiales en Haiti // Ethno-psychology. 1980. Vol. 1. P. 47.
' Z^igM^rr^ M. Op. cit. P. 435.
' Darand У. Op. cit. P. 48.
^ Ям?2г?гб7.-Й. Histoire generale des Antilles habitees par les fran$ois. T. 1-4. P., 1667-1677. T. 2.
P. 502.
* йялйея Я. Haitian rural family organization // Social and Econ. Forces. 1961. Vol. 10. P. 481.
* Ро.мем Ж*.Д. Культура стран Карибского бассейна: сохранение и развитие
самобытности // Культуры: Диалог народов мира. 1984. № 3. С. 58.
*° Дяяс^гяу Я. Une micro-collectivite rurale Haitienne: Furcy // Rev. Fac. Ethnologie. 1963.
N 7. P. 9.
" М/я/z 3. Worker in the Cane. New Haven, 1960. P. 17.
ч М^;гякх A. Making a living in the Marbial Valley (Haity) // Occasional Pap. Education. 1951.
N10. P.116.
" Язяс^гяу Я. Op. cit. P. 12.
" Я^глАзу^л M. Life in a Haitian Valley. N.Y., 1964. P. 268.
" М^Ггяшг A. Rite Funeraires des Paysans Haitiens // Arts et traditions populates. 1954. N 4.
P. 290.
*' М/я/z 5. Caribbean transformations. Baltimore; L., 1974. P. 246.
" ^мя^Ая/ M. Peasants and poverty: A study of Haity. L., 1979. P. 11.
** L^g^r/яяя C J. Observations on family and kinship organization in Haiti // The Haitian potential:
Research and resources of Haiti / Ed. V.Rubin, R.Shaedel. N.Y.; L., 1975. P. 19.
Имущим C. ("7r.) Land tenure, income and employment in rural Haity: A survey. Wash. (D.C.),
1978. P. 13.
"Амжйм/М. Op. cit. P. 79.
" Rcub^rg Я7,., C/agiie СА.Я. Haity: The politics of squalor. Boston, 1971. P. 245.
" АМяяя 7., Мяу 7. Fertility, mortality, migration and family planning in Haity // Population
Studies. 1979. Vol. 33, N 3. P. 508.
"Ibid. P.513.
" йгяя^Я W. Impressions of Haiti. L. etc., 1965. P. 27.
" Мзгя/ P. Le paysan Haitien. P., 1961. P. 172.
з* Змярлзя G. Sexual and familial institutions in Northern Haity // Amer. Anthropologist. 1942.
Vol.44,ptl.P. 655.
" АИ/яяя7., Мяу 7. Op. cit. P. 511.
" Мзгя/ P. Op. cit. P. 175.
*Ibid. P. 177.
* 3//ярлзя G. Op. cit. P. 668.
^ 3/усзл M.7. Haitian attitudes toward family size // Human Organization. 1964. N 23. P. 47.
^ Рзяз^гяу Я. Op. cit. P. 9.
" Ямгяя7 У. Op. cit.
* G<x?7y EJV. Delegation of parental roles in West Africa and West-Indies // Socialization and
communication in primary groups / Ed. Th.K.Williams. The Hague; P., 1965. P. 127.
" 7,мжМя/ M. Op. cit. P. 71.
* йгяя^й W. Op. cit. P. 48-49.
*7 Z^gM^rre M. Op. cit.
L^g^r/яяя G. Kin groups in a Haitian market // Man. 1962. Vol. 57, Oct. P. 147.
175
Семья на Пуэрто Рико
МА.
Этнокультурная основа современной пуэрто риканской семьи формирова¬
лась более 400 лет. Главным действующим лицом при этом с самого нача-
ла выступали испанцы, что фактически было предопределено их политичес¬
кими, экономическими и социально-демографическими приоритетами в ко¬
лониальной жизни острова. Участие двух этнорасовых групп населения Пу¬
эрто-Рико в формировании семейных традиций — индейцев, живших здесь
задолго до открытия Америки европейцами, и негров рабов, завозившихся
испанцами, — очень относительно. Индейцы, по мнению большинства иссле
дователей, физически прекратили свое существование на острове вскоре
после завоевания его испанцами. Что касается негров, то, попав в положе
ние рабов, они на протяжении жизни многих поколений были лишены воз¬
можности сохранять свою материнскую культуру, традиции и обычаи пред
ков. Правда, в научной литературе нескольких последних десятилетий идет
дискуссия о причастности „африканских культурных начал" к устойчивому
существованию в карибских обществах особого типа семьи — матрифокаль-
ной, состоящей из матери и детей. Однако параллельно обсуждается и ряд
других факторов, имеющих в этом плане едва ли меньшее значение, о чем
речь пойдет ниже.
Наличие сильной этнокультурной магистрали в становлении семейных
традиций на Пуэрто-Рико не привело, однако, к их однозначной унифика¬
ции. Причин тому немало, но самая главная — это разнообразие форм хо
зяйственной деятельности, обусловившее неодинаковые темпы и направле
ния социокультурных процессов в различных регионах острова. Впервые хо
зяйственно-культурные ареалы на Пуэрто-Рико были выделены известным
американским антропологом Дж. Стьюардом (основоположником теории
миоголинейной эволюции) совместно со своими коллегами Р. Майнером, С.
Минцем и Е. Вульфом, проводившими в 5&х годах фундаментальные поле¬
вые исследования на острове. По мнению ученых, первостепенное значение
в развитии его экономики сыграли три сельскохозяйственные культуры —
сахарный тростник, табак и кофе. В зависимости от их распределения на
территории Пуэрто-Рико и было обосновано существование здесь трех хо¬
зяйственно-культурных ареалов: 1) зона культивации сахарного тростника —
прибрежные (главным образом южные) районы; 2) „табачная зона " — цен¬
тральные гористые районы в восточной части; 3) зона выращивания кофе —
гористые западные районы центральной части'.
Социально экономическое развитие каждого из этих регионов шло раз¬
личными темпами. Так, для зоны культивации сахарного тростника еще в
XIX в. характерны были капиталистические формы хозяйствования. После
присоединения острова к США в 1898 г. процессы концентрации земли на
сахарных плантациях и разорения мелких собственников, начавших попол¬
нять собой ряды безземельных рабочих, особенно усилились. В начале
XX в. большинство населения здесь представляло собой однородную в со¬
циокультурном отношении массу людей с ярко выраженной негритянской
соматикой. Если воспользоваться некоей условной шкалой интенсив
176
ности функционирования семейных традиций, заложенных испанской куль¬
турой, то в этом регионе они будут наименее ортодоксальными, быс¬
тро приспосабливающимися к новым экономическим и социальным реаль¬
ностям.
В районе культивирования кофе также происходили процессы концен¬
трации земли в руках крупных собственников и высвобождение рабочей
силы. Однако сама специфика выращивания кофе, а также относительно
медленное развитие технологии его культивирования делали возможным су¬
ществование в этих районах как крупных хозяйств (асьенд), использовавших
наемный труд, так и мелких участков, обрабатывавшихся силами одной
семьи. Вплоть до середины XX в. здесь существовало немало крестьянских
семей, ведших натуральное хозяйство. Основную массу населения составля¬
ли белые, иногда с „налетом" индейской крови. В „кофейном" регионе, бо¬
лее чем где-либо на острове, наблюдалась консервация традиционного обра¬
за жизни семьи. В немалой степени этому способствовало и то обстоятель¬
ство, что доступ к горным районам западной части Пуэрто-Рико всегда был
очень труден. И в середине нашего столетия там еще было очень мало до¬
рог и других коммуникаций.
Что же касается „табачного" района, то он представляется наиболее
противоречивым в социокультурном отношении по сравнению с двумя упо¬
мянутыми выше. Здесь в течение всех минувших десятилетий XX в. отмече¬
на высокая подвижность социальной культуры населения. Благодаря высо¬
кой урожайности табака издольщик мог в течение года собрать достаточно
денег для покупки собственного участка земли и тем самым перейти в по¬
ложение мелкого собственника. В эти районы чаще всего мигрировали
сельскохозяйственные рабочие прибрежных плантаций, разрушая террито¬
риальную замкнутость местного населения, создавая большую композицион¬
ную сложность расовой ситуации, увеличивая разнообразие культурно-бы¬
товых традиций. Здесь наблюдалось и более активное по сравнению, напри¬
мер, с „кофейным" регионом проникновение североамериканского капита¬
ла, вызванное целым рядом обстоятельств экономического характера. Это
означало появление относительно большого числа промышленных предприя¬
тий, строительство дорог, более живую связь населения с городом. Уклад
жизни семьи отличался большим разнообразием форм, сочетанием традиций
с инновациями, восприимчивостью к американскому влиянию.
Региональные модификации традиционного уклада жизни пуэрто-рикан¬
ской семьи сложились задолго до начала XX в., и в первые десятилетия на¬
шего столетия они еще были весьма ощутимы. Однако уже с 30-х годов
начинает набирать силу процесс, который способствовал их исчезновению.
Речь идет о миграции сельского населения в города, вызванной массирован¬
ной индустриализацией экономики страны. Доля сельских жителей, состав¬
лявших подавляющее большинство в начале века (в 1910 г. более 80%),
стала неуклонно уменьшаться; к 1950 г. она уже снизилась до 50,5, а к
1970 г. — до 35,5%*. Население городов, напротив, резко возросло, но не¬
равномерно. Наибольшей степени концентрация мигрирующих из села дос¬
тигла в столице Сан-Хуане, где к 1970 г. число жителей увеличилось до
851 тыс., что составило более 30% всего населения страны*. Тенденция к
увеличению пропорции горожан сохранилась и в последующие годы*.
Тотальные масштабы урбанизации на Пуэрто-Рико изменили направле¬
177
ние социокультурных процессов. Город практически снивелировал регио¬
нальные различия в образе жизни выходцев из села, но усилил социальные
барьеры между ними. Нормативно-ценностные установки семьи среди пред¬
ставителей высших слоев населения, среднего класса и бедняков стали
трансформироваться по различным схемам. Иными словами, относительно
второй половины XX в. для Пуэрто-Рико следует говорить уже не о регио¬
нальных различиях в традиционном укладе преимущественно сельской
семьи, а о социальных различиях преимущественно городской семьи.
Феномен последней вообще достаточно неординарен. Еще в начале
XX в. он содержал в себе лишь два субкультурных компонента, согласно
старому двухклассовому делению пуэрто-риканского города колониальных
времен — аристократический и „трущобный* . Начиная примерно с 30-х го¬
дов быстрый рост численности представителей среднего класса изменил
это соотношение в свою пользу, но формирование социальной структуры
городской семьи как института не закончилось.
Постоянный приток сельских жителей, неспособных (и не имеющих
возможности) сразу включиться в социальную структуру города, создавал и
создает довольно значительный популяционный массив, который в течение
вот уже нескольких десятилетий занимает определенную территорию и со¬
храняет особый стиль жизни. Этот „город хижин" представляет собой
очень характерную для пуэрто-риканского города форму поселения.
В 1970 г., например, на острове насчитывалось около 421 городов хижин,
они объединяли в общей сложности приблизительно 80 тыс. семей^. Их
следует отличать от поселений городских трущоб. Последние олицетворяют
собой наихудшие, „гибельные" стороны жизни современных индустриаль¬
ных городов, в то время как город хижин — явление маргинальное в социо¬
культурном отношении, своего рода резерв среднего класса.
В Сан-Хуане начала 60-х годов 46% семей, проживавших в городе хи¬
жин (здесь он называется Пелотеро), имели доход более 2 тыс. долларов в
год, т.е. выше официального уровня бедности на Пуэрто-Рико тех лет. Ко¬
нечно, все относительно, и с точки зрения жителей США, уровень беднос¬
ти которых в 1960 г. составлял 3 тыс. долларов, Пелотеро был городом ни¬
щих. Но на самом острове, где ежегодный доход на душу населения в горо¬
де более чем в 2 раза превышал этот же показатель по сельской местности
(соответственно 945 и 408 долларов), уровень жизни семьи в Пелотеро счи¬
тался не самым низким. Здесь, например, 83% семей владели собственны¬
ми домами*. Правда, по большей части это были одноэтажные строения, на¬
считывавшие одну-две спальные команты, с местами „общего пользования"
во дворе. Но, как только доход семьи начинал расти, такое жилище достра¬
ивалось, отделывалось, улучшалась его планировка. Со временем дом, при¬
обретший достаточно „товарный** вид, обычно продавался (как правило, род¬
ственникам или знакомым из деревни) и семья перебиралась в более рес¬
пектабельный район Сан-Хуана, уступая место в Пелотеро новым мигран¬
там.
Подвижность социальной структуры города хижин не способствовала
закреплению здесь каких-либо ярко выраженных элементов тех культур,
которые так или иначе несли с собой сельские переселенцы из разных ре¬
гионов страны. Здесь формировалась своя собственная субкультура, спон¬
танно проявляющая некоторые черты сельского быта (в интерьере, пище,
178
методах народной медицины), но в целом ориентированная на образ жизни
большого города. Причем именно пуэрто-риканского города, где почти пол¬
ностью американизированные внешние стороны быта причудливо сочетают
ся с этническим консерватизмом интимной жизни.
Город хижин, надо сказать, как бы фокусирует в себе многие пробле
мы этнокультурной специфики островитян, что, видимо, дает нам право
(имея в виду недостаточность полевого материала) использовать имеющуюся
по нему информацию наравне с основными, уже упоминавшимися выше хо
зяйственно-культурными ареалами Пуэрто-Рико для характеристики тех или
иных сфер семейного уклада на острове.
Форжм брака. Семья создавалась на основе брачного союза, формы ко
торого могли быть различны. До начала XX в. на острове были в основном
распространены две формы брака: церковный (римско-католический) и кон¬
сенсуальный, т.е. без официального оформления. С началом американской
оккупации, когда запреты на протестантство на Пуэрто-Рико отпали, стали
заключаться и протестантские браки. Однако число их к середине XX в.
было незначительно по сравнению с католическими и гражданскими (т е.
зарегистрированными в алькальдии, а не в церкви): католические — 61,4%;
гражданские — 24,3; протестантские — 14,3.
Консенсуальный союз — это типичная латиноамериканская форма бра
ка. Его следует отличать от сексуальной связи даже постоянных партнеров,
но живущих раздельно, не ведущих совместного хозяйства и не имеющих
никаких прав и обязанностей по отношению друг к другу. Консенсуальный
союз обычно создается парой, живущей одним домохозяйством, где мужчи¬
на и женщина добровольно налагают друг на друга сеть общих обяза
тельств, несмотря на отсутствие легального брака. Когда консенсуальный
союз разрушается (а это случается, конечно, чаще, чем среди зарегистриро¬
ванных браков, где получить развод, даже если этот момент оговорен в кон
тракте, очень сложно), и тот и другой партнеры, как правило, вновь вступа
ют в брак такого же типа. Все же обычно первый брак стремятся регис
трировать. Однако если девушка уже потеряла невинность до брака, то ре¬
гистрация последнего не происходит: партнер приводит свою избранницу к
себе в дом или переезжает к ней (особо строгих установок на этот счет
нет), тем самым давая понять окружающим, что консенсуальный брак со
стоялся.
Относительно стабильности консенсуальных браков существуют разные
точки зрения. Так, по данным, полученным О. Льюисом в конце 50 х — на
чале 60-х годов, сохраняется на протяжении долгих лет лишь около 30%
консенсуальных союзов. Американский антрополог А.Э. Сафа, проводившая
в те же годы свое первое исследование среди жителей Пелотеро, считает,
что, наоборот, распадается только одна треть первоначально заключенных
союзов*.
Согласно официальной статистике США, частота фактических браков
начиная с XX в. в целом по острову уменьшилась. Если в 1898 г. процент
таких браков среди мужчин составлял 16,3, а среди женщин — 15,2, то в
1950 г. в целом на Пуэрто-Рико фактических браков было 12,7%*. Однако
при этом следует учитывать, что официальная статистика, регистрирующая
брачный статус пуэрториканцев, часто отмечала значительно более низкий
процент консенсуальных браков на острове, чем он был на самом деле. Это
179
могло быть связано с большой сложностью выявления таких браков. Спе
циальное исследование американского ученого Дж. Фитцпатрика показало,
что консенсуальных браков на острове в 1950 г. было в 2 раза боль¬
ше — 25%'°.
Устойчивость традиции заключения консенсуального брака на Пуэрто-Ри
ко до настоящего времени, по-видимому, следует считать результатом слож
ного переплетения на протяжении веков социально-экономических и куль¬
турных факторов. Однозначные объяснения этой традиции очень сомнитель¬
ны. Так, например, американские исследователи Е. Гарвер и Е. Финчер объ¬
ясняли широкую практику консенсуальных браков среди бедняцких слоев
населения острова невозможностью для них оплатить формальную процедуру
бракосочетания". Но стоимость брачного свидетельства при заключении, на¬
пример, гражданского брака на острове в 50-х годах была всего 50 центов,
4то составляло приблизительно 1/3 стоимости бутылки рома. Как справедли¬
во заметил Дж. Стикос, если бы соционормативные установки однозначно
предписывали официальный брак, эти деньги можно было бы найти"'^.
Точно так же сомнителен и такой подход к этой проблеме, который
однозначно вычленяет в качестве причины практики консенсуальных союзов
культурные традиции африканских негров, в частности полигинию. Катего¬
рически отвергать подобную гипотезу нет оснований. Но, как известно,
укоренение любого этнокультурного элемента, привнесенного извне, воз¬
можно лишь в том случае, если в принимающем обществе существуют бла¬
гоприятные условия для выживания данного элемента культуры, а на Пуэр¬
то-Рико в принципе как раз такие условия были.
Прежде всего плантационное рабство. Рабовладельцы, чтобы избежать
какого-либо объединения рабов и тем самым предотвратить опасность их
массовых выступлений, использовали, в частности, и такой метод, как по¬
ощрение бытовавших среди последних сожительства билокального типа, не
делая никаких попыток заставить рабов вступать в брачный союз, тем бо¬
лее официально оформленный. Сам по себе этот факт уже свидетельствует
в пользу того, что законный брак не воспринимался неграми рабами как
нормативная установка, регулирующая взаимоотношения полов.
Кроме того, на острове с самого начала колониального периода вообще
бытовало достаточно индифферентное отношение населения (и не только
темнокожего) к скрепляющим узам брака, что было обусловлено рядом об¬
стоятельств. Во-первых, основной контингент колонистов (особенно в на
чальный период колонизации острова) состоял не из высокородных грандов,
заботившихся о сохранении своего имени и состояния путем заключения
продуманных и выгодных браков, а из малоимущих граждан низших сосло¬
вий, целью которых была нажива любыми средствами. В обстановке всеоб¬
щего стяжательства процветал принцип „вседозволенности", перечеркивав
ший категории более высокой морали и нравственности. Во-вторых, практи¬
ка незарегистрированных браков для испанцев не была столь уже новой. В
самой средневековой Испании накануне конкисты существовала аналогич¬
ная форма брачного союза, называемого „баррагания", при котором между
холостым мужчиной и незамужней женщиной заключался договор, главным,
но неформальным условием которого являлось постоянство партнеров на
протяжении достаточно длительного отрезка времени. Договор не преду¬
сматривал какой-либо обрядности — обручения или свадьбы. По мнению из¬
180
вестного испанского историка Альтамира-и-Кревеа, возникновение такого
союза — следствие мусульманских влияний". Терпимое отношение испан¬
ского закона и морали к внебрачному сожительству только укрепляло по¬
следнее, содействуя превращению его в традиции. Баррагания встречалась
среди всех социальных прослоек населения, в том числе дворянства, а так¬
же между дворянами и крестьянами. Католическая церковь официально
выступала против баррагании, но такая форма брака бытовала даже среди
духовенства. В Наварре Карл Ш хотя и отверг притязания сожительниц
церковников на пользование привилегиями духовенства на правах законных
супруг и приказал взимать причитающиеся с них обычные налоги, однако
фактически барраганию признал. Конечно, такая форма взаимоотношений
полов не являлась для испанцев нормой, но в условиях вседозволенности
колониальной жизии вполне могла оказаться наиболее приемлемой, что и
было закреплено в обычном праве.
В-третьих, католическая церковь на острове вплоть до начала XX в. бы¬
ла настолько слаба экономически и зависима от испанской короны, что
фактически не претендовала на роль праворегулирующего органа. Недоста¬
ток средств осложнял поездки священников в труднодоступные горные рай¬
оны, сильно ограничивал возможности организации приходов в сельской
местности. Жители изолированных поселков, до конца XX в. составлявшие
большинство населения острова, видели католического священника в луч¬
шем случае два-три раза в год. Заключение церковного брака в этих усло¬
виях оказывалось довольно проблематичным.
Таким образом, традиция консенсуальных союзов, столь характерная
для пуэрториканцев, формировалась постепенно, в ходе исторического раз¬
вития острова. Однако эволюция этой формы брака во времени и простран¬
стве была подвержена определенной закономерности. Например, при более
близком рассмотрении оказывается, что консенсуальные союзы все-таки ча¬
ще встречаются среди негров, причем независимо от их социального стату¬
са и места проживания. Объяснить этот факт, как нам кажется, можно тем,
что „эпицентр' складывания традиции приходился именно на негритянское
население плантаций. Здесь сильнее, чем где-либо на острове, действовал
механизм консервации способствующих факторов, описанных выше. А кро¬
ме того (и это в конечном счете приобретает решающее значение), в райо¬
нах сахарных плантаций всегда была особенно велика социальная однород¬
ность населения, т.е. общественное мнение здесь никогда не осуждало та¬
кого рода союзы.
Консенсуальные браки среди белого населения горной сельской мес¬
тности встречались значительно реже. Для сравнения скажем, что, напри¬
мер, в муниципалитете Салинас, где негритянское население в 1950 г. бы¬
ло сконцентрировано в наибольшей степени (46,1%), даже официальная ста¬
тистика того времени зарегистрировала и наибольший процент консенсу¬
альных браков — 27,9. По неофициальным же данным, собранным С. Мин¬
цем в те же годы, незарегистрированные браки здесь составляли почти
70%. А в муниципалитетах Ринкон, Камуй, Кебрадильяс, Хатильо, где кате¬
гории „небелых" составляли соответственно 4,8; 5,8; 6,2; 7,0%, доля офи¬
циально отмеченных консенсуальных союзов была наименьшей на острове
- 4,7; 5,5; 4,8; 6,7% ".
По наблюдениям кубинского антрополога Карлоса Ортиса, в селении
)8]
Эсперанса (западная часть острова, „кофейный" регион), где подавляющее
большинство населения — белые, незарегистрированные брачные союзы бы¬
ли редкостью. Из 133 обследованных Ортисом супружеских пар 115 состо
яли в церковно-католическом браке, 10 — в гражданском и только 8 пар —
в незарегистрированном брачном союзе". Категорического осуждения кон¬
сенсуальных браков со стороны общественного мнения в Эсперансе не бы¬
ло. Однако, как пишет Ортис, люди, заключавшие такой брак, независимо
от своего социального статуса стыдились этого.
Среди городского населения острова консенсуальные браки значительно
более распространены. Так, в центральных восточных муниципалитетах Пу¬
эрто-Рико, где быстро росло число американских промышленных предприя
тий, незарегистрированные брачные союзы только по официальным данным
50-х годов составляли в среднем 16—18%, а, например, в Сан-Хуане — око
ло 20% ".
К сожалению, мы не имеем возможности оперировать официальной ста
тистикой на этот счет в настоящее время. Однако есть основания полагать,
что доля консенсуальных союзов среди пуэрториканцев не уменьшается.
Например, по данным Э. Сафы на 1970 г., из 94 опрошенных ею женщин
25,5 состояли в консенсуальном браке".
Галь/ се.мьм. Для пуэрториканцев характерны обе формы семейной ор
ганизации — как простая семья (нуклеарная), так и сложная (расширенная).
Среди зажиточного населения села и города широко распространена слож¬
ная семья с „вертикальной" структурой родства. Это связано в первую оче
редь с тем, что, несмотря на строгое следование принципу наследования от
отца старшему сыну, богатое семейство стремится обеспечить безбедное
существование и младшим, для чего есть возможности.
Иное дело — семья сложной формы у бедняков. Здесь четко прослежи
вается наличие „горизонтальной" структуры родства. Главное условие обра¬
зования такого типа семьи — наличие кормильца, вокруг которого группи¬
руются родственики самой различной степени родства. Это могут быть сес¬
тры или даже кузины жены, брат мужа и т.п. Семейные организации мо¬
гут существовать подолгу, иногда годами и даже десятилетиями, что осо
бенно характерно для городов. Большой процент незанятого трудоспособно
го населения здесь приводит к тому, что для человека или даже брачной
пары с ребенком единственной поддержкой оказывается помощь родствен¬
ников.
Однако, несмотря на все формы родственных группировок под крышей
одного домохозяйства, нормой всегда считалась нуклеарная семья. И при
первой же возможности молодое поколение отделялось от старшего. Для
крестьянских семей „кофейного" района в идеале желательно было, чтобы
новое домохозяйство сына располагалось недалеко от дома родителей жены.
Таким образом, старались достичь двух целей: окончательного отделения
сына от родителей и избежания конфликтов жены и свекрови. В действи¬
тельности, однако, получалось несколько иначе. Молодожены поселялись в
доме родителей жены и жили там до тех пор, пока не появлялась возмож
ность купить свой дом. А этот вопрос обычно решался той семьей, которая
реально оказывалась способной выделить средства на покупку участка зем
ли и дома. Если более состоятельной оказывалась семья мужа, то все даль
нейшее формирование родственных связей шло по этой линии, и наоборот.
182
Среди населения сахарных плантаций семейно-родственные отношения
складывались почти исключительно по материнской линии, что, думается,
напрямую связано с большим процентом консенсуальных браков там, точ
нее, с их нестабильностью. Дети женщины от всех предшествующих насто
ящему брачных союзов, как правило, оставались у ее матери, что и приво
дило к однозначному вычислению именно этой линии родства.
В связи с этим хотелось бы поподробнее остановиться на матрифокаль-
ной семье. Чаще всего она встречается среди негритянского населения „са¬
харных" районов южного побережья. По официальным данным, в 1950 г.
здесь более 20% всех домохозяйств были матрифокальны, а в целом по ос¬
трову — 16,8%". В свое время М. Херсковиц объяснял существование мат
рифокальных семей среди негритянского населения карибских обществ со
хранением традиций западноафриканских негров (об этом мы уже упомина¬
ли в начале статьи). Иную позицию занимали Е.Ф. Фрэзиер и Ф. Хенрикес,
которые делали ударение на невозможности создания семьи среди негров в
условиях рабства. Еще одна точка зрения принадлежит Р. Смиту. Согласно
ей, матрифокальность ассоциируется не с особыми историческими или
культурными условиями, а с самим положением негров на наиболее низкой
иерархической ступени классового общества". Это положение ограничивало
их „вертикальную" мобильность. Мужчина не имел возможности зарабаты¬
вать столько, чтобы содержать семью. В этой связи он не мог сохранить
свое престижное положение в системе родственных связей, как, например,
в примитивных обществах, где даже матрилинейная структура родства на¬
ходилась под контролем мужчин. В современных обществах, где сильна пат¬
риархальная традиция (Индия, Китай), весь уклад жизни построен так, что¬
бы сохранить за мужчиной его „природные" привилегии (в структуре род¬
ственных связей, в системе религиозных отношений и т.д.) и таким образом
дать ему возможность занимать доминирующую позицию в семье. Однако в
большинстве современных обществ одерживает победу билатеральный
принцип сосуществования полов, оставляющий за мужчиной главным обра¬
зом функцию материального обеспечения семьи. И когда эта функция „бло¬
кируется" социальными условиями, возникает ситуация неопределенности,
которая в одних культурах со временем разрешается взрывом феминизма, в
других же находит более компромиссный выход, примером коего может
быть и существование матрифокальной семьи. Такой тип семьи фактически
устраняет соперничество полов, перераспределив их роли и закрепив этот
акт культурной традицией.
Как нам кажется, в течение длительного времени все указанные выше
причины появления традиции существования матрифокальной семьи в той
или иной степени могли иметь место. Но решающее значение в стабильнос¬
ти такого типа семьи на Пуэрто-Рико могла сыграть именно последняя.
Большую роль здесь, добавим, имела и начавшаяся в послевоенные го¬
ды массовая эмиграция населения острова в США. На первых порах боль¬
шую часть мигрирующих составляли мужчины, уезжавшие в поисках рабо¬
ты и либо в течение долгих лет не возвращавшиеся, либо вообще осевшие
на материке, женившись там повторно.
Пуэрто-риканская женщина с маленькими детьми и без мужа, жившая
в городе, имела очень низкий и крайне неустойчивый доход. Одну его
часть составляло пособие Отдела социального обеспечения. Например, в
!83
1970 г. женщина с пятью детьми получала в среднем 85 долларов в месяц.
Какая-то часть средств поступала от бывшего мужа женщины, причем не
имело значения, в какого рода брачном союзе они состояли. Помогали и
родственники. По данным Э. Сафы, из 20 матрифокальных семей в Пелоте-
ро 9 вели домохозяйство совместно с тетками, незамужними кузинами и да¬
же с ближайшими соседями*. Так что, если женщина находила себе ка¬
кую-то работу и должна была на время отлучиться, за детей она не беспо¬
коилась. Как пишет Сафа, „дети здесь хорошо известны всем и каждому и
соседи играют очень важную роль в их воспитании. Вечерами дети собира¬
ются в доме соседей смотреть телевизор, там их и покормят, и утешат, ес¬
ли плачут". По мнению Сафы, повседневность такого общения постепенно
вытесняла даже родственные связи, но об этом ниже.
Ролевые усягамовдгм супругов. Наиболее важной нормативной установ¬
кой внутрисемейных отношений пуэрториканцев традиционно являлось раз¬
деление ролей. Негласное, но твердое социальное предписание однозначно
закрепляло за каждым из супругов определенную сферу деятельности. В
сельской местности, например, домохозяйство традиционно состояло из
двух половин — мужской и женской. Все то, что должен был делать муж¬
чина, называлось abajo (внизу). В это понятие входили, во-первых, все вспо¬
могательные помещения дома (сарай, подпол, веранда), где хранились ору¬
дия труда, лошадиная сбруя и т.д., а во-вторых, сам процесс работы — в
поле, на ферме и т.п. Сфера влияния женщины называлась arriba (вверху) и
включала кухню, спальные комнаты и т.д. Возможно, что естественное раз¬
деление всего пространства дома на жилое, которое находилось наверху, и
хозяйственное (под домом или рядом с домом) и закрепило в конечиом
счете такое обозначение обязанностей мужа и жены. В идеале женщине не
полагалось делать какую-либо мужскую работу, мужчине — выходить на
кухню.
Однако реальная жизнь так или иначе вносила в это положение свои
коррективы и супруги время от времени оказывали помощь друг другу.
Очи всеми силами старались завуалировать свои действия не только для
окружающих, но даже для самих себя. Особенно отчетливо такие тонкости
взаимоотношений мужа и жены заметны в крестьянской среде. Например, в
горной деревне муж уверенно держал в своих руках основные бразды прав¬
ления семьей. Его неоспоримой обязанностью (и правом) являлось матери¬
альное обеспечение семьи. Только мужчина мог, скажем, покупать участок
земли, дом, все необходимое для ведения хозяйства, включая даже продук¬
ты. Женщина, правда, могла среди иедели совершить небольшую покупку
в местной лавчонке. Но, поскольку всеми деньгами и их распределением
ведал муж, этими выходами активность женщины в обеспечении семьи, как
правило, и ограничивалась. Если денег не хватало, жена все равно не име¬
ла права оказывать какую-либо материальную помощь семье, во всяком слу¬
чае открыто, чтобы не подорвать авторитет мужа. Поэтому мужу приходи¬
лось закрывать глаза на то, что жена подчас продавала немного яиц, кофе и
т.п., таким образом поддерживая семью.
При переезде в город семья стремилась по возможности сохранить свои
ролевые установки. Однако сфера деятельности мужа естественным обра¬
зом ограничивалась и из всех хозяйственных забот покупки остались чуть
ли не единственной его обязанностью. Сохранилась, правда, подотчетность
184
женщины в материальных вопросах, характерная для всех социальных слоев
городского населения.
Связь с внешним миром у семьи искони осуществлялась только через
мужчину. Он участвовал в политической, экономической и других сферах
общественной жизни как представитель семьи. Женщина существовала в
информационно замкнутом пространстве. Общепринятый стиль ее поведе¬
ния состоял из множества „не": не выходить без сопровождения мужа (или
другого родственника) из дома, не разговаривать и не танцевать с чужими
мужчинами, не носить бросающихся в глаза украшений, не вести долгих и
пустых разговоров с соседками, не обгонять мужа, идя с ним по улице, и
т.п.
Такие строгие нормы, конечно, не всегда соблюдались и, добавим, не
везде в одинаковой степени. Так, если в деревнях горных районов в силу
их естественной географической изолированности социальный контроль над
сохранностью этих обычаев и в 70-х годах XX в. осуществлялся так же
строго, как и в прошлом, то, например, в „табачных" районах картина скла¬
дывалась иная. Здесь женщина имела больше свободы поведения и самосто¬
ятельности. Она вполне могла одна ездить на базар, подолгу гостить у со¬
седок, украшать себя и т.д. Степень раскованности женщин в этих районах
в известной мере зависела от концентрации здесь большого количества аме¬
риканских заведений (предприятий, коммуникаций, жилых построек, раз¬
влечений), что постепенно втягивало в свою орбиту всех членов живущих
там пуэрто-риканских семей.
Любопытно, однако, что, чем больше оказывалась фактическая свобода
женщин, тем сильнее ощущалось их стремление соблюсти те нормы обще
ственного поведения, которые были чаще „на виду", и прежде всего регу¬
лярное посещение церкви. На наш взгляд, в этом можно усмотреть одно из
влияний процесса американизации на семейную жизнь, ибо церковь никог¬
да раньше, если можно так сказать, не пользовалась особой популярностью
среди сельских жителей на острове. Она изначально находилась в вассаль¬
ной зависимости от испанской митрополии. Недостаток средств у клира, а
также отдаленность, разбросанность населенных пунктов заметно ограничи¬
вали сферу влияния католической церкви на острове. Крестьяне посещали
ее крайне редко, а женщины вообще лишь в исключительных случаях (вен¬
чание, крещение, похороны). Мужчины, правда, постоянно поддерживавшие
связь с городом (где когда-то только и строились храмы), посещали церковь
чаще. Женщины же ограничивались тем, что использовали для своих куль¬
товых целей сделанные из дерева изображения святых.
В западных горных селениях такое сдержанное отношение к католичес¬
кой церкви сохранялось до наших дней и регулярное посещение, скажем,
воскресных месс женщинами не вошло у крестьян в обычай. А вот в табач¬
ных районах уже в середине 50-х годов XX в. пренебрежение со стороны
женщины обязанностью регулярно посещать церковные службы восприни¬
малось окружающими негативно и даже могло повлечь за собой нечто вро¬
де остракизма.
В городе раскрепощение женщины шло очень активно. Пожалуй, сегод¬
ня образ жизни современной пуэрториканки, принадлежавшей к городско¬
му среднему классу, ничем не отличается от американского. Одежды и быт
ее (как с функциональной, так и с декоративной точек зрения) американи¬
185
зировались полностью, круг интересов вышел далеко за рамки домашнего
хозяйства. Большой популярностью среди женщин этого класса пользуются
различные клубы — женские, религиозные, политические. Некоторые из
женщин активно включаются в политическую борьбу на острове. Так, донья
Фелиса Ринкон де Гантьер — женщина, имеющая мужа и детей, — была
одним из лидеров партии „Популяр", а впоследствии — мэром г.Сан-Хуана.
Как же сказалась эмансипация пуэрто-риканских женщин на их отно
шения к мужьям? Результаты социологических опросов, проводившихся на
острове в разные годы, подтверждают существование следующей зависи
мости: чем выше социальный статус семьи, тем заметнее становится стрем
ление ее членов (в первую очередь женщины) к сохранению внутрисемей
ных отношений на основе подчеркнутого уважения к традиционной автори
тарности мужа в доме. Так, в 1955 г. из 72 опрошенных Стикосом жен
щии, чьи мужья имели среднегодовой доход выше 2000 долларов, 76% от
ветили, что важнейшими качествами жены считают внимательность к нуж
дам мужа, 55% — преданность мужу, 40% — уважение к мужу, 32% — по
слушание, 26% — домовитость. В 1970 г. американский исследователь М.
Тьюмин практически получил те же самые результаты по относительной
значимости цифр (правда, за критерий социального статуса он брал не до¬
ход, а образовательный уровень мужа и жены^'.
Надо сказать, что средние слои городского населения на Пуэрто-Рико
очень маргинальны в культурном отношении. Успешное приспособление к
американскому стилю жизни среди них сочетается с желанием уподобить
ся местной аристократии, которую на острове представляют исключительно
белые состоятельные семьи, сохраняющие родственные связи с Испанией.
Многие из этих семей, составляющих самую малочисленную прослойку го
родского населения, категорически не приняли американского гражданства
и стараются любыми способами подчеркнуть свое католическое культурное
наследие, доставшееся им от испанских грандов. Стиль жизни аристократи¬
ческих семей на Пуэрто-Рико крайне замкнут. Для них характерны узкие
социальные связи, исключительное „общение семьями", идеал зажиточнос¬
ти, бережливости, без демонстрации своего благосостояния. Взаимоотноше¬
ния мужа и жены в таких семьях строятся в полном соответствии с догма
ми католической идеологии: „Женщина...должна быть благодарна мужчи
не, во-первых, за сам факт своего существования и, во-вторых, за его
сверхъестественное сходство с богом. Но, поскольку сходство не является
полным, каждый мужчина должен охранять и защищать женщину. Каждая
же женщина должна помогать своему мужчине. Не мужчина для женщины,
а женщина для мужчины". Так обычно говорилось в наставлении студентам
университета в Сан-Хуане. И точно такие же установки дети в элитарных
семьях получают с самого раннего возраста.
Весь комплекс культурных традиций, характерный для уклада жизни
элитарной семьи, средними слоями воспринимается как идеал, к которому
они должны стремиться. И чем зажиточнее семья, тем больше в ней чув¬
ствуется желание соответствовать аристократии. Особенно отчетливо это
стало заметно в последние десятилетия, когда на острове усилились на
строения пролатиноамериканского толка, захватывающие все более широ
кие слои интеллигенции.
Социализация ре/яей. Процесс воспитания детей на Пуэрто-Рико
!86
имел некоторые общие черты, характерные для всех категорий населения
острова. Ответственность за воспитание и поведение детей, даже более то¬
го — за весь нравственный облик семьи в целом в основном лежала на от
це, несмотря на то что мать гораздо чаще общалась с детьми, особенно с
дочерьми. Мужчина обязан был заботиться о жене и детях не только в бра
ке, но и после развода или в случае раздельного поселения супругов. Часто
отмечается в литературе тот факт, что отцовство всегда высоко котирова
лось среди пуэрториканцев: мужчина в очень редких случаях отказывался
от своих детей.
Непосредственное влияние на воспитание детей отец, однако, мог ока
зывать лишь в условиях сельской местности. В городе ббльшая часть его
времени проходит вне дома, с детьми играет редко. Демонстрация чувств
между отцом и сыновьями практически исключена, скорее он заботится о
дочерях, что совсем не характерно для сельской семьи. В соответствии со
строгим регулированием отношений между полами в семье отец должен из¬
бегать любого физического контакта с дочерьми. Отношения с матерью бо
лее доступны для детей, но тем самым и более конфликтны.
Наиболее важным принципом воспитательного процесса всегда счита
лось разделение детей по полу. Акцент на этом делался уже тогда, когда
ребенок находился в утробе матери. Если мать, например, кормила моло¬
ком старшего и при этом возникали опасения насчет новой беременности,
она прекращала кормить, но лишь по тем соображениям, что молоко бере¬
менной женщины может причинить вред плоду мужского пола.
Братья и сестры с самого раннего детства приучались даже в играх из¬
бегать физического контакта. Мальчики могли бегать голышом до школы,
девочек же одевали с рождения. И если во время возни малышей с девочки
сползут штанишки, старший брат, заметив это, пойдет звать мать или по
просит помочь соседку.
Игровые группы включают детей от трех лет и вплоть до подросткового
возраста, но обязательно разделены по полу. По этому же принципу подби¬
раются группы и для посещения школы. Стоит обратить внимание на то,
что в США как раз наоборот — группы детей формируются скорее по при¬
надлежности к одному возрасту, чем полу. У пуэрториканцев все это не
принято до сих пор.
Установка на различные способы воспитания мальчиков и девочек на¬
блюдается среди всех слоев населения. Мальчиков значительно меньше опе¬
кают, чем девочек. Последние редко ходят одни, как правило, всегда в
сопровождении старших родственников, больше, чем мальчики, сидят дома,
ухаживают за малышами. В 8—9-летнем возрасте девочка способна выпол¬
нять практически всю работу по дому — стирает, гладит, готовит.
Мальчики значительно более свободны. В бедняцких семьях их время¬
препровождение практически никак не контролируется. Один из героев из
вестной книги О. Льюиса „Жизнь" — Юниор вспоминает о своем детстве в
Эсмеральде: „Я помню, что меня держали под контролем до 5 лет. Позже
мы с братьями и друзьями уходили на морской берег и там проводили все
время до вечера... Мы купались, бросали камни, боролись, играли в доми¬
но... Домой приходили только снать". Э. Сафа также пишет, что мальчики,
объединенные в группы, занимались в основном тем, что ходили на канал,
где плавали и ныряли до позднего вечера.
!87
Игры детей, по существу, представляют собой имитацию жизни взрос
лых. Но если в малышовом возрасте это естественно, даже можно сказать
— биологично, то с возрастом дети во многих современных развитых обще
ствах (например, в США) как бы создают свою, подростковую культуру.
Обычно это выражается в прямом противопоставлении себя взрослым, в от
стаивании своих собственных занятий и увлечений. В пуэрто-риканской
семье такого не происходит. Подотчетность детей (до 15 лет), их зависи
мость от родителей столь велики, что между миром детей и взрослых нет
качественного различия, скорее только количественное: дети повторяют все
занятия и действия взрослых, но как бы в уменьшенном по социальной зна
чимости масштабе. Просто со временем ребенок все полнее и полнее начи-
нает реализовывать жизнь взрослых.
Дети в качестве маленьких мужчин и женщин с самого раннего воз
раста включаются в жизнь семьи, впитывают ее ритм. Подобно отцам, маль¬
чики не участвуют в ведении хозяйства, хотя иногда их все же просят сде¬
лать какую-либо грязную работу. В городе, став подростком, мальчик из
бедной семьи начинает зарабатывать небольшие деньги в качестве чистиль¬
щика обуви или продавца газет. Но, как справедливо считает Э. Сафа, этот
вклад в бюджет семьи не идет ни в какое сравнение с тем, что делает де¬
вочка*.
В детях стараются развивать чувство ответственности. Если дело, кото¬
рое они начали делать днем, не закончено до позднего вечера, никому из
них не разрешается идти спать, пока не доделают все до конца. Забота о
здоровье детей, их режиме в этом случае имеет второстепенное значение.
Система наказания детей, если судить по книге О. Льюиса, очень жес¬
тока. Матери и бабушки (в основном именно они) его героев не скупятся на
тумаки, часто просто битье с применением всех предметов, которые попа¬
даются под руку, даже если ими окажутся палки или сковорода. Надо ска¬
зать, что в состоятельных семьях родители используют очень интересный
подход к этому вопросу. Мать, как правило, не наказывает детей, а переда¬
ет эти функции в руки отца. А так как у последнего вообще с детьми сла¬
бее связь, чем у матери, то ни ребенку, ни здоровому эмоциональному кли
мату семьи в целом это наказание не вредит.
Очень характерно для пуэрториканцев возложение на детей ответствен¬
ности за социальную мобильность семьи в поколениях. Бедняки, однако,
рассчитывают главным образом только на образование, стараясь всеми сила¬
ми обеспечить ребенку все необходимое для этого. Особенно выделяют в
плане социальных надежд светлокожих детей. Их берегут, можно сказать —
лелеют, ограждая от тяжелой работы, почти не наказывают. Темнокожие
же практически не берутся в расчет как способные со временем изменить
статус семьи. И отношение к ним соответственно другое: меньше внимания,
жестче наказание*.
Неоднозначно отношение бедняков к религиозному воспитанию своих
детей, особенно в городе. Большинство семей не придает значения смеше
нию религий. Вера — католическая или протестантская — не имеет для ро¬
дителей значения, лишь бы ребенок посещал воскресные церковные служ¬
бы. В Пелотеро религиозные отправления производятся часто просто на до
му и родители отправляют туда детей, как в школу. Но, если по каким-то
причинам занятие, скажем, в „католическом" доме не состоялось, ребенка
188
спокойно ведут в другой дом — „протестантский ". Главное — что бы где-то
и чему-то учили, а такая „тонкость", как конфессия, дело второстепенное.
Среди белых семей города очень поощряется вступление подростков и
юношей в бейсбольные команды. Это считается одним из верных способов
повысить со временем свой социальный статус. Надо сказать, что бейсбол
— самый престижный вид спорта среди городского населения Пуэрто-Рико.
Многие ведущие игроки национальной команды страны вышли из самых
низших социальных слоев городского населения. В Пелотеро есть своя соб
ственная команда. Как и в США, экипировка игроков здесь финансируется
наиболее состоятельными местными гражданами, которые рассчитывают,
выставив свою команду на крупные соревнования, окупить все расходы и,
конечно, оставаться в выигрыше.
Юные девушки, как и их ровесницы из средних слоев населения
США, по „пути наверх" делают ставку на посещение клубов, функциониро
вание которых на острове заметно усилилось за последние годы. Для юной
пуэрториканки из бедной семьи это одно из немногих возможностей избе
жать сватовства в своей среде и выйти замуж за более состоятельного мо¬
лодого человека из средних слоев населения. Правда, в клуб может посту
пить девушка, имеющая среднее образование и работающая в сфере „белых
воротничков".
В своей среде подростки Пелотеро проводят досуг вместе, согласно
традиции, толь<и) во время праздников. Как правило, это бывает раз в году
— на день св.Иоанна Крестителя, 23 июня, который всегда считался на Пу
эрто-Рико семейным праздником. Целые семейные кланы ближе к заходу
солнца выходят на берег океана. Еда и прохладительные напитки запасены
на всю ночь. Продавцы бойко торгуют ароматизированным льдом и кусочка
ми обжаренного бекона. Много музыки и танцев. Девушки-подростки не
большими группками прогуливаются вдоль берега, юноши стоят у самой
кромки воды, наблюдая за ними. В этот день флирт между молодыми людь
ми вполне „узаконен". И хотя на празднике присутствуют люди всех воз
растов, преобладают все же подростки.
Более зажиточные слои городского населения не позволяют своим де
тям выходить на берег океана в день св.Иоанна Крестителя, опасаясь кри
минальных инцидентов и нежелательных связей. Они празднуют этот день
или дома, или на площади перед фешенебельным отелем „Кандидо' в Сан
Хуане.
И надо сказать, социальные барьеры — не единственное, что разрушает
давнюю традицию упомянутого праздника. Очень существенно то, что семьи
уже не объединяются в этот день, как раньше. Св. Иоанн Креститель —
покровитель всех жителей Сан-Хуана — предоставил семейным узам пуэр
ториканцев складываться и разрушаться по своему усмотрению.
Роус/иаеммме саязм. Структура родственных связей на острове, как и
везде в Латинской Америке, кроме кровного родства и свойства, традицион
но включает ритуальное родство, или компадразго. Согласно католическому
ритуалу, первоначально люди вступали в отношения компадразго только
при крещении ребенка. Родители новорожденного выбирали среди своих
знакомых или родственников двух человек, хорошо им известных и непре
менно уважаемых ими, и просили их согласия принять участие в церемо
нии крещения ребенка. Оплачивать церемонию, если она проводилась в
189
церкви, должны были будущие крестные родители. И если у них в назна-
ченный день не было необходимой суммы, церемония откладывалась, иног-
да на несколько месяцев. Если все было хорошо, то крестные родители
несли ребенка в церковь, где священник проводил церемонию крещения, а
затем в дом к его настоящим родителям, где уже находились приглашен
ные гости и все было готово для семейного праздника. Отец ребенка и его
крестный отец вели себя на этом вечере как сохозяева. На Пуэрто-Рико
церковное крещение в некоторых случаях заменялось домашним крещением
водой, которое было менее торжественным. В этой процедуре участвовали
только самые близкие родственники. Домашнее крещение проводилось
обычной, не освященной в церкви водой. Оно практиковалось в горных от
даленных районах, где не было постоянного священника.
В результате этого ритуала родители ребенка и его крестные родители
становились „компадрес". Отношения между ребенком и его названными
родителями отличались от его отношений с биологическими родителями.
Первые были ответственны за духовное развитие ребенка. Именно это час¬
тичное разделение родительских обязанностей с передачей части их — но
существенной — в руки крестных родителей и являлось, как считает извес¬
тный иследователь католической системы ритуального родства Питт-Ри
вере, идеологическим оправданием компадразго. Кроме того, на основании
данных, собранных в ходе полевых исследований в южной Испании, он еде
лал заключение, что компадразго ни в коем случае не является категорией
фиктивного родства^.
Гудеман, работая над этой же темой в Панаме, отмечал, что связи, уста
навливаемые при крещении в ортодоксальном католическом ритуале, созда-
вались по образцу структуры кровнородственных связей, но в то же время
отличались от последних более высоким рангом. Различие это, по его мне
нию, в основе своей имело концепцию дуальной природы человека как би¬
ологического и духовного существа одновременно. Природный, первород
ный грех человека искупался лишь во время обряда крещения, когда он
как бы заново рождался. И естественно, что родители, данные церковью
этого второго, очищающего рождения и являющиеся непосредственными
участниками „безгреховного" вхождения младенца в мир, ставились выше.
Долг природой данных родителей состоял в том, чтобы обеспечивать ес
тественные биологические нужды ребенка; долг богом данных — гарантиро
вать ему место в христианском мире^.
Кроме того, приобретение ребенком во время обряда крещения христи
анского имени, обеспечивающее ему индивидуальную социальную принад¬
лежность, опять же происходило при содействии и покровительстве крес
тных родителей — падринос. Таким образом, отношения компадразго созда
вали сеть ритуального родства, которое, по-видимому, не только не уступа¬
ло по значимости кровному, но имело еще и более высокое социальное на
значение — создавать межсемейные, общинные связи, основанные на род
ственной помощи и поддержке.
Со временем рамки функционирования института компадразго на Пуэр¬
то-Рико расширились. Так, кроме крещения младенца, основанием для уста
новления отношений компадразго могло стать и бракосочетание или любое
важное событие. Иногда общие интересы или особое расположение людей
друг к другу могли привести к установлению отношений компадразго, при
190
чем в этом случае никаких специальных процедур не требовалось. Внешняя
форма отношений между компадрес во всех случаях была одинаковой, в со
ответствии с традиционным ритуалом компадразго: подчеркнутое уважение,
выражающееся в формальном „вы" вместо „ты", исключение всякой фа¬
мильярности, несдержанности и т.п.
Все три вида родства — кровное родство, свойство и компадразго —
имели на Пуэрто-Рико большое значение. Но отношения родственников в
каждом из этих трех видов родства были неодинаковы. Кровным родствен¬
никам в целом деверяли больше, чем компадрес или свойственникам. Выра¬
жение confianza („доверие"), правда, применялось во всех трех случаях род
ства. Нюансы существовали только в непосредственном общении. В случае
болезни, смерти, финансовых трудностей, свадьбы наиболее активное учас
тие во всех необходимых мероприятиях принимали самые близкие род
ственники — родители, братья или сестры. Компадрес тоже доверяли, но в
силу указанной выше специфики этих отношений, носящих очень сдержан¬
ный, подчас формальный характер, с ними было принято соблюдать опреде
ленную дистанцию. Такая же дистанция уважения существовала и в отно
шениях свойственников. Зятья и тещи или тести особенно тщательно избе¬
гали ссор, и невозможно было, чтобы эмоции возобладали над традиционно
принятой среди этих родственников сдержанностью.
Кровное родство, свойство и компадразго часто совпадали. Среди кров¬
ных родственников в отношения компадразго обычно вступали родные и
двоюродные братья, среди свойственников — щурины, зятья, девери, своя¬
ки. Возраст родственников, вступающих в отношения компадразго, был от¬
носительно одинаков, так как это один из законов для подобных отноше
ний, носивших равноценный двусторонний характер. Из системы компадраз
го, таким образом, автоматически „выбывали" родители и дети, бабушки,
дедушки и внуки, дяди, тети и племянники (последний случай имел исклю
чения).
Институт родственных связей, функционировавший на Пуэрто-Рико в
течение многих веков, по своей социальной значимости для островитян не
имел альтернатив. Однако в XX в. его роль в жизни общества стала замет
но слабее. Все чаще кровные узы — опора пуэрто-риканской семьи в прош¬
лом — оказываются жизнеспособными. Надолго, если не навсегда, разрыва
ют их миграции. Стремление к социальной мобильности в городе вынужда¬
ет членов нуклеарной семьи подчас не считаться с ближайшими родствен¬
никами, соблюдая только свои интересы.
Наиболее выгодными для малой семьи в городе становятся не родствен¬
ные, а соседские связи. Очень показателен в этом смысле принцип выбора
компадрес в селе и современном городе на Пуэрто-Рико. Так, если в сель¬
ской местности до сих пор считается разумным выбирать в крестные роди¬
тели кого-либо из родственников или на худой конец свойственников, то в
городе, по данным Э. Сафы, из 164 опрошенных отцов 62 считают, что
компадрес надо выбирать из соседей, и 37 человек — из родственников.
Точно так же и матери (хотя и не так решительно): 188 считают
необходимым выбрать компадрес из соседей и 53 человека — из родствен¬
ников. Остальные возможные кандидаты в компадрес представлены в не
больших пропорциях — друзья, „другие" и т.п.^
Пожалуй, можно сказать, что родственные связи на острове не распада-
191
ются, а, наоборот, крепнут в том случае, если они совпадают с соседскими.
Именно это, видимо, и происходит в первые годы после миграции сельско
го населения в города, что особенно характерно для поселения типа города
хижин. Но в дальнейшем в связи с ростом социальной мобильности семей
самодовлеющую ценность приобретает малая семья, способная уже самосто
ятельно включиться в социальную структуру города
* Sfward 7. People of Puerto Rico. N.Y., 1958.
* US Bureau of the Census, 1950: A report of the 17th decennial census of the US. Wash. (D.C.),
1953. Vol. 2, pt 53: Puerto Rico. P. 53-25; US Bureau of the Census. N.Y., 1975. C.P.R.
Population estimates. Ser. P-25, N 603. P. 11.
' US Bureau of the Census. C.P.R.... N 731. N.Y., 1978. P. 1.
< Ibid. N.Y., 1980. N 872. P. 2.
' Sa/a //.У. The urban poor of Puerto Rico. N.Y., i974. P. 1.
'Ibid. P. 14, 21,24.
^ Ff;zpafri%7.P. Puerto Rican Americans: The meaning of migration to the mainland. N.Y., 1971.
P. 77-78.
' O. La Vida: A Puerto Rican family in the culture of poverty. N.Y., 1966. P. 27; Sa/a Я.У.
Op. cit. P. 45.
* US Bureau of the Census. 1950. P. 53-11.
FifzpafrM: 7. Op. cit. P. 82.
" Carver F.S., FimrAer F.B. Puerto Rico: Unsolved problem. N.Y., 1945. P. 21.
и StycaF S.M. Family and fertility in Puerto Rico. Mexico City, 1958. P. 101.
" A/MmajtMpa и Apeaea. История Испании. M., 1961. T. 1. С. 201.
" US Bureau of the Census, 1950. P. 46-53; MfnTz 5. Canamelar: The family socialization and
ritual kinship in barrio Poyal // Steward J. Op. cit. P. 375.
*' Ornz Ra/frago C. Esperanza: An ethnografic study of a peasant community in Puerto Rico.
Chicago, 1973. P. 68.
" US Bureau of the Census, 1950. P. 52-53.
" &%/a /V.Y. Op. cit. P. 42.
" US Bureau of the Census, 1950. P. 53-55.
#er,y%pvaz М.Д. The myth of the Negro Pas. Boston, 1958. P. 167-186; Fraz/er F.F. The Negro
family in the United States. Chicago, 1939; Яеягмумал F. Family and colour in Jamaica. N.Y.,
1953; SmM F.F. The Negro family in British Guiana. L., 1960. P. 227-228.
"SqfaM.y. Op. cit. P.49.
^ S/ycay F.M. Op. cit. P. 121; Гм/тмя M., FeMman F. Social class and social change in Puerto Rico.
Princeton, 1971.
ЦДа/аЯ.У. Op. cit. P.71.
^ Z^w;.y (9. Op. cit. P. 45.
* FiM-F;ver.y7. Ritual kinship in Spain. N.Y., 1957.
^ Ga^/яая S.F. The Compadrazgo as a reflection of the spiritual and natural person // Man. 1981.
P. 112.
"Sq/a Я.У.Ор. cit. R 61.
Семья в англоязычной Вест-Индии
Именно Вест-Индия стала первым объектом европейской колонизации в Но¬
вом Свете, и именно аборигенное ее население пало первой жертвой этой
колонизации: уже к концу XVI в. почти на всех Больших Антильских ос¬
тровах оно сократилось до минимума, а в XVII в. такая же судьба постигла
коренных обитателей Малых Антил.
Таким образом, даже первые британские владения появились на архипе¬
лаге уже тогда, когда большинство островов практически утратило индей
ское население. Это заставило колонизаторов начать ввоз рабов из Африки.
В среде белых, постоянно или временно живших на Карибах, существо¬
вала эндогамия, притом нескольких видов. Во-первых, конечно, расовая. Во-
вторых, религиозная, хотя брак с христианином или христианкой иного ис-
поведания не был исключительным явлением. В-третьих, этническая, также,
впрочем, преодолимая, хотя ирландцы как брачные партнеры считались
приемлемыми далеко не для всех слоев белого населения. Это объясняется
традиционно более низким социальным статусом ирландцев (особенно в
Вест-Индии, куда большинство из них попадало в качестве ссыльных или
„белых рабов "); надо учесть и разницу религий. Таким образом, причины
предпочтения, оказываемого тем или иным партнерам, подчас переплета¬
лись, дополняя друг друга.
Подробнее надо сказать еще об одной категории белых. Это сервенты,
или „белые рабы". На разных островах они носили разные названия, но по
ложение их было примерно одинаковым: все они попадали в Вест-Индию
не по своей воле — или как ссыльные преступники (уголовники и полити
ческие), или как кабальные слуги, оказавшиеся в рабстве на неопределен¬
ный срок. Жениться им можно было только с дозволения хозяина. Наруши¬
телям увеличивался срок пребывания в рабстве еще на четыре года (обычно
он составлял семь лет для не достигших восемнадцати и пять для перешаг
нувших этот возрастной рубеж). Отцу незаконного ребенка срок увеличи¬
вался на три года'. Эти законоположения были впервые сформулированы в
XVII в. для Барбадоса и затем распространились на остальные британские
колонии Вест Индии. Брачными партнерами, как правило, являлись такие
же сервенты или ссыльные.
Но и после освобождения долгое время они заключали браки только в
своей среде. Остальные белые отвергали их прежде всего по социальным
причинам. Мулаты и негры также не видели в них возможных брачных пар
тиеров — и потому, что сами бывшие „белые рабы" не стремились к бра
кам с ними, но и потому также, что в специфической обстановке колонии
испытывали к ним презрение как к белым, представителям „расы господ",
столь низко павшим.
Однако с течением времени ситуация на некоторых островах в этом
плане стала меняться. Если на Барбадосе так называемые „редлегз" (или
„чачас" на Виргинских островах) сохраняют эндогамию почти до наших
дней, то на Монтсеррате высланные туда ирландцы быстро смешались с
местным населением. То же можно сказать и об ирландцах, попавших ког¬
7 Тип. зак. 1065
193
да то на Ямайку*. Этот феномен, насколько можно судить, не получил пока
удовлетворительного объяснения. Если в случае с Монтсерратом можно со
слаться на малые размеры острова и незначительное его население, то по¬
добным образом нельзя объяснить ситуацию, скажем, на Ямайке. Если „ча
час" на Сент-Томасе это потомки французских гугенотов и потому хотя бы
изначально отличались от остального населения в этнокультурном плане, то
на остальных островах, о которых идет речь, подобных различий не суще
ствовало. Может быть, все дело в наиболее низком социальном статусе ир
ландцев.
Вопрос этот еще ждет своего ответа.
Сравнительно быстро все возрастающую часть населения Карибов соста
вили рабы из Африки и их потомки. Уже к концу XVII в. в крупнейшей
британской колонии — Ямайке негров было 40 тыс., белых же — 8 тыс.
человек, а к концу XVIII в. — более 190 тыс. и 18,5 тыс. соответственно
(т.е. 10:1; за пределами Ямайки это соотношение колебалось в пределах
4:1 - 8:1Р.
Естественно, что в условиях рабства все прежние модели и типы семьи
у африканцев практически исчезли. Даже если прежнюю модель африкан¬
цу и удавалось удержать в сознании, ей очень трудно было следовать на
практике.
И испанские, и французские колонизаторы ставили перед собой задачу
обращения негров в католицизм. В отличие от них колонизаторы британ
ские, которые со временем овладели большей частью Вест-Индии, подоб¬
ных задач не ставили, хотя в декларациях о необходимости обращения ра¬
бов в христианство не было недостатка и со стороны англичан. Более того,
именно такого рода задача и выдвигалась ими как оправдание колониальных
завоеваний, работорговли и т.п. Однако британские колонизаторы, принад¬
лежавшие к разного рода протестантским конфессиям, в отличие от католи¬
ков предпочитали некрещеных рабов. С такими рабами можно было совер¬
шенно не церемониться, в то время как подвергшиеся христианизации ста¬
новились в каком-то плане чуть ли не равными своим хозяевам, их надо бы
ло отпускать в церковь, освобождать от работы в праздники. В отличие от
католической доктрины протестантская предписывала верующему читать
Библию, следовательно, рабов пришлось бы учить грамоте, а появление
большого числа грамотных было, с точки зрения рабовладельцев, чревато
опасными последствиями*.
Что же касается непосредственно интересующей нас сферы, то для
удобства эксплуатации, для увеличения численности рабов плантаторы без
колебаний перешагивали через нормы христианской морали. В анонимной
книге, русский перевод которой появился в конце XVIII в., читаем: „На ос¬
трове Ямайка...позволяется некрещеным неграм жениться на двух и на трех
женах для размножения рода...'*.
Но автор указанной книги, по-видимому, был француз, незаинтересован¬
ный, следовательно, в оправдании британских колониальных порядков. Бри¬
танские же авторы приложили в этом направлении немалые усилия. Так,
Б. Эдвардс, известный в свое время историк и политический деятель Вест-
Индии рубежа XVIII и XIX вв., писал по этому поводу: ,Доподлинно и хо¬
рошо известно, что практика полигамии, повсеместно господствующая в
Африке, также очень широко принята среди негров в Вест-Индии; и тот,
194
кто считает, что от этого можно найти средство, введя для них законы о
браке, принятые в Европе, совершенно не представляет себе их нравов,
пристрастий и суеверий. Считается, что на Ямайке, по самым скромным
выкладкам, не менее десяти тысяч...ремесленников и прочих имеют от двух
до четырех жен каждый"*.
А более ранний автор, Эдвард Лонг, книга которого вышла еще в
1774 г., так описывал полигамные семьи ямайских негров: „Объектом по¬
стоянной привязанности является одна; остальные, хотя и зовутся женами,
относятся к разряду случайных сожительниц или рабочей силы, на чью по¬
мощь муж рассчитывает в обработке земли, продаже выращенного и про¬
чее, оказывая им ответные дружеские услуги, когда им есть в том нужда.
Мысль о браке, соединяющем двоих нерасторжимо, вызывает у них смех
Тем не менее семьи у рабов существовали и преобладал среди них от¬
нюдь не полигамный тип. В британских документах конца XVIII в. есть
указания, что, хотя официально оформленных браков у рабов не было, они
соединялись по взаимному согласию и, хотя их разлучали „без особых це¬
ремоний", они часто не расставались вплоть до смертного часа; „среди них
господствовали сильные семейные привязанности"*.
Разлучение мужей и жен, которых продавали врозь, подверглось неко¬
торому осуждению только в конце XVIII в.: законом от 1787 г. предписыва¬
лось, „если окажется возможным", пускать рабов в продажу целыми семья¬
ми'.
Многие авторы писали о привязанности негров к своим детям, и привя¬
занность эта была тем острее, чем отчетливее ощущалась невозможность за¬
щитить детей от произвола рабовладельцев. „Могу утверждать, — писал ав¬
тор первой четверти XIX в., — что привязанность между матерями и даже
незаконными детьми очень сильна, равно как и постоянна...и если говорить
о черных детях, то ничто не вызывает такого их раздражения и ярости, как
оскорбление их матерей'"".
Власть отца в семье была полной; по словам Эдвардса, сыновняя по¬
корность ценилась выше супружеской верности". Вместе с тем в семьях
преобладала обстановка взаимной заботы и помощи. „Они так привязаны к
своим семьям, что молодежь с удовольствием работает, дабы прокормить
больных и слабых... и они весьма склонны оказывать уважение и почитание
старости"^.
Существовал строгий порядок наследования — имущество от отца обяза¬
тельно доставалось старшему сыну.
В общем, можно прийти к выводу, что в семье негры рабы искали и
находили опору в тех тяжелейших условиях, в которых протекала их
жизнь.
Во всей Вест-Индии, равно как и во всей Латинской Америке, рабы
обычно разделялись на две категории: босали, или африканцы, и местные
уроженцы — креолы. Отношения у них были не простые, причинами чего
служили и этнокультурные, и социальные различия. В интересующем нас
отношении эти различия преломлялись в стремлении соблюдать эндогамию
— естественно, там, где позволяла ситуация. Наблюдалось стремление и к
этнической эндогамии — опять-таки там, где позволяли условия.
Уже упоминавшийся Б. Эдвардс писал по этому поводу следующее.
Негры, уже давно находившиеся в рабстве, обращались к рабовладельцу с
7*
195
просьбой, чтобы им „в качестве особой милости" было разрешено взять в
свои семьи кого-либо из молодых только что привезенных африканцев той
же этнической принадлежности „вместо детей, которых они потеряли или
которые остались в Африке". Но была и еще одна причина: „они хотели,
как древние патриархи, чтобы их сыновья взяли себе жен своего рода и
племени". Наконец, пишет Б. Эдвардс, „я думаю, оттого, что, помимо других
соображений, они, беседуя с новоприбывшими, стремились оживить и восста
новить в памяти воспоминания и мысли о радостях прошлого и о своей моло¬
дости. Привезенные же в равной мере были весьма рады этому и даже и в
более поздние годы считали себя приемными детьми тех, кто брал их тогда
под покровительство, называли их родителями и почитали их как таковых"'*.
Что касается межрасовых браков, то в описанных условиях они практи
чески исключались. Повсеместным явлением были связи белых с негритян
ками и мулатками. Связи эти отнюдь не скрывались, все происходило от
крыто, и любая рабыня была совершенно беззащитна. В то же время о та¬
кого рода связях прекрасно знали жены плантаторов, но, как бы они к это¬
му ни относились, им приходилось мириться со сложившимся порядком.
Сложившаяся ситуация быстро привела к появлению и постоянному
росту мулатского населения. Среди плантаторов существовало обыкновение
если не обязательно давать свободу детям мулатам, то, во всяком случае,
признавать их и не оставлять без поддержки. Свободу чаще давали сыновь¬
ям, и некоторых из них отцы отправляли даже для получения образования
в Англию, оставляли им в наследство значительные суммы (хотя были при¬
няты законы, ограничивающие размеры наследства в подобных случаях).
Постепенно таким образом появлялись группы зажиточных, а затем и прос¬
то богатых мулатов, но права их в колониях были ограниченны. Из мулатов
позднее формировался своего рода колониальный средний класс. Чем мень¬
ший процент негритянской крови имел мулат, тем на более высокое поло¬
жение он мог рассчитывать, а на определенном уровне признавался даже
белым (если находился в рабстве, то мог претендовать на освобождение).
Все сказанное выше показывает, что мулаты отнюдь не представляли
собою единой группы, но были жестко разделены на целый ряд подгрупп,
причем каждой их них была свойственна эндогамия. Попытки перешагнуть
через этот барьер приводили к ухудшению социального статуса (если пар¬
тнер был более темнокожим). В тех редких случаях, когда брак заключался
с партнером посветлее, это могло способствовать подъему семьи на более
высокую ступень в обществе. Надо подчеркнуть, что речь здесь идет не
просто о выборе партнера, а о выборе жены, ибо положение семьи опреде¬
лялось общественным положением мужа, ее главы.
Однако заключить подобного рода брак было очень затруднительно, осо¬
бенно на территории колоний. Здесь генеалогия буквально каждого сколь¬
ко-нибудь заметного человека была превосходно всем известна, и если бе¬
лый по внешности мулат вполне сходил за британца в метрополии, то на
Ямайке или Барбадосе он не мог претендовать на большее, чем полагалось
его мулатской категории. Показателен в этом отношении роман „Марли",
опубликованный анонимно в Англии в 1828 г. (считается, что автором его
был вест-индский мулат). В книге хорошо обрисованы эволюция оценок и
эволюция поведения некоторых персонажей, совершавших путешествие из
Британии на Ямайку.
196
Рабство в британских владениях было отменено в 1838 г.
Естественно, это важнейшее событие повлияло и на семью, и на семей¬
ный быт Вест-Индии, но для разных этнических групп по-разному.
Для белого населения модель семьи, в общем, не изменилась. Несколь¬
ко сократился масштаб связей плантаторов с негритянками, в определенной
степени отошли в прошлое гаремы на плантациях, начало изменяться отно¬
шение белых отцов к детям-мулатам: материальная помощь им, довольно
распространенная в прошлом, постепенно превращалась в нечто необяза¬
тельное. Эндогамия по-прежнему оставалась законом создания семьи.
Что же касается бывших рабов, то здесь наблюдаются значительные мо¬
дификации. Теперь они могли строить свою семейную жизнь без вмеша¬
тельства хозяев. Вернее будет добавить — без юридического вмешательства,
ибо экономические рычаги оставались в тех же руках. Правда, в данной
специфической сфере они действовали не так всеобъемлюще, здесь скорее
оказывала влияние вся сложившаяся на каждом из конкретных островов со¬
циально-экономическая обстановка.
Дело в том, что после освобождения негры в массе своей ушли с план¬
таций, частично устроившись на свободных землях (там, где они были), час¬
тично уйдя в города. Так произошло на крупных островах (Ямайка, Трини¬
дад). Но на большинстве других островов таких земель не было и бывшим
рабам пришлось примириться с необходимостью продолжать работу на
плантациях.
Как же все это отразилось на семье?
Конечно, выбор партнера уже не был обусловлен согласием рабовла¬
дельца. Но на каких основах строилась свободная теперь негритянская вест-
индская семья? Надо сказать, что споры но этому поводу не утихают и по
сей день.
Существует, например, своего рода традиционная точка зрения, впря¬
мую связывающая семейную модель вест-индских негров с африканскими
традициями. Колониалистское истолкование последних окрашено в явно ра¬
систские тона. Отсюда и утверждение об „извечной распущенности" негров
и т.п. Однако „африканскую" теорию вест-индской семьи развивали и под¬
держивали серьезные ученые, в первую очередь Херсковиц. Его концепция,
достаточно хорошо известная, сводится к тому, что матрифокальная семья
на Карибах возникла под влиянием западноафриканской семейной модели
(хотя и подвергнутой креолизации)'*.
Эта точка зрения вызывала и вызывает критику. Основное возражение
формулируется примерно так: поскольку у большинства народов Западной
Африки семья носила патриархальный характер, главная посылка Херско-
вица и его сторонников не подтверждается фактами. Кроме того, продолжа¬
ют критики, за столетия рабства африканское наследие сохранить было
практически невозможно.
Однако исследования 70-х годов несколько приглушили эту критичес¬
кую волну. Более детальное рассмотрение семьи периода рабства привело
многих специалистов к убеждению, что сами условия того времени, когда
семья по произволу хозяина в любой момент могла прекратить свое суще¬
ствование, стимулировали развитие матрифокальной модели. Более того, та¬
кие авторы, как Гатман'^ и Крэтон'", пришли к выводу, что сложившаяся на
плантациях ситуация не может быть охарактеризована просто как навязыва
197
ние рабам непривычной и незнакомой им модели, что матрифокальная
семья, хотя и претерпевшая определенную модификацию в период рабства,
имела „исторические прецеденты в Африке"".
Мнения эти разделяются далеко не всеми. Представляется, однако, что
в аргументах названных авторов есть рациональное зерно и безоговорочно
отбрасывать африканский компонент формирования вест индской негритян
ской семьи не следует. По-видимому, подтверждает такой взгляд и длитель
ное подкрепление африканских традиций в результате постоянного притока
все новых и новых партий рабов. Некоторые оппоненты этих теорий пыта
ются сблизить семейный обычай вест-индских негров с явлениями, харак
терными для средневекой Англии. Показательно даже само название одной
из таких работ (она была посвящена Барбадосу) — „Английские поселяне с
черной кожей"". Однако удовлетворительно объяснить, как средневековые
британские обычаи могли повлиять на далекий остров, да еще с таким хро¬
нологическим разрывом, ни автор, ни его единомышленники были, естес¬
твенно, не в состоянии.
С чем же все-таки связать особенности вест-индского семейного быта,
прежде всего такие, как высокий процент незарегистрированных браков и,
следовательно, „незаконных" детей?
Полагаю, что здесь надо повторить сказанное выше о периоде рабства,
когда у рабов брак — оформленный или неоформленный, заключенный по
воле хозяев или по взаимной любви раба или рабыни, — был хрупок и
крайне непрочен. И не потому, что правы авторы расистских выкладок о
„негритянском темпераменте", а по той причине, что хрупкость и непроч
ность брачных уз обусловливалась в первую очередь беззащитностью негри¬
тянской семьи от произвола рабовладельца. Придавать в этой ситуации ка¬
кое бы то ни было значение юридическому оформлению значило просто
закрывать глаза на действительное положение вещей, ибо все зависело от
хозяина, а последнего „законность" или „незаконность" данного брачного
союза решительно ни к чему не обязывала.
Поэтому главным для раба или рабыни было стремление создать
семью, найти какую-то опору в тех тяжелейших условиях, в которых им
приходилось жить. Но никакой уверенности в стабильности семьи, в каких
то бы ни было гарантиях ее прочности не было и быть не могло. Так про¬
исходило десятки и сотни лет, на протяжении жизни многих и многих по
колений. Все это не могло не сказаться на отношении к семье как к инсти¬
туту, на устойчивость которого трудно рассчитывать.
Но вот рабство прекратило свое существование. Препятствий к укреп¬
лению семейных союзов со стороны плантаторов больше не было. Однако
груз прошлого, вошедший в традицию, не мог не оказывать сильного влия¬
ния на негритянскую — теперь уже свободную — семью, тем более что это¬
му способствовали и сложившиеся после отмены рабства социально-эконо¬
мические и социально-психологические условия.
Здесь важно указать на следующие моменты.
Первый из них — пример социально более высоких семей. Колонизато¬
ры и церковь немало потрудились, наставляя негров (вначале рабов, затем
свободных), как следует вести семейную жизнь. Но перед глазами у них бы¬
ли семьи рабовладельцев, плантаторов со всеми атрибутами традиционной
распущенности мужской их части (об этом уже шла речь выше). Угнетате¬
198
ли навязывали угнетенным такую модель семьи, которая у них самих явля
лась большой редкостью.
Результат получался двоякий. Негры отчетливо видели неприкрытое ли
цемерие колонизаторов и церковников. В записках жены одного из губерна¬
торов Ямайки (XIX в.) есть такое место. Некий негр, выслушав благочести¬
вые наставления по поводу его семейной жизни, саркастически ответил:
„Масса, ты велишь мне жениться на одной жене, а это нехорошо. Ты не
подумал, что я видел, как вам, белым, мало одной, двух, или трех, или че
тырех жен'"*.
Таким образом, „законный" брак оказывался дискредитированным в гла¬
зах негров. Пример, исходивший „сверху ", развращал „низших ". Не случай¬
ным оказался и провал массовой кампании за оформление браков, прошед¬
шей на Ямайке в конце 40-х годов XX в. Этот провал только „подчеркнул
тщетность проповедей морали, исходившей от элиты, известной своими
двойственными семейными порядками. Рабство научило вестиндцев восхи¬
щаться формальным браком и отцовской ответственностью в теории и воз¬
держиваться от них на практике"^.
Для создания стабильной семьи часто не было и социальных условий.
В XIX в. хозяйство многих островов охватил кризис. Сплошь и рядом значи¬
тельная часть мужского населения оказывалась без работы, что вызывало
постоянные миграции вначале в соседние местности, затем в другие районы
островов, потом и за их пределы — на строительство Панамского канала, на
плантации Центральной Америки и т.п. Какая-то доля мигрантов вообще
никогда не возвращалась на родину, создав новые семьи в новых местах.
Таким образом, складывалось совершенно определенное отношение к
юридическому оформлению брака. Молодую семью он, как правило, не
скреплял; если ей суждено было распасться, она распадалась. Другое дело,
что, прожив вместе многие годы, уже зрелые супруги оформляли свои про¬
веренные жизнью отношения. Но начиналась семейная жизнь обычно с не¬
зарегистрированного брака. Создавался определенный стереотип брачного
поведения, и, если союз расторгался по тем или иным причинам, женщина
либо оставалась с детьми одна, либо возвращалась в родительский дом.
Таков был механизм возникновения и развития весьма распространен¬
ной в Вест-Индии матрифокальной негритянской семьи, концентрирующей¬
ся даже не вокруг матери, а вокруг старшей женщины — бабушки или тет¬
ки и объединяющей замужних или незамужних дочерей, а часто и племян
ниц с их детьми (и мужьями, если последние имеются). В подобной семье
быстро формируются те стереотипы, о которых сказано выше. В частности,
у женщин создается довольно отчетливое представление о том, что надеять¬
ся на мужа как на кормильца, опору семьи можно лишь с оговорками. В то
же время дети, безусловно, будут опорой матери в старости. Отсюда, равно
как и вследствие только что перечисленных выше причин, и высокий про¬
цент детей, рожденных вне брака.
Контингент этот по составу достаточно разнообразен: здесь и мулаты,
рожденные от белых плантаторов и чиновников, и дети из распавшихся не¬
зарегистрированных семей, и потомки временных связей мигрантов. Долгое
время, по крайней мере в Британской Вест-Индии, закона об алиментах не
существовало. Попытки в этом направлении, предпринимавшиеся, напри
мер, на Ямайке, не увенчались успехом. В свое время на страницах „Тай
199
мса" было опубликовано письмо, содержавшее следующие строки: „Каждая
попытка провести через ассамблею закон о незаконнорожденных заканчива¬
лась провалом по той простой причине, что достопочтенные ее члены не
имели никакого желания вырезать палку, которая — и это было им пре
красно известно — прошлась бы по их собственным спинам''^*.
А вот мнение ямайской женщины, заявившей в 1870 г. в беседе со свя¬
щенником, что обращаться в суд за алиментами бессмысленно, ибо „у бе¬
лых у самих столько незаконных детей, что они никогда не станут застав¬
лять негров, чтобы те содержали своих незаконных"^.
Конечно, процент таких детей не везде был одинаков. По-видимому, на
малых островах он был ниже. Есть попытки связать меньшую их долю с
распространением католической религии, но эта мысль подтверждается да¬
леко не всегда. Необходимо, далее, иметь в виду, что европейское или се¬
вероамериканское представление о незаконном ребенке не совпадает с на¬
родным вест-индским, в соответствии с которым „незаконны" только потом¬
ки случайных связей. Детей же от незарегистрированного брака обществен¬
ное мнение таковыми не считает^. Но юридическая сторона дела выглядит
по-другому, особенно когда встает вопрос о наследстве.
Во французских колониях, нынешних и бывших, по Кодексу Наполеона
1802 г., незаконный ребенок получает лишь половину доли законного. На¬
верное, с этих времен сохранился на Мартинике обычай, когда незаконному
ребенку при праздновании его крещения желают приобрести статус закон¬
ного. А на Барбадосе, если нет законных наследников по нисходящей, иму¬
щество наследуют родственники покойного. Незарегистрированной жене и
ее детям не достается ничего. Да и на других островах даже признанные
отцом сыновья и дочери могут рассчитывать только на какую-то помощь его
семье, но не на наследство; исключение — если только существует завеще
ние^.
Отсюда та большая роль, которая принадлежит матери в вест-индских
семьях, роль, нашедшая выражение в названии книги — „Моя мать, которая
заменила мне отца"^.
Все сказанное выше характеризует значительный отрезок времени — от
отмены рабства до обретения британскими колониями независимости начи
ная с 60-х годов XX в. Положение за этот период, конечно, менялось, но
не кардинальным образом: то, что сформировалось после освобождения ра¬
бов, продолжало развиваться, однако общее направление не изменилось. Ес¬
ли же говорить о каких-либо модификациях, то их следует связать с новы¬
ми явлениями в этническом составе.
Действительно, отмена рабства привела к определенным изменениям в
этой сфере и, значит, к возникновению новых вариантов семьи. Связь здесь
не всегда жесткая. Например, появление сравнительно небольших групп
африканцев, переселившихся за океан уже по своей воле, не дает в этом
отношении фактически ничего нового.
Происходили, как известно, и попытки пополнить ресурсы рабочей си¬
лы за счет привлечения иммигрантов из Европы. На Ямайке это были нем¬
цы (1836—1842), поселившиеся в нескольких деревнях и пытавшиеся вна
чале соблюдать эндогамию, но сравнительно быстро от нее отказавшиеся и
слившиеся с местным населением. Исключением стал один только пункт —
Сифордтаун, который до последнего времени оставался самым значитель¬
200
ным белым поселением Ямайки; показательно, что до сих пор белых крес¬
тьян на острове называют „немцами" (хотя и в Сифордтауне немецкий язык
давно уже утрачен)*. В начале 50-х годов XIX в. на Тринидад ввезли груп¬
пу португальцев с Мадейры. Их потомки живут там и поныне, сохранив эн¬
догамный тип семьи. Можно добавить, что принадлежат они к социально
низкому слою белых и белые представители господствующих классов бра¬
ков с португальцами долгое время избегали.
С 1854 г. в течение недолгого времени на Тринидад (и некоторые дру¬
гие острова) ввозили законтрактованных рабочих из Китая. Женщин среди
них практически не было. Сравнительно быстро китайцы стали вступать
сначала в связи, а затем и в браки с негритянками. Дети, рожденные от та¬
ких связей, часто воспитывались у отца, открыто признававшего их своими
сыновьями и дочерьми, включая тем самым в китайскую этническую среду.
По местному выражению, „китайская перчинка" представлена у многих
тринидадцев гораздо шире, чем обычно думают. В этой связи называют да¬
же имя покойного премьер-министра и ученого-историка Э.Ю. Уильямса
(1911 — 1981). И на Тринидаде, и на Ямайке большая часть китайцев — по
томки смешанных браков. Можно привести любопытный пример. Он связан
с биографией самого именитого из тринидадских китайцев — Чэнь Ючжена
(1873—1944), известного в западной литературе под именем Юджина (в со¬
ветской — Евгения) Чэня. Этот довольно видный в свое время гоминданов¬
ский деятель был уроженцем Тринидада в первом поколении. Получив
юридическое образование в Лондоне, он вернулся на родину, а в 1912 г.
уехал в Китай и больше в Вест-Индию не возвращался. Для нашей темы
представляет интерес тот факт, что Чэнь был женат не на китаянке, а на
тринидадке, по-видимому негритянке или темной мулатке. Жена последова
ла за ним в Китай, и, встретивший там Чэня, ныне покойный советский
китаист М.И. Казанин отметил в своих воспоминаниях, что „этот деятель,
тринидадец родом, был женат на местной женщине", а его дети „больше
походили на мулатов". Однако вторым браком Чэнь Ючжень был женат
уже на китаянке^.
Экзогамная традиция у китайцев Вест-Индии уступила место эндогам
ной лишь в последние десятилетия, о чем пойдет речь ниже.
Но самым крупным по численности новым этническим элементом Вест-
Индии были индийцы, которых ввозили с 1845 по 1917 г.(с перерывами),
и в количественном отношении они составили более 180 тыс. человек. Око¬
ло 90% их были индуистами, остальные почти все мусульманами. С самого
начала внутри иммигрантов существовала значительная диспропорция полов:
даже официально предполагалось процент женщин определить в 12, а за¬
тем предписано было руководствоваться соотношением 1:4, и только в
1870 г. установлена другая цифра — 40%. Однако практически еще в нача¬
ле XX в., буквально накануне прекращения иммиграции из Индии, женщин
среди тринидадских индийцев было: в 1905 г. — 26%, в 1906 г. — 30, в
1907 г. -23% ".
Такая ситуация привела, конечно, к значительным изменениям в семей¬
ной сфере. Отпали (по крайней мере, для первого поколения иммигрантов)
браки по выбору родителей, практически перестал соблюдаться запрет на
брак вдов. Малое число невест стало причиной того, что оказались снятыми
барьеры между кастами и стали заключаться браки не только в пределах
20!
одной варны, но и между лицами из очень далеко отстоящих друг от друга
каст (показательно, впрочем, что при возвращению в Индию такие браки
распадались). В отличие от Индии на Тринидаде не семья невесты искала
жениха, а наоборот. Появилось и такое почти не встречающееся в Индии
явление, как выкуп за невесту. Наконец, стали отмечаться факты распада
семей не по инициативе мужа, а по инициативе жены.
Все перечисленное касается модификации семейно-брачных отношений
внутри индийского иммигрантского этноса, происходившей без вмешатель¬
ства властей. Но и последние оказали большое влияние на индийскую
семью, так как ввели требование обязательной регистрации брака в органах
записи гражданского состояния (1881). Индийцы, отлично знавшие, что в
Индии для оформления брака достаточно церемонии венчания, это требова¬
ние бойкотировали. А результат был подчас весьма печальный, ибо в глазах
закона большинства семей индийцев вообще не существовало и, скажем, в
случае смерти главы его имущество объявлялось выморочным, а жене и де¬
тям ничего не доставалось. Религиозные браки индийцев получили офици¬
альное признание лишь в 30—40-х годах XX в.^
Но главная особенность индийской семьи в Вест-Индии состоит в дру¬
гом. Эта семья долгое время была строго эндогамной, а на Тринидаде прак¬
тически остается таковой и поныне, причем когда мы говорим об эндога¬
мии, то имеем в виду не только семью, получившую какое бы то ни было
оформление, но и все варианты внебрачных связей. Нарушения встречались
и встречаются чрезвычайно редко. Так, даже в 1911 г., т.е. накануне пре¬
кращения иммиграции, почти 70 лет спустя после появления на Тринидаде
первых выходцев из Индии, „индийски^, креолов" (т.е. полуиндийцев-полу-
негров) среди них было не более 1,64% .
Показательно, что это явление наблюдалось и в дальнейшем (1921 г. —
1,87; 1931 г. — 1,85; 1946 г. — 4,29%). По более поздним десятилетиям
есть лишь косвенные данные, но основная тенденция сохраняется: рост про¬
исходит весьма незначительный, хотя кое-где он ускоряется и в столице
уже в 1947 г. процент потомков смешанных браков превышал общеостров¬
ной показатель в 5 раз (при этом надо иметь в виду, что большинство ин¬
дийцев до настоящего времени — сельские жители). Исследования середи¬
ны 60-х годов показали, что среди тринидадской индийской (естественно,
городской) элиты против смешения (с неграми) высказывалось от 79 до
88%, но если выделить только уроженцев двух самых крупных городов, то
этот процент упадет до 57. Противников браков с белыми отмечалось
гораздо меньше^*.
Упорное сохранение индийцами эндогамии было замечено еще в сере¬
дине XIX в. В этой связи говорилось о стремлении индийцев к „расовой
чистоте", существовали и другие попытки объяснить указанное явление.
Однако объяснение, как показано автором этих строк, следует искать в
иной плоскости — в устойчивой, существующей среди индийцев уже тыся¬
челетия эндогамной традиции^.
Индийская эндогамия в Вест-Индии — явление достаточно сложное. Оно
существует там в трех видах, таксономически неоднозначных. Это религиоз¬
ная*, этническая и кастовая эндогамия. В условиях Тринидада первая со-
* Следует напомнить, что среди индийцев на острове 67,9% - индуисты, 16,7% — христиане,
15% — мусульмане.
202
храняется практически полностью, вторая — почти полностью, третья —
наполовину. На остальных же островах сложилась иная ситуация. Ассими¬
ляционные процессы зашли там чрезвычайно далеко. Степень же ассимиля¬
ции определяется длительностью пребывания иммигрантов и их потомков
на данной территории, продолжительностью периода прекращения связей
со страной выхода и, конечно, численностью общности. А проявляется она
(если касаться только интересующей нас сейчас темы) в таких сферах, как
сохранение или утрата религии и сохранение или утрата эндогамии. И ес¬
ли на Тринидаде для сохранения того или другого сложились благоприят¬
ные условия, то даже на Ямайке индуистов осталось лишь несколько про¬
центов, а на остальных островах их вообще уже нет. Естественно, не су¬
ществует за пределами Тринидада и кастовой эндогамии. Что же до этни¬
ческой эндогамии, то на Ямайке ее нарушили 2/3 индийцев, во Француз¬
ской Вест-Индии — больше 1/2, а на Кубе уже все без исключения индий¬
цы состоят в смешанных браках. Механизм действия всех этих процессов
еще не прояснен во всех деталях, однако результаты его очевидны^.
Если же обратиться к нашему времени, то наиболее характерные мо¬
менты, определяющие ситуацию в сфере вест-индской семьи, выглядят сле¬
дующим образом.
По-прежнему очень велик удельный вес матрифокальных семей, что
опять-таки по-прежнему определяется очень большим процентом незарегис¬
трированных браков. Так, но переписи 1942 г., на Ямайке ( напомним —
крупнейшем но населению государстве за пределами иснаноязычной части
региона) из общего числа матерей незамужние составляли 54%, 12% были
вдовами или разведенными и только 34% замужем^. В середине 50-х годов
официально оформленный брак характеризовал положение только 29% жен¬
щин; 44% жили в „браке но обычному нраву", т.е. не были зарегистрирова¬
ны, и 27% — „в неустановленных брачных отношениях временных носеще
ний". Половина опрошенных женщин в возрастном диапазоне 35—40 лет
„имела в своей жизни три и более брачных союзов".
Около 75% детей тогда же рождалось вне брака. При этом наблюда¬
лась следующая закономерность: у женщин моложе 25 лет незаконных де¬
тей было 80%, а у достигших 40 лег — менее 40. Объясняется это, как
уже отмечалось выше, переходом в ряде случаев так называемого сожитель¬
ства в официальный брак. В этой связи приводятся следующие данные:
средний возраст вступления в сожительство (обычно используется термин
„конкубинат") у женщин — 19—20 лет, средний же возраст оформления
брака — 28,5 лет (у мужчин он составляет 34 года). В прямой зависимости
от того, оформлен ли брак, состоит ли женщина в конкубинате или вообще
воспитывает детей одна, находится и число детей: на каждую одинокую
мать 45 лет и старше приходилось в среднем 4,7 ребенка, на конкубинку
— 5,6, на законную жену — 6,6 (все данные но Ямайке).
Все эти данные приводились в докладах этнографов, социологов-капи-
бистов на Международном конгрессе но народонаселению (Белград, !96э) и
обобщены В.И. Козловым^.
Ко всему изложенному следует добавить, что отец незаконного ребенка
был, как правило, досгагочно хорошо известен. Следуя старому выражению
„быль молодцу не укор", многие вестиндцы даже гордятся незаконными
детьми: эго повышает их мужскую репутацию^. Поэтому в большинстве
203
случаев дети носят отцовские фамилии. Ямайцы считают, что таким обра¬
зом подчеркивается связь с отцовским „родом" — в противоположность
„крови", т.е. указанию на связь с семьей матери^. Сходные явления извес¬
тны на Багамских островах, где, как свидетельствует материал по острову
Андрос, „большинство детей, рожденных вне брака (outside children), пользу¬
ются фамилией своего предполагаемого отца"^, а также на Гренаде и Гре¬
надинах. Подобные примеры можно найти и за пределами англоязычной зо¬
ны. Так, на Мартинике, где „незаконнорожденность обычно не влечет за со¬
бой негативных последствий"^, большинство детей, как считает П. Уилсон,
„известно под фамилиями своих отцов"*".
В дальнейшем процент незаконных детей на Ямайке не снижался. По
данным местной печати, в 1964 г. их было 74,1%*', в конце 1968 г. — от
72 до 75%*з. Подобное положение характерно и для других островов, в час¬
тности для Гренады. „Для народа, особенно в сельской местности, — отме¬
чал в начале 60-х годов американский исследователь, — официальные браки
столь же редки, сколь типичны для элиты"**. Отсюда около 70% незакон¬
ных детей**.
В настоящее время ситуация, в общем, меняется не очень значительно,
что находит отражение в весьма немалом проценте матрифокальных семей.
Так, по данным на 1987 г., семьи, возглавляемые матерью, на Ямайке со¬
ставляли 34%. Это самый высокий показатель по всей Латинской Америке
( далее идут: Перу — 23, Гондурас — 22, Венесуэла и Куба — по 20%). Он
сопоставим с данными по африканским странам (Кения — 30%, Малави —
29, Гана — 27, Судан — 24%) и считается типичным для развивающихся
стран**.
Но изменения в цифрах все же есть, и объяснить их можно попытаться
следующим образом. До определенного времени, как уже отмечалось выше,
очень многое здесь было связано с постоянными миграциями мужского на¬
селения — как в пределах островов, так и вне их. Скажем, в 1946 г. на
каждую 1000 ямайских женщин приходилось 828 мужчин; данные по Бар¬
бадосу еще более разительны: здесь соотношение было 1000:686 **. Однако
с начала 60-х годов после принятия в Англии (бывшей основным пунктом
заморской миграции вестиндцев) дискриминационного законодательства воз¬
можности для выезда туда резко сократились". Эго, естественно, не могло
не повлиять на миграционную подвижность ямайцев и других жителей
Вест-Индии, сразу ее ограничив.
Хотя, как только что отмечалось, плодовитость женщин на Карибах свя¬
зывается с их семейным положением, традиция иметь детей (не одного, а
нескольких) даже при отсутствии какой-либо поддержки со стороны отца
(отцов) сохраняется, притом до последнего времени в такой своеобразной
форме, как стремление женщины не просто родить побольше детей (в на¬
дежде на их помощь в старости), но именно детей от светлокожего отца
(или отцов), так как будущее таких сыновей или дочерей представляется
более обеспеченным и, следовательно, помощь их матери может быть более
значительной. Об этом писали многие наблюдатели**.
Однако после достижения независимости большинством вест-индских
британских колоний ситуация в этом отношении стала меняться. Гордость
своим негритянским происхождением, ставшая важным компонентом в про¬
цессе развития национального самосознания, нашла выражение и в семей¬
204
ной сфере. Лозунг „Черное — это прекрасно" повлиял и на направление по¬
иска брачных партнеров, но крайней мере у значительной доли населения.
Если раньше предпочтение в семье отдавалось более светлокожему ребенку
и социальный статус этого мальчика или девочки был более высоким, что
признавалось всеми, то уже в 60-х годах стали наблюдаться обратные явле¬
ния. В наиболее распространенной ямайской газете „Дэйли Глинер", на¬
пример, появилось письмо, автор которого рассказал о следующем эпизоде.
Его родственник, юноша „с кожей цвета спелого банана", был избит груп¬
пой негров, которые сочли его белым**. Эпизод, о котором идет речь, выз¬
вал на страницах газеты довольно длительную полемику, причем в ней при¬
няли участие представители самых разных этнорасовых групп.
Если же рассмотреть вест-индскую семью в классовом разрезе, то выво¬
ды будут примерно следующие. Фактический материал, приведенный на
предыдущих страницах, относится главным образом к сельским жителям и
городской бедноте. Семьи „среднего" класса и, конечно, более высокого
общественного положения развивались по-иному (мы продолжаем пока гово¬
рить о негритянском и мулатском населении). Нормой „респектабельности",
определявшей более или менее привилегированное положение, был заре¬
гистрированный и одновременно церковный брак. Негр или мулат, претен¬
довавший на какую-то карьеру в колониальные времена, предпочитал брак с
более светлокожей женщиной; брачная партнерша, более темная, нежели
муж, становилась очень ощутимым тормозом на пути его продвижения.
Наряду с этим существовала и продолжает существовать двойная мораль,
разрешающая мужчине иметь любовницу или любовниц, но требующая от
женщины, состоящей в „респектабельном браке", безупречного поведения и
абсолютной верности Как только что говорилось, ситуация в части „цвет¬
ного барьера" изменилась, но в остальном практически остается прежней.
Нормой продолжает оставаться эндогамия среди белого населения. Ко¬
нечно, встречаются случаи смешанных браков, но их все-таки еще очень
немного. Как отмечала в свое время ямайская газета, „белый ямаец... беспо¬
коится, сможет ли найти белых мужей для своих дочерей"^. При этом
только что охарактеризованная „двойная мораль" в еще большей степени ха¬
рактеризует положение у этой части вестиндцев, нежели ситуацию в среде
негров и мулатов того же или почти того же социального статуса.
У китайцев в последние десятилетия зафиксированы изменения. На¬
сколько можно судить, у значительной их части сохраняется экзогамная
традиция, особенно на Ямайке. На этом острове существовала в свое время
уникальная семья: ямайская китаянка, вернувшаяся из Китая на родину по¬
сле падения гоминьдановского режима, и ее муж — русский эмигрант Су¬
хих, давший свое имя известному в Вест-Индии балетному коллективу, ко¬
торым руководил сначала он, а потом его вдова. Этот ансамбль („Балет Су¬
хих") активно работает и поныне, причем в его репертуаре сохраняются
русские танцы.
На Тринидаде же положение несколько иное. Китайцы там более мно¬
гочисленны, и среди них больше иммигрантов позднего времени. Многие из
них приемлют как брачных партнеров китайцев же и даже не столько мес¬
тных, сколько из континентального Китая или с Тайваня. В этой ситуации
распространены договоренность о браке но переписке, „знакомство" с не¬
вестами но фотографиям (чаще всего невест выписывали из-за рубежа).
205
Среди индийцев Вест-Индии подобные явления встречаются лишь как
исключения у сравнительно небольшой группы гуджаратцев, переселив¬
шихся, в частности, на Тринидад достаточно недавно и существующих в не¬
коей изоляции от остального индийского населения.
Уже отмечалось, что специфические особенности вест-индской семьи
определили особо тесную связь между матерью и детьми, в то время как
отец (даже и присутствующий в семье) значительно меньше связан с ними.
При этом стремление женщины иметь как можно больше детей в браке
или вне брака объясняется, кроме всего прочего, и тем, что она таким об¬
разом надеется обеспечить свою старость, ибо на мужа (точнее — на отца
детей) надежда плоха. Негритянский ученый X. Родмэн определяет эту си¬
туацию таким образом: „Отношения ребенка с матерью могут быть в выс¬
шей степени теплые и нежные, с отцом же такое бывает нечасто. Главное
в роли отца — содержать ребенка, а не быть ему близким эмоционально".
Дети чрезвычайно рано начинают выполнять определенную работу по
дому. Один из исследователей описывает, скажем, трехлетнего мальчугана,
который ходит за покупками, и четырехлетнего, посланного за водой.
Обычно девочек нацеливают на работу, непосредственно связанную с до¬
мом: уборка, посильная помощь матери и старшим сестрам, а когда они
подрастают, наступает очередь стирки, приготовления пищи. Кроме того,
на них очень рано оставляют младших братьев и сестер. Мальчиков посыла¬
ют с разными поручениями, за покупками, они убирают двор (хотя это час¬
то делают и девочки), кормят скот, птицу.
Разграничение но полу проявляется здесь довольно отчетливо. Мальчи¬
ки только в том случае привлекаются к „кухне", если в семье нет дочерей.
В то же время, когда встает вопрос, кою из детей отдать в школу и осо¬
бенно — кого учить дальше, он решается обычно в пользу сына или сыно¬
вей. Однако матери чувствуют большую привязанность к дочерям. Приведем
еще один пример из книги Родмэна. Отвечая автору, тринидадская негри¬
тянка говорит: „Индийцы утверждают, что мальчики лучше всего, а мы го¬
ворим, что любим дочек, они меньше зарятся на деньги, меньше думают о
себе, а больше о доме, больше привязаны к родителям"^.
' Calendar of the state papers, Colonial, America and West Indies, 1661-1668, L., 1880. P. 42.
^ Лгите G./t. White settlers in the tropics // Amcr. Gcogr. Soc. Publ. N.Y., 1939. N 23;
7.7 Whence Black „Irish" of Jamaica. N.Y., 1939; Мел.теядег 7. The influence of the Irish in
Montserrat // Caribbean Quart. 1967. Vol. 13, N 2; Лгите Л.7. The rcdlegs of Barbados // J.
Barbados Museum and Hist. Soc. 1962. Vol. 29, N 2; Яеяду 7'.У. The poor whites of Barbados //
Rev. Historia Amcr. 1972. N 73/74. P. I-XII; Ей. The Chachas of the St. Thomas // Sci.
Mounth. 1934. Vol. 2.
'Африканцы в странах Америки. М., 1987. С. 186.
* Подробнее см.: Дрмузо А.Д. Этнические аспекты колониальной политики Англии
// Этнические процессы в странах Карибского моря. М., 1982. С. 57; Тймрецкмй #
Боги в тропиках. М., 1967.
^ Описание острова Санкт-Доминго с показаниями прежде бывших на оном корен
ных диких жителей, их нравов, обычаев и одежд, такожде поселившихся на сем
острове европейцев... о покупке и содержании невольников... М., 1793. С. 113-
114.
' Е7^яг7у й. The history, civil and commercial, of the British colonics in the West Indies. L.,
1801. Vol. II. P. 175-176.
206
^ Цит. по: Е. The developments of Creole society in Jamaica, 1770-1820. Oxford,
1971. P. 127,215. \
"Ibid.P.205. \
"Ibid.P.110-114,292.
" E. The West Indies as they arc. L., 18^§. P. 17-18.
" E^war^E. Op. cit. P. 175-176.
^ Цит. no: ErafAwai^ E. Op. cit. P. 215.
" E^war^y E. Op. cit. P. 156. \
^ Af.7. The myth of the Negro past (L941); Problems, method and theory of
Afroamcrican studies (1945); The historical approach to Afroamerican studies: A critique (1960)
// Hcrskovits M.J. The new world Negro: Selected papers in Afroamerican studies. Bloomington,
1966.
" См;/иал //. The black family in slavery and freedom, 1750-1825. N.Y., 1976.
" Crafan AE Changing patterns of slave families in the British West Indies // J. Interdisciplinary
History. 1979. Vol. 10, N 1.
" Sfan^r ЕЕ. Directions in Latin American women's history, 1977-1985 // Latin. Amer. Research
Rev. 1987. Vol. 22, N2. P. 113.
** Green/IeM S.AE English rustics in black skin: a study of modem family forms in the pre¬
industrialized society. N.Y., 1966. Рецензию см.: Caribbean Quart. 1969. Vol. 9, N 1.
Цит. no: Eaw^n/Aa/D. West Indian societies. L. etc., 1972. P. 109.
"Ibid. P. 110.
i' Ibid. P. 109.
"Ibid. P. 110.
" 5/яАА AEG. West Indian family structure. Seattle, 1962.
^ Еаи^я/Ая/ D. Op. cit. P. 112.
" C/ar%2 E. My mother who fathered me: a study of the family in the three selected communities in
Jamaica. L.,1957; 1966.
^ DrascA^r W. Deutsche Sicdlungcn auf Jamaica //Ibero-Amerikanisches Arch. 1932. Bd. 1.
" /Газаммм AE/E В штабе Блюхера. M., 1966. С. 129: Who's who in China. Shanghai,
1939. P. 67.
А.,Д. Этнокультурные процессы в Вест Индии. Л., 1978. С. 161.
" Подробнее см.: Там же. С. 161 166.
" Там же. С. 182.
" Подробнее см.: Дрмузо А,Д., A*04?tee Д.^Е, Селаюлго Индийцы и пакистанцы
за рубежом. М., 1978. С. 195-197; AfaEA ТЕ. East Indians in Trinidad: A study of
minority politics. L., 1971. P. 18, 19, 52, 54, 55.
^ Крауза A.^7. Этнокультурные процессы... С. 182.
^ См.: Дрмузо Основные тенденции этнического развития: Автореф. дис. ...
д ра ист. наук. М., 1985. С. 31 38.
^ Е. West Indies family organization // Work and family life: West Indian perspectives /
Ed. L.Comitas, D.Lowcnthal. Garden City, 1973. P. 324-325. Статья была впервые
опубликована в 1949 г. Подробнее см.: Е. Family and colour in Jamaica. L.,
1953 (в 60 x годах вышло еще два издания).
^ Аозлое Д./Е Динамика численности народов. М., 1969. С. 139.
* Е J. Reputation and respectability: a suggestion for Caribbean ethnology // Man. 1969.
Vol. 4,N1.P. 72.
^ C/arA^ E. Op. cit. P. 48.
E. The Andros Islanders. Lawrence, 1966. P. 118.
* //arawAz AE Mome-Paysan: Peasant village in Martinique. N.Y., 1967. P. 56.
E.7. Op. cit. P. 75.
" Daily Gleaner. 1970. Fcbr. 18.
<4bid. 1968. Dec. 10.
^ 5/ийА AEG. Op. cit. P. 259.
"Ям/яобурз 3JE Гренада // Этнические процессы в странах Карибского моря. С. 261.
207
" Подсчитано демографами США. См.: Barricada. 1987. Aug. 17.
" Лоллой А.7^ Указ. соч. С. 139.
" Подробнее см.: Лоллоа А.7/. Иммигранты и этнорасовые проблемы в Британии.
М., 1987. С. 32 и след.
**См., напр.: А Острова среди ветров. М., 1967. С. 24; Ом же. К забытым
островам. М., 1972. С. 80 81.
** Daily Gleaner. 1968. Dec. 10.
" P.7. Op. cit. P. 71-73, 76-77 etc.
" Daily Gleaner. 1969. Febr. 6.
^ Дбм&ияя A. Lower-class families. N.Y., 1971. P. 5.
Мексиканцы
' AM. Мо/даееаа Лулме^оая
Особенности мексиканского быта сложились в результате длительного вза¬
имодействия и взаимопроникновения культур населяющих страну народов.
Подавляющее большинство населения страны принадлежит к испаноязыч¬
ной мексиканской нации, которая сложилась на основе индейского, испан¬
ского и (в небольшой степени) негритянского компонентов.
Значительная часть коренного населения Мексики проживает в сель¬
ской местности, где в ряде случаев до сих пор сохраняются докапиталисти¬
ческие патриархальные формы экономических отношений в противовес
мощным городским индустриальным капиталистическим производствам (фе¬
номен мексиканской урбанизации обусловил самый высокий не только в
Латинской Америке, но и в мире темп прироста численности городского
населения — около 4% ежегодно)*.
Всю сложность и многогранность этих процессов отражает порождае¬
мый ими социально-экономический и культурно-психологический дуализм.
В плане экономики его объективное содержание составляют, с одной сторо¬
ны, неравномерное развитие капитализма, с другой — развитие, деформиро¬
ванное ввиду изначального присутствия иностранного (прежде всего амери¬
канского) капитала, который, устремляясь в высокоприбыльные экспортные
секторы экономики, привел к выделению как в промышленности, так и в
сельском хозяйстве современного и традиционного секторов.
Кроме того, достаточно длительное влияние американского капитала
обусловило возникновение новых проблем. Так, если в прошлом культур¬
но-психологический дуализм характеризовался достаточно четко выражен
ными испанской и индейской традициями, то ныне речь идет о его отраже¬
нии в виде, с одной стороны, „мексиканского элемента" (как испано-индей¬
ского синтеза), с другой — американского модуса. Их тенденции в той или
иной пропорции совмещаются в сознании новых поколений, хотя сильные
традиционные устои продолжают оказывать значительное воздействие.
Применительно к теме нашего исследования такой дуализм обусловли¬
вает значительную региональную и социальную дифференциацию бытования
брачно-семейных форм. Это отражается и на различном поведении молодых
пар. Мексиканская склонность к экзальтации в выражении своих чувств
придает периоду добрачного ухаживания весьма романтический вид. Сере¬
208
нады под окном избранницы в исполнении „марьячи" (певцы-музыканты, ис¬
полнители национальных песен, оу французского слова „марьяж" — брак,
свадьба), проводы „холостяка" и „х&цостячки", которые устраивают жених и
невеста, — характерные атрибуты сватовства средних городских слоев.
В сельской местности, где проживает большая часть индейского насе¬
ления, до сих пор молодые зачастую бь^цают просватаны с детства и им со¬
общают о заключенной сделке только тогда, когда наступает время для бра¬
косочетания (14—16 лет). По сохраняющейся в селах традиции жених перед
свадьбой делает подарки родственникам невесты (со стороны ее матери) как
выкуп за уступаемую девушку.
Подражая „светским правилам" американских „высших" слоев, состоя¬
тельные семьи считают для себя обязательным дать объявление в газете с
указанием места и дня свадьбы, часто с публикацией фотографии жениха и
невесты. В этих кругах заключению брака, как правило, предшествует по¬
молвка.
Основу семейной структуры мексиканцев составляют юридически офор¬
мленные моногамные брачные союзы. Согласно федеральному Гражданско¬
му кодексу, не допускаются браки между двоюродными братьями и сестра¬
ми, дядьями и тетками, с одной стороны, племянниками и племянницами —
с другой^.
В Мексике наряду с официальным браком достаточно распространен ха¬
рактерный для латиноамериканских стран так называемый свободный, или
консенсуальный, брачный союз. Однако но доле неофициальных браков
Мексику значительно опережают Доминиканская Республика, Парагвай,
Эквадор и Перу. По данным 1985 г., только 14% мексиканок в возрасте от
20 до 49 лет находились в свободном браке, в то время как для названных
стран этот показатель составил соответственно 77,6; 59,1; 40,4 и 38,8%.
Во всех латиноамериканских государствах, где проводились подобного рода
исследования, средний возраст женщин, идущих на свободный брак, на 1 —
1,6 лет ниже, чем возраст женщин, официально регистрирующих свое за¬
мужество^.
Модификация основ классической моногамии в регионе обусловлена ог¬
раниченными экономическими возможностями большинства населения. От¬
сутствие собственности, для сохранения и наследования которой как раз и
создана моногамия, устраняет необходимость юридического установления
господства мужчины. Ввиду этого к гражданскому нраву, которое охраняет
это господство, прибегают в основном имущие, большая же часть населе¬
ния из-за бедности правилом в отношении к женщине полагают сожитель¬
ство независимо от того, признаны или нет официально эти отношения. Та¬
кая ситуация находит свое конкретное выражение в растущем распростра¬
нении консенсуальных браков в средних и низших классах городов. Среди
имущих слоев населения, как правило, основная доля браков юридически
зарегистрирована (часто с последующим венчанием в церкви). Для сельской
местности характерно сочетание церковного (католического) брака с граж¬
данским.
На территории страны в силу исторических условий сложились райо¬
ны, где с давних пор осуществлялись межэтнические контакты. Ныне в
связи с интенсивно протекающими процессами миграции и урбанизации
происходит усиление этнической мозаичности населения, что, несомненно,
209
способствует развитию межэтнической брачности, традиции которой прос¬
леживаются в Мексике со времен испанской колонизации.
Если в прошлом индейские женщины вступали в межэтнические браки
намного чаще, чем индейские мужчины, а у неиндейских народов страны
наблюдалась противоположная тенденция (что объясняется широко практи¬
ковавшимися браками мужчин-испанцев с местными девушками), то в на¬
стоящее время эти различия практически исчезли. Более того, в последние
десятилетия налицо тенденция снижения показателей моноэтничной пред¬
почтительности и уменьшения в большинстве вариантов разрыва между
фактической частотой межэтнических браков и их теоретической вероят¬
ностью, что является свидетельством важного процесса — постепенного
снижения этнической предубежденности.
Мексиканец Эрнесто Транхель, аспирант одного из московских вузов,
рассказывает, что его родной брат, проживающий с родителями (испанско¬
го происхождения), женат на девушке из индейской общины, с которой по¬
знакомился во время учения в университете. Этот брак не вызвал отрица¬
тельного отношения со стороны родителей и родных. Сам Эрнесто не ста¬
вит для себя при выборе жены никаких национальных преград, его един¬
ственное условие, чтобы она обязательно имела высшее образование.
Среди этнически смешанных семей широко представлены социально не¬
однородные семьи. В целом для них характерны: более высокий по сравне¬
нию с однонациональными семьями образовательный уровень супругов и
большая доля специалистов высшей и средней квалификации, промежуточ¬
ное положение но среднему размеру семьи — 3,8 человека, высокая доля
простых (нуклеарных) семей (на 10—15% превышающая аналогичный пока¬
затель среди однонациональных семей).
Определение национальности детей в национально смешанных семьях
является внешним выражением этнической ориентации смешанного семей¬
ного коллектива. Судя но имеющимся данным, в силу исторически сложив¬
шейся предпочтительности в семьях, где один из родителей индеец, дети
считаются мексиканцами, а там, где родители из разных индейских наро¬
дов, детей определяют но национальности огца или матери, в целом по¬
ровну.
Этническая ориентация национально смешанных семей достаточно четко
проявляется в семейно-бытовой сфере, где отражаются прежде всего общие
тенденции развития мексиканской нации. Несмотря на сохраняющееся эт¬
ническое своеобразие, происходит сужение области национальной специфи¬
ки в материально-бытовой культуре. Этническое своеобразие перемещается
преимущественно в сферу духовной культуры, которая, подчиняясь общей
тенденции, испытывает сильную трансформацию, приобретая общемекси¬
канские черты.
В системе внутрисемейных отношений этнически смешанных семей от¬
мечены совместное главенство мужа и жены, коллегиальность в решении
основных вопросов семейной жизни в отличие от однонациональных семей,
где такие установки практически отсутствуют. Это обстоятельство в значи¬
тельной мере объясняется тем фактом, что в этнически смешанных семьях
2/3 брачных пар имеют одинаковый уровень образования и более высокую
профессиональную активность женщин. Однако эгалитаризация семейных
отношений в национально смешанных семьях практикуется информаторами-
21 о
мужчинами в пределах, допустимых системой традиционных взглядов. Это
выражается в сохраняющемся Отношении к домашней работе и воспи¬
танию детей как к чисто „женскомухзанятию", в проведении мужем свобод¬
ного времени преимущественно в обществе своих друзей и случайных
подруг.
В связи с ростом миграции „село — город" бытует такой вид межэтни¬
ческого культурно-бытового взаимодействия, как межэтническая интегра¬
ция, характерная для семей с близкой культурно-бытовой характеристикой
супругов. Культурно-бытовое взаимодействие в виде ассимиляции наблюда¬
ется в тех семьях, где один из супругов — представитель испаноязычного
большинства, а другой — этнодисперсной группы или же оторван от основ¬
ной территории расселения этноса. Именно в таких семьях отмечаются сме¬
на одним из супругов элементов родной культуры на язык или культуру
брачного партнера, незнание детьми родного языка первого партнера и
культуры его этноса. О размерах указанной ассимиляции свидетельствует
тот факт, что двуязычие в Мексике постепенно теряет свое значение*.
По данным переписи населения 1980 г., уровень брачности в стране
падает. Так, если еще в 70-х годах число браков, заключенных мексиканца¬
ми в расчете на 1000 человек населения, составляло 7,3—7,8, то в начале
80-х годов — всего 6,4. Очевидно, такое снижение брачности объясняется
прежде всего экономическими спадами и кризисами, потрясающими эконо¬
мику страны с середины 70-х годов и поныне, а также преобладанием в
возрастной структуре населения доли молодых возрастов (в 1987 г. около
40% приходилось на лиц моложе 20 лет)*.
В течение года браки заключаются неравномерно. Наблюдается их се¬
зонная волна, которая зависит как от особенностей традиционного календа¬
ря национальных и религиозных праздников, периодов различного рода ре¬
лигиозных ограничений и запретов, поверий и традиций, так и от сезоннос¬
ти сельскохозяйственных работ. Если сравнить долю браков, заключенных
но месяцам в общем числе браков года, то обнаружится, что чаще всего
они заключаются в мае и декабре-январе.
Интенсивность брачности в разных возрастах значительно варьирует.
Так, около 42% мексиканок выходят замуж 15—19 лет, 35% — к 20—24
годам. Мексиканские мужчины обзаводятся семьей чаще всего в возрасте
20-24 лет*. Минимальный разрешенный мексиканским законодательством
возраст вступления в брак для женщин 14 лет, мужчин — 16 Лица, не
достигшие указанного возраста, при наличии серьезных причин вправе
получить разрешение на брак у председателя муниципалитета.
Мексиканское законодательство допускает развод но широкому кругу
оснований, включающему и взаимное согласие (ст. 267 федерального Граж¬
данского кодекса). Вместе с тем здесь есть ряд особенностей. Так, женщи¬
на после развода не вправе вступать в брак, пока не пройдет 300 дней со
дня расторжения предшествующего брака.
У мексиканцев сложилось отрицательное отношение к разводу, равно
как и к безбрачию. Часто при раздорах между супругами посредническую
роль берут на себя сородичи обеих сторон, и только в том случае, если их
вмешательство не помогает, брак расторгается.
Обязанность предоставлять алименты является взаимной для супругов.
Если они но каким-либо причинам не могут ее выполнять, го она возлага¬
211
ется на иных родственников ребенка по обеим линиям. В отношении несо
вершеннолетних детей алименты включают пищу, одежду, жилье и меди
пинскую помощь в случае заболевания, а также расходы, необходимые для
получения начального образования, обучения ремеслу. Согласно закону о
семейных отношениях от 9 апреля 1917 г., незаконнорожденным детям
предоставляются одинаковые права с детьми, рожденными в юридически
оформленном браке. Таким образом, отношениям фактического брачного со
жительства придаются правовые последствия.
По сравнению с другими латиноамериканскими странами частота разво
дов в Мексике незначительна. За 1950—1980 гг. число разводов на каждую
1000 брачных пар выросло с 3,2 до 3,4. При этом в общем числе разводов
увеличилась доля разводящихся, состоявших в браке менее одного года (за
последние 20 лет — с 5,6 до 6,8%)*. Консенсуальные браки носят гораздо
менее прочный характер, чем официально зарегистрированные. По данным
обследований на 1985 г., 27% свободных брачных союзов мексиканцев рас¬
падаются, не „отпраздновав" свое пятилетие. В Мексике в течение первых
пяти лет после развода повторный брак заключают только 40% женщин, в
то время как в Доминиканской Республике за это время повторно выходят
замуж 76% разведенных женщин, в Панаме — 70, Венесуэле — 69, а Кос¬
та-Рике — 50%'.
Происшедшее в последние десятилетие существенное снижение уровня
смертности при небольшом снижении рождаемости и соответствующем уве¬
личении средней продолжительности жизни мексиканцев серьезно видоиз¬
менило возрастную структуру населения страны. Деформация возрастной
структуры увеличила число иждивенцев на каждую сотню трудоспособ¬
ных. Возросшее число молодежи по мере перехода в трудоспособный
возраст требует создания дополнительных рабочих мест. Однако темпы при¬
роста трудовых ресурсов по стране превышают темпы прироста занятости.
На 1987 г. среди городского населения Мексики безработицей было охва¬
чено 3,9% самодеятельного населения'". В результате проблема „демографи¬
ческого взрыва", поставившая в свое время перед Мексикой прежде всего
вопросы материального обеспечения огромного числа родившихся, перерос¬
ла в более серьезную— кумулятивную тенденцию к избыточному предложе
нию рабочей силы.
Вместе с тем невысокий уровень квалификации мексиканской рабочей
силы (27% экономически активного населения не проходили никакого обу
чения, 30,3% — обучались 1—3 года, 29,7%— от 4 до 6 лет) наряду с
другими факторами обусловливает невысокий заработок". В сложив¬
шихся условиях инфляции и безработицы в стране заработка мужчины ста¬
новится недостаточно для содержания семьи. Ввиду этого в последние годы
значительно возросло участие женщин в общественном производстве. Расту¬
щая экономическая активность женщин характеризуется увеличением их
доли в занятом населении, которая за 1950—1980 гг. выросла с 12,2
до 27,5%".
Если динамика профессионально-иерархической структуры занятости
мужчин характеризуется увеличением удельного веса занятых в обрабатыва¬
ющей промышленности (за 1966—1986 гг. их доля в этом секторе выросла
на 13%, в строительстве — на 14, в сельском хозяйстве — на 18%), то, но
данным официальной статистики, труд женщин используется в основном в
212
сфере услуг. По состоянию на 1986 г. здесь работало 64,2% экономически
активных женщин'^.
Основные занятия сельских женщин — домашнее хозяйство, забота о
детях, изготовление некоторых предметов домашнего обихода, ткачество,
мелкая торговля, уход вместе с детьми за домашними животными.
За 1966—1986 гг. участие женщин в сельскохозяйственных работах
упало с 18 до 10%, а в несельскохозяйственных поднялось с 9 до 18%
Рост числа работающих среди городских женщин (практически все они —
выходцы из средних и низших слоев) обусловлен как большей распростра¬
ненностью здесь современных социальных установок, так и миграцией сель¬
ских жителей в города. Причем если прежде в город в поисках заработка
направлялись только мужчины, то в последнее десятилетие наблюдается
массовый переезд целыми семьями: мексиканцы, живущие в сельской мес¬
тности (в основном индейского происхождения), — наиболее обездоленная и
угнетаемая часть населения с самым низким уровнем жизни в стране. Нес¬
мотря на то что сельские жители заняты в основном земледелием, боль¬
шинство их вопреки продолжающейся более полувека аграрной реформе
своей земли практически не имеет. Сохранившиеся общинные земли распо¬
ложены в самых низкоурожайных, непригодных для земледелия районах;
всего 33% их имеет систему орошения'*.
Однако в условиях ограниченных абсорбирующих возможностей мекси¬
канской промышленности переселенцы в города заняты в основном в сфере
услуг. В поисках работы и лучшей жизни они сооружают себе хижины, не¬
легально оседая в городах и образуя вокруг них „пояса нищеты", характер¬
ные для таких крупнейших городов страны, как Мехико, Гвадалахара, Мон¬
террей, являющихся основными центрами притяжения мигрантов, которые
осложняют здесь продовольственные, экологические, жилищные и другие
проблемы. По данным официальной статистики, только в Федеральном окру¬
ге около 2 млн жителей из числа переселенцев полностью или частично
безработны, в итоге 66% трудоспособных мигрантов не имеют постоянного
дохода, 21% получают заработную плату меньше минимальной по стране'*.
В немалой степени на отток рабочей силы из традиционного сектора,
помимо факторов отчуждения экономического и неэкономического характе¬
ра (нехватка средств к существованию, бегство от кабальной зависимости в
деревне), влияют особенности оплаты труда переселенцев, в частности
получившая широкое распространение среди предпринимателей так называ¬
емая оплата прожиточного минимума работающего мужчины, живущего от¬
дельно от своей семьи.
Перед выходцами из сельской местности, связавшими судьбу с капита¬
листическим городом, встают проблемы адаптации к условиям жизни в
нем. Как показывает опыт, такая адаптация представляет собой крайне
сложный, мучительный процесс. Перенос в город традиционных стереоти¬
пов поведения способствует их изоляции от городской жизни, замыканию в
собственной среде. Общинные формы организации деревенской жизни слу¬
жат здесь в качестве отторгающего барьера.
Нужно отметить, что капиталистический город оказывает многостороннее
воздействие на мигрантов, вовлекая их так или иначе в новую систему соци¬
альных связей, постепенно размывающих традиционные стереотипы поведе¬
ния. Вместе с тем его возможностей пока явно недостаточно, чтобы обес¬
213
печить самым необходимым всю огромную массу маргинальных кварталов.
Как отмечают многие исследователи, сегрегация пришельцев в города, оче¬
видно, будет сохраняться на протяжении ряда поколений".
Расширение участия женщин в общественном производстве, ставшее об¬
щим для современных городских популяций социальным процессом, в Мек¬
сике имеет свои особенности, характерные и для других латиноамерикан¬
ских стран. Так, значительная часть замужних женщин в силу целого ряда
причин работает на дому. Как правило, это вспомогательно-оформительские
работы кустарных и художественных промыслов, заказы всевозможных мас¬
терских сферы услуг, мелких и средних перерабатывающих предприятий
легкой и пищевой промышленности. Причем такого рода деятельность наи¬
более характерна для женщин, не получивших достаточного образования и
профессионального обучения, чтобы работать на производстве. По данным
переписи населения 1987 г., 15,4% мексиканцев старше 15 лет до сих нор
неграмотны, 2/3 из них женщины**.
Несмотря на то что в последние годы тенденция к повышению уровня
грамотности в стране очевидна, доля женщин среди студентов высших и
средних учебных заведений в Мексике в 3 раза ниже, чем в развитых капи
талистических государствах. Невысокая степень квалификации женской ра¬
бочей силы в условиях растущей безработицы, а также требований, предъ¬
являемых к рабочей силе на нынешнем этапе научно-технической револю¬
ции (в современных секторах экономики предпринимателями установлен
возрастной предел при приеме на работу — 34 года с обязательным сред¬
ним образованием), затрудняют достижение женщинами экономической са¬
мостоятельности.
Естественно, что в особо тяжелых материальных условиях оказываются
распавшиеся, неполные семьи и матери-одиночки, чей бюджет складывает¬
ся только из заработка женщины. Что касается возможной помощи от отца
ребенка, то независимо от того, оформлены юридически алименты на со¬
держание детей или нет, согласно мексиканским обычаям, мужчина, поки¬
дая семью, несет материальную ответственность в отношении детей, однако
средства на их содержание он, как правило, не отдает матери ребенка, а
перечисляет в банк на счет, открытый им на имя дочери или сына. В слу¬
чае, если бывшая жена не в состоянии прокормить себя, покинувший ее
супруг выплачивает ей незначительное содержание. Несмотря на существу¬
ющее законодательство, по которому жена является наследницей мужа, в
реальной жизни в случае его смерти все имущество семьи переходит в соб¬
ственность детей, включая внебрачных, между которыми оно будет поделе¬
но по их первому требованию при условии достижения ими совершенноле
тия.
Истоки этого обычая, несомненно, восходят к главному постулату пат¬
риархальной системы ценностей — главенству мужа и отца. Особенно силь¬
ны его традиции в сельской местности, где и поныне женщина после раз¬
вода или смерти мужа чаще всего возвращается в семью своих родителей
только с лично принадлежащим ей имуществом и в очень редких случаях
наследует землю супруга. У некоторых индейских этносов имущество роди¬
телей наследуют только сыновья.
Оказавшись в весьма затруднительном материальном положении, мать-
одиночка, не имеющая гарантированную высокооплачиваемую работу, доста¬
214
точно часто видит в проституции единственный источник существования.
Нередко такой вид заработка женщины решает финансовые проблемы в
семьях, где муж пьяница. Это явление получило значительное распростра¬
нение прежде всего в городах в среде низших слоев населения.
Таким образом, женщина в мексиканской семье в том случае, если она
до замужества не успела получить образование и профессию, практически
не обладает экономической свободой, поскольку те средства, которые она
может заработать элементарным трудом, составляют лишь небольшую часть
семейного бюджета. Ее экономической свободе в немалой степени препят¬
ствуют укоренившееся среди мексиканских мужчин мнение, что жена дол¬
жна всегда быть дома. Большинство их придает этому обстоятельству очень
большое значение. Несмотря на отмечающиеся сдвиги во взглядах на рас¬
пределение различных обязанностей супругов в домашнем хозяйстве, муж¬
чина все же почти никогда не принимает участие в тех работах, которые
отнимают основную массу сил и времени у женщин, потому что именно
эти обязанности в принципе и составляют „круг домашнего очага*', для ко¬
торых по меркам мексиканца предназначена женщина.
Каждый мексиканец, даже в городе, мечтает иметь свой собственный
дом. Однако ввиду чрезвычайной дороговизны это многим не по карману.
Если позволяет площадь родительского дома, то молодая семья устраивает¬
ся под'одной крышей со стариками. Вместе с тем традиционная многодет¬
ность мексиканских семей делает этот вариант затруднительным. По дан¬
ным официальной статистики, среднее число членов семей, проживающих в
собственных домах, колеблется но стране от 8 до 10—12 человек^. Водо¬
провод и канализация имеются только в новых многоэтажных зданиях, где
жилье достаточно дорого. В сельских районах водоснабжение и канализация
есть у 30% домов, 40% жилищ не электрифицировано. Лишь 1/3 сельского
населения страны получает воду из родников и колодцев, а остальные вы¬
нуждены брать ее из открытых водоемов, рек, озер, болот. В условиях суб¬
тропического и тропического климата такая вода непригодна для питья без
предварительной обработки. Одним из самых очевидных доказательств пло¬
хих санитарных условий является очень высокая смертность сельского на¬
селения: из каждых 10 детей здесь умирают 6. Среди причин высокой
смертности взрослого населения, живущего в деревнях, на первом месте (на
нее приходится 90% смертей) стоят желудочно-кишечные заболевания^.
Наиболее распространенным способом решения жилищного вопроса в
городе является наем частной или государственной квартиры. Ввиду более
низкой квартирной платы предпочтение отдается государственному жилью,
однако в стране ощущается его дефицит. Только в Федеральном округе не
хватает около 800 тыс. квартир^'. В последние годы в условиях финансово-
экономического кризиса в связи с вынужденным сокращением государ¬
ственных расходов, в том числе на жилищное строительство, эта проблема
чрезвычайно обострилась.
Независимо от того, является ли снимаемая семьей площадь государ¬
ственной или частной, она, согласно мексиканскому законодательству, по
истечении 10—15 лет аренды переходит в собственность квартиросъемщика
и может передаваться по наследству, как любая другая частная собствен¬
ность.
Однако наем квартиры доступен мексиканцам, имеющим гарантирован¬
215
ную заработную плату. Вместе с тем, по данным официальной статистики,
в стране насчитывается свыше 19 млн человек, живущих за официальной
чертой бедности. В 1985 г. соотношение доходов групп обеспеченного и
необеспеченного населения составляло 35—40 : 1 Бедняки, как правило,
заселяют окраины городов и пригороды, устраиваясь в тесноте в перенасе
ленных трущобах. Высокообеспеченные семьи занимают собственные дома,
расположенные в благоустроенных районах города или пригорода, позволя¬
ющие каждому члену семьи пользоваться двумя-тремя комнатами.
Обострение жилищной проблемы, особенно в последнее десятилетие,
напрямую связано с наметившимся изменением традиционной формы мекси¬
канской семьи, которое выражается в переходе от так называемой большой
семьи, содержащей несколько семейных ядер, к малой (односемейное ядро),
предпочитающей иметь собственный источник существования и собствен¬
ное жилье. Большая неразделенная семья сохраняется в неизменном виде в
отдаленных, труднодоступных районах, чему способствуют их хозяйствен¬
ные и социальные особенности, такие, как трудоемкость земледельческих
работ, этнические традиции местных индейских жителей.
По данным последней переписи населения, средний размер семьи в
Мексике составляет примерно 4—5 человек (в 1950 г. этот показатель был
в 2,5 раза выше)^. Одна из причин этого сокращения — снижение рождае¬
мости, которое означает переход к новому типу воспроизводства населения.
Этот переход обусловлен общими для урбанизированных стран тенденциями
(вовлечением женщин в общественное производство, повышением их куль¬
турного и образовательного уровня), кроме того, не последнюю роль играет
растущая популярность европейского типа семьи.
Однако ввиду существенных региональных и социальных модификаций
динамики рождаемости, обусловленных как социально-экономическими раз¬
личиями, так и устойчивостью традиционных демографических идеалов с
ранними браками и высокими показателями плодовитости брачных пар,
Мексика заметно отличается от стран с современным типом воспроизвод¬
ства населения. Так, за последние 30 лет по темпам среднегодового при¬
роста численности населения она занимает одно из ведущих мест в Латин¬
ской Америке.
Наряду с тенденцией к образованию нуклеарных семей заметное место
в Мексике занимает рост числа вторичных расширенных семей, что объяс¬
няется потребностью молодой семьи, где жена занята в общественном про¬
изводстве, в помощи родителей по уходу за детьми. В отличие от развитых
капиталистических стран, где из-за неизбежно возникающих трудностей
адаптации всех членов такой семьи к новым условиям молодые стремятся
поселиться неподалеку от родителей, для Мексики, имеющей невысокий
уровень жизни основной массы населения, в таких случаях характерно сов
местное проживание. Таким образом, малая мексиканская семья не просто
соседствует с большой, а функционально взаимодействует с ней.
В формах семейной организации страны гораздо более скромное место,
чем в других латиноамериканских государствах, занимает матрифокальная
семья. Для Мексики это относительно недавнее явление, в большей степе
ни характерное для крупных городов. О степени распространенности ука¬
занной семьи говорит тот факт, что по состоянию на 1982 г. 76% мекси¬
канских детей жили с двумя родителями^.
216
В условиях распада большой семьи разрушается традиционный ком¬
плекс макроструктурных отношений. На смену ему приходят иные мотивы
и стереотипы поведения, реализация которых находит свое выражение в
усилении индивидуализма, разрушении родственных связей и даже отчуж¬
дения. Наиболее заметны эти процессы в крупных городах, где много миг¬
рантов, оторванных от своих родных мест. В то же время в сельской мест¬
ности традиционно сильные родственные связи сохраняются.
Информатор Мария Санчес, живущая в г. Мехико с мужем и ребенком,
рассказывает, что раньше ее родители не только встречались с родственни¬
ками по праздникам, но и решали совместно с ними практически все се¬
мейные вопросы, не говоря уже о помощи в хозяйственных делах, требую¬
щих затрат времени и труда. Теперь жизнь так изменилась, считает Мария,
что праздники служат чуть ли не единственной нитью, связывающей семью
с корнями, благо многочисленность торжеств является одной из особеннос¬
тей мексиканской жизни. Само название некоторых из них символизирует
семейное единство. Это День волхвов (6 января), когда родители ночью кла¬
дут на постели детей подарки, которые, как верят дети, им передали вол¬
шебные короли. В День матери (10 мая) все члены семьи поздравляют мать
и преподносят ей подарки, дочери заменяют ее на кухне, где организуется
праздничный стол, либо все отправляются обедать в ресторан. Если мать
умерла, то дети вместе с другими родственниками приходят на кладбище,
чтобы возложить цветы на могилу и прочитать молитву.
Как и в других латиноамериканских странах, в Мексике принято отме¬
чать 15-летие девушки. Для этого торжества крестные родители покупают
ей вечерний туалет и оплачивают расходы за службу в церкви. Затем роди¬
тели устраивают в своем доме бал, который начинается поздно вечером. В
полночь подается торт с 15 свечами, после чего танцы и веселье продолжа¬
ются до утра. Отныне девушка считается уже взрослой и „выходит в свет".
Ей разрешается носить туфли на высоком каблуке — непременный атрибут
одежды мексиканки, ходить на балы, заводить знакомства с молодыми
людьми, принимать от них подарки и т.д.
Очевидно, что в названных семейно-обрядовых праздниках ощущается
влияние католической церкви. И это закономерно, ибо многие религиозные
установки в результате их многовекового развития входят в культуру и быт
народа, став народными традициями, и как таковые продолжают существо¬
вать, несмотря на ослабление влияния религии^.
У современного поколения мексиканцев религиозные чувства несколько
притупились, потеряли былую значимость, католики (98% населения) в
большинстве своем не соблюдают церковные обряды и праздники. Вместе с
тем католическая церковь прочно вошла в быт мексиканской семьи. Креще¬
ние детей здесь считается обязательным. Среди мексиканцев особенно
большой популярностью пользуется праздник Святой девы Гуадалупе. Не¬
которые авторы в связи с этим называют мексиканскую религию „гуадалу-
пизмом". Религиозные праздники отмечаются семьей сначала в церкви, за¬
тем в семейном кругу. В День святого Хуана всей семьей купаются в озе¬
рах, реках и бросают в воду цветы. Наряду с общенациональными религиоз¬
ными праздниками в Мексике много местных, связанных с чествованием
местных святых.
Новым тенденциям, разрушающим традиционные взаимоотношения меж¬
217
ду родственниками, противостоит проводимая с 1917 г. руководством стра¬
нны политика „сплочения единой революционной семьи", направленная на
решение в условиях большой этнокультурной вариативности вопросов кон¬
солидации нации, воспитания национальной гордости, патриотизма. В рам¬
ках этой политики действует так называемая гармонично-коллективная мо¬
дель формирования личностной определенности. В соответствии с ее разра¬
ботками в школах преподается предмет educacion civica, который помогает
подросткам усвоить правила взаимного общения, повысить уровень нацио¬
нального самосознания. Указанная модель предполагает восприятие ответ¬
ственности за успешное развитие страны как своего личного дела, вместе с
тем ответственность за свои поступки индивидуум делит с обществом, что
порождает определенные внешние формы социального контроля за деятель¬
ностью каждого гражданина.
Массовая миграция в городе создала условия для нивелировки ролевых
установок полов в мексиканской семье. В какой-то мере этому способству
ет американизация мексиканского общества, разрушающая традиционный
стереотип, умножая его региональные и социальные модификации. Однако
в целом этот процесс противоречив и неравномерен.
В оценке основных характеристик структуры внутрисемейных взаимоот¬
ношений мужа и жены как в научной, так и в популярной литературе об¬
наруживаются обескураживающие противоречия. Одни авторы считают мек¬
сиканскую семью из-за невысокого уровня разводов одной из самых проч¬
ных, обеспечивающих социальную защищенность личности, прибежище от
жизненных невзгод. Прочность семейных связей, глубокое уважение детей
к родителям и старикам, высокий статус матери, дисциплина детей в семье
расцениваются исследователями как факторы стабильности семьи в Мекси¬
ке^. Другие ученые, указывая на дезорганизованность семейных отношений
мексиканцев, особенно малоимущих и средних слоев, отмечают дестабили¬
зирующее влияние на членов семьи таких фактов, как отсутствие взаимоу¬
важения супругов, верности мужа, довольно распространенное, особенно в
низших неимущих слоях, применение физического насилия при воспитании
детей, избиение жены, открытое сожительство с другими женщинами, час¬
то с родственницами по линии жены^.
Ввиду такого разногласия мнений очевидна необходимость концептуали¬
зации современной системы внутрисемейных отношений в Мексике.
Специфику мексиканского варианта семьи определяют два фактора —
относительно низкий статус института семьи и брака и значительная разни¬
ца в статусе полов в браке. Невысокий престиж супружеской системы
обусловлен, с одной стороны, традиционно низким социальным статусом
женщины в Мексике, с другой — существованием на протяжении длитель¬
ного времени системы „амиго" — одного из основных факторов, влияющих
на социализацию мексиканского мужчины, обусловливающих его участие в
неформальной группе сверстников-друзей^.
Амиго действует как мощный механизм социального контроля и эффек¬
тивного влияния на мексиканского мужчину в течение всей его жизни. Хотя
у разных социальных слоев населения наблюдаются существенные различия
в формах и размерах такого контроля, эта система считается высокостатус¬
ной на всех социально-экономических уровнях. Как показывают исследовате¬
ли, в системе амиго участвуют 24% мужчин среднего класса и 41% низшего
218
класса (обследования высших слоев общества не проводилось)^. Установки
амиго во многом подвержены влиянию мачизма. Мачизм делает упор на неза¬
висимость, импульсивность, физическую силу как единственный способ раз¬
решения разногласий, жестокость и грубость в обращении с женщинами и
насилие в отношении более слабых и подчиненных, определяя соответствие
индивида существующим государственным и общественным структурам, его
отношение к культурным императивам или дисгармонию с ними.
При таком положении дел включение мексиканского мужчины в супру¬
жескую систему является для него своего рода жертвой. И хотя на личнос¬
тном уровне женитьба приносит ему достаточно благ, ощущение потери со¬
циального престижа холостяка достаточно велико*. С точки зрения систе¬
мы амиго ее член, женившись, „теряет свою независимость" и тот высокий
социальный статус, который имел юноша в течение ряда лет.
В современной мексиканской семье сформировался своеобразный харак¬
тер господства мужчины над женщиной*. Oil обусловлен не только традици¬
онно подчиненным положением женщины в мексиканском обществе, которое
воспроизводится из поколения в поколение. Доминирующее положение гла¬
вы семьи в семейных отношениях наряду с абсолютным характером собствен¬
ности и свободой договора было одним из классических принципов, закреп¬
ленным еще в 1870 г. первым в истории Мексики федеральным Граждан¬
ским кодексом, который отражал положение старого испанского права.
Дифференцированный статус полов в супружеской системе дополняет¬
ся конфликтом между ролевой установкой мужа, полученной в системе
амиго, и требованиями, выдвигаемыми супружеской системой. Как прави¬
ло, конфликт такого рода разрешается в пользу социального самоутвержде¬
ния мужа. В критический момент супружеской жизни муж, как правило,
не ищет поддержки у своей жены (в силу ее низкого социального статуса)
и стремится заполнить „вакуум статуса" возвращением в систему амию*.
Однако жена открыто или тайно пытается противостоять этой системе.
Такая борьба, особенно острая в первые годы супружества, не прекращает¬
ся на протяжении всей супружеской жизни в различных формах и масшта¬
бах. При этом женатый мужчина стоит перед выбором: продолжать активно
действовать в системе амиго при относительном ухудшении супружеского
климата, полностью переориентироваться на супружескую жизнь и (третья
альтернатива), выйдя из системы амиго, попытаться выработать компромис¬
сную форму между первым и вторым вариантами поведения, обеспечиваю¬
щую позитивный внутренний образ. В действительности взаимоотношения
супругов в мексиканской семье нельзя характеризовать однозначно, им
свойственна целая гамма приспособления к трем названным вариантам по¬
ведения мужчины. Такое расхождение необходимости исполнения супру¬
жеской роли и ценностной ориентации мужчины составляет хорошо извест¬
ный феномен разрыва личности в процессе социализации, который наблю¬
дается и в других латиноамериканских странах*.
По мнению исследователей мексиканской семьи, взаимоотношения суп¬
ругов в ней наиболее четко отражает формула: „одиночество в компании
двоих". Эта проблема, в свою очередь, включает как изоляцию каждого из
супругов, так и понятие их „совместного одиночества" и отчуждения от де¬
тей по мере взросления последних (речь идет не о личностной приспособ¬
ляемости, а об отчужденности как члена супружеской семьи)*.
219
Характер капиталистического развития Мексики, принявший крайне
уродливые, далекие от классических западноевропейского и североамери¬
канского образцов формы, искаженный воздействием докапиталистических
пережитков, наложил весьма ощутимый отпечаток на судьбу национальных
семейных отношений. В этих условиях присущие моногамии противоречия
получили наиболее полное развитие^. Ввиду этого единобрачие выступает
здесь нередко лишь как внешняя форма.
Если исключить компенсаторное стабилизирующее влияние церкви, не
формальной организации соседей или расширенной семьи, жена, участвуя
лишь с одной стороны в супружеской системе, становится полностью зави¬
симой от мужа в деле интегрального сохранения данной системы. Ввиду
этого очевидно, что семейные конфликты способствуют отчуждению преж¬
де всего жены. Как показывают полевые исследования, конфликты в мек¬
сиканской семье возникают по четырем основным причинам: !) распределе¬
ние семейного бюджета; 2) конфликт на базе ценностных ориентаций обоих
супругов; 3) относительно низкий культурный уровень обоих супругов; 4)
различный культурный статус супругов^.
Надо отметить, что первая причина конфликтов вызвана отсутствием у
мужа понимания необходимости вносить свои средства в семью. Размер
конфликта в этой области зависит как от статуса мужчины в системе ами-
го до женитьбы, степени его эмоционального и финансового участия в ней,
так и от уровня его эмоционального участия в супружеской жизни и лич
постных качеств жены (прежде всего степени ее покорности).
Конфликт на почве ценностных ориентаций напрямую связан с тем об¬
стоятельством, что система амиго социализирует мексиканского мужчину
посредством ряда механизмов и ролей, которые котируются в ней очень вы¬
соко, особенно в подростковой субкультуре. Вступая в брак, неожиданно
для себя молодой человек оказывается перед набором совершенно новых
для него ролей. В большинстве случаев их новые ориентиры находятся в
прямом противоречии с его оценкой своего образа. Существует мнение,
что в мексиканской общественной структуре нет большего противоречия,
чем противоречие между ролями женатого и холостого мужчины.
Анализ „объективных сообщений" жен, полученных в результате поле¬
вого исследования американскими специалистами, позволил сформулиро¬
вать следующие пять основных пунктов, определяющих индексы поведения
мужа в мексиканской семьей
1) тратит деньги таким образом, что это не приносит пользы семье; 2)
часто не бывает дома; 3) предпочитает проводить свободное время с друзья¬
ми, а не с женой и детьми; 4) тратит с друзьями много денег; 5) не ночует
дома по не зависящим от его работы причинам.
Общий уровень корреляции коэффициентов (соотношение двух пере¬
менных „да" и „нет" в ответе на каждый вопрос), составляющий соответ¬
ственно по каждому пункту 68, 63, 74, 60 и 69, говорит об активном учас¬
тии мужей после женитьбы в системе амиго.
В этом же полевом исследовании были сформулированы шесть пунктов
для определения индекса отчуждения жены:
1) я часто вынуждена искать эмоциональную поддержку вне семьи; 2)
мой муж не говорит, сколько он зарабатывает; 3) мой муж не спрашивает
моего мнения по вопросам семейных расходов; 4) мой муж строит планы на
220
будущее, не спрашивая моего мнения; 5) мой муж не говорит со мной о
личных проблемах ; 6) я не могу говорить о своих личных делах с мужем.
Корреляция коэффициентов по пунктам составила соответственно 51, 51,
61, 33, 57, 69. Данные о степени участия мужа в системе амиго и отчужде¬
нии жены позволяют получить представление не только об отношениях меж¬
ду супругами, но и о взаимосвязи между этими двумя явлениями. Статисти¬
ческий анализ данной взаимосвязи показывает, что, чем активнее участие му¬
жа в системе амиго, тем более отчуждена в семье жена. Если анализ допол¬
нить рассмотрением контрольных социально дифференцированных показате¬
лей, то динамика названных переменных будет значительно варьировать в за¬
висимости от классового состава обследуемой совокупности, образовательно¬
го уровня жен, а также такого фактора, как количество детей в семье.
Особый интерес представляет анализ внутрисемейных отношений суп
ружеских пар в связи с их классовой принадлежностью. Контрольные дан
ные полевого исследования показывают, что в супружеской системе бед¬
нейших слоев общества значительно выше как участие мужа в системе
амиго ( коэффициент корреляции 50), так и отчуждение жены (коэффици¬
ент корреляции 63У*. Это служит еще одним свидетельством большой пас¬
сивности и покорности женщин низших классов.
Наиболее разительны различия во взаимоотношениях в семьях, где жен
щины имеют разную степень образованности. Так, при условном их разгра
ничении на две группы — первую, где жены обучались менее 6 лет, и вго
рую — более 7 лет, для первых был характерен коэффициент корреляции
55, а для вторых — 67. Таким образом, более высокий образовательный
уровень жены делает ее в семье более отчужденной, и, несомненно, именно
это обстоятельство заставляет ее действовать более активно в конкуренции
с системой амиго.
Очевидно, что как мачизм мужа, так и отчужденность жены не могут
не оказывать серьезного влияния на психологический климат мексиканской
семьи. При исследовании этого вопроса проведенный анализ коэффициен¬
тов корреляции молодых супружеских пар, женатых менее 4 лет, показы¬
вает соотношение 76, а для состоящих в браке более 5 лет — 55. Это поз¬
воляет сделать вывод, что большая отчужденность молодой жены чревата
„взрывоопасными последствиями"^.
Сопоставление степени отчужденности жены со степенью вовлеченнос¬
ти мужа в систему амиго с разбивкой семей по количеству в ней детей,
показывает, что пары, имеющие менее трех детей, дают коэффициент от¬
чуждения 46, многодетные — 61. Таким образом, получается, что в плане
измерения отчужденности жены система амиго играет большую дестабили¬
зирующую роль в многодетных семьях*".
Особая роль семьи как социальной группы обусловлена ее важнейшей
функцией по поддержанию культурной преемственности этнической об¬
щности путем передачи культурного наследия последующим поколениям.
Семья создает специфическую среду, в которой происходит социализация
ребенка, формируются его установки и ценности, во многом определяющие
основные характеристики последующей жизнедеятельности.
Поддержание этнокультурной преемственности в семейной среде осу¬
ществляется различными путями. В том случае, если сохраняется трехпоко
ленная семья, общение с дедушкой и бабушкой служит своеобразной ком¬
221
пенсацией недостаточного общения с родителями и обеспечивает известную
этническую направленность воспитания детей. Однако ныне доминирующая
нуклеарная семья практически исключает подобный механизм приобщения
к материнской культуре.
В распределении родительских обязанностей в семье, состоящей из одной
супружеской парь: и детей, наблюдается большая конкретизация, связанная с
половой принадлежностью ребенка. Так, в дошкольном возрасте воспитание
мальчиков и девочек полностью находится в ведении матери. Отец крайне ред¬
ко носит детей на руках или играет с ними. Эмоциональная близость между
отцом и детьми практически отсутствует. Они уважают отца как главу семьи
и очень боятся его гнева. Авторитетный стиль управления семьей, определен¬
ная отчужденность отца от семейных дел породили „феномен отсутствующего
отца" в мексиканском доме (имеется в виду отсутствие не из-за смерти или
ухода из семьи, а прежде всего психологическая отчужденность)*'.
По мере взросления детей девочки, еще больше отдаляясь от отца, при¬
общаются к ведению домашнего хозяйства, воспитанию младших братьев и
сестер, усваивая традиционную для мексиканских женщин модель поведе¬
ния — мягкость, инертность, сексуальную пассивность, покорность, терпе¬
ливость. Мальчик пользуется значительно большей свободой, и образцом
ему служат те внешние поведенческие модели, которые характерны для от¬
ца. С раннего детства в нем воспитывается мужской эгоизм, который при¬
нимает гипертрофированные формы вследствие подчеркнутого внимания
взрослых и сестер к личности мальчика.
Еще в юношеском возрасте основные социальные и психологические
функции становления мужчины начинает выполнять система амиго. Она
становится компенсаторным источником безопасности подростка, восполняя
традиционно отсутствующий с детства контакт с отцом. Оценка секса, жен¬
щин, денег, друзей, стремление к власти приобретается, развивается и ук¬
репляется в системе неформального общения в кругу друзей.
Информатор Мануэль рассказывает, какое влияние на него оказывали
его друзья, когда он в детском возрасте с одобрения их компании вступил
впервые в половую связь, обучился игре в карты, сумел утвердить в драке
свое мужское достоинство. Однажды, когда он, повзрослев, нашел постоян¬
ную хорошо оплачиваемую работу, друзья потребовали, чтобы он оставил
ее и прошел испытания, которые настоящий мужчина — „мачо" — должен
преодолеть^.
Комплекс мачизма в качестве культурной ценности передается молодым
мексиканцам через ряд „настоящих испытаний". Прежде всего это уличные
драки как внутри группы, так и между различными группами. Набор ценнос¬
тей и опыта, приобретаемых на такой основе молодым человеком, становится
базисом для создания им собственного образа настоящего мужчины — безза¬
ботного, романтического Дон-Жуана, пренебрегающего домашними обязаннос¬
тями и повседневными заботами семьи. Для мексиканского подростка любой
намек на сентиментальность, добродушие недостоин настоящего мужчины*^.
Лояльность по отношению к друзьям часто ставится выше родственных
связей. Среди юношей, поддерживающих солидарность через систему ами¬
го, бытует формула, отражающая их взаимоотношения, — „больше, чем
брат". Правила, контролирующие социальные отношения между близкими
друзьями, стоят на высшей отметке шкалы культурных ценностей и под¬
222
крепляются эффективной системой позитивных и негативных санкций. О
степени близости между членами группы амиго дает представление такой
пример. Юноша, опасающийся, что забеременевшая от него девушка обра¬
тится в суд, может быть уверен — среди друзей он найдет поддержку и
они помогут ему поставить под сомнение его отцовство и избежать наказа¬
ния. Как отмечает один из исследователей феномена амиго в Мексике,
мужская солидарность в таких случаях доходит до того, что друзья вынуж¬
дают истицу к половой близости с ними".
Таким образом, система амиго в мексиканском обществе выполняет те
функции по социализации мужчин, которые обычно являются прерогативой
семьи. Важный рубеж жизненного цикла ребенка формируется вне семей¬
ного коллектива, в итоге жизнь индивидуума все меньше сориентирована
на нормы семьи. Ввиду этого очевидна тенденция к нарушению межпоко¬
ленной трансмиссии этнокультурных традиций.
Надо добавить, что в условиях усиливающейся в последнее десятилетие
транснационализации страны происходит рост социально-культурного влия¬
ния США. Посредством расширения рынка кино (в 1984 г. 68,4% вышед¬
ших на экран новых фильмов были американские), пластинок, журналов,
видеокассет пропагандируются индивидуализм, расизм, самолюбие, роскош¬
ный образ жизни. В результате среди мексиканцев, особенно подростков,
отмечаются повышение уровня отчужденности от национальных ценностей,
тяга к североамериканскому мышлению и формам потребления. Это нашло
свое выражение в участившихся случаях проживания подростков на „амери¬
канский манер" отдельно от родителей.
Таким образом, несмотря на то что сфера семейного быта является в
силу традиционной замкнутости наиболее консервативной частью этничес¬
кой культуры, происходящие в стране социально-экономические процессы
и перемены модифицируют традиционные характеристики мексиканской
семьи. Ныне здесь соседствуют достаточно высокий уровень детности, гла¬
венство мужа и отца, низкая разводимость и растущая профессиональная
занятость женщин, выравнивание образовательного и культурного уровня
супругов. Эти новации способствуют закреплению и расширению социаль¬
но-экономической и культурной независимости женщин и в конечном счете
приведут к переменам во взаимоотношении полов, к их новым ролевым ус¬
тановкам в семье. Можно полагать, что в поведенческой модели мужчин во¬
зобладают новые ценности, противостоящие мачизму и системе амиго. От¬
ражением этих тенденций явился принятый под давлением широкой обще¬
ственности закон об охране матерей и детей, направленный на сокращение
неюридических браков. ** Anuario estadfstico dc America Latina у el Caribe, 1987. Santiago de Chile, 1987. P. 54.
^ Гражданское и семейное право развивающихся стран: Гражданские кодексы стран
Латинской Америки. М., 1988. С. 39.
^ International population conference, Florence, 5-12 June. Liege, 1985. Vol. 3; Qm/odraM 7.
Modalitcs dc la formation ct evolution dcs unions en Ameriquc Latin. Цит. по реф. жури.
„География" (07К 1987. 5 5к. 74).
' МмлГ/т/ МяЯйа С. Una cxpcricncia mcxicana: eje ocuilteco // Amer. indfgcna. 1987. N 4. P. 607-
613.
^ Anuario estadfstico... 1987. P. 27.
223
' Рассчитано по: Demographic yearbook, 1985. Geneva, 1987. P. 339, 340.
^ Гражданское и семейное право развивающихся стран. Р. 54.
' Demographic yearbook, 1985. Р. 340.
* Цит. по реф. журн. „География" (07К 1987. ^ 5 5к. 74).
*° Notas sobre la economfa у el desarrollo de America Latina у el Caribc. Santiago de Chile, 1987.
Die., N455/456.
" Estudio economico de America Latina у el Caribe, 1987. Santiago de Chile, 1987. P. 60.
^ Рассчитано no: Labour statistics yearbook, 1966. Geneva, 1966. P. 77; Ibid. 1987. P. 64.
" Ibid. 1987. P. 76.
'< Ibid. P. 74, 77.
" Jornada. Mexico, 1987. 17 jul.
" Ibid.
" F^rnan^a Ca/deran G. Urbanizacion у entidad: el caso de la Paz. Cochabamba, 1984; Салс/яя
F. Las listas de espera en el sistema de cargos de Zinacantan; cambios sociales, politicas у
econdmicas (1950-1982) // Amer. indfgcna. 1986. N 3. P. 481.
'* Anuario estadistico... 1987. P. 56.
" Jomada. 1987. 17 jul.
"Ibid. 27 jul.
" Ibid.
" Rev. interamer. planificacion. 1987. N 83/84. P. 157.
"Anuario estadistico... 1987. P. 27.
"Demographic yearbook, 1985. P. 339.
" Я Я. The reinterpretation and elaboration of fiestas in the Sierra Norte de Puebla Mexico //
Etnology. Pittsburgh, 1987. N 4. P. 281-296.
2* Corwin A/. There are the Mexicans. N.Y., 1947. P. 159, 275; Tuck R.D. Not with the first. N.Y.,
1946. P. 124, 130; Barfan dg Tr^vina. My heart lies south. N.Y., 1953.
ЛА. La vida familiar del mexicano. Mexico, 1955. P. 35, 58.
" F/ayd D. Voluntary associations in a Mexican city // Amer. Sociol. Rev. 1953. Aug. 18. P. 380-
386.
" Kinship and family organization. N.Y., 1966. P. 111.
"ЯегяммАю M. Op. cit. P. 56; Five families. N.Y., 1955. P. 154.
" Estrategia. Mexico, 1987. N 76. P. 54.
и AAeway G.W. Mexican in search of the Mexican // Amer. J. Economics and Sociology. 1954. Jan.
2. P. 203,209.
" Яа/Zi В. Continuities and discontinuities in cultural conditioning: Readings in sociology. N.Y.,
1966. P. 166-175.
* B^rmad^z M. Op. cit. P. 56; S^/яая M. On the meaning of alienation // Amer. Sociol. Rev. 1959.
Dec. P. 788.
" В числе этих противоречий Ф.Энгельс выделял „...безусловное господство
мужчины над женским полом и возникающий при этом антагонизм между мужем
и женой, неизменно сопутствующий единобрачию гетеризм (внебрачное половое
общение мужей с незамужними женщинами)... Вместе с этим развивается второе
противоречие внутри самой моногамии. Рядом с мужем, скрашивающим свое
существование гетеризмом, стоит покинутая жена" (Марже А*., Эмлельс Ф. Соч.
2 е изд. Т. 21. С. 70).
"The Amigo system and the conjugal Mexican family. N.Y., 1966. P. 105.
"Ibid. P. 109-110.
" Ibid. P. 110.
"Ibid.
^Z^wi-yG. Five families. N.Y., 1959. P. 18.
C/iar/^y F. Social systems, essays on their persistence and change. N.Y., 1960.
^ Z^wZy G. The children of Sanchez. N.Y., 1961. P. 42.
B^rmad^z M. Op. cit. P. 56.
" Z^wZy G. The children of Sanchez. P. 43.
224
Народы андских стран
CJ7. Серея
В андских странах, как и вообще в Латинской Америке, при разнообра¬
зии культурных традиций европейского, индейского, африканского и ази¬
атского происхождения официальной моделью семьи стала принесенная из
Европы моногамная нуклеарная семья.
В андских странах, как и во всем мире, реальность, даже тяготеющая к
модели, являет нам множество вариантов и такой формы социальной орга¬
низации, как семья. С XVI в., с первых же десятилетий колониального пе¬
риода, даже в городской испанской семье, наиболее жестко ориентирован¬
ной на моногамию и нуклеарность, мы встречаем и черты расширенной
семьи (как в средних слоях, так и в casa grande — „большом доме" город¬
ской верхушки, объединявшем и родственников, и челядь), и — наиболее
явно среди энкомендеро и других представителей высших кругов колони
ального общества — тенденцию к фактической полигамии; последняя осо¬
бенно характерна для поздней колонии и для республиканского периода,
когда, с одной стороны, упрочились асьенды со всеми характеристиками
помещичьего быта, а с другой — исчезли такие институты контроля обще¬
ственной морали, как инквизиция. Вряд ли резонно выводить терпимость к
конкубинату в испано-креольской среде из обычая баррагании, существо¬
вавшего на Пиренейском полуострове как остаток мусульманского права.
Баррагаиия подразумевает фактический брак при проживании женщины в
доме содержащего ее мужчины. Но если такое явление отмечено в Испании
в XVI в., то для испано-креольских семей в андских странах оно не зафик
сировано и остается чисто умозрительным допущением историков. Нас это
не должно удивлять: в принципе нормы испанской культуры соблюдались
завоевателями и колонистами в иноэтнической среде строже, чем в Испа¬
нии, хотя бы для того, чтобы привнесенная культура не растворилась в ин¬
дейской, превосходящей по объему. Именно культурные показатели наряду
с расовыми объединяли господствующую испанскую группу. В показатели
эти входила и модель семьи. Но, следует повторить, именно модель: при
соблюдении определенного минимума в комплексе культуры некоторые
нормы можно было нарушать. Так и произошло с семьей в андских горо¬
дах, где контроль был эффективнее; особенно многочисленны варианты в
метисных слоях — социально низших и средних — городского населения.
Если городская семья при всех оговорках являла собой варианты нук-
леарной семьи или такие отступления от нее, в которых не исчезала воз
можность возвращения к образцу, то сельская семья (первоначально чисто
индейская, а в XX в. — индейская и метисная; вкрапления европейских и
азиатских колонистов могут не приниматься в расчет) в андских странах
может служить примером постепенного обеднения набора социальных свя¬
зей. Испанские конкистадоры столкнулись с разнообразнейшими социаль¬
ными и локальными формами внутри' и межсемейной организации: однопо¬
коленный инцест у Сапа инков; полигамия в среде инкской и местной
аристократии, теоретически дозволенная и общинникам; клановая организа¬
ция; сосуществование кровнородственной и соседской общин; расширенная
8 Тип. зьк. 1065
225
семья; черты нуклеарной семьи. Степень оформленности двух последних
видов нам до сих пор неизвестна. По сей день не разрешены споры, что
было основной ячейкой общества в Тауантинсуйу: семья (и в какой форме),
клан или община.
С последним связана и терминологическая неопределенность, дошедшая
до наших дней. Община традиционно обозначается в языках кечуа и аймара
словом „айлью" (букв, „связь"). Согласно законодательному декрету Перу
1969 г., подтвержденному Конституцией 1979 г., „индейские общины" (ны¬
не крестьянские общины) суть организации поселенцев, большей частью
наследующие либо хранящие древние обычаи и владение туземцев, именуе¬
мые „айлью", пережившие испанское завоевание, но также и состоящие из
иных, более современных групп"*. В этнографических и исторических ис¬
следованиях этот термин также относится подавляющим образом к общине.
Однако американская ученая Б. Исбелл во время полевой работы в горном
перуанском департаменте Аякучо столкнулась со случаем, когда алькальд
поселка во время обряда употреблял этот термин в значении „семья". Один
из информаторов сообщил ей, что айлью вообще для них означает „любую
группу, которую кто-нибудь возглавляет": это может быть „квартал" (barrio)
— часть деревни или поселка, заселенная родственниками, может быть и
вся деревня, чья-либо семья, и даже район, департамент или вся нация^. Бо¬
лее конкретно определение термина в соотношении с нуклеарной семьей
дает на основе исследования общины Тангор в департаменте Паско (Цен¬
тральные Анды) Энрике Майер. Согласно его фомулировке, родня вне нук¬
леарной семьи состоит из кровных родственников и их супругов обоего по¬
ла. Все родственники, входящие в эту категорию, зовутся общим словом
„айлью". Эта группа не эндогамна и не экзогамна, т.е. брак разрешен как
внутри айлью, так и вне его^.
Сельское население Центральных Анд в подавляющем своем большинстве
— индейцы, то же можно сказать о зоне тропических лесов Эквадора, Боли¬
вии и Перу. В обоих районах имеется все увеличивающаяся группа метисов,
но сравнительно с массой индейского населения она незначительна. Недаром
правительство Боливии и Перу после революций соответственно 1952 и
1968 гг. законодательно запретили употребление термина „индеец" как при¬
обретшего за четыре века уничижительный смысл и заменили его термином
„крестьянин" — равнозначность определений очевидна. В Чили индейское насе¬
ление сравнительно немногочисленно; белая и метисная сельская семья являет
достаточно стабильные черты нуклеарной, моногамной и патриархальной.
Доля индейского сельского населения в нациях рассматриваемых стран
представлена ниже (данные на конец 1970-х годов; достоверных цифр на
наше время не имеется)*:
Страна
Всего населения В том числе
(округл.), млн. индейского сельского
Эквадор 10
Перу 18
Боливия 6
Чили 11
2 564 324
6 025 110
3 526 062
615 500
226
Данные для Перу и Чили включают городское индейское население.
Вообще вся статистика, особенно относящаяся к демографии, в андских
странах должна восприниматься лишь как ориентир: расхождений между
цифрами, предлагаемыми разными источниками, слишком много.
Как уже было сказано, государственные законодательства ориентирова¬
ны на модель моногамной нуклеарной семьи. В качестве примера может
быть рассмотрено законодательство Перу, в общих чертах совпадающее с
соответствующими легислативными нормами соседних андских стран.
Согласно Конституции 1979 г., государство признает и защищает
семью как основную институцию нации. В русле понимания семьи только
как нуклеарной определяются взаимные обязанности родителей и детей,
декларируются защита материнства и право семьи на жилище. Исходя из
политики (в целом неэффективной) регулирования рождаемости, правитель¬
ство в последней конституции облегчило процесс регистрации браков
вплоть до разрешения регистрировать их приходским священникам — под¬
разумевается, что плата за отправление церковного и регистрацию граждан¬
ского брака будет одна, но в двойном размере. Супруги по соответствую¬
щим статьям Гражданского кодекса обязаны питать и воспитывать своих
детей, проявлять верность и взаимопомощь, вести совместную жизнь в оп¬
ределенном помещении; мужу вменяется в обязанность руководить семей¬
ной жизнью, жене — заниматься домашним хозяйством. Конституция
1979 г. в статье 5 добавляет к этим обязанностям родителей обязанность
детей почитать родителей и помогать им. Жена, кроме того, вольна выби¬
рать профессию либо занятие и работать вне дома при явном или скрытом
согласии мужа. В случае невозможности исполнения мужем предписанных
обязанностей (отсутствие по той или иной причине, лишение прав) женщи¬
на имеет право выполнять эти функции. Жена носит фамилию мужа, при¬
бавляя ее к своей, пока не выйдет замуж снова.
Исходя из практики, Конституция 1979 г. признала юридическую пра
вомерность фактических браков. В общественном мнении добрачные связи
не представляют собой серьезного нарушения морали. Согласно опросу,
проведенному в 1969 г., почти 45% женщин начали сексуальную жизнь в
фактическом браке, 15% — в формально зарегистрированном и 40% — в
церковном. Степень принятости незарегистрированного сожительства раз¬
лична в разных зонах и зависит также от социальной среды (в частности,
город или село). В начале 60-х годов в Перу 9,5% городского населения
старше 14 лет состояли в сожительстве, в сельской зоне этот показатель
достигал 16,6%. К началу 70-х годов цифры составляли соответственно
10,63 и 19%'.
Политика регулирования рождаемости в андских странах не имеет ус
пеха; при значительной доле незанятого или частично занятого в произвол
стве населения неизменна тенденция к численному росту населения с го
личными колебаниями. Наибольший прирост населения в Эквадоре и Перу
за последние десятилетия отмечен в восточных районах — в сельве (в Эква
доре до 7,5%)*, что объясняется, впрочем, не только естественным прирос
том, но и колонизацией этого района.
Целью брака, как официально, так и в общественном мнении, является
создание и ведение общего хозяйства, рождение и воспитание детей. Поле¬
вые работы в горном перуанском департаменте Уанкавелика выявили, что
227
общинники — и индейцы, и метисы — видят обусловленность создания
семьи половым разделением труда (господствующим не только в этом де
партаменте, но и во всей горной зоне и в сельве; на побережье и в круп¬
ных городах указанное требование проявляется в ослабленном виде). Как и
в традиционных обществах всего мира, только после женитьбы мужчина
может считаться полноправным членом общества; холостой человек, по ке-
чуанскому определению, „не полон". Тот же принцип полового разделения
труда приводит к тому, что мужчина, согласно общественному мнению, не
может жить один, так как готовить и исполнять домашние работы ему неп¬
рилично — это дело женщин; женщина же может жить одна, так как, по¬
мимо работы по дому, она имеет право (а чаще всего обязана) помогать
мужчине в поле либо работать сама^.
Последнее обстоятельство, вероятно, привело к тому, что формально
господствующая моногамия являет собой в сельской местности, по опреде¬
лению Р. Болтона, „серийную моногамию" (monogamia en serie) из-за довольно
частых разводов в ранние годы и повторных браков, а также из-за высокого
уровня смертности. Обычно мужчина остается вдовцом не более года, а за¬
тем вступает в новый брак. Полигамия была распространена среди чилий¬
ских мапуче еще во второй половине прошлого века; сейчас она встречает¬
ся в горных районах Боливии и Перу, но не одобряется обществом — да и
то, насколько можно судить, речь идет об одном официальном браке и дру¬
гом фактическом*.
Основной единицей как на практике, так и в терминологии является
так называемый семейный дом (wasi-familia), совпадающий с рамками нук-
леарной семьи, но он же может временно охватывать и другие родственные
группы. Саму нуклеарную семью на кечуа нередко называют этим терми¬
ном*. Вопрос о сотношении форм семьи будет рассмотрен ниже; но и о
нем, и о других проблемах изучения семьи в андских странах следует ска¬
зать, что при достаточном числе конкретных этнографических исследований
(преимущественно в горной и лесной зонах) экстраполяция полевых данных
на весь регион весьма условна. Попытки же обобщения, проявляющиеся в
латиноамериканской историографии (по крайней мере известные нам), стра¬
дают декларативностью и не поднимаются на уровень конкретных работ.
Согласно законодательству, в большинстве андских стран гражданская
зрелось наступает в 18 лет; с этого возраста человек может вступать в
брак. В Перу Гражданский кодекс позволяет в случае необходимости зак¬
лючать брак с согласия властей и в более раннем возрасте: женщине — с
14 лет, мужчине — с 16. Фактически же в сельских общинах Сьерры это
нормальный возраст для создания семьи, но по экономическим резонам сро¬
ки колеблются от 15 до 17 лет для женщины и от 16 до 20 для мужчи
ны. Вступая в брачный возраст, девушки меняют прежнюю одежду на
„взрослую", ярких цветов; в поселке Тупе (кечуа провинции Яуйос, Перу)
девочки в раннем возрасте носят метисное платье, что не характерно, а при
достижении брачного возраста меняют его на традиционную индейскую
одежду. Тем самым еще раз проявляется мнение, что до брака (хотя бы
потенциального) человек, в сущности, не „настоящий" и лишь по вступле¬
нии в определенную возрастную группу он принимает культурные нормы
данной группы и становится полноправным. Юноши колья (аймара) в 17—
18 лет начинают носить белую накидку до полутора метров длиной, вид¬
228
ную, как и девичьи одежды, издалека. Новые одеяния свидетельствовали
любому, что их носитель может принимать ухаживания и сам ухаживать —
необходимый добрачный период с достаточно стандартизованными нормами
поведения'".
Среди андеанистов нет единодушия в оценке такого характерного для
всех традиционных обществ региона явления, как пробный брак: большин¬
ство считает его одной из форм брака, однако заслуживает внимания пред¬
ложение Р. Болтона рассматривать его как один из этапов создания семьи,
в одном ряду с долгим периодом ухаживания, сговором, брачными церемо¬
ниями. Действительно, церковное и гражданское оформление брака может
считаться привнесенным элементом; консенсуальный же с согласия родите
лей и традиционных властей существовал еще в доиспанское время, судя
по тому что упоминания о нем мы находим в документах XVI в. Первое
упоминание о пробном браке у индейцев относится к 1539 г., через семь
лет после прибытия испанцев. Суть пробного периода четко сформулирова¬
на в одном из указов вице-короля де Толедо: „Поскольку почти всеобщим
является среди индейцев обычай не жениться без того, чтобы прежде по¬
знакомиться, договориться, или поговорить некоторое время, и вести схо¬
жую с семейной жизнь меж ними, как если бы истинную, и им кажется,
что если муж прежде не познал свою жену... то после того, как они же¬
нятся, не будет меж ними мира, довольства и дружбы*'".
Период пробного брака может быть различной протяженности. Часто он
длится до рождения первого ребенка или до тех пор, пока жена не увери¬
лась в беременности; иногда до 2—3 лет, которые уходят на то, чтобы нако¬
пить деньги для оплаты регистрации брака, последующих церемоний, по¬
стройки собственного дома, покупки земли и т.п. Пробный брак на кечуа
имеет два названия: „сирвинакуй" и „тинкунакуй". Перуанский исследова¬
тель Р. Маклин-и-Эстенос видит в первом испанизированную форму (или
кечуанизированное испанское слово), означающую взаимную службу супру¬
гов, во втором же (с корнем, означающим „доверие") — значение интимного
объединения двух людей'^. Результатом „сирвинакуй" или „тинкунакуй" мо¬
жет быть и расхождение „пробных супругов", но, судя по всему, это слу¬
чается не чаще, чем развод (очень легко оформляемый) после формального
брака.
У колья зафиксирована форма „умыкания", не характерная для их сосе¬
дей, но встречающаяся в том или ином варианте у отдельных народов Ста¬
рого Света. Девушка (обычно по договоренности с парнем) приходит тайно
в дом родителей возлюбленного и прячется до ночи в овечьем загоне. Толь¬
ко ночью сестры парня или он сам будят родителей и сообщают им о при¬
шедшей. Девушке устраивается форменный допрос, и, если она родом из
более бедной семьи, ее могут и выгнать. В случае принятия через некото¬
рое время приглашаются ее родители, и после ряда церемоний родители
благословляют детей на пробный брак'^.
Согласно закону, запрещается вступать в брак умственно неполноцен¬
ным лицам, лицам с наследственной заразной болезнью, глухонемым, кото¬
рые не могут ясно выразить свою волю, и уже состоящим в браке лицам. В
сельской среде все эти запреты (даже последний) не играют столь значи¬
тельной роли. Гораздо важнее подсчеты степени родства. По закону и по
обычаю, запрещаются браки между людьми, состоящими в прямом кровном
229
родстве. Закон понимает это родство в нормах европейского права; а у
крестьян, объединяющих потомков двух предков во втором восходящем по¬
колении термином „каста", брак между ними также непозволителен. Если
закон воспрещает браки между колатеральными родственниками до третьей
степени родства, то обычай — даже до четвертой. Система табуирования,
выявленная Р. Болтоном у колья Боливии, совпадает с той, что частично ли¬
бо в том же виде определена для других крестьян андского нагорья. Семей¬
ные и сексуальные союзы запрещаются между матерью и сыном, отцом и
дочерью, братом и сестрой, дедом и внучкой, бабушкой и внуком, дядей и
племянницей, теткой и племянником, двоюродными братьями и сестрами,
крестным отцом и дочерью, крестной матерью и сыном, между кумовьями
(компадре и комадре). В терминах „касты" из брачного союза исключаются:
„каста" отца отца, „каста" матери отца, „каста" отца матери и „каста" мате¬
ри матери. Инцест считается тяжким нарушением не только общественной
морали, но и космического порядка: неоднократно отмечено, что крестьяне
связывали засуху, дожди, град и другие природные бедствия со случаями
инцеста у них в селе (что свидетельствует о нередкости подобных
случаев)'*.
Наибольшую роль при выборе партнера детям традиционно играют ро¬
дители, но в ходе последних десятилетий все большее место занимает же¬
лание детей; родители часто лишь дают согласие. При оформлении первой
(и наиболее важной) из степеней брака — традиционной (церковный брак и
гражданская регистрация могут откладываться на года) с согласия алькаль¬
да поселка жених засылает друзей своей семьи к родителям невесты, иног¬
да сватают родители жениха. Согласие не дается с первой же „энтрады"
(букв, „вход", посещение). После обмена визитами родители невесты прини¬
мают принесенную выпивку и угощение — обычно это происходит при
третьей „энтраде" (тогда она называется „якупакуй" или „уарми онккой",
что на кечуа употребляется наравне с испанским словом „матримонио"
(„брак"). В сложной обрядности центральное место занимают ритуальный
обмен едой, раздача присутствующим листьев коки и особенно „пердонана-
куй- (кечуано-испан. „прощать"): перед распятием, которое держит старший
из родственников, обнимаются жених и невеста, родители и кумовья-ком-
надре. Собственно после этого кровные родители и посаженные отцы и ма¬
тери начинают звать друг друга „компадре" и „комадре", а в глазах общин¬
ников брак считается свершившимся, но, конечно, впоследствии он закреп¬
ляется церковью и государственной администрацией. Последнее постепенно
становится важнее церковного благословения'".
Молодая семья в идеале стремится иметь собственный дом, и часто со¬
ответствующие процедуры в оформлении брака откладываются до поры, по¬
ка муж не заработает на своем участке либо уйдя на заработок в Лиму, в
сельву или на шахты достаточно денег для постройки дома. Дом строится
сообща, в рамках традиционной андской системы взаимопомощи „айни" —
родственниками и свойственниками или же соседями (что нередко совпада¬
ет), но материал для постройки хозяин добывает сам и выставляет работни¬
кам угощение. По всем Андам известен обряд покрытия дома — главным
образом черепицей, в бедных районах — жесткой длинной травой ичу. В об¬
ряде участвует вся родственная группа (расширенная семья). Ритуал сочета¬
ет черты крещения и свадьбы: дом „крестят", окропляя водой с соответ¬
230
ствующими молитвами, но в то же время в обряде участвуют и „крестный
отец", и „зять", выбранный из родни. Если молодая семья не в силах по
строить новый дом, участок под который выделяется обычно отцом мужа
или, если семья жены богаче, матерью жены, то новая пара селится в доме
родителей мужа (предпочтительно) или жены. Но вообще человек обижает¬
ся, когда ему говорят, что „он вошел в дом, построенный до него". Если
жена — единственная или последняя дочь у своих родителей, то муж пере¬
селяется к ее родителям, наследует дом и участок и содержит стариков.
Патрилокальные поселения объединяют, как правило, расширенные семьи.
По результатам обследования в боливийской провинции Потоси в общинах
индейцев лайми и хукумани принята патрилокальность: старшие сыновья,
женившись, остаются в доме отца. При том, что традиционный дом имеет
не больше трех помещений, семьи же насчитывают по 4—5 человек у лай¬
ми и 7-8 у хукумани, для таких семей, как и для метисных, отмечают мно
гие авторы, характерен „промискуитет". Вероятно, речь идет не о промис¬
куитете в собственном смысле слова, а о снохачестве и о случаях колате-
рального молодежного инцеста. У аймара — скотоводов на высокогорном
плато Пуно, еще с доиспанских времен освоивших экологические ниши в
теплых долинах по обе стороны Анд,— молодые семьи довольно долго не
имеют возможности ни построить свой дом, ни заплатить за церковный
брак, как на примере поселков К'еро и Паратиа объясняет Берид Ламберт,
из-за эксплуатации отцом либо падрино — крестным отцом, так как обяза¬
ны пасти стада старших. Тем самым как бы затягивается их пребывание в
добрачной возрастной группе — пастухами работают подростки. Они так за¬
няты по родительскому стаду (и своему), что не имеют случая обработать
участок земли в другой экологической зоне (а земледелие приносит больше
дохода, чем скотоводство). Лишь когда у них подрастут свои дети (до 6—8
лет), на которых можно оставить стада, они получают возможность зарабо¬
тать и построить свой дом. Обязательно должен оставаться с родителями
младший сын со своей семьей: выделяя старшим детям так называемое на¬
следие (herencia)) — их долю, отец оставляет часть для младшего; он же на¬
следует отцовский дом.
В некоторых районах Анд вне зависимости от сохранности традицион¬
ной культуры мужчина наследует землю, скот и дом своего отца и его фа¬
милию; жена же наследует имущество своей матери и в расхождение с го¬
сударственным законодательством фамилию матери, но ее дети получают
фамилию ее мужа. Если жена богата, дом новая семья строит около дома
ее матери. Среди боливийских аймара неолокальность проявляется заметнее
в последние десятилетия, с развитием колонизации восточных районов, ког¬
да молодая пара переселяется и строит свой дом на выделяемом государ¬
ством участке'*.
В неразрывной связи с разнообразием, гибкостью форм наследования
или разделения имущества находится и разнообразие формального счета
родства: у кечуа сосуществуют, вероятно, в равной мере билатеральность
(предположительно с доиспанских времен) с патрилинейностью; у аймара,
насколько можно судить, преобладает патрилинейность, но встречается и
билатеральность.
Преобладание минифундий в сельском хозяйстве андских стран опреде¬
ляет и размеры, и формы семьи. В этнографических и социологических ис¬
23!
следованиях андского крестьянства достаточно мирно уживаются две точки
зрения: 1) основой общины служит нуклеарная семья; 2) основой общины
служит расширенная семья. Авторы конкретных работ стараются не заме¬
чать противоположного мнения, основанного обычно на опыте изучения дру¬
гих, чем у них, районов, а обзорные работы, как уже было сказано, в по¬
давляющем большинстве своем неглубоки. Больше единодушия в определе¬
нии аймарской семьи как расширенной; кечуанская семья предпочтительно
характеризовалась как нуклеарная, но за последние годы этнографы обра¬
щают большее внимание на совпадение родственных и соседских связей.
Последние были достаточно хорошо изучены, и их важность признавалась.
Но, справедливо замечают перуанские ученые Оссио Акунья и Медина Гар¬
сия, „следует быть очень осторожным, противопоставляя соседские и род¬
ственные связи, так как последние, в той мере, в какой они выказывают
черты билатеральности (которые обычно учитываются до четвертой степе¬
ни), сочетающиеся с ритуальным родством и подпитываемые брачными сою¬
зами с эндогамной направленностью, оставляют очень мало места чисто до¬
говорным отношениям, основанным исключительно на совместном прожива¬
нии"".
В последние годы все больше признания завоевывает модель, согласно
которой нуклеарная семья существует практически везде в Андах и расши¬
ренные семьи создаются именно через присоединение нуклеарной семьи к
семьям близких родственников, но оценка стабильности больших семей и
места нуклеарной семьи в обществе неоднозначна. Те же Оссио и Медина,
полемизируя с Б. Ламбертом (не слишком категорично утверждавшим прио¬
ритет нуклеарной семьи), заявляют (на материале обследованных ими трех
кечуанских поселков), что теснейшая связь внутри кварталов (barrios), где
сочетаются и долговременное совместное проживание, и обмен брачными
партнерами в течение ряда поколений, не позволяет назвать основной ячей¬
кой нуклеарную семью. Заслуживает внимания наблюдение этих авторов,
что даже в жизни одного поколения связи внутри расширенной семьи мо¬
гут приобретать различный вид. Так, в первые годы брака супружеская па¬
ра может входить в расширенную семью, потом отделиться и организовать
нуклеарную, а затем при браках детей — опять расширенную**.
Семейное разделение труда между мужем и женой, как уже упомина¬
лось, асимметричное: муж занимается только производственной сферой, же¬
на — домашним хозяйством, но работы вне дома тоже могут входить в ее
ведение. Отсюда при существовании неполных семей (хозяйств) — из-за
смерти супруга либо ухода его из семьи — все они возглавляются только
женщинами".
Женщина в течение дня готовит еду для себя, мужа и детей, моет по¬
суду после еды, кормит домашнюю птицу и свиней. Мужчина, помимо кор¬
межки скота в стойлах, выгоняет и пригоняет стадо, чинит, если нужно,
хозяйственные постройки. Отбор семян и клубней для будущих полевых
работ они производят вместе. При обработке поля первая пахота и бороне¬
ние — дело мужчины; жена отбирает навоз, вносит его на поле, сажает
картофель или засевает зерна. При уборке урожая также основная работа
приходится на женщину, хотя в жатве злаковых (главным образом кинуа,
но также ячмень и рожь) принимает участие наравне с ней мужчина. Обра¬
ботка урожая (дегидратизация картофеля традиционным способом, молотьба
232
кинуа и ячменя) — функция женщины, она же торгует (или меняет) выра
щенным урожаем, прядет и ткет. При всем том главенство мужчины в доме
признается и ею, и детьми, и обществом. Женщина не участвует в вечер
них гуляньях на площади поселка, не имеет права состоять в имеющемся
практически в каждом поселке клубе или спортивной команде; на праздни
ках во время угощения мужчины сидят за столом, женщины — на полу у
стен комнаты. В сельском обществе, как и в национальных культурах, при
знан принцип мачизма, согласно которому, как уже говорилось в предыду
щих статьях, от мужчины требуется физическая и сексуальная сила, самоу
веренность в поведении, грубоватость и даже грубость с женой и детьми.
Побои мужа служат для жены верным признаком его внимания к ней. Рас
хождения в информации некоторых авторов (ученые, проводившие полевые
исследования у горных кечуа, утверждают, что жена беспрекословно слу
шается мужа, в том числе бессловесна на общинных собраниях, а по мне¬
нию боливийского этнографа, у аймара хотя жена и стоит сзади мужа на
собраниях и не вмешивается в речи, но она постоянно нашептывает ему то,
что он должен сказать) вряд ли относятся к разнице культур кечуа и аймара.
Разгадка скорее в том, что первый автор — мужчина, второй — женщина**.
Одной из основных функций семьи, признаваемой и сельским обще¬
ством, является деторождение. В южных районах Эквадора женщину, ко¬
торая долго остается незамужней или не рожает ребенка вскоре после бра
ка, оскорбляют фразой: „Ты даже и семью не можешь увеличить'. При
всем том ограниченность семейного надела, невозможность прокормить
большое число детей приводят к тому, что обычно семьи в горных районах
и на Косте (в Боливии — на восточных низинах) ограничиваются 3—7 деть¬
ми. Несмотря на значительную детскую смертность и краткость репродук¬
тивного периода у женщин, в употреблении контрацептивы — у индеапок
главным образом традиционные: травы, аспирин, лимон, кое-где в Сьерре
Эквадора прибегают к стерилизации мужчин; у метисок в ходу более со¬
временные средства".
Наиболее ценятся в семье в соответствии с традиционными крестьян¬
скими установками мальчики. Сарагуро Эквадора и колья-уайа Боливии ве
рят, что мальчик во чреве матери обязан своим появлением отцу, а девочку
мать зарождает сама по себе. Мальчика ожидают, имя ему подбирают еще
до рождения, обсуждают, какую работу он будет делать и какую помощь
окажет семье. Отмеченный в крестьянских семьях инфантицид имеет своим
объектом преимущественно девочек. Грудью мать кормит детей довольно
долго: девочек до полутора лет, мальчиков (чтобы он стал мачо, по семей¬
ным объяснениям) — три года и больше. Если эквадорская индеанка рожает
вне брака сына, то ей легче выйти замуж, чем при внебрачной дочери.
Мальчик с 5—6 лет начинает помогать отцу в его работах, хотя бы сим
волически. Основная работа ребенка — пасти стадо овец или лам. Девочка
уже с 4 лет помогает матери по дому, в том числе выполняет тяжелые ра
боты: носит воду, ходит за скотом, также стережет посевы, присматривает
за младшими (как и мать, носит малышей на спине). Подросшую девочку,
как правило, отдают на сторону в служанки — в дом компадре или за ми¬
нимальную плату в город, в другой поселок".
При крещении ребенка, при первой стрижке волос завязываются до¬
полнительные связи в системе компадразго. Крестные отцы делают крес¬
233
тникам подарки, иногда впоследствии берут на себя (или платят за) воспи¬
тание своих крестников. Эти межпоколенные связи одновременно укрепля
ют связи внутри поколения: между кровными и крестными родителями.
Из вариаций семейных связей заслуживает внимания форма, обнару¬
женная Р. Болтоном у боливийских ко :ья (степень распространенности оп
ределить нельзя), — так называемое „тауанку" (вчетвером) — союз двух уже
существующих брачных пар. Мужья, обычно приятели, договариваются о
совместном пользовании женами. Последних или уговаривают или в один
из вечеров спаивают до бесчувствия; наутро им объясняют, что обмен уже
совершился и теперь остается только продолжать. Бывает, что разоблачен¬
ный мужем любовник предлагает ему в компенсацию оскорбления свою
жену.
Обе пары и их дети обрабатывают совместно поля тех и других супру
гов, что контрастирует с обычной ситуацией, когда каждое поле обрабаты
вается посемейно. Рождающийся в любой из таких семей ребенок считает¬
ся родившимся от данной женщины и ее мужа, хотя бы и был похож на
второго партнера; его он называет дядей, мужа своей матери — отцом. Та¬
кой союз бывает достаточно стабилен, длится годами. После смерти одного
из четырех партнеров он распадается, но может и длиться. Зафиксированы
случаи, когда новая жена овдовевшего партнера отказалась выполнять свои
функции с его приятелем; союз остался тройственным, но живший с двумя
женами компенсировал отказ своей жены едой и одеждой. При тауанку до-
' машние хозяйства ведутся порознь, пары также живут раздельно, обмен
женами происходит лишь время от времени. Общественное мнение бывает
слегка насмешливо заинтересовано новыми связями лишь первое вре¬
мя, затем их существование воспринимается без каких-либо признаков
осуждения^.
Колонизация восточных склонов Анд и низинных районов, широко раз¬
вернувшаяся за последние полвека, привела к резким изменениям в тради¬
ционной жизни лесных индейцев Эквадора, Перу и Боливии. Кроме геноци¬
да, вытеснения в глубинные зоны, следует отметить и такие явления, как
все возрастающее вовлечение индейцев (особенно на севере) в добычу по
лезных ископаемых, сезонное отходничество и поглощение небольших ин¬
дейских групп лесными кечуа, хиваро (шуар) и кампа, что приводит к дос¬
таточно резким изменениям в образе жизни. Из наиболее характерных черт
семьи следует упомянуть следующие (на примере отдельных групп).
Индейцам сельвы в самом недавнем прошлом и в определенной мере и
в наши дни свойствен кросс-кузенный брак. Внебрачное сожительство, осо¬
бенно сейчас, редко, поскольку в большинстве индейских поселков имеют¬
ся католические или протестантские миссии. Возраст вступления в брак,
признаваемый и миссионерами, — начиная с 14 лет для мужчины, с 12 —
для женщины. При патриархальном характере семьи все же выбор брачного
партнера большей частью лежал на самих молодых: они после некоторого
периода добрачной связи (существовал ли пробный брак, не определено) ре¬
шали создать семью и оповещали об этом родителей. Брачная церемония во
многих группах сводилась к совместному пиру с обязательными танцами,
порой до упада. Какую-то форму пробного брака можно предположить ис¬
ходя из того, что решение о женитьбе принималось, как правило, после то¬
го, как девушка убеждалась в своей беременности. В принятии решения о
234
выдаче девушки замуж участвовали только ее ближайшие родственники: ро¬
дители или братья. У гуарайо восточных лесов Боливии, если отец не при¬
знавал ребенка либо если не хотели отдавать дочь, при родах девушке не
помогали, а ребенка у нее тут же отбирали и закапывали живым по ее же
просьбе. Поскольку рождение детей и ведение домашнего хозяйства и в
сельве были основными функциями женщины, то нормой было заключать
брак лишь в уверенности скорых родов или после них; да и сами девушки
предпочитали идти замуж лишь после рождения детей, так как в против¬
ном случае обхождение с ними было плохое. Хотя заключение брака было
несложным, развод был столь же легок. В общественном мнении семья
признавалась существующей лишь после рождения первого ребенка.
При преимущественно билатеральном счете родства во многих семьях
отчетливо заметен патриархальный режим. Авторитет мужа и отца непрере¬
каем. Женщина заботится о дочерях, учит их домашнему хозяйству до са¬
мого замужества. Мальчики с ранних лет учатся охоте, рыболовству, сопро¬
вождая отца. В подавляющем большинстве случаев женщина используется
как вьючный скот: именно она переносит с поля маис или юку, собирает
дрова. При выходе из дома мужчина идет впереди, неся лук и стрелы либо
с пустыми руками; нагруженная женщина идет в нескольких шагах сзади.
Кроме старух, никто из женщин не может выходить в сельву в одиночку,
но только с мужем, детьми, другими женщинами. Если даже она выйдет
навстречу возвращающемуся мужу, тот может обругать ее и побить за на¬
рушение правил. Едят во время семейных трапез сначала мужчины, затем
женщины и дети. На женщине лежит приготовление чичи — слабоалкоголь¬
ного напитка.
Роды, как правило, происходят в гамаках при помощи приглашенной
женщины, которая растирает и массирует живот роженицы, дает настой из
считающихся полезными при родах трав. После родов мать сразу же встает,
омывает ребенка и возвращается к домашним работам. Послед и пуповину
немедленно тайно закапывают и только после этого зовут отца и родствен¬
ников взглянуть на новорожденного. Те, кто соблюдает правила „белой" ги¬
гиены, преподанной миссионерами или врачами, уважением не пользуются.
Размерь: семьи варьируют у разных этносов от 4—5 до 7—8 человек.
Повсеместно употребляют традиционные контрацептивы (травы), аборты,
широко известен инфантицид.
У тех групп, где земледелие стало основой хозяйства, преобладают дис¬
персное расселение и неолокальный брак. Там же, где земледелие сочета¬
ется с развитой охотой и рыболовством, нередки случаи проживания в
больших поселках по нескольку сотен человек.
Среди лесных индейцев, обитающих на западных склонах Анд (а в по¬
следние десятилетия и среди обитателей восточных склонов), получило рас¬
пространение ритуальное родство типа компадразго при крещении и неко¬
торых других обрядах жизненного цикла. Так, у кайапа западного Эквадора
место, которое у горных индейцев занимает первая стрижка ребенка, отве¬
дено обряду первого подстригания ногтей. „Крестными отцами" у кайапа
выступают, как правило, негры, занимающие в этом районе привилегиро¬
ванное положение; отмечается, что инициатива обычно принадлежит нег¬
рам, заинтересованным в экономических связях с общиной^.
Ритуальное родство повсеместно распространено во всех районах ан¬
235
дских стран с преобладанием в горной зоне и на побережье (в Боливии — в
колонизованных районах департаментов Санта-Крус и Бени). Модель риту¬
ального родства, как справедливо отмечают Оссио Акунья и Медина Гар¬
сиа, имитирует отношения кровного родства: оно также подлежит инцес-
тному табуированию, в случае смерти — соблюдение траура. В системе
компадразго („горизонтальная" модель) и падриназго („вертикальная") ритуа-
лизованность, торжественность отношений компенсирует отмирание подоб¬
ного оформления внутрисемейных связей. Отличие же ритуальнородствен¬
ных связей от кровнородственных — в возможности внести в господствую¬
щую эндогамию элементы экзогамии. Впрочем, к этому мнению можно до¬
бавить, что и с ростом брачной экзогамности в наши дни ритуальное род¬
ство не отмирает, удачно сочетая современные торговые связи и внеэконо¬
мическое оформление^.
Отношения между кумовьями (компадре) и особенно между крестными
родителями — крестниками строятся по типу „патрон—клиент", они всегда
асимметричны. В андских странах, принимая этническое оформление, счита¬
ет перуанский социолог Блас Гутьеррес Галиндо, асимметрия обмена цен¬
ностями всегда выражает систему господства метиса над индейцем. Индеец
ищет социальной поддержки у метиса, вступая с ним в отношения ритуаль¬
ного родства, помощи в административных либо торговых делах. Метис же
в обмен на эту потенциальную помощь получает дешевую, а то и бесплат¬
ную рабочую силу и поддержку в притязаниях на выборные административ¬
ные должности (в горах и на побережье, сплошь занятые метисами), подар¬
ки один или несколько раз продуктами индейского хозяйства. Богатый же
индеец, практически тяготеющий почти всегда к метисной субкультуре,
предпочитает (на примере обследованного района Канас и Канчис к юго-
востоку от Куско) иметь дело не с кровными родственниками, традиционно
претендующими на симметричность обмена трудом и продуктом, а с ком¬
падре, которых он может использовать на своих, больших, чем у рядовых
общинников, полях в системе взаимопомощи — айни^.
Сельское население Косты в Эквадоре и Перу более открыто переме¬
нам: индейские традиции здесь быстро трансформируются в так называе¬
мую креольскую (в данном случае типично метисную) культуру. Поскольку
в этом районе более, чем в Сьерре, развиты коммуникации разного вида, то
крестьянин не так зависит от размеров земельного надела, отношения сво¬
бодного найма преобладают и внутриобщинные связи не так довлеют над
индивидуумом и семьей. Именно этим, считает С. Скримшоу, объясняется
больший, чем в горных районах, размер семьи — в среднем на два ребенка.
В городе размеры семей уменьшаются, что особенно заметно на семьях миг¬
рантов. Та же Скримшоу, проведшая обследование недавних мигрантов в
Гуаякиль из Сьерры и с Косты, считает, что у женщин — мигранток из
Сьерры (индеанок и метисок) имеется культурная предрасположенность к
малым размерам семьи, но в городе они обосновывают это явление по-ново¬
му — условиями жизни, неуверенностью в завтрашнем дне. Мигранты из
поселков Косты также проявляют тенденцию к уменьшению размеров
семьи с достаточно ясным обоснованием — надеждой на большой доход,
приходящийся на каждого из членов. Мигранты в город и с гор, и с побе¬
режья одинаково проходят период адаптации, но языковые, культурные
барьеры несравненно чувствительнее для пришельцев из Сьерры. Возможно,
236
поэтому они проявляют больше энергии и трудолюбия на новом месте и в
целом горцы обладают более высоким, чем пришедшие из поселков Косты,
статусом. Их семьи стабильнее; укрепление внутрисемейных связей, со¬
гласно социологическим обследованиям жителей „тугурио", „кальехонов",
„барриад" — кварталов нищеты, заселенных мигрантами, характерно для по¬
следних. Речь идет при этом не об укреплении нуклеарных семей — они
как раз наиболее часто могут превращаться в неполные, а о расширенных
семьях, об укреплении и расширении родственных связей вообще^.
В целом можно сделать вывод, что в современных андских странах мы
имеем дело с динамичным сочетанием нуклеарной и расширенной семьи в
традиционных сельских обществах при постепенном — за века — возраста¬
нии роли нуклеарной семьи. Для городской, частично и сельской семьи,
особенно в наиболее развитых районах, характерно преобладание моногам¬
ной нуклеарной семьи, в низших социальных слоях легко переходящей в
неполную.
' Ley у Poblacion en el Peru. Lima, 1979. Р. 16.
I /лйей Д.7. Parentesco andino у reciprocidad. Kuyaq: los que nos aman // Reciprocidad c
intercambio en los Andes peruanos. Lima, 1964. P. 131.
^ Mayer E. Beyond the nuclear family // Andean kinship and marriage. Wash. (D.C.), 1977. P. 68.
* Mayer E., May/errer E. La poblacion indfgena en 1978 // Amer. indfgena. 1979. N 2. P. 248-249.
' Ley у Poblacion en el Peru. P. 45, 46.
' Mercada 7arrih E. Dcmograffa у geopolftica // La Poblacion del Peru en cl ano 2050: Demograffa
у sub desarrollo. Lima, 1984. P. 107.
^ Оюм? Асмла 7., Medina Garcia G. Familia campesina у economfa de mcrcado: El caso de las
comunidades de Pazos, Mullaca у Nahuin del Departamento de Huancavelica. Lima, 1985. P.
100; Mayer E. Op. cit. P. 61.
' Дайал Я. Tawanku: vfnculos intermaritales // Reciprocidad... P. 157; Caaper 7.M. The
Araucanians // Handbook of South American Indians. Wash. (D.C.), 1946. Vol. 2. P. 721.
* Дайал Я. Op. cit. P. 156; Gssia Асмла V., Medina Garcia G. Op. cit. P. 97.
*° Ley у Poblacidn en el Peru. P. 35; G^sia Асмла 7., Medina Garcia G. Op. cit. P. 106; Soler E. La
comunidad de San Pedro de Huancaire // Las actuales comunidades de indfgenas: Huarochirf en
1956. Lima, 1958. P. 215; Carter W.E., Ma/nani E.M. Irpa Chico: Individuo у comunidad en la
cultura aymara. La Paz, 1982. P. 194; Hardman M.J. Jaqaru: outline of phonological and
morphological structure. The Hague; P., 1966. P. 15.
" Дайал Я. Op. cit. P. 158; Carter W.E., Ma/nani E.M. Op. cit. P. 188.
Vaz^aez Емйег Д. La mujer indfgena // Amer. indfgena. 1974. N 3. P. 672; MiyMin Д. The
contemporary Quechua // Handbook of South American Indians. Vol. 2. P. 454-455; Carter
W.E., Ma/nani E.M. Op. cit. P. 189.
" Carter W.E., Ma/nani E.M. Op. cit. P. 198-212.
" Дайал Я. The Qolla marriage process // Andean kinship... P. 225; Ley у Poblacion en el Peru. P.
35-36; Mayer E. Op. cit. P. 68.
" Смй/ея de Да/aarte E. Las comunidades de Huarochiri // Las actuales... P. 82-83; Sa/er E. Op.
cit. P. 300; Gssia Асмла 7., Medina Garcia G. Op. cit. P. 92-94; Vaz^aez Емйег Д. Op. cit. P.
672.
*' Gssia Асмла 7., Medina Garcia G. Op. cit. P. 94-97; Mayer E. Op. cit. P. 61-62; Дайал Я.
Tawanku. P. 157; Дмдййад //ernanz G.A. Los Laimes у Jucumanis // Amer. indfgena. 1972. N 3.
P. 820-821, 826; Eand/ert Д. Bilaterality in the Andes // Andean kinship... P. 11, 14-15; Minez
de/ Erada G. El hombre у la familia: su matrimonio у organizacion politico social en Q'ero //
Estudios sobre la cultura actual del Peru. Lima, 1964. P. 283-284; Cat/er 7. Las comunidades de
San Lorenzo de Quinti // Las actuales... P. 122; /лйей Д J. Op. cit. P. 134-135; Martinez Я. Tres
haciendas altiplanicas: Chujuni, Cochcla у Panascuchi // Peru Indfgena. 1967. N 26. P. 110-111.
237
" Одум? Асм/м У., Garcia G. Op. cit. P. 87; 71кг/м%м% Я. The Aymara // Handbook of South
American Indians. Vol. 2. P. 542-544; Fortun J.E. La mujer Aymara en Bolivia // Amer.
indigena. 1972. N 3. P. 936-937; Мсяая/сам-Яог;а D. Cambio social у orientacion de valores
culturales de la juventud en Bolivia // Ibid. P. 844.
" Mayer E. Op. cit. P. 61; Оюи? Асмяа 7., Ме<йяа Garcia О. Op. cit. P. 88,96.
'* Mayer E. Op. cit. P. 61.
" Gaf/cr У. Op. cit. P. 207-209; ЕагйяУ.Е. Op. cit. P. 936-942.
Scri^Aaw S. Adaptation and family size: from rural Ecuador to Guayaquil // Cultural
transformations and ethnicity in modem Ecuador. Urbana etc., 1981. P. 281, 296; Vaz^aez
ЕмМег Я. Op. cit. P. 669.
^ Vazgaez Емйег Я. Op. cit. P. 663-670; Еа/яЯег; Я. Op. cit. P. 16; Carfer W.E., Ма/ная/ M.E. Op.
cit. P. 141-185.
^Яайаяй. Op. cit. P. 161-166.
** Яая:ега Si/яаяслу /V. La Cultura Selvicola frente a los problcmas contcmporaneos у la situacion
^de las poblaciones indigenas selvicolas del Ecuador // Amer. indigena. 1974. N 3. P. 713-739;
Яих/су M., Capa C. Farewell to Eden. N.Y.; Evanston, 1964. P. 14; Еауяе D.C., Еауяе y.Ai.,
. Sa^Aez Sa^aj У. Morfologia, fonologia у fonetica del asheninca del Apurucayali (campa-
arawak preandino). Yarinacocha, 1982. P. 274; Яяее/ая^ Я. Lecciones para el aprendizaje del
idioma mayoruna. Yarinacocha, 1979. P. 122, 147; Ясгямма Virrcira №. Los pueblos guarayos:
Una tribu del Oriente boliviano. La Paz, 1972. P. 77-85; Айлс/ш/сг M. Notes on Cayapa Kinship
// Ethnology. 1965. N 4. P. 444-446.
" Mmfz S., №a//* E. An analysis of ritual co-parenthood (Compadrazgo) // Southwest. J.
Anthropology. 1950. N 6. P. 341-368; Ossio Acuna J., Medina Garcia O. Op. cit. P. 112-115.
^ Mayer E. Op. cit. P. 67; Ctaierrez Сайя^а Я. Ideologia у Compadrazgo en una region del Cuzco
// Discusion antropologica. 1978. N 3. P. 74-80.
^ Scri/HF^aw S. Op. cit. P. 282-283, 298-299; Оясгйяд У.Е. De campesinos a profesionales:
Migrantes de Huayopampa en Lima. Lima, 1980. P. 11-12, 90; Да;аяУа Я. Estudios sobre la
familia en su relacion con la salud. Lima, 1970. P. 27-28, 93-95.
Бразильцы
t M.E. Хояюясжая
Семья, ее типы и формы, преобладающие у той или иной группы населе¬
ния Бразилии, в настоящее время практически не изучены как бразильски¬
ми учеными, так и зарубежными исследователями. В данной статье автор
попытается выявить узловые моменты в процессе складывания основных
типов бразильской семьи, покажет особенности семейно-родственной струк¬
туры у крупнейших групп современного населения, уделяя внимание преж
де всего этническому аспекту этой проблемы.
Колонизация Бразилии началась в 1500 г., но лишь с 1530 г. стало
осуществляться последовательное заселение португальцами этой страны.
Практически до XVI в. они составляли здесь этническое меньшинство: в
1583 г. число белых поселенцев не превышало 25 тыс. человек, тогда как
индейцы, жившие на территории современной Бразилии, насчитывали око¬
ло 2 млн'. При этом сама группа первых португальских переселенцев была
далеко не однородной как в социально-экономическом, культурном, так и в
антропологическом плане: светлокожие и белокурые северяне резко отлича¬
лись от смуглых темноволосых южан, численно преобладавших в составе
238
португальских колонистов первых двух десятилетий покорения Бразилии.
У жителей южных районов и Атлантического побережья Португалии в
результате длительных контактов с арабскими завоевателями (в том числе и
брачных) сложилось крайне снисходительное отношение к межэтническим
союзам, а темноволосая смуглая женщина надолго стала эталоном красоты.
Эти вкусы, привычки и многие нормы сексуальной и брачной жизни порту¬
гальцы принесли в новую страну; некоторые из них трансформировались,
другие почти в неизменном виде дошли до наших дней.
Хронисты отмечали, что португальцы охотно женились на индеанках,
во-первых, потому что до конца XVI в. португальская иммиграция в Брази¬
лию была преимущественно мужской, а во-вторых, им нравился тип красо¬
ты индеанок, чем-то напоминавших смуглых арабок. При этом не только во¬
еначальники, но и все те, кто мог содержать большую семью, брали себе в
жены несколько индеанок. Такие фактические браки, как правило, были
нестабильными и легко распадались. По свидетельству миссионера-иезуита
Ж. ди Аншьеты, индеанки легко расставались со своими мужьями, и если
женщина была красивой, то она быстро находила себе нового покровителя.
Это объясняется прежде всего распространенной среди индейских племен
Бразилии практикой смены брачных партнеров. Большинство браков порту¬
гальцев с индеанками не было юридически оформлено и освящено цер¬
ковью, однако, богатея, некоторые португальцы официально признавали
своих детей-метисов. Такие метисы наследовали фактически и имущество
своего белого отца.
На протяжении XVI—XVII вв. число метисов португало-индейского про¬
исхождения стремительно росло. Как отмечают все хронисты, первые поко¬
ления метисов отличались здоровьем и силой. Отцы-португальцы нередко
отдавали их в специальные школы-интернаты, где они под руководством ие¬
зуитов изучали азы наук, португальский язык и богословие. Оканчивая по¬
добные заведения, метисы становились полноправными членами уже не ин¬
дейской, а белой группы. Такой быстрый отход метисов от группы матери
можно объяснить тем, что среди большинства индейских племен северо-
восточного побережья Бразилии (где в первую очередь и селились порту¬
гальцы) была распространена патрилинейная система родства. В этих пле¬
менах наследование шло строго по отцовской линии и метисы оказывались
бесправными чужаками, изгоями. Иногда вместе с детьми покидали свой
дом и индеанки. Подолгу живя с мужем-поргугальцем и имея от него де¬
тей, индеанки все же считали его и своих детей от него чужаками. При
случае многие из них возвращались в свой род. В целом принцип родства
но браку и европейская форма наследования получили распространение
лишь среди португальского и метисного (а не индейского) населения. К
концу XVII в. смешанные португало-индейские семьи составляли 80% от
всех семей, существовавших в колонии. Важно подчеркнуть, что они стали
важнейшим каналом взаимопроникновения, слияния индейских и португаль¬
ских культурных традиций, а метисы — одним из основных компонентов
бразильской нации.
До конца XVI в. господствующей формой семьи в стране была расши¬
ренная полигамная семья, неустойчивая структурно и смешанная в культур¬
ном и расовом отношении. С середины XVII в. в Бразилии начинают преоб¬
ладать моногамные семьи. Иезуиты и колониальные власти всемерно спо¬
239
собствовали развитию именно такой формы семьи: официально оформившие
свой брак пары в первую очередь наделялись землей и получали денежное
вспоможение, а их дети могли рассчитывать на бесплатное обучение в ие¬
зуитских школах. Кроме того, с середины XVII в. изменяется самый харак¬
тер иммиграции в Бразилию — в страну начинают прибывать семейные па¬
ры, изменился также социальный и этнический состав иммигрантов. Если в
начальный период колонизации среди переселенцев преобладали выходцы
из южных районов Португалии, то теперь прибыло уже немало северян.
Некоторые из них относились к знатным, но обедневшим португальским ро¬
дам и в Бразилии стремились к созданию крупных владений феодального
типа. Менее зажиточные португальцы-северяне также пытались обзавестись
собственным хозяйством: они либо приобретали землю, либо становились
арендаторами. Окончательное оформление структуры землевладения повлек¬
ло за собой создание четких критериев права наследования, что, в свою
очередь, стало важнейшим стимулом развития крепких многопоколенных
моногамных семей. Меняется также самый характер семьи: из более-менее
эгалитарной она превращается в жестко авторитарную, с подчеркнутой
властью отца-патриарха.
Особенно строгие порядки и нормы поведения существовали в богатых
португальских семьях, которые вплоть до XIX в. были эталоном для подра¬
жания не только у белого населения и метисов, но также и у зажиточных
свободных мулатов и негров. Вследствие этого стоит несколько подробнее
остановиться на внутренней организации таких семей. В них царили стро¬
гая социальная и половозрастная иерархия. Отец имел право вершить суд
не только над своими рабами, но и над непокорными домочадцами. В хрони¬
ках того времени часто можно было встретить сообщения об убийствах
жен и детей. Однако более частой мерой наказания был насильственный
постриг в монастырь или пожизненное домашнее заключение.
Дом делился на женскую и мужскую половину. Хотя в богатых семьях
существовало подчеркнуто уважительное, рыцарское отношение к женщи¬
не, особенно к матери, но сути, она не пользовалась никакой реальной
властью. Ее жизнь проходила внутри центрального дома-поместья — casa
grande (букв, „большой дом"). Даже выходить из него она могла лишь в
сопровождении мужчин. Поездки ее с мужем в гости и прием гостей со¬
вершались редко и лишь по таким торжественным случаям, как свадьбы
или похороны. Обычно хозяйством распоряжались мужчины, на долю жен¬
щин выпадало воспитание детей, прежде всего дочерей, так как мальчиков
забирали с женской половины дома после достижения ими пяти лет. По¬
зже старшие мальчики воспитывались дядями — обычно по отцовской ли¬
нии — и приходить им к матери и сестрам без особого разрешения было
запрещено.
Старший сын после смерти отца наследовал его имущество и занимал
его место в семейной иерархии, младшие дети становились или воинами,
или священниками. Всеми матримониальными делами также занимался отец
или старший сын. Наиболее распространенной формой брака были кросс-
кузенные. Юноши женились в 16—18 лет, девочек выдавали замуж в 9—12
лет. В среднем каждая женщина имела не меньше пяти-семи детей, причем
ее престиж повышался с рождением каждого нового ребенка. Обычно в бо¬
гатую бразильскую семью входили не только люди, связанные между собой
240
кровным родством или родством по браку, но также и приемные дети,
дальние родственники и т.д. Так формировались мощные семейные кланы,
союзы которых определяли внутреннюю и внешнюю политику страны на
протяжении нескольких столетий.
В целом все знатные португальские семьи строго соблюдали внутрисе¬
мейный этикет, нормы и те традиции, которые были призваны регулиро¬
вать семейно-брачные отношения и „хранить чистоту рода". Причем в новой
стране в окружении инорасового населения все эти нормы постепенно
ужесточались, что не мешало, однако, богатым латифундистам иметь иногда
целые гаремы негритянок наложниц.
Африканские рабы регулярно стали ввозиться в Бразилию с 1538 г. По
сведениям миссионера-иезуита Аншиеты, число португальцев, живших в
стране в 1585 г., не превышало 24 750 чел., метисов и индейцев — 18 500
чел., негры рабы составляли 14 тыс. В 1660 г. здесь проживало уже 975
тыс. белых и метисов и 110 тыс. негров рабов, а в 1798 г. на 1010 тыс.
белых и 250 тыс. метисов и крещеных индейцев приходилось 406 тыс.
свободных негров и мулатов и 1582 тыс. негров и мулатов-рабов^. С начала
XVII. в. в Бразилию в среднем ежегодно ввозилось около 44 тыс. негров
рабов.
Быстрое увеличение населения африканского происхождения происхо¬
дило не за счет естественного прироста, а вследствие постоянного ввоза в
страну новых партий негров рабов, что обусловливалось прежде всего их
дешевизной на невольничьих рынках. Рабовладельцу было выгоднее сис¬
тематически покупать новых рабов, чем создавать им нормальные условия
существования. Младенческая смертность среди негритянского населения
на плантациях была очень высока и по самым приблизительным оценкам
составляла 400—500 на тысячу родившихся, что объясняется прежде всего
плохим уходом за младенцами в первые месяцы их жизни. Кормящие мате¬
ри в большинстве хозяйств не освобождались от изнурительных работ в по¬
ле; маленькие дети часто оставались без присмотра или на попечении ста¬
рой негритянки. Кроме того, некоторые африканки сознательно плохо уха¬
живали за своими детьми, объясняя это тем, что лучше умереть в младен¬
ческом возрасте, чем дожить до глубокой старости рабом. Благодаря раб¬
ству, обесценивавшему до крайности стоимость человеческой жизни, среди
негров сформировался устойчивый взгляд на детей, как на обузу. Отсут¬
ствие нормальной семьи, одной из основных функций которой и являет¬
ся рождение и воспитание детей, закрепляло это стереотипное представ¬
ление.
Вопрос — существовала ли семья у негров рабов или нет — относится к
числу наиболее широко дебатируемых в современной бразильской историо¬
графии. Однако решение этой проблемы затрудняется как недостатком
конкретного исторического материала, так и обилием крайне путаных, час¬
то противоречивых сведений о негритянской семье, которые оставили нам
хронисты, путешественники и т.д.
В настоящее время ни у кого уже не вызывает сомнений тот факт, что
ввозившиеся в Бразилию негры обладали яркой самобытной культурой, в
том числе и разработанной системой семейно-родственных отношений. Так,
согласно западноафриканским нормам, женщины и мужчины жили раздель¬
но, причем жена периодически приходила в дом мужа. Женщины пользова¬
241
лись относительной свободой и независимостью. Существовала полигамия.
У других же африканских племен семья была авторитарной. Но и в том и в
другом случае африканцами была разработана подробная система отноше¬
ний не только между родственниками, но и между полами, что, естествен¬
но, исключало возможность распространения среди них сексуальной дезор¬
ганизации. Беспорядочная сексуальная жизнь рабов, о которой столько пи¬
сали иезуиты, сложилась в условиях рабства и существовала не у всех нег
ров, как считалось ранее, а лишь у определенной категории невольников,
прежде всего у занятых в сельскохозяйственных работах. Они квалифици¬
ровались как „полевые рабы". Это были в основном бантуязычные негры,
по мнению бразильских рабовладельцев, особенно пригодные для изнури¬
тельной работы в поле. Они славились своей выносливостью, неприхотли¬
востью и покорностью. Полевые рабы относились к наиболее угнетенной
части рабов. Как писал миссионер-иезуит А. Антониль, их положение мало
чем отличалось от положения рабочего скота.
Полевым рабам запрещалось вступать в освященный церковью брак.
Созданные ими фактические союзы рабовладельцы не считали семьями и
легко их разрушали, продавая кого-нибудь из супругов в другое хозяйство.
Численное преобладание мужчин-рабов приводило к сексуальной эксплуата¬
ции женщин, что способствовало распространению проституции в негри¬
тянской среде. Даже создав фактическую семью, оба супруга, как правило,
имели любовников на стороне, вследствие чего такие союзы легко распада¬
лись. Так как большинство негритянок не знало, кто отец их ребенка, то
обычно счет родства велся по материнской линии. Родившиеся дети при
крещении получали имя, а потом им давали прозвище, соответствующее их
внешним данным или повадкам. Вплоть до середины XVIII в. фамилии име¬
ли лишь зажиточные свободные мулаты. Даже во второй декаде XIX в. у
70% свободных негров не было фамилий, и в качестве оных брали себе
имена популярных католических святых (индейцы предпочитали фамилии,
обозначавшие названия растений и животных).
Кроме полевых рабов, в каждом хозяйстве (фазенде) были свои кузне¬
цы, плотники, бондари, портные, сукноделы и т.д. — чаще всего негры из
Судана. Условия их существования были значительно более благоприятны¬
ми, чем у полевых рабов, так как искусные ремесленники ценились высоко
на невольничьем рынке и стоили дорого. Они часто создавали моногамные
семьи европейского типа. Воспитанию детей, уходу за ними в таких семьях
уделялось гораздо больше внимания. Отдельные ремесленники, особенно
те, которых хозяева иногда посылали на заработки в город, со временем,
накопив определенную сумму денег, могли выкупить на волю себя и свою
семью.
Особое место среди рабов занимали „оброчные негры", посланные ра¬
бовладельцами на промысел в города и промышленные центры, — negro do
ganho. В XVIII—XIX вв. эта форма использования рабского труда в Бразилии
была очень распространена. За определенное денежное вознаграждение хо¬
зяевам оброчные негры работали на частных и государственных литейных
заводах, мануфактурах, шахтах и т.д. Некоторые рабовладельцы, кроме того,
разрешали своим рабам заниматься в городах мелкой торговлей, ремеслом
и т.п. Эти негры обязаны были еженедельно выплачивать хозяину установ¬
ленную сумму денег. Положение таких рабов было крайне неустойчивым:
242
рабовладелец мог ж любое время прервать их самостоятельную деятель
ность. Все же некоторые из оброчных негров, накопив определенную сумму
денег, сумели выкупить себя и свою семью на волю, предоставив хозяину
за себя двух собственных рабов*. Показательно, что большинство оброчных
негров имело семьи, которые строились по модели европейской семьи — с
подчеркнутой властью отца, что обеспечивало наилучшую социализацию мо
лодежи ж условиях сложной расово-социальной ситуации, существовавшей
ж Бразилии. Такие семьи были расширенными, многопоколенными. В их
состав на правах младших членов часто входили негры рабы. Подобных се
мей в городах ж XVIH ж. было немало, как правило, их члены хорошо знали
друг друга и при случае оказывали нуждающимся неграм материальную по
мощь и поддержку. Браки старались заключать внутри этой своеобразной
общины, которая на протяжении нескольких лет осуществляла контроль за
жизнью молодой семьи. Негры, члены городской общины, резко отличались
от своих соплеменников. Белые, жившие рядом с ними, подчеркивали это,
называя их condignamente cxctussones (букв, „почетные исключения"). Причем
одним из важнейших критериев выделения их из среды обычных негров
было наличие крепкой моногамной семьи.
Свободные негры иногда богатели и становились членами средних го¬
родских слоев. Пытаясь добиться более высокого социального положения,
они женились на свободных светлых мулатках, метисках или даже белых.
Браки негров и мулатов с белыми ж среде последних встречали резкое соп¬
ротивление и осуждение. Для заключения такого брака требовалось обяза¬
тельное согласие родителей белой невесты или жениха. И все же такие со
юзы заключались. Обычно в брак с богатым негром или мулатом вступали
неимущие белые женщины, стремившиеся улучшить свое материальное по¬
ложение. Иногда такие союзы заключали и белые мужчины, не сумевшие
дать достаточный выкуп за белую невесту (которая стоила дорого, да к то¬
му же требовала у мужа, согласно обычаю, двух-трех негров рабов). Родив¬
шиеся от таких браков дети-мулаты занимали более высокую, чем негры,
ступень в расово-социальной иерархии бразильского колониального обще¬
ства, однако, несмотря на свой достаток, не принимались в „хорошее" бе¬
лое общество.
Но не только бытовая расовая дискриминация тормозила рост смешан
ных браков между неграми и белыми; юридические законы также пытались
приостановить этот процесс. Так, королевский указ от 4 апреля 1775 г.
запрещал должностным лицам и военнослужащим жениться на негритянках
и мулатках. В этом плане показательна история капитан-майора, служивше
го под началом вице короля Бразилии дона Алмейды. Женившись в 177) г.
на богатой и красивой мулатке, он сразу же был отстранен от службы.
Неприязнь официального общества к подобным бракам была вызвана тем,
что смешанные семьи фактически утверждали социальное и расовое равен¬
ство между неграми, мулатами и белыми, причем это равенство завоевы¬
валось ж самой интимной и тщательно оберегаемой белыми сфере — се¬
мейной.
О непрерывном росте официально оформленных браков между неграми
и белыми в XVIII—XIX жв. косвенно свидетельствует такой источник, как
акты записи рождения детей в бразильских церковно приходских книгах.
Если рассматривать только число законнорожденных детей от подобных
243
браков, то в 1822 г. их было 197 человек, в 1823 г. — 223, в 1825 г. —
234 человека*. Все эти дети записаны как мулаты.
Социальному продвижению негров и мулатов нередко способствовали
их крестные родители. Этому виду „родства" именно негры и мулаты Бра
зилии придавали огромное значение. Крестных родителей почитали, как на
стоящих отцов и матерей. Важнейшим критерием выбора крестных родите
лей было не только их социальное положение, но и расовое происхожде
ние. Акты записей детей, родившихся в 1788—1789 гг., в церковных при
ходах г.Баии, где указаны фамилии и происхождение крестных родителей,
свидетельствовали, что у 70% черных детей крестными были мулаты, у му
латов — белые*. Нередко крестными отцами мулатов являлись их настоящие
отцы (обычно богатые помещики, латифундисты или их отпрыски), желав
шие, с одной стороны, скрыть свое отцовство, а с другой — иметь возмож
ность помогать собственным детям. Хорошо известно, что в доме латифуи
диета часто жили африканки — наложницы хозяина и их дети от него. Ту
да обычно попадали негритянки из Судана, среди которых было немало
„помесей" с арабами, или негры с Гвинейского побережья Африки. Осо¬
бенно высоко ценились негритянки фульбе, славившиеся своей красотой,
чистоплотностью и относительно светлым цветом кожи. Хотя латифундисты
никогда не женились на негритянках, но в их среде не считалось предосу¬
дительным вступать в сексуальные отношения с ними. Анализ завещаний
богатых латифундистов, живших в XVHl—XIX вв., показал, что практически
все они имели незаконнорожденных детей мулатов, которые освобождались
ими от рабства. Некоторым из мулатов, особенно тем, кто обладал стерты¬
ми негроидными соматическими признаками, отцы помогали стать свобод¬
ными арендаторами или ремесленниками. Более того, наиболее любимые
латифундистом дети-мулаты жили и обучались вместе с его законными
детьми. Способных посылали в города, где они, получив образование, обыч¬
но занимались техническими профессиями: становились строителями, врача
ми и т.д. (эти виды профессий считались унизительными для детей из ро
довитых белых семей). Такие мулаты через посредство отца обычно жени¬
лись на белых женщинах. Их внуки считали себя белыми, забывая о своей
темнокожей родоначальнице.
Таким образом, интенсивные процессы расово-культурного смешения,
протекавшие в стране, не давали белому населению превратиться в замкну
тую эндогамную группу. Ее границы постоянно размывались. В смешанных
семьях происходил наиболее тесный и глубокий обмен культурными тради
циями белой и негритянской групп. В них естественным путем разруша
лась расовая неприязнь, закладывались основы расовой демократии бразиль¬
ского общества. В этом плане роль таких семей поистине колоссальна.
Имперский период (1822—1889гг.), несмотря на значительные измене
ния в политической структуре Бразилии, не внес ничего нового ни в систе
му семейно-родственных отношений, сложившихся ранее, ни в официальное
брачное законодательство; моногамия царила безраздельно, церковный брак
был обязательным, церковь категорически выступала против разводов, зако
нодательством подкреплялась власть мужа и отца в семье, при заключении
брака требовалось согласие родителей, в брак вступали по старшинству,
семьи были расширенные, многопоколенные, многодетность была общей
тенденцией как для сельского, так и для городского населения. Важным
244
моментом в оформлении брака оставалась свадьба — санкционирование
общественностью новой брачной пары. Наиболее распространенными пред¬
ставляются нам браки между людьми одной расовой принадлежности, но
непрестанно происходил и рост расово-смешанных семей. Благодаря посто¬
янному вливанию в группу белых мулатов и метисов уже к началу XX в.
многие бытовые традиции и семейные обряды носили синкретический ха¬
рактер.
Отмена рабства негров (1888 г.) и провозглашение республики
(1889 г.) — важнейшие события в истории страны — стали новыми вехами
и в развитии семьи. Конституция 1888 г. провозглашала равенство рас, от¬
меняла все рабовладельческие институты. Однако пережитки рабовладения
продолжали остро ощущаться во всех сферах общественной жизни страны
на протяжении первых 30—40 лет существования республики. Негры и му¬
латы, теперь уже свободные граждане, оставались наиболее бесправной
частью населения. Многие из них сразу же после отмены рабства двину¬
лись в города. Но большинство не смогло найти здесь постоянного заработ¬
ка и возвратилось обратно в деревню, другие же, осев в городах, превраща¬
лись в профессиональных нищих, бродяг, преступников. Именно внутрен¬
няя дезорганизация негритянской группы, отсутствие у большинства креп¬
кой семьи и родственных связей оказались существенным препятствием к
их социальному продвижению. Те же немногие негры, кто сумел подняться
вверх по социальной лестнице, происходили из элитарной части африкан¬
цев: „оброчных негров", ремесленников, приближенных к хозяевам слуг и
т.д. Следует учитывать, что между этими двумя группами негров водораз¬
дел был не меньшим, чем между неграми и зажиточными белыми. Основ¬
ной же массе негров (они в начале XX в. составили свыше 1/3 жителей
страны, а в некоторых „черных" провинциях, например на северо-востоке,
их число превышало половину всего населения) предстояло не только овла¬
деть новыми профессиями, но и практически заново создать семью, разру¬
шенную рабством. Этот процесс, длительный и трудный, окончательно не
завершился и в наши дни.
Прежде чем перейти к рассмотрению типов современной бразильской
семьи, следует сказать, что в стране существует резко выраженное регио¬
нальное размещение основных этнорасовых групп. Так, если на северо-вос¬
токе преобладает негритянско-мулатское население, то на юге сконцентри¬
рованы белые жители, среди которых высок удельный вес иммигрантов. В
указанных районах сложился свой тип семьи, зависящий в первую очередь
от социального положения ее членов, их расово-этнической принадлежнос¬
ти и от того, проживает ли семья в городе или в деревне. На этих важней¬
ших моментах мы и остановимся в дальнейшем.
В 60—70-е годы XX в. в сельской местности побережья северо-востока
негры и мулаты составляли около 80% населения. Большинство их были
мелкими земельными арендаторами, издольщиками, поденщиками. Нередко
они жили на территории бывшей рабовладельческой латифундии, где
трудились их прадеды. Кабала этой части населения закреплялась таким
традиционным институтом, как патернализм, который давал латифундисту,
считавшемуся покровителем жителей данной деревни, возможность их вне¬
экономической эскплуатации. Помещики нередко посещали крестьянские
праздники — свадьбы, крестины, на которых они часто присутствовали в
245
качестве крестных отцов, что, конечно, не сокращало социальной и расовой
дистанции между ними и крестьянами.
В наши дни в условиях повышенной текучести сельского населения по¬
мещики и сельская администрация, пытаясь удержать крестьян на местах,
проводит ряд мероприятий, многие из которых направлены прежде всего
на создание стабильной семьи у крестьян. Так, супружеским парам в пер¬
вую очередь предоставляются денежная ссуда и другие льготы. Но среди
сельской бедноты (а она на 80% состоит из негров и мулатов) существует
обычай, когда молодые с согласия родителей начинают жить совместно,
объявляя соседям, что они „создали семью". Только накопив деньги, неко¬
торые из них регистрируют свой брак и устраивают свадьбу, на которую
идут большие средства. Как правило, молодые сначала живут с родителями
мужа, хотя большинство и стремится обзавестись собственным хозяйством.
Обычно с родителями остается жить старший сын, который и наследует
землю. Но случается, что в одном домохозяйстве проживают два-три возрос-
лых брата и их жены. Однако такие расширенные многопоколенные семьи
в Бразилии в 70—80-е годы XX в. становятся уже редкостью. В сельской
местности сейчас преобладает тенденция к нуклеаризации семьи и выделе¬
нию семей взрослых детей в отдельные домохозяйства.
Власть отца или старшего брата в крестьянских семьях сравнительно
велика. Мужчины распоряжаются бюджетом семьи, ведают всеми ее внут¬
ренними и внешними функциями. Отец следит за поведением жены и до¬
черей. Если семья достаточно обеспеченная, то женщинам запрещается ра¬
ботать вне дома. Мир хозяйки семьи ограничивается кухней и детской. Бра¬
зильцы любят детей, и в крестьянских семьях на северо-востоке среднее
число их составляет 5—6 человек. Особенно нежные интимные отношения
связывают детей и матерей. Праздник матери, ее именины отмечаются осо¬
бенно торжественно. Однако гегемония мужчины обусловливается много¬
численными нормативами, регулирующими каждодневное поведение всех
членов семьи, их права и обязанности. Положение мужчин в семье ярко
проявляется как во время праздников, так и в повседневной жизни. Напри¬
мер, никто из членов семьи не может сесть за стол прежде отца и старших
братьев, каждый из которых имеет свое собственное место. Женщины об¬
служивают мужчин и садятся есть часто лишь после того, как мужчины
встают из-за стола. Во время семейных ссор женщины не имеют нрава под¬
нять голос не только на мужа, но и на старших сыновей. Если к изменам
мужа относятся очень терпимо, то неверность жены обычно кончается раз¬
водом, позорным возвращением в дом родителей, причем дети остаются с
отцом.
Однако нарастающие темны индустриализации и урбанизации, а следо¬
вательно, и связанное с этим отходничество мужчин в города расшатывают
традиционные семейные устои. Так, некоторые мужчины, уезжая на вре¬
менный заработок в города, в конце концов обосновываются там, обзаводят¬
ся новыми семьями и порывают всякие связи с прежней женой и детьми.
Женщина, узнав, что у ее мужа образовалась новая семья, объявляет себя
свободной и может вступить в новый брак. Повторные браки среди негров
и мулатов широко распространены. В новых семьях можно встретить детей
от предыдущих браков как мужа, так и жены. При повторном браке муж¬
чина обычно приходит жить в семью жены. Раньше на таких мужчин смот¬
246
рели свысока, теперь к ним относятся гораздо более снисходительно. В
этих семьях женщины хотя при людях и подчеркивают власть мужа, однако
реально становятся главой семьи. Так как средние заработки крестьян на
северо-востоке страны и сейчас остаются достаточно низкими, а в неуро
жайные годы их труд нередко оплачивается только продуктами и одеждой,
многие женщины, прежде всего негритянки, вынуждены на кабальных
условиях наниматься в хозяйства помещиков и богатых крестьян. Дети на¬
чинают работать с пяти-шестилетнего возраста. До этого они находятся на
попечении бабушек и теток с материнской стороны. И в наши дни узы род¬
ства особенно тесно связывают негритянку с матерью и сестрами. У негри¬
тянско-мулатского населения это родство считается наиболее прочным и
почитаемым. Чтобы укрепить его, сестры нередко воспитывают своих пле
мянников и племянниц, в случае несчастья осиротевшие дети немедленно
усыновляются. Принимаются в семью и дети погибших соседей. Этот обы¬
чай направлен прежде всего на сплочение жителей данной деревни, многие
из которых находятся в родстве или свойстве друг с другом.
В деревнях северо-востока в отличие от города, где распространение
безличных функционально-производственных отношений пагубно влияет на
процесс социализации детей, в их воспитании принимает участие весь
сельский мир. Именно на эту своеобразную сельскую общину, а не на
семью падает основная тяжесть социализации молодежи, передача ей тра¬
диций и обычаев. Особенно ярко коллективистские тенденции проявляются
у негров и мулатов: детей воспитывает вся община, включающая родствен¬
ников, соседей, а также братьев и сестер, связанных ритуальным родством.
На этом своеобразном явлении хочется остановиться особо.
Афробразильские культы (возникли в Бразилии в XVII в.) и в наши дни
остаются одними из самых стойких традиционных институтов негров. И
сейчас большинство негров обращаются к „хранителям культа" за советом,
помощью и т.д. Постоянные связи лиц, возглавляющих культ, с рядовыми
общинниками позволяют первым бдительно следить за поведением рядовых
адептов, соблюдением ими традиций. Одной из важнейших функций культа
является воспитание молодежи в традициях негритянской группы. В этом
процессе участвуют все приверженцы культа, которые обычно называют
друг друга братьями и сестрами. Такое ритуальное родство до недавних
пор было широко распространено в сельских областях Бразилии.
Обычно негры и мулаты стараются поддерживать добрососедские отно¬
шения со своими белыми односельчанами. Хотя бытовая расовая дискрими¬
нация в деревне, конечно, существует и к смешанным бракам относятся в
целом неодобрительно, все же здесь мулату или даже негру жениться на
белой девушке бывает подчас легче, чем в городе. Родственники белой де¬
вушки, оправдывая поступок своей дочери, говорят, что ее муж из крепкой
крестьянской семьи, хотя он негр, но он и его родственники вполне при¬
личные люди, они живут как белые. Однако, если жениться на белой захо¬
чет негр-чужак, такого „черного нахала" резко ставят на место. В целом
сельские жители северо-востока довольно ревностно хранят свои обычаи и
традиции.
И в наши дни культурный синкретизм ярче всего прослеживается в се¬
мейно-бытовой сфере. В каждодневном быту белые пользуются многими
традиционными кулинарными и медицинскими рецептами негров. Па нраз-
247
дниках поют их песни и танцуют их танцы. Негры же при похоронах,
свадьбах, рождении ребенка выполняют принятые как в их собственной,
так и в белой группе обычаи. Например, родившийся в негритянской семье
ребенок и ныне часто получает два имени: одно ему дается при крещении
в церкви, другим его нарекает служитель культа.
В целом глубокое влияние, взаимопроникновение бытовых традиций в
культуре белой и негритянских групп свидетельствует об интенсивных и
постоянных контактах, протекающих между ними в сельской местности се¬
веро-востока Бразилии.
Пожалуй, наиболее архаичный тип сельской семьи в 60—70-е годы
XX в. сохранился в сертанах — внутренних областях северо-востока страны.
Покорение португальцами этих районов началось в XVI в. и продолжалось
вплоть до XVIII в. Военные отряды португальцев — бандейрас — вторгались
в сертаны в поисках драгоценных металлов и захвата индейцев рабов. В от¬
рядах можно было встретить представителей всех расовых групп бразиль¬
ского общества, но основная масса их состояла из метисов и ассимилиро¬
ванных индейцев тупи. Они смешивались с местными индейцами, обычно
тупи. Таким образом создавались небольшие деревни, метисное население
которых придерживалось многих индейских традиций в материальной и ду¬
ховной культуре. Консервации обычаев жителей этих областей во многом
способствовало отсутствие с XVIII в. притока нового населения, что было
закреплено юридически законом от 7 февраля 1891 г., ограничивающим
связи центральных провинций с сертанами. Вот почему здесь в наиболее
нетронутом виде сохранились обычаи, в том числе брачно-семейные, метис¬
ного сельского населения страны.
Основная масса современных жителей сертанов — метисы португало-
t индейского происхождения. Это пастухи, арендаторы, мелкие земельные
собственники, связанные друг с другом не только общими экономическими
интересами, но часто и родственными узами. В хозяйственной жизни при¬
нимают участие все члены семьи сертанежу. Мужчины пасут скот и выпол¬
няют другие виды тяжелой физической работы, женщины готовят пищу,
шьют одежду, изготовляют глиняную посуду. Семьи у сертанежу большие,
многопоколенные. Старших в семье почитают, родственные связи остаются
очень крепкими. В этом, а также в широко распространенном культе почи¬
тания умерших родственников в определенной степени сказывается влия¬
ние традиций индейцев тупи. В трудные жизненные минуты именно к
умершим родным в первую очередь обращаются за помощью сертанежу. В
дни поминовения усопших устраивают особые праздники, на могилы при¬
носят подарки. Строгое соблюдение традиций, прежде всего связанных с
семьей, косвенно свидетельствует о той центральной роли, которая она иг¬
рает в жизни сертанежу. Свадьбы, похороны и т.д. и в 80-е годы отмечают¬
ся всем миром, нарушение традиционного этикета, проявление неуважения
к старшим родственникам могут опозорить человека и всю его семью.
Внутренняя жизнь сертанежу и сегодня регулируется нормами обычно¬
го права, нарушение которого ведет к исключению человека из группы.
Разводы, измены мужа или жены случаются редко и вызывают такое осуж¬
дение у односельчан, что виновники вынуждены уезжать из родных мест.
Таких людей называют gcntc de trouxa (образный перевод — „человек с вет¬
ром в голове"). Семьи сертанежу остаются авторитарными, с выраженной
248
властью отца, хотя роль матери в них и ее престиж у детей высоки. В
семье существует строгая половозрастная дихотомия: мужская и женская
половины дома разделены. Женщины и дети часто едят отдельно от муж¬
чин. У сертанежу и сейчас приняты ранние браки дочерей: их выдают за
муж в 13—14 лет. Женщины рожают по семь-восемь детей и более. Осо
бенно радостно отмечается рождение мальчиков — не только основных на¬
следников, но и кормильцев в старости. По обычаю, именно сыновья обяза¬
ны содержать старых родителей.
Браки и в наши дни стараются заключать с дальними родственниками
или соседями; союз, созданный с человеком из чужой деревни или города,
считается неудачным, так как жители сертанов, как правило, плохо прижи¬
ваются в других местах.
На новом месте сертанежу еще недавно держались обособленно. Они
жили в особых бараках, отдельно готовили себе пищу и ели. Большинство
сертанежу, заработав немного денег, стремится возвратиться домой. В це¬
лом жители сертанов и сегодня довольно слабо связаны с другими района¬
ми Бразилии. Во всех областях их жизни, в том числе и в семейно-бытовой
сфере, прослеживаются архаические португало-индейские традиции и обы¬
чаи. Своим бытом, поведением и внешним обликом они резко отличаются
от метисов побережья северо-востока.
Основная масса метисов побережья вследствие длительной ассимиля¬
ции с белыми так напоминают последних, что сельские жители продолжа¬
ют относить их к метисам чисто традиционно, учитывая, что среди их пред¬
ков были индейцы. Такие метисы не отличаются от окружающего белого
населения, поэтому мы не будем останавливаться на типе семейной органи¬
зации метисов.
Большие семьи с авторитарной властью отца существовали в 20—60 е
годы нашего столетия и на юге страны. В сельских областях Бразилии,
кроме белых, мулатов, негров, жило немало бывших европейских иммиг¬
рантов, а также выходцев из азиатских стран, в первую очередь из Японии
и Китая.
Массовое прибытие в Бразилию европейских иммигрантов, главным об¬
разом итальянцев, испанцев, португальцев, немцев, начиналось с середины
XIX в. Только за период между 1870—1889 гг. сюда въехало около 643
тыс. переселенцев^. Открывая страну для европейских иммигрантов, пра¬
вительство Бразилии прежде всего рассчитывало преодолеть кризис рабо¬
чей силы.
Часть европейских переселенцев оставалась в городах, устраиваясь ра¬
ботать на промышленные и торговые предприятия, но основная масса на¬
правлялась в сельское хозяйство. Большинство иммигрантов оседало на юге
и юго востоке, где наиболее зажиточные из них создавали небольшие посе¬
ления — сельскохозяйственные колонии.
Такие колонии появились на юге и в провинциях Риу-Гранди-ду-Сул и
Санта Катарина в первой половине XIX в. Основателями их были немцы, в
основном выходцы из Померании. Как правило, немецкие переселенцы при¬
бывали в Бразилию большими группами. Многие из них были связаны друг
с другом родственными или соседскими отношениями. Они создавали само¬
обеспечивающиеся сельскохозяйственные колонии, в которых жизнь проте¬
кала достаточно замкнуто. Браки заключались строго внутри группы. В
249
культурном отношении немцы тщательно соблюдали обычаи и нормы пове¬
дения, принятые на родине. В целом процесс адаптации немецких пересе¬
ленцев, живших в сельскохозяйственных колониях, протекал медленно.
К созданию сельскохозяйственных колоний стремились и славянские
иммигранты, на первом этапе это были в основном поляки из Верхней Си¬
лезии. Они обосновывались в южных провинциях Санта-Катарина и Пара¬
на. В этническом отношении эта группа долгое время также оставалась зам¬
кнутой.
В отличие от немцев и поляков итальянцы, выходцы из Испании и
Португалии, довольно быстро осваивались в новой стране. Сравнительная
языковая близость позволила им интенсивно включиться в общественную и
культурную жизнь Бразилии. Уже во втором поколении многие из них счи¬
тали основным языком португальский; в их семейный быт вошло немало
общебразильских традиций и обычаев. Процент смешанных браков в этой
группе был высоким (30%). Охотнее всего итальянцы вступали в браки с
бразильцами, считавшимися белыми. Но иногда заключались союзы с мети¬
сами и даже с мулатами. Детей от подобных смешанных браков регистри¬
ровали как итальянцев.
Нередко на работу в свои хозяйства итальянцы нанимали негритянок
или мулаток. Случалось, что сам хозяин или его сыновья вступали с ними
в фактические браки. Дети от таких союзов принимались в семью итальян¬
цев на правах младших членов. Один из европейских путешественников,
проезжая по южным районам Бразилии, был удивлен встречей с мулатами,
свободно говорившими по-итальянски и, более того, считавшими себя
итальянцами. Именно вследствие подобных браков в конце XIX — середине
XX в., резко возросла численность белой группы на юге страны. Ведущей
этнической тенденцией здесь стало сравнительно быстрое „побеление" мес¬
тного населения за счет браков мулатов с европейскими иммигрантами.
С начала 30-х годов иммиграционная политика Бразилии'резко меняет¬
ся: в 1930 г. был издан первый закон, несколько ограничивший иммигра¬
цию, в 1938 г. — второй закон. Последний вводил особые квоты для им¬
мигрантов — представителей всех национальностей, но особенно переселен¬
цев из Азии. Сокращалось число иммигрантов, которым сразу же по въезде
в страну разрешалось устраиваться на постоянное жительство в городах.
Согласно этому закону, большинство иммигрантов обязаны были прожить
не менее четырех лет в сельской местности, прежде чем могли переселять¬
ся в города.
Закон 1938 г. внес важные коррективы и в саму организацию колоний
иммигрантов. Теперь уроженцы Бразилии должны были составлять в них
не менее 30%, а родившиеся за границей представители каждой отдельной
национальности — не более 25%'. Сокращалось также преподавание в час¬
тных школах родного языка иммигрантов, уменьшался тираж их газет и т.п.
Эта часть закона была направлена на скорейшую ассимиляцию переселен¬
цев. И действительно, в середине XX в. часть европейских иммигрантов,
включая даже немцев и поляков, довольно долго стремившихся к этничес¬
кому обособлению, вступали в браки с бразильцами. Дети, рожденные от
подобных браков, обычно считали себя бразильцами.
Нередко внутри семей иммигрантов происходил разрыв между старшим
и младшим поколениями. Отцы и дети отличались друг от друга не только
250
манерой поведения, вкусами, бытовой культурой, но даже языком, рели¬
гией, этническим самосознанием. Например, основная масса итальянских
иммигрантов первого поколения продолжали считать себя итальянцами, тог¬
да как их дети называли себя уже бразильцами.
С конца 30-х годов усилился процесс выхода немецких и польских им¬
мигрантов из сельскохозяйственных колоний. Кроме того, большинство
вновь прибывших уже не вступали в колонию, а на особых условиях зак¬
лючали контракты с помещиком.
В сельских областях юга Бразилии с 20-х годов XX в. бок о бок жили
бразильцы и иммигранты — обычно поляки, итальянцы, португальцы, нем¬
цы и т.д., которые быстро усваивали образ жизни и обычаи бразильцев. По¬
этому можно сказать, что в 40-е годы тип семьи европейских иммигрантов,
живущих в деревне, по своей структуре мало чем отличался от семьи бе¬
лых поселян того же социального слоя. Различия наблюдались прежде все¬
го в культурно-бытовой сфере.
Большинство иммигрантов были мелкими арендаторами. Глава семьи
заключал с помещиком контракт, причем обязанность выплаты долга за
предоставленный участок земли, инвентарь и т.п. падал не только на взрос¬
лых, но и на малолетних детей. Пока полностью не был отдан долг, никто
из членов такой семьи не мог даже на время уехать из деревни. Если муж¬
чина брал в жены девушку из такой семьи, то, прежде чем ее увезти, он
должен был выплатить помещику ее часть долга, что часто вызывало
затруднения. Поэтому старались заключать браки с соседями по деревне.
Иммигранты обычно селились вместе: в 40-е годы во многих деревнях
существовали своеобразные „концы": польский, итальянский, немецкий. Со¬
седи в таких „концах" часто были связаны родством или свойством друг с
другом. Добрыми отношениями с соседями очень дорожили, рассчитывая на
помощь в трудные минуты. Так, среди иммигрантов существовали коллек¬
тивные работы, направленные на оказание помощи малоимущим соотечест¬
венникам, в случае стихийных бедствий и т.п. Участие в этих работах сбли¬
жало жителей деревни. Иногда на таких общих работах заключались брач¬
ные союзы.
Большинство крестьян „концов" входило в одну религиозную общину,
формально возглавляемую священником, а неформально — помещиком и бо¬
гатейшими крестьянами—соотечественниками. Они регулировали брачные
отношения „своих крестьян", устраивали союзы между поселянами, стара¬
лись закрепить молодежь в деревне.
Часть браков, как упоминалось ранее, иммигранты заключали с бра¬
зильцами. Процессы их этнического и культурного смешения вне сельско¬
хозяйственных колоний протекали значительно быстрее. Однако следует
учитывать, что подавляющее число таких браков в деревне оформлялись с
белыми, а не с мулатами или неграми. Более того, иммигранты быстро ус¬
ваивали и строго поддерживали существующие неписаные законы взаимо¬
отношения белого и „цветного" населения.
Тем не менее у поляков, отчасти и у немцев, существовал обычай
брать в семью на воспитание негритенка или мулата, которых в дальней¬
шем использовали в качестве бесплатных слуг. Вырастая, воспитанники не
только усваивали традиционную польскую культуру, но и считали себя по¬
ляками. В этом плане любопытен рассказ польского путешественника, заб¬
251
лудившегося в лесах юга Бразилии. Когда он вошел в один из домов, хозяе¬
ва-негры, узнав, что он поляк, стали разговаривать с ним на чистом ноль
ском языке и угощали его типичными польскими блюдами. Оба супруга вы
росли в семьях польских иммигрантов, большая колония которых располага
лась неподалеку.
Вообще обычай усыновления чужих детей был распространен среди
всех сельских жителей юга страны и особенно среди иммигрантов. Дет
ский труд широко использовался крестьянами в различных видах сельско
хозяйственной деятельности. Поэтому даже такие в массе своей многодет-
ные семьи, как, например, итальянские, имевшие по 10—12 и более детей,
брали приемного ребенка Престиж семьи, да и ее реальный доход во мно¬
гом зависели от количества детей. Бесплодность жены считалась причиной
безусловного расторжения брака Приемные дети, вырастая, должны были
выплатить приютившей их семье всю сумму денег, затраченную на их со
держание. Некоторые не могли быстро расплатиться и продолжали долгое
время бесплатно работать на своих приемных родителей.
Иногда происходило официальное усыновление ребенка (обычно это бы
ли дети умерших родственников). Подобная процедура в бразильском прос
торечии называлась cartar )а sangre (букв, „изменить кровь"). Такие дети об
ладали всеми правами законных детей*.
В целом в 40—6&е годы внутреннее устройство семьи, ее функции у
польских иммигрантов, немцев, португальцев, испанцев, отчасти итальян¬
цев, живущих в сельских районах юга страны, были одинаковыми. Мы рас¬
смотрим лишь некоторые общие и наиболее характерные черты их семей
ного быта.
В 40 е годы в подавляющей массе крестьянских семей юга существова¬
ли строгая половозрастная иерархия, подчинение личных интересов общим,
высокая степень интеграции и кооперации всех ее членов. Возглавлял та¬
кие семьи отец, который распоряжался всем семейным бюджетом: ни же¬
на, ни дети, даже взрослые не имели личных карманных денег. Мужчины с
сентября по май работали на полях латифундиста, сначала расчищая и под
готавливая их к посеву (октябрь — январь), потом на сборе урожая (обычно
апрель — май). Уход за собственным участком земли полностью ложился на
плечи женщин и детей. Во время посева и сбора урожая все члены семьи
работали с раннего утра до поздней ночи. Не было ни выходных, ни праз
дников, которые начинали справлять лишь после окончания сезонного цик¬
ла полевых работ. Кроме того, многие женщины и дети занимались различ¬
ными промыслами, например шили и вышивали для продажи на рынок, де-
лали глиняную посуду и т.д.
Хотя в основном воспитанием детей занимались матери, авторитет отца
в семье был очень высок, его приказания безоговорочно выполнялись. Та
кие патриархальные семьи по своей структуре, как правило, были прос¬
тыми: существовала традиция выделения вступивших в брак детей. Соглас
но обычаю, девушки уходили жить к мужу. Их дальнейшие отношения с
родной семьей полностью зависели от него. Средний возраст вступления
девушек в брак у поляков и немцев был несколько более поздним (18—20
лет), чем у бразильцев и итальянцев (16—18 лет), юноши женились в 19—
21 год. Разводы происходили редко. Поводом для них были добрачная поте¬
ря невинности девушкой, измена жены или ее бесплодие. Разведенные же
232
ны не могли рассчитывать на вторичный брак в своей деревне и под давле¬
нием семьи, считавшей себя опозоренной (особенно болезненно это пере¬
живалось в итальянских семьях), вынуждены были уезжать в другие места,
обычно в города.
Вообще в 60—70-е годы XX в. резко усилилась миграция сельского на¬
селения, особенно молодежи, в промышленные центры и города. Так, сред¬
негодовой прирост населения в городах в это время равнялся 6,1%, тогда
как в сельской местности — 1,3%. Социологические исследования сельских
областей юга Бразилии конца 60-х годов показали существенные измене¬
ния, происходившие внутри крестьянских семей, в том числе и иммигран¬
тских. Выборочный опрос сельской молодежи выявил, что значительной пе¬
рестройке подверглись ранее казавшиеся незыблемыми семейные ценности
и нормы поведения. В иммигрантских семьях эти явления усугублялись,
кроме того, массовым отходом молодежи от культурных традиций их роди¬
телей. Так, юноши и девушки не справляли национальных праздников, из¬
меняли на бразильский лад свои имена и т.д. Часть молодежи не знала ко¬
ренного языка своих родителей.
Даже в таких традиционалистских семьях, как итальянские, отход от
обычаев привел к резким изменениям представлений о роли мужа и жены
в семье. Многие итальянки стали считать себя равными мужьям и не хоте¬
ли терпеть их деспотической власти, измен и пьянства.
Повышение оплаты труда сельскохозяйственным рабочим, в том числе и
женщинам, введение определенных гарантий их занятости, выплата ссуды
по болезни и т.д. привели к тому, что многие женщины, ранее работавшие
на собственном участке, посчитали более выгодным для себя наниматься за
определенную плату на сторону. Одни объясняли это стремлением улуч¬
шить материальное положение семьи — на две заработные платы легче про¬
кормить семью, другие хотели добиться большей независимости от мужа и
обеспечить себе старость.
Работа женщин по найму, заставлявшая их большую часть времени про¬
водить вне дома, усложнила их взаимоотношения с мужьями и детьми. Как
выяснилось в результате опросов, мужья в массе своей были недовольны
тем, что женщины из-за нехватки времени перестали уделять должное вни¬
мание собственному хозяйству и детям, число которых в семье к этому вре¬
мени резко сократилось. В конце 70-х годов средняя белая крестьянская
семья имела уже двоих-троих детей, причем женщины сетовали, что вслед¬
ствие их занятости дети иногда целыми днями остаются без присмотра'".
Среди подростков участились случаи воровства, пьянства. Ослабление авто¬
ритета отца в семье приводило к тому, что взрослые дети отказывались
подчиняться воле родителей. Теперь многие из них имели собственные
деньги, из которых только небольшую часть отдавали родителям как плату
за ночлег и питание. Браки стали заключаться без согласия родных. Учас¬
тились случаи разводов, инициаторами которых становились не только муж¬
чины, но и женщины. Однако кризис семьи в сельских районах не был так
резко выражен, как в городе, что объясняется прежде всего более традици¬
онной ориентацией сельских супругов, наличием хозяйства, требующего
объединенных усилий всех членов семьи, а также неформальным, но все
же еще достаточно жестким контролем со стороны сельского мира — сосе
дей, родственников. Традиционные нормы обычного права играют достаточ¬
253
но большую роль в жизни бразильских крестьян и сейчас. Переезд сель
ских жителей в город приводил к разрушению многих устойчивых связей,
прежде всего семейно-родственных, что, по мнению бразильских ученых,
отчасти являлось причиной частых правонарушений, происходивших в сре¬
де бывших крестьян.
Основными причинами перемещения деревенских жителей в города бы¬
ло проникновение капиталистических отношений в сельское хозяйство
страны, что влекло за собой обезземеливание массы сельского населения и
усиление его эксплуатации. В 70-е годы ситуация в сельском хозяйстве су
щественно осложнилась вследствие массового перехода латифундистов от
возделывания кофе, требующего множества рабочих рук, к экстенсивному
скотоводству. Это привело к значительному скоплению не занятого в произ
водстве сельского населения в аграрных районах как северо-востока,так и
юга Бразилии, что, в свою очередь, обусловило быстрое возрастание мигра¬
ции сельских жителей в города**. По переписи 1970 г., 30,3 млн человек,
те. 1/3 населения страны, квалифицировались как мигранты*^ К этой кате¬
гории относили лиц, проживающих не в месте своего рождения и не имею
щих постоянного твердого заработка.
Около 45% населения в начале 80-х годов проживало в крупных горо¬
дах, имевших свыше 10 тыс. человек. При этом основную массу избыточно¬
го населения поглощали девять агломераций: города Сан-Пауло, Рио-де-Жа-
нейро, Белу-Оризонти, Куритаба, Порту-Алегри, Белен, Форталеза, Ресифи
и Байя. В них концентрировалось 60% лиц, занятых в промышленности
Бразилии. Городское население страны в основном пополнялось за счет
внутренних миграций. В своем большинстве мигранты — это негры и мулаты.
В современных городах процесс унификации культурных различий и
выработка единой стандартной городской культуры протекал исключитель
но интенсивно. Это относилось ко многим сферам жизни горожан, в том
числе и семейно-бытовой. Следует учитывать, что в 70—80-е годы особен¬
ности организации и тип семьи у различных групп городского населения
уже зависели не столько от расового происхождения, сколько от социаль¬
ного положения.
Господствующей формой семьи в городах стала малая моногамная
семья, состоящая из мужа, жены и их неженатых детей. Наиболее типич
ную форму ее организации мы рассмотрим.
В 80-е годы, несмотря на довольно значительные изменения, произо¬
шедшие за последние десятилетия в положении женщин, ролевые функции
супругов в семье во многом остались прежними. Так, в среднезажиточных
городских семьях большинство женщин не работало и занималось исключи¬
тельно домашним хозяйством и воспитанием детей. Согласно традициям,
каждая женщина, желающая пользоваться уважением в обществе, должна
была быть сначала непорочной невестой, потом хорошей хозяйкой, пример
ной женой и матерью нескольких детей. В принципе подобные стереотип¬
ные представления сохраняются и в наши дни. Правда, если в 50-е годы
многодетные матери пользовались особым уважением, то сейчас больший
ство молодых женщин не хотят иметь больше двух-трех детей. Однако от¬
мечаются расхождения в детности среди разных по образовательному уров
ню женщин. Чем этот уровень выше, тем, как правило, меньше детей в
семье. В целом, однако, применение контрацептивов ведет к постоянному
254
общему снижению уровня рождаемости среди горожанок. Несмотря на про¬
цессы эмансипации женщин, которым многие мужчины оказывали и оказы¬
вают существенное сопротивление, контроль со стороны мужа и отца за по¬
ведением жены и незамужних дочерей остается жестким. Даже сейчас не¬
замужние девушки из зажиточных семей одни не посещают те места, пре¬
бывание в которых может повредить их репутации, — рестораны, бары, ей
запрещается разговаривать с незнакомыми мужчинами и т.п. Вообще прави¬
ла поведения незамужней девушки на людях остаются строгими.
Достаточно пунктуально соблюдается также внутрисемейный этикет.
Например, все члены зажиточной семьи обращаются друг к другу только
на „Вы". Распоряжения матери и отца выполняются детьми, в первую оче¬
редь дочерьми, беспрекословно. К дочерям семейная этика особенно строга.
И это не случайно: плохая репутация девушки чернит всю семью и затруд¬
няет замужество ее младших сестер. Обвинение жены в потере невинности
до брака по статье 218 п. IV Гражданского кодекса Бразилии считается су¬
щественным основанием для немедленного расторжения брака, причем при
подобных обстоятельствах женщины не могут рассчитывать на повторный
брак с человеком из хорошего общества, более того, двери „порядочных"
домов будут закрыты для них. Измена жены также осуждается обществом.
Для мужчин же традиционно существует иная мораль: супружеская невер¬
ность мужа не считается достаточно веским основанием для развода; сексу
альная свобода мужчин обосновывается многими неписанными законами;
комплекс мачизма и сейчас очень силен среди бразильцев.
Свадьба — центральное событие в жизни девушки. Общественное поло¬
жение жениха, родословная его семьи обычно тщательно проверяются.
Предпочтение отдается браку с человеком из той же социальной среды и,
конечно, белым. Так, в 70-годы 97,74% союзов среди белых заключалось с
белыми. Брак белой девушки с зажиточным, даже богатым мулатом или
негром считается мезальянсом.
И сейчас особенно строгая эндогамия существует среди богатых арис¬
тократических кланов, где в наши дни сохраняются кросс-кузенные браки.
Вследствие указанной брачной практики, по свидетельству бразильского
ученого Ж. Фрейры, уже в 50-е годы некоторые прославленные бразиль¬
ские роды находились на грани вырождения. В этих семьях процедуры сва¬
товства, помолвки, которая длится иногда несколько лет, и, наконец, сама
свадьба остаются особенно сложными.
Но было бы, пожалуй, неверным абсолютизировать традиционалистские
тенденции в развитии современной бразильской семьи. За последние десять
лет в ее жизнь вошло много нового. К этим инновациям оказалась предрас¬
положенной прежде всего учащаяся демократически настроенная молодежь.
В конце 70-х годов в бразильском обществе наметился кризис целого
ряда ценностей и представлений, в первую очередь касающихся образа иде¬
альной женщины — матери и хозяйки, созданных католической традицией.
Отчасти подобный переворот в массовом сознании был связан с интенсив¬
ным вовлечением женщин в сферу общественного производства. Если до на¬
чала 80-х годов большинство работавших женщин относилось к низшим
классам бразильского общества, то в 80-е годы на работу стали устраивать¬
ся женщины из средних и зажиточных слоев. Многие из них имели высшее
образование и работали не столько для заработка, сколько для того, чтобы
255
полнее реализовать свои творческие возможности, добиться реального рав¬
ноправия с мужчинами не только в производственной сфере, но и в каждо¬
дневном семейном быту. Разумеется, желание женщин жить по-новому или
их традиционная ориентация зависят прежде всего от возраста, образования
и т.д.
Значительно увеличилась категория незамужних, самостоятельно живу¬
щих женщин. Более того, теперь в обществе они перестают считаться
ущербными. Ко многим из них, особенно занимающимся творческой дея¬
тельностью, с уважением относятся не только женщины, но и мужчины.
С желанием окончить образование, сделать карьеру связано увеличение
среднего возраста вступления в брак не только среди мужчин (26—28 лет),
но и у части женщин (20—22 лет). Кроме того, на возраст вступления в
брак у мужчины влияет не только необходимость содержать семью, но и
желание большинства молодоженов жить отдельно от родителей, хотя теп¬
лыми родственными отношениями с ними по-прежнему очень дорожат. Од¬
нако свое стремление жить отдельно многие молодые обусловливают тем,
что хотят избежать ссор со старшим поколением из-за вопросов распреде¬
ления бюджета, воспитания детей и т.д. К тому же вовлечение мужчин в
сферу домашнего хозяйства часто вызывает сопротивление со стороны их
родственников старшего поколения.
Расширение социальных функций женщин, которое неизбежно сказыва¬
ется и на изменении их роли в семье, нередко влечет негативное отноше¬
ние традиционно настроенных мужчин. Особенно острые конфликты наблю¬
даются в тех семьях, где один из супругов — выходец из сельской местнос¬
ти, а другой — горожанин. В таких семьях сталкиваются семейно-бытовые
стереотипы, которые супруги приносят из родительского дома. В сельской
местности представления о семье, как правило, более авторитарные, чем в
городе. Но даже в семьях коренных горожан, достаточно демократичных по
своему характеру, сейчас участились конфликты, связанные с распределе¬
нием ролей и обязанностей мужа и жены. Иногда подобные столкновения
заканчиваются разводом.
По современному бразильскому законодательству брак признается дей¬
ствительным только в том случае, если супруги совместно прожили не ме¬
нее 10 месяцев. Если после этого срока брак распадается, то мужчина
обязан выплачивать жене оговоренную в брачном контракте сумму пожиз¬
ненно или до тех пор, пока она снова не вступит в брак. Дети обеспечива¬
ются алиментами до их совершеннолетия.
Действительным признается лишь гражданский брак, зарегистрирован¬
ный в государственных органах и оформленный с соблюдением существую¬
щих требований. Низший брачный возраст для мужчин 18 лет, для женщин
— 16. Закон до 1977 г. не предусматривал развода. „Супружеский союз мог
прекращаться с возможностью его восстановления в любое время, своеоб¬
разным способом — сепарацией, судебной или по взаимному согласию. Се¬
парация (scparasa3) в семейном праве зарубежных стран — это решение су¬
да о раздельном проживании и разделе имущества супругов без расторже¬
ния брака"*з.
Закон разрешает вступающим в брак устанавливать преимущественные
соглашения. Такое соглашение начинает действовать с момента заключения
брака и не может быть изменено.
256
Не могут заключить брак: I) лица, находящиеся под родительской опе¬
кой или попечительством, если они не добьются согласия отца, опекуна
или заменяющего это согласие суда;
2) вдова или вдовец, у которых имеется ребенок от умершего супруга,
пока не произведена опись имущества супругов и не будет разделено иму¬
щество между наследниками;
3) „вдова или женщина, брак которой расстроен вследствие того, что
является кратковременным, или был аннулирован по истечении 10 месяцев
после прекращения супружеского союза, если только у нее по окончании
этого срока не родится ребенок'"*.
В статье, касающейся происхождения детей, рожденных вне брака, го¬
ворится об установлении юридической связи между внебрачными детьми и
их родителями при заключении брака между последними. Подобные дети в
своих правах полностью приравниваются к законным. Если родители не
вступают в брак, внебрачный ребенок может быть признан отцом или доб¬
ровольно, или в судебном порядке. Не признаются дети, рожденные в ре¬
зультате кровосмешения или супружеской измены.
Несмотря на увеличение числа разводов, наметившееся в последнее вре-
мя, большинство бразильцев с уважением относится к семье и ее ценнос¬
тям. Воспитанию детей, их обеспечению придается большое значение. Жен¬
щины, живущие с мужчинами вне брака и имеющие незаконнорожденных
детей, вызывают неодобрение со стороны зажиточной части белого обще¬
ства. Поэтому материальное положение одиноких матерей нередко бывает
достаточно сложным. Женщины в Бразилии до сих пор подчас получают
более низкую заработную плату по сравнению со своими коллегами-мужчи-
нами, так как их деньги считаются не основой семейного бюджета, а лишь
приработком к нему. Администрация большинства бразильских предприя¬
тий не гарантирует женщинам сохранение рабочего места на время их от¬
пуска по беременности и уходу за младенцем. Когда одинокие матери начи¬
нают отстаивать свои права, им говорят, что они вряд ли могут рассчиты¬
вать на какое-либо повышение по службе, живя с мужчинами, как негри¬
тянки, у которых никогда не бывает нормальной семьи. Однако существует
ли в действительности единый тип негритянской семьи? Постараемся отве¬
тить на этот вопрос.
Как упоминалось ранее, социальное положение человека, его образова¬
тельный уровень в начале 80-х годов иногда в большей степени, чем расо¬
вое происхождение, определяли его приверженность к обычаям той или
иной группы, особенностям организации ее семейного быта и т.д. В этом
плане показательна группа зажиточного негритянского населения, относя¬
щегося к мелкобуржуазным городским слоям. Такие негры обычно являют¬
ся мелкими предпринимателями, торговцами, содержателями гостиниц и
ресторанов. Этот элитарный слой негритянского населения исторически
формировался из оброчных негров, вольноотпущенников, в той или иной
степени поддерживавших постоянные отношения с белыми. Оказывая услу
ги зажиточным белым горожанам, негры добивались расположения послед
них. Эти негры и по своему социальному положению, и по культурному
уровню резко отличались и отличаются от основной массы населения афри¬
канского происхождения. У них существует крепкая стабильная семья. Как
подчеркивают многие бразильские исследователи, именно высокая степень
9 Тип. зак. 1065
257
сплоченности всех ее членов позволяет этой группе негров не только со¬
хранять лидирующее положение среди остальных африканцев, но и выво¬
дить детей в люди, т.е. давать им возможность получить специальное, сред¬
нее, а иногда и высшее образование. Зажиточные негры тратят немало
средств на воспитание детей, их „приличное содержание". Число детей в
таких семьях часто меньше, чем в обычной негритянской семье, и, как пра¬
вило, не превышает двух-трех человек. За дочерьми осуществляется бди¬
тельный надзор; в среде богатых негров такие моральные нормы, как обяза¬
тельное сохранение добрачного целомудрия, нерасторжимость брака, подчи¬
нение жены и детей воле мужа и отца, соблюдаются сейчас строже, чем у
белых.
Однако и в 70-е годы зажиточные негры составляли не более 1—2%
среди темнокожего населения города. Так, проводившееся в 70-е годы в
штате Сан-Пауло выборочное социологическое исследование показало, что
из 1000 практиковавших врачей только 5 были неграми, из 1000 служа¬
щих в государственных учреждениях — 30 негров и мулатов (вместе). В то
же время из 1000 носильщиков — 997 негров и из 1000 человек, работав¬
ших по найму в качестве прислуги, негры составляли 999 человек'*. В ми¬
нистерстве иностранных дел, в авиации и во флоте вообще не было ни од¬
ного негра.
Показательно, что и в конце 70-х годов многие бразильские города де¬
лились на кварталы, жители которых отличались друг от друга как своим
социально-экономическим положением, так и расовым происхождением. В
районах фавел — городских трущоб — негры и мулаты составляли не менее
80% жителей. Многие из них сравнительно недавно приехали из сельской
местности и, не имея родственной поддержки, не обладая специальными
навыками, вынуждены были заниматься тяжелым физическим трудом. Но в
южных городах даже в этом виде труда их потеснили иностранцы. Нередко
группа итальянцев или других эмигрантов покупала право на монопольное
занятие какой-либо деятельностью, например продажу газет. Сами они
обычно не работали, а за гроши нанимали негров, которые к тому же дол¬
жны были помогать своему нанимателю по хозяйству. Нередко такие отно¬
шения скреплялись фактическими браками хозяина с дочерью или сестрой
своего работника. При разрыве союза (а они обычно были кратковременны¬
ми) дети оставались с матерью, а отец снимал с себя всякую ответствен¬
ность за их дальнейшую судьбу. Рост подобных неполных семей происхо¬
дил в Бразилии повсеместно. Недаром одинокая негритянка с двумя-тремя
детьми сейчас является печальным символом городских трущоб Бразилии.
Действительно, матрифокальные семьи получили широкое распростра¬
нение среди бедного негритянского населения фавел. В 20-е годы некото¬
рые ученые даже считали, что подобные семьи — исконный тип африкан¬
ской семьи. Однако комплексные исследования 70-х годов, в первую оче¬
редь работы крупнейшего бразильского этнографа и социолога Ф. Фернан¬
деса'*, показали социальные причины, породившие и постоянно воспроизво¬
дящие этот тип семьи.
Приезжающие в города негры в массе своей молодые люди. Отсутствие
в городах родственников и знакомых, к контролю которых они привыкли у
себя в деревне, часто толкают их на совершение поступков, немыслимых
дома. Кроме того, невозможность найти постоянный заработок превращает
многих из них в люмпенов — бродяг, профессиональных преступников,
проституток и т.д. Постоянные столкновения со старожилами фавел, кото¬
рые враждебно относятся к новичкам, видя в них конкурентов на рынке
труда, естественно, усугубляет положение мигрантов. Некоторые из приез
жающих сразу же попадают под влияние неформальных, часто антисоциаль¬
ных групп, лидеры которых пользуются неограниченной властью не только
над молодежью своей группы, но и над старшим населением фавелы. Дра¬
ки, вспыхнувшие между такими группами, обычно заканчиваются для их
участников тяжелыми увечьями или смертью. В бразильских газетах и жур¬
налах нередко можно встретить сообщения о постоянном росте социальных
аномалий, наблюдаемых прежде всего среди групп негритянской молодежи
(алкоголизм, наркомания, проституция и т.д.). Невозможность вырваться из
тяжелого материального положения, чувства одиночества и неустроенности,
которые испытывают в городах чернокожие мигранты, приводят к распрос¬
транению в их среде таких пессимистических взглядов на жизнь, как, на¬
пример, „негры рождаются, чтобы мучиться*', „у негров нет будущего".
Многие начинают жить лишь сиюминутными радостями, пытаясь любыми
средствами избавить себя от всякой ответственности, которая могла бы
усложнить их жизнь. Поэтому считается вполне естественным, что мужчина
несколько лет живет с женщиной, но как только рождение ребенка затруд¬
няет их совместный быт, он бросает и жену, и ребенка, нисколько не забо¬
тясь об их дальнейшей судьбе. Причем и родители такой женщины, и ее
соседи и друзья, да и она сама довольно спокойно относятся к этим исто¬
риям, говоря, „что ничего нельзя сделать, такова судьба". К судебным орга¬
нам в подобных случаях родственники женщины обращаются редко и толь¬
ко в тех случаях, когда предполагаемый отец ребенка или его семья бога¬
ты и с них можно получить какую-то денежную компенсацию. Но чаще
всего молодая мать просто объявляет, что отец ребенка не может содержать
семью, и этого бывает достаточно. Родившегося ребенка обычно берет на
воспитание бабушка (в 90% случаев родственница по материнской линии)
или старшая сестра пострадавшей. Но нередко молодые матери отдают сво¬
их детей в приют или просто оставляют на улице, в метро, в магазинах и
т.д. Значительное число брошенных детей — показатель внутренней дезор¬
ганизации негритянской семьи.
Даже если ребенок остается с матерью, она в силу тяжелого матери¬
ального положения не может обеспечить его нормальным уходом. Младен¬
цы обычно за минимальное вознаграждение остаются на попечении старых
родственниц или соседок, когда мать уходит на работу. Многие матери ра¬
ботают даже в воскресные дни. Невозможность прокормить семью вынужда¬
ет женщин заниматься проституцией. Случается, что женщина приводит
клиентов к себе домой, где лишь занавеска отделяет их от детей. Как счи¬
тает Ф. Фернандес, именно тяжелые условия жизни, а не какое-то сверх¬
раннее развитие сексуальных потребностей приводят темнокожих детей к
ненормальной половой жизни. Так, в фавелах известны случаи, когда девоч¬
ки семи-восьми лет постоянно занимаются проституцией, чтобы заработать
себе деньги на сладости или игрушки. Изнасилование девочек старшими
братьями, соседями, сожителями матерей — также частое явление в этих
районах города.
Небольшие стайки беспризорных детей целыми днями шныряют по фа-
9*
259
велам в поисках пищи и развлечений. Нередко старшие дети, желающие
избавиться от маленьких братишек и сестренок, за сладости оставляют их
на попечение девочек 5—6 лет, которые играют с маленькими, как с кукла¬
ми. Многие подростки жестоко обращаются с младшими детьми, заставля¬
ют их заниматься непосильным трудом, воровать и т.д. В бразильских газе¬
тах нередко печатаются сообщения о жестоком избиении малышей старши¬
ми братьями. Поэтому детская смертность среди негритянского населения,
живущего в городских фавелах, очень высока.
Часто дети страдают от временных сожителей своей матери. Большин
ство негритянок на протяжении жизни имеет несколько более-менее посто¬
янных любовников, от которых, как правило, рожают детей. По представле¬
ниям простых негров супружеская пара, у которой нет детей, не считается
семьей. Бездетность — величаший позор и для мужчины, и для женщины.
В бедных негритянских семьях среднее число детей пять-шесть человек,
причем нередко по отцу они относятся к разным расовым группам.
Рождение светлого ребенка с неярко выраженными негроидными при¬
знаками (пусть даже незаконнорожденного) поднимает престиж негритянки
в глазах ее близких и соседей. Они говорят, что „такой ребенок поможет
своей матери стать белой" и т.д. Иногда негритянки, имеющие несколько
своих детей, усыновляют белого ребенка, причем уделяют ему больше вре¬
мени и ухаживают за ним лучше, чем за собственными детьми. Между
детьми в таких семьях часто идет жестокая борьба за лидерство, и обычно
более светлые закабаляют своих темных братьев и сестер.Таким образом, в
семье, как в фокусе, отражаются некоторые стороны взаимоотношений
между белыми и неграми, характерные для бразильского общества в целом.
Резче всего расовые предрассудки, однако, проявляются в быту, в сфе¬
ре интимных отношений между белыми и неграми. В этом плане интерес¬
ны исследования, проводившиеся в середине нашего столетия бразильски¬
ми этнографами Ф. Кардозу и О. Ианни среди белых студентов Флориано-
полисского университета. О. Ианни обследовал студентов, по доходам отно¬
сившихся к бедным, средним и зажиточным слоям общества, считая, что их
ответы позволят составить представление об общих расовых критериях со¬
циальных слоев, из которых они вышли. Белым студентам, разделенным на
три группы, было предложено выбрать негра или мулата как потенциально¬
го мужа (жену) или партнера (партнершу) в танцах. Результаты оказались
следующими (в %):
Выбор негра группой с доходом Выбор мулата группой с доходом
низким средним высоким
семья 14 9 11
танцы 34 26 17
низким средним высоким
семья 20 10 12
танцы 45 37 30
Наименьшее жалание вступить в брак с неграми и мулатами проявила
группа студентов, относившихся к средним социальным слоям, в которые,
как правило, и переходили отдельные разбогатевшие негры и мулаты". Бе¬
лые, которых обгоняют разбогатевшие мулаты, нередко проявляют по отно¬
шению к ним неприкрытую расовую неприязнь. Они отказываются жить
рядом с мулатами, не посещают ресторанов и спортивных клубов, куда хо¬
дят мулаты, и т.н. В то же время, говоря о взаимоотношениях белых и му¬
260
латов, нельзя рассматривать проблему только с одной стороны. Хотя белые
теоретически не хотят иметь дело с мулатами, на практике именно с ними,
а не с неграми они находятся в более тесных контактах, ибо среди мулатов
встречается больший процент зажиточных людей. Вместе с мулатами белые
вынуждены работать в государственных учреждениях, на предприятиях и
фабриках, находиться в одних профессиональных организациях, жить в од¬
них домах. На работе белые часто должны поддерживать хорошие отноше¬
ния с мулатами. Но как только последние стремятся превратить формаль¬
ные отношения (например, служебные связи) в более близкие, они наталки¬
ваются на стойкое сопротивление со стороны белых. И все же в интимной
сфере белые оказывают большее предпочтение мулатам, чем неграм. Мно¬
гие из них объясняют это тем, что мулаты на половину белые и, следова¬
тельно, ближе, чем негры, стоят к европейцам. Их семья, традиции и обы¬
чаи мало чем отличаются от традиций белых. Поэтому браки с мулатами в
среде белых будут считаться не таким мезальянсом, как с неграми. Поло¬
жение родившихся детей также будет более легким. Следовательно, в сфе¬
ре интимных отношений белые отдают предпочтение мулатам, занимающим
по сравнению с неграми более высокую ступень в расовой иерархии бра¬
зильского общества.
Даже в северо-восточном районе, традиционно славящемся своей расо¬
вой демократичностью, заключение браков между людьми разной расовой
принадлежности остается сложным делом. Если в зажиточных белых кру¬
гах довольно спокойно смотрят на неузаконенные союзы между белыми и
неграми, то официальные браки между ними встречают резкое обществен¬
ное осуждение. И все-таки такие браки заключаются. Во-первых, это проис¬
ходит тогда, когда оба вступающих в брак партнера принадлежат к одним
и тем же социальным группам. Так, исследования, проводившиеся в Баии,
выявили, что в каждой из 24 смешанных в расовом отношении пар, где
один из партнеров был белый, а другой мулат, оба относились к одному
социальному слою. Во-вторых, зажиточные негры и мулаты женятся на бе¬
лых женщинах, занимающих по сравнению с ними более низкое социальное
положение (наиболее частый вариант).
Детей, родившихся в богатых семьях от подобных браков, причисляют
или к белым (если они имеют европейский облик), или к мулатам. Со вре¬
менем их происхождение „забывается". Таким образом, в отличие от США,
где зажиточные мулаты уже только в силу своего происхождения не могут
проникнуть в высшие социальные слои, в Бразилии они встречаются в са¬
мых высоких сферах. Так, в один из закрытых клубов в Байе, посетителя¬
ми которого являются крупные латифундисты, банкиры, ведущие государ¬
ственные деятели, недавно было принято несколько светлых мулатов.
Аналогичные процессы, но с гораздо меньшей интенсивностью происхо¬
дят в городах юга страны. Здесь негры и мулаты в обыденном представле¬
нии составляют единую группу. Изменить социальный статус на юге и для
светлых мулатов остается сложным делом. По сравнению с северо-востоком
расовая регламентация в этих областях проявляется в гораздо более жес¬
ткой форме. Это можно объяснить несколькими причинами. С конца 50-х
годов XX в. резко возросло число негров и мулатов, переезжавших из севе¬
ро-восточных районов в аграрные области и города юга Бразилии. Сильная
конкуренция при трудоустройстве обостряла взаимоотношения между раз¬
261
личными расовыми группами, ж первую очередь между неграми и белыми.
Резче всего это опять таки проявлялось в сфере интимных отношений. По
казательно, что при опросе 2076 белых зажиточных студентов университе
та Богардус г.Сан-Пауло на вопрос, как они относятся к интимным отноше-
ниям и к браку с негритянками и мулатками, 104 студента ответили, что
они не хотят вообще иметь каких либо контактов с негритянками и мулат¬
ками; 96 студентов сказали, что возможны интимные отношения с негри
тянками и мулатками, но брак с негритянками недопустим, а брак со свет¬
лыми мулатками хотя и возможен, но крайне нежелателен; 87 студентов
также допускали возможность интимных отношений с негритянками и му
латками, но выступали резко против браков как с негритянками, так и с
мулатками. Остальные вообще отказались отвечать на вопросы (исследова-
ние проводилось в 60-е годы). В середине XX в. на юге лишь 5,85% бра
ков (из 100) заключалось между неграми и белыми".
Вступление в брак с человеком иной расовой принадлежности для нег¬
ра, даже зажиточного, и сейчас остается сложным. Исследование 1972 г.,
проводившееся среди средних слоев белой группы (опрашиваемые жили в
разных штатах страны), показало, что 74% женщин были против брака бра¬
та с негритянкой, 70% этих же женщин — против брака их братьев с му¬
латкой; 76% опрошенных мужчин высказались против брака сестры с нег¬
ром, 72% мужчин — против брака с мулатом; 89,87% лиц обоего пола, да¬
вавших интервью, вообще категорически отрицали союз с неграми и мула¬
тами". Они мотивировали это, ж частности, тем, что негры и мулаты плохо
приспособлены к семейной жизни: чаще, чем белые, изменяют мужу (же
не), мало занимаются воспитанием детей и т.д. Подобные представления
были и в 80-е годы широко распространены среди белых бразильцев. Поэ
тому даже зажиточному негру или мулату с большим трудом, а иногда и
вообще не удавалось добиться от родителей белой невесты согласия на
брак. В таком случае девушка уходила из дома и позже ставила родителей
перед фактом свершившегося брака. Со временем родители прощали дочь,
но враждебное отношение к ее черному мужу при этом не прекращалось.
Известный бразильский писатель Ж. Амаду очень образно описал подобную
ситуацию в романе „Дона флер и ее два мужа". В нем автор высмеивает
мать героини романа, непомерно гордившуюся белым цветом кожи. Эта
женщина, решившая любыми путями добыть своим дочерям белых женихов
(хотя сама она была замужем за мулатом), посчитала себя тяжко оскорблен¬
ной, когда одна из ее дочерей без ее согласия вышла замуж за негра. В
конце концов, помирившись с дочерью и живя за счет ее семьи, она тем не
менее продолжала третировать своего черного зятя, упрекая его, в частнос¬
ти, в том, что из-за него ее дочь и внуки никогда не смогут войти ж обще¬
ство „порядочных белых людей".
Иногда после заключения такого брака белые родственники вообще от¬
казываются принимать у себя не только зятя или невестку, но и своих
собственных детей и внуков. Ф. Фернандес, которому не раз приходилось
беседовать с белыми женщинами, вышедшими замуж за негра или мулата,
отмечал, что именно неприятие их брака прежней средой порождает в них
комплекс неполноценности, а некоторые белые женщины даже начинают
стыдиться своего мужа и его родственников: отказываются появляться с
мужем в театре, кино и даже на улице. На этой почве чаще всего и зреют
262
конфликтные ситуации, приводящие к распаду брака. Однако многие белые
женщины, вышедшие замуж за негра или мулата, считают, что их семейная
жизнь ничем не отличается от жизни их родителей. Некоторые женщины от¬
мечают особое внимание, которое уделяют их мужья воспитанию детей, ус¬
тройству дома и соблюдению этикета, принятого в „хороших белых семьях".
Кроме того, многие утверждают, что мужья окружают их заботой и уделяют
им больше внимания, чем мужья в белых семьях. Именно непризнание белой
средой расово-смешанных браков в первую очередь (а не различия в быту и
культуре у супругов) препятствует нормальному развитию таких семей.
О росте числа подобных семей косвенно свидетельствует быстрое чис¬
ленное увеличение своеобразной группы бразильского населения — „пардо"
(букв, „бурый"), ставшей в 70-е годы одной из крупнейшей групп. В конце
70-х годов они составляли уже около 20% всех жителей страны. Расовый
состав этой группы отличается чрезвычайной сложностью: в нее зачисляют
людей смешанного происхождения, предками которой могли быть белые,
индейцы, азиаты, негры, причем последний компонент в ней явно домини¬
рует. Тем не менее пардо, согласно бытовой классификации, занимают бо¬
лее престижное положение, чем негры, что и привлекает в нее последних.
Пардо — это прежде всего группа городского населения. Многие живут в
беднейших кварталах, снимают за минимальную сумму комнаты в дешевых
домах, сдаваемых в наем. Подобные дома представляют собой длинные ба¬
раки с дверями, выходящими в общий коридор, с кухней, рассчитанной на
15—20 семей. Здесь живут бок о бок люди разной расовой, этнической и
культурной принадлежности: итальянцы, поляки, турки, арабы, белые, нег¬
ры и т.д. Их разговорный язык представляет собой странную смесь порту¬
гальского и родного языка. То же можно сказать и об их бытовой культу¬
ре, в которой своеобразно переплетаются традиции различных народов.
Процессы расового и культурного смешения здесь протекают с исключи¬
тельной интенсивностью. Заключив, например, брак с сирийцем или ара¬
бом, пардо перенимают не только их бытовые традиции, но и систему се¬
мейно-родственных отношений, а иногда язык и религию.
В отличие от сирийцев, ливанцев, арабов и других иммигрантов, прие¬
хавших в Бразилию из стран Азии в 40—50-е годы XX в. и довольно быс¬
тро там адаптировавшихся, японцы и в 80-е годы составляют наиболее зам¬
кнутую в этническом и культурном отношении группу населения. Основны¬
ми центрами их проживания остаются сельские районы штатов Парана, Ма¬
ту-Гросу, Пара, в которых концентрируются 96% японцев, живущих в Бра¬
зилии. Однако с середины 60-х годов вновь прибывшие в Бразилию японцы
уже предпочитали селиться в городах. При этом нередко связи старых
групп японских иммигрантов с новыми были сравнительно слабыми. Члены
последних в гораздо большей степени, например, были втянуты в общена¬
циональную жизнь страны. Но и среди них доля межэтнических браков ос¬
тавалась низкой и не превышала 1%.
Однако этническая и культурная замкнутость, жесткое соблюдение се¬
мейно-бытовых традиций своей группы — частные тенденции в общем ходе
этнического развития Бразилии, для которого в первую очередь характерны
процессы консолидации и в определенной степени унификации различных
расовых, этнических и культурных элементов. Быстрый рост расово-сме¬
шанных семей — важнейший показатель этого процесса.
263
В настоящее время в Бразилии сложилась определенная модель семьи,
принятая с теми или иными вариантами и представленная во всех основных
группах населения страны. Прежде всего это нуклеарная семья европей¬
ского типа, состоящая из мужа, жены и их неженатых детей. Такие пара¬
метры данного типа семьи, как детность, распределение супружеских ро¬
лей и т.п., зависят прежде всего от социального положения семейной па¬
ры, места их жительства (город, деревня, район страны) и т.д. При этом со¬
циальное положение человека, его общеобразовательный уровень сейчас в
большей степени влияют на особенности организации семьи, ее традиции,
чем, например, принадлежность супругов к той или иной этнорасовой
группе.
В семье, как в фокусе, отражаются многие особенности взаимоотноше¬
ний белых и негров, коренных бразильцев и иммигрантов, характерные для
бразильского общества в целом. В данной статье сделана попытка показать
лишь основные тенденции развития бразильской семьи. Всесторонний ана¬
лиз этих процессов — дело будущих исследований.
' 7?ялЦ7е 7?. As religiocs africanos no Brasil: Contribui^oo" a sociologia das interpenetrates das
Civilizatcsl Sao Paulo, 1963. P.50, 52.
з Дерзмма MJ7. Этнические процессы у негров Бразилии // Этнические процессы в
странах Южной Америки. М., 1981. С. 405 408.
' 7?. Op. cit. Р. 52; 77м;с/ня.тяя //Ж Village and plantation life in Northeastern Brazil.
Seattle, 1957. P. 108-109; Факс А Бразилия XX столетия. M., 1962. С. 74.
* /tz^v^&> 7Vi. Civilizato* c mcsti$agcm. Bahia, 1951. P. 62.
' Ibid.
' 7/м/с/ня.тяя 7/Ж Op. cit. P. 198.
^ Сял?я P. О negro do Rio dc Janeiro: Relates dc raca numa socicdad mudanca. Sao Paulo, 1953.
P. 134.
"Ibid. P.132.
'Ibid. P. 181.
"'Дегд/няяЛ'. Nasccunpovo. Pctropolis, 1977. P. 185-186.
" Ibid.
'з Poo/er У., 7.P.7e. Income fronts and migration winds in Brazil: a geographical analysis //
Ontario Geography. 1979. N 13. P. 25-39.
" 7елмцмуб AM. Основной Гражданский закон Бразилии // Гражданское и семейное
право развивающихся стран. М., 1988. С. 80.
" Там же. С. 80 81.
" Мялсмн^я/яА. О Gcnocidio do negro Brasileiro. Rio de Janeiro [ S.a.j . P. 105.
Регяяя7^л P. Mudancas sociais no Brasil. [ S.I., S.a.] .
" Сял7яля P., 7яяя7 0. Cor c mobilidadc social cm Florianopolis: Aspcctos das relates c negros
numa comunidad Brasil meridional Sao Paulo. Sao Paulo, P. 137.
'* МягПя^ 7. Adaptation of migrants or survival of the fittest? A Brazilian case // Development
Areas. 1979. Vol. 14, N 1. P. 23-24.
" 77z.7f. "Os grupos Ncgro-Africanos" cm historia da cultura Brasileiro. Rio dc Janeiro,
1973. P. 87.
264
Индейцы Бразилии
t Af./l Л.А
Индейцы составляют ничтожную долю населения Бразилии, менее 0,2%. В
переписях страны они отдельно не учитываются, поэтому численность их
неизвестна. В одном из наиболее авторитетных изданий о современном по¬
ложении индейцев Южной Америки численность коренных жителей Брази
лии определяется минимально 70 тыс., а максимально — 94 тыс. человек'.
Однако наиболее часто встречающаяся в литературе начала 80-х годов циф¬
ра 140—185 тыс., включает тех индейцев, которые сохраняют этническое
самосознание и племенную организацию или хотя бы ее отдельные пере¬
житки^.
Коренное население Бразилии подразделяется на множество (не менее
140, а возможно, свыше 210) племен, которые говорят на аравакских, ка-
рибских, тупи, же, пано, тукано и других языках и группах языков. Нес¬
мотря на малую общую численность, индейцы расселены мелкими группа¬
ми на значительных по площади территориях, которые, за редкими исклю¬
чениями, занимали и занимают не одни, а чересполосно с неиндейским на¬
селением. Подавляющая часть коренного населения страны (74% — по од¬
ной из оценок) живет в Амазонии^.
Неоднозначно складывалась судьба индейцев Бразилии. Часть племен,
живших в бассейне Амазонки, была уничтожена еще во времена колонизации
страны, другая — в результате постоянного смешения с завоевателями — уте¬
ряла свою культурную самобытность. Однако определенное число индейских
племен, прежде всего тех, кто живет в труднодоступных районах Амазонии
и юга Бразилии, до сих пор сохраняет свою автохтонную культуру.
Сведения о семье индейцев Бразилии достаточно бедны и фраг¬
ментарны. В данной статье мы попытаемся дать общее представле¬
ние о наиболее распространенных типах семьи у коренных жителей
страны.
Основная масса индейцев Амазонии живет племенами. Как правило,
племя имеет свою территорию, язык, племенное самосознание и самоназва¬
ние. Часть этих племен делится на отцовские роды. Соплеменники живут в
нескольких деревнях или больших отдельно стоящих домах — „талоках".
Население каждой деревни, или талоки, образует самостоятельную общину
со своими охотничьими и рыболовными угодьями. В брак эти индейцы
стремятся вступать не с чужими людьми, а с членами своего племени, при¬
чем часто и с родственниками. Довольно распространен обычай заключения
браков между детьми брата и сестры. Для этого нередко требуется согла¬
сие не только юноши, но и девушки.
С XVI по XX в. произошли существенные перемены в социальной орга¬
низации и брачных нормах индейцев Бразилии. С европейской колониза¬
цией связаны определенные социальные изменения, вызванные, например,
нарушением естественного баланса полов. Так, у натрилинейных и в прош¬
лом практиковавших полигамию сурун-муджетире, живущих на юго-востоке
штата Пара, к середине 70-х годов XX в., когда в племени осталось всего
14 мужчин и 7 женщин, возник институт полиандрии — „амутехеа", со¬
265
гласно которому у каждой женщины, кроме мужа, есть еще амутехеа —
мужчина, не связанный с нею экономическими обязательствами. Муж обыч¬
но делает вид, что он не знает, кто является амутехеа его жены. Но так как
он знает амутехеа всех других замужних женщин, то, конечно, не может не
знать амутехеа своей собственной жены*.
У индейцев гавиоэс (штат Пара) р.Токантинс для ослабления отрица¬
тельных последствий нехватки женщин для естественного воспроизводства
члены индейской группы насильственно перераспределяли жен в ущерб са¬
мым старым и самым молодым мужчинам. У кайяпо-горотире р. Фреско (юг
штата Пара) существовавший издавна обычай обмена женами между жена¬
тыми мужчинами стал практиковаться расширительно, а именно в эту фор¬
му связей включили и холостых мужчин — тех, кто не мог вступить в брак
из-за нехватки женщин в племени.
Значительные изменения в семейной структуре индейских групп были
связаны и с быстрым широкомасштабным освоением бразильцами трудно¬
доступных территорий, где обитают крупные индейские этнические об¬
щности. Это прежде всего районы северного ареала, которые в 60—70-е го¬
ды XX в. стали местом поиска и разработки полезных ископаемых, в час¬
тности урановых руд. Во второй половине 70-х годов здесь велись интен¬
сивные геологоразведочные работы. В результате быстрого капиталистичес¬
кого освоения многих ранее необжитых районов страны у ряда индейских
племен происходило быстрое разложение коллективного хозяйства, ослаб¬
лялась родовая организация. Укрепление больших семей и возникновение
унилинейных групп, ведущих счет происхождения от известного мужского
предка, приводили к постепенной смене рода патронимиями. В настоящее
время у многих индейцев, живущих в северо-западной части бассейна Ама¬
зонки, идет процесс распада большесемейных общин и выделение самосто¬
ятельных малых семей. У индейцев кайюа Параны и целого ряда других
племен Бразилии замена большесемейных общин малыми семьями как эко¬
номическими ячейками завершилась еще в первой половине XX в.^
Аналогичные процессы происходили у племен ареала Журуа—Пурус. В
эпоху каучукового бума остатки племен этого ареала распались на множе¬
ство мелких общин и семейных „хуторов", и теперь нередко семьи из раз
ных племен живут по соседству друг с другом, в удалении от общин свое
го племени.
Сородичи, живучие в чужих родах, т.е. прежде всего замужние женщи¬
ны, продолжают ощущать солидарность со своим родом. Заболевших жен-
цин родственники иногда увозят обратно в родной дом. Вдова также может
ьернуться в свой дом. В настоящее время в связи с ослаблением рода у час¬
ти индейских племен происходят нарушения обычая племенной эндогамии.
Т^к, индейцы карагиа в нарушение существующей у них традиции матри-
локальности вступают в натрилокальные браки с женщинами из общины
своих соседей таниране. Случается, что в чужие племена переманивают не
толрко женщин, но и мужчин, которые не могли найти себе же!! в своей
собственной общине.
Для части индейских племен, прежде всего живущих в северо-западной
части бассейна Амазонки, счет родства и сейчас ведется строго но одной, а
именно отцовской линии. Косвенное подтверждение этого — возможность
заключения брака между детьми сестер и запрещение ею для детей брать
266
ев. По правилам брак должен заключаться следующим образом. Юноша де¬
лает небольшие подарки вождю или старейшине рода девушки. Получив
его согласие на брак, жених в течение условленного времени работает на
семью своей невесты: он помогает своему будущему тестю расчищать под
посевы участки леса, охотиться и ловить рыбу.
На время отработки за жену юноша не переселяется к невесте, а, на¬
против, продолжает жить в своем доме. По окончании отработки семья не¬
весты устраивает свадебный пир. После него жених уводит девушку к себе
в дом, где молодожены занимают отведенное им место. Брак патрилокален.
Матрилокальным может быть лишь брак дочери вождя. Вождь может иметь
несколько жен.
Браки у индейцев обычно стабильные. Разводы сравнительно редки.
Право на развод имеет как муж, так и жена. Муж может отослать от себя
жену за неверность, леность, бездетность и плохой характер. Свое решение
он должен мотивировать на совете рода. Если совет признает, что достаточ¬
ных оснований для развода не было, муж подвергается осуждению всего
рода. Жена может убежать от мужа. Индейцы уитото считают, что только
плохое отношение мужа может толкнуть женщину на этот поступок. По¬
сле смерти одного из супругов другой может через несколько месяцев по¬
сле похорон вступить в новый брак. Вдова имеет право или вернуться в
свой род, или остаться в роде покойного мужа под защитой вождя, или
выйти замуж в какой-то третий род. Так как дети обычно остаются в роде
отца, то вдовы предпочитают вторично выходить замуж в род своего перво¬
го супруга. У индейцев уитото, бора и окайна до недавнего времени суще
ствовал левират. Особенно широко он был распространен у окайна, у кото¬
рых вдова по большей части выходила замуж за младшего брата своего по¬
койного мужа.
Рассмотрим внутреннюю организацию индейской семьи. Так, род уито¬
то состоит из нескольких парных семей. Каждая такая пара имеет свое
место в родовом доме и свой костер, на котором она готовит пищу, свою
плантацию маниоки. Семья может построить около этой плантации малень¬
кую хижину и жить в ней, особенно во время сельскохозяйственных работ.
В семье два-три ребенка. Распоряжается детьми отец, хотя престиж матери
очень высок. Маленькие дети тесно связаны с родителями. Но родовая об¬
щина у индейцев уитото также выполняет многие функции социализации
молодежи. Старшие члены рода обучают подростков, знакомят их со спосо¬
бами охоты и рыболовства. Затем юношам разрешается присутствовать на
совете рода. Вождь дарит каждому юноше мешок с кока, юноши же дают
обещание быть храбрыми. Это обещание они скрепляют тем, что лижут та¬
бак (способ клятвы у уитото).
Девушек перед наступлением половой зрелости помещают в специаль¬
ном тайном убежище в глубине леса. Старейшие женщины знакомят деву¬
шек с их будущими обязанностями жен и матерей. Девушки возвращаются
в родовой дом непосредственно перед замужеством.
Главная нища многих индейских земледельческих племен — маниока.
Обычно производство маниоки сосредоточено в руках женщин, что отчасти
объясняет сравнительно высокое положение их в семье. Кроме того, не¬
хватка женщин во многих индейских племенах также способствует ноддер
жанию престижа матери и жены в семье. У индейцев таниране в связи с
267
резкой диспропорцией полов на одну незамужнюю девушку брачного воз¬
раста приходится трое юношей. Последние стали вступать в брак с несо¬
вершеннолетними девочками, чтобы матери этих девочек помогали им по
хозяйству. В результате в общине тапирапе нет незамужних девочек старше
7—8 лет. Поэтому индейские мужчины ценят своих жен, дорожат их здо¬
ровьем и т.д. Если муж убьет свою жену, то ему будет мстить весь ее род.
Правда, в последнее время среди коренных жителей участились случаи
убийства жен, однако подобные явления наблюдаются прежде всего у тех,
кто находится в постоянном контакте с европейцами.
Высока роль женщин и у индейцев тукуна, живущих по левобережью
Амазонки — Солимоэса. Предпочтительной формой брака у них является
обмен сестрами. Разрешен также брак с дядей по матери. При заключении
брака решающую роль играет брат отца девушки. Однако девушки имеет
право отказать юноше, хотя бы дядя по отцу дал ему согласие. Добрачные
связи запрещены, по крайней мере девушкам. Родители, узнав о связи их
дочери с каким-либо юношей, требуют, чтобы он женился на ней. В про¬
тивном случае ему приходится бежать от мести оскорбленных родителей и
их родственников.
Молодожены первоначально живут в доме родителей жены. Некото¬
рые зятья всю жизнь продолжают жить с ними. По прошествии определен¬
ного периода молодожены селятся отдельно, но неподалеку от родителей
жены.
Муж остается в локальной группе жены. Полигамия разрешается, хотя
и редко. Она встречается у тукуна в двух формах: сороральной и нерод¬
ственной. Левират широко распространен. Развод совершается но желанию
любого из супругов. Сейчас дети при разводе в основном остаются с ма¬
терью. Материнский дядя является защитником детей сестры. Дядя, напри¬
мер, ответственен за безопасность девушки в период инициаций. Сватают
девушку у ее дяди. Брак у тукуна матрилокален. Заботиться о матери дочь
обязана и после своего замужества.
Хранительницами родовых имен являются старые женщины. Когда в
семье рождается ребенок, к ним обращаются за советом, какое имя ему
дать. Для наречения ребенка его родители и родственники собираются в
доме бабушки ребенка по матери.
Противоположных брачных обычаев придерживаются индейцы ягуа.
Брак у них заключается вне рода, но обычно в пределах племени. Знакомые
семьи стараются познакомить своих сыновей и дочерей. Половая близость в
период ухаживания обычна и не осуждается старшими. Юноша просит со¬
гласия на брак у родителей девушки. Последние устраивают в своем родо¬
вом доме свадебный пир. Родители и род невесты приглашают на него весь
род жениха. Гости привозят с собой мясо, фрукты, напиток массато и свои
кухонные горшки. Род невесты заготовляет большие запасы нищи. Каждая
женщина готовит еду в своем семейном горшке, хотя приготовленную пи¬
щу едят все вместе.
Молодожены первые 4—6 месяцев после свадьбы живут в родовом доме
тестя. Временная матрилокальность супругов, видимо, связаны с обычаем
отработки за жену. Зять помогает тестю в земледельческих работах, ходит
с ним на охоту, отдавая ему большую часть добычи.
Развод у ягуа совершается но желанию как мужа, так и жены. Мужчи¬
268
на может оставить жену, если она плохая хозяйка, не заботится о нем, час
то ему изменяет или бездетна. Во всех этих случаях муж отводит жену в
ее родовой дом. Женщина может оставить мужа, если он плохой охотник
или слишком ленив и не обеспечивает семью пищею
Отношения между супругами в семье ягуа обычно хорошие. Муж ни¬
когда не бьет жену, считается с ней. В семье бывает от трех до шести де
тей. Имя ребенку дает его отец на четвертый день посЛе родов. Личные
имена обозначают животных, птиц и людей. Детьми младше двух лет зани
мается обычно только мать. Как только ребенок научится хорошо ходить,
его вверяют заботам старших детей.
Заметную роль в жизни общины играют женщины и у индейцев туку
но. Так, один мужчина этого племени при продаже пойманной им рыбы
сказал, что цену будет назначать его жена, которой принадлежит рыба.
Свадьба у тукуно обычно справляется в доме или в общине девушки,
куда также приезжают отец и родственники жениха. Еще в начале XX в. у
многих индейцев этого района обрядовое похищение женихом девушки из
малоки сопровождалось ритуальной борьбой между родственниками жениха
и невесты.
Показательно, что индейцы тукуно чтут божество уайми-пайе („бабушка
колдунов"). Чтобы обеспечить себе удачу и безопасность в пути, делают ей
подношения в виде корзиночек с лепешками, старых гамаков, фрунктов.
Эти подарки они вешают на определенное священное дерево, растущее на
берегу реки.
В целом среди земледельческих племен индейцев бассейна Амазонки
повсеместно господствует патрилинейность и патрилокальность.
Ту куна и аравакоязычные группы бассейна рек Какета и Кайяри-Вуа-
пес предпочитают кросскузенный брак. Отдачу сестры в род будущей же¬
ны можно заменить платой за невесту. Индейцы кубео предпочитают брать
жену из рода матери. Из браков, заключенных внутри племени, одну треть
составляют браки из рода матери. Берутся жены и из родственных кубео
племен.
Род состоит их парных семей. Родственные семьи живут вместе в об
щем родовом доме. Каждая семья имеет свое место в родовом доме, свой
очаг и т.д. Парные семьи готовят пищу порознь, но едят ее вместе со все
ми живущими в этой талоке родственниками.
Очень интересен обряд наречения детей у индейцев кубео. Когда ре
бенку исполняется 6 месяцев и он считается „достаточно взрослым, чтобы
понимать, что происходит", ему дают одно из принадлежащих роду имен.
Дед (классификационный) держит ребенка у себя на коленях и произносит
над ним обрядовые слова, в которых вспоминает об основателях рода.
Каждый индейский род имеет постоянную серию личных имен. Личное
имя человека указывает на его род, обозначая или намекая на одну из черт
его родового эпонима. В качестве примера можно привести некоторые име¬
на индейцев тукуно: „серингарана" (дерево) — род ягуара, так как это дере¬
во имеет душу пятнистого ягуара. Мужские имена: тот, у кого злые глаза
(ягуар), опасный (ягуар) и т.д. Женские имена: красный лист сарингараиы,
сарингарана на земле (сгнившее дерево). Показательно, что мужские имена
этого рода относятся к ягуару, а большинство женских — к дереву серин¬
гарана*.
269
Очень сложна терминология родства у тукуно. Для матери и отца су
ществуют индивидуальные термины. Термины для брата отца и брата мате
ри различны. Сестры отца и матери называются одинаково. Параллельные
кузены объединяются с братьями и сестрами. Кросскузены различаются от
параллельных и объединяются с детьми сестры. Дети брата обозначаются
особым термином. Брат мужа или жены называется так же, как жена брата
мужчины или женщины. Кроме того, для обозначения сестры жены сущес¬
твует специальный термин. Жена брата отца называется отлично от жены
брата матери.
Таким образом, терминология родства тукуна отражает типичное для
родового строя различие отцовской и материнской линии родства, двусто¬
ронний кросскузенный брак, а также брак с детьми сестры.
Материнский дядя является защитником детей сестры. Однако подроб
ные сведения по этому вопросу отсутствуют. О значении и функциях дяди
по отцовской линии известно гораздо больше. Дядя девушки по отцу руко¬
водит обрядом инициации?. Сам отец занимается гостями, но в инициации
активной роли не играет. Дядя ответствен за безопасность девушки в пери¬
од инициации.
Инициация девушек практикуется до настоящего времени. Она сопро¬
вождается многочисленными обрядами и пиром и требует большой подго¬
товки. Вместе с подготовкой инициационный период может занять несколь¬
ко месяцев*. На обряд инициаций собирается много гостей — до 300 чело
век. В отличие от инициации у уитото обряд у тукуно имеет индивидуаль¬
ный характер: одновременно инициируется одна девушка, а не группа их.
Во время инициации дядя девушки по отцу должен объяснить ей буду¬
щие обязанности. Он советует быть почтительной с родителями и братья¬
ми, всегда слушаться матери, никогда не покидать ее и быть хорошей же¬
ной. Сватают девушку у дяди. Если жених обращается непосредственно к
отцу, тот обычно отсылает его к своему брату. Мнение дяди считается
окончательным, если только сама девушка не воспротивится браку. Таким
образом, у тукуна отцовский дядя занимает, видимо, значительно более вли¬
ятельное положение, чем дядя по матери.
Женский труд имеет большое значение в хозяйстве тукуна. Женщины
сажают и выращивают все основные сельскохозяйственные культуры, кро¬
ме маиса. Маис сажают преимущественно мужчины.
Вдова может обеспечить себя пищей, не прибегая к помощи мужчины.
Нередко одинокие женщины объединяются и самостоятельно расчищают
под посев заросли кустарников, ловят рыбу и собирают съедобные расте
ния. Вдова с детьми может образовать в составе локальной группы незави¬
симую семью. Напротив, вдовец не в состоянии сохранить экономическую
самостоятельность, особенно если у него маленькие дети. Уходя на охоту,
он по необходимости надолго покидает их. В результате дети стремятся
влиться в семью какого-либо родственника. Сам вдовец или снова женится,
или поселяется вместе семьей одного из родственников.
У некоторых индейцев брак матрилокален. Заботиться о матери дочь
обязана и после своего замужества. Мать имеет значительную власть как
над незамужними, так и над замужними дочерьми. Она предупреждает же¬
ниха, что заберет у него свою дочь, если тот будет с ней плохо обращать¬
ся. Родственники женщины не допускают, чтобы муж с ней плохо обра¬
270
щался. Вначале они стремятся примирить\упругов. Ё^ли это не помогает,
заставляют женщину оставить мужа и вернуЪ*с& к матери.
Старейшина малоки у тукуна — отец или дёь, ее обитателей. Его жена
разделяет с ним эту власть, особенно когда дело каоЬзтся дочерей или внучек.
Хранителями родовых имен у части индейцев ямрются старые женщи¬
ны. Когда в семье рождается ребенок, к ним обращайся за советом, какое
имя ему дать. Для наречения ребенка его родители и ро)клъенники собира¬
ются в доме бабушки по матери. Имя дает один из матерйцских родствен¬
ников, член фратрии, противоположной фратрии новорожд&щого. Многие
индейские племена, в частности тукуна, считают наиболее желательным,
если имя ребенку дает его бабушка но матери. В наречении ребенка учас¬
твует, следовательно, как его фратрия, так и фратрия его матери. С одной
стороны, имя выбирается из числа родовых имен рода отца, с другой —
выбранное таким образом имя дает член рода или фратрии матери. Нако¬
нец, совершается обряд наречения в доме бабушки но материнской линии.
В религии тукуна большую роль играет женское божество Тае, кото¬
рое является важнейшей фигурой в их религиозных воззрениях. Индейцы
верят, что зачатие зависит ог Таз: она наделяет зародыш душой и телом.
Тае дала первым людям обычай экзогамии и создание родовой принадлеж¬
ности. Она карает людей за нарушение экзогамии, за детоубийство и за
убийство посредством магии.
Христианское учение, преподававшееся среди тукуна миссионерами,
оказало значительное влияние на некоторые легенды о Тае. В них она
сближается с образом девы Марии христианской мифологии.
У некоторых индейцев женщина выступает как культурный герой или
хранитель культурных ценностей. У тукуна, например, считается, что пер¬
воначально огнем владела только одна женщина — бабушка культурного ге¬
роя Дьяй. Он похитил у нее огонь и принес его людям.
Маис людям принесла девушка но имени Ариана. С раннего детства она
осталась сиротой, и Тае ее взяла к себе на небо. Затем она попала в под¬
земный мир, откуда принесла людям маис. Сладкую маниоку также откры¬
ла женщина. Она же изобрела способ приготовления из нее лепешек „бей
жус". Искусству магии научила людей девушка Ауе'мана. В раннем детстве
она была похищена жабой кунаюару. Живя у нее, девушка научилась как
насылать болезни, так и излечивать их. Затем она вернулась к людям и пе¬
редала им свои знания.
Женщины часто владеют очищенным и обработанным ими самими учас¬
тком земли. В случае развода он остается в ее пользовании. Дети, пересе¬
лившиеся на новое место, не имеют никаких нрав на фруктовые насажде¬
ния, сделанные их родителями.
Дом обычно является собственностью главы большой семьи, живущей в
нем. Он может покинуть, продать или отдать его, невзирая на протесты
других членов семьи. Мужчина, женщина или ребенок считается собствен¬
ником только того, что было сделано им или для него. Предметы, которы¬
ми пользуются только мужчины, не могут наследоваться женщинами, и на¬
оборот. Обычно сын наследует после отца, дочь после матери. Если нет сы¬
новей, наследуют братья. Если нет ни тех, ни других, дочь получает от от¬
ца на хранение оружие и другие вещи, наследуемые но мужской линии.
Она отдает их своему мужу, но при разводе забирает обратно.
271
Интересный вариант семьи сложился у индейцев бассейна верховьев
Шингу. Многие из них проживают в небольших деревнях. Домохозяйство у
большинства племен является основным хозяйственным коллективом. Каж
дая парная семья домохозяйства имеет свой участок земли. В деревне Бака-
ири каждый дом занимает большое материнское домохозяйство, которое со
стоит из брачных пар. Их члены ведут свое происхождение от женщины.
Брак строго матрилокален, исключение делается лишь для главы домохо¬
зяйства. Он всегда берет жену в свой дом. Дети причисляются к домохо
зяйству матери или к материнской большой семье.
Ядро домохозяйства камайюра, одних из самых самобытных племен Бра
зилии, составляют несколько родных или классификационных братьев, чьи
жены являются сестрами. Дети называют мужчин своего рода отцами, а
женщин матерями. Девушки выходят замуж в дом брата матери, а вместо
них приходят дочери последнего.
Семья у племен Шингу обычно парная. Ее хозяйственное и социальное
значение невелико. У бакаири свидетельством слабого обособления брачных
пар является дислокальная полигамия. Обычно мужчина бакаири имеет
только одну женщину, но иногда несколько. Мужчина живет в деревне в
доме первой жены. Время от времени он ездит вместе с ней и ее родствен¬
никами или без них ко второй жене, которая обычно живет в своей мате¬
ринской семье. Такой дислокальный брак был бы невозможен, если бы
парная семья экономически выделялась из состава домохозяйства, или, как
его называют, большой материнской семьи.
Между мужем и братом женщины у бакаири наблюдается большая бли¬
зость, как и у камайюра. У последних юноши и девушки относятся с боль¬
шим почтением к отцу и его братьям, мало говорят с ними, слушают их с
опущенными глазами. С сестрой матери обращаются, как с матерью. Братья
матери не имеют никакой власти над детьми сестры. Особых знаков внима
ния им не оказывается*. Отношения братьев отличаются большой близос¬
тью. Они основаны на тесной и повседневной хозяйственной кооперации,
взаимопомощи и взаимоответственности за воспитание детей друг друга.
Таковы же отношения сестер. О наречении детей имеются, к сожалению,
лишь очень краткие и неопределенные сведения. У камайюра через нес¬
колько дней после рождения ребенку дают два имени: одно — отец, другое
— мать'". В 8 лет мальчикам прокалывают уши. Эту операцию производит
какой-нибудь старший родственник (иногда со стороны отца или матери);
он же дает мальчику новое имя. По наступлении половой зрелости юноши
и девушки получают постоянные имена каких-либо их предков (по мужской
линии).
До наступления половой зрелости дети у камайюра находятся под влас¬
тью матери. Отец и дед с бабушкой помогают ей, но только мать распоря¬
жается детьми. С периода инициации и после него дети, особенно сыновья,
переходят под власть отца. Отец сохраняет ее и над своими женатыми сы¬
новьями и замужними дочерьми. Сыновья не могут жениться или уехать ку¬
да-нибудь без согласия отца. Подобные поступки более взрослых юношей,
совершенные по отношению не только к родителям, но и вообще к род¬
ственникам или старшим, наказываются нанесением шрамов. Отказ подвер
гнуться этой каре может повлечь за собой изгнание из племени. У камайю
ра оно является высшей мерой наказания.
272
Послушание молодежи старшим членам общины до последнего времени
являлось краеугольным камнем индейской семьи. У ряда индейских племен
и сейчас существует выраженное подчинение групп более молодого возрас¬
та старшим. Особенно наглядно подобное половозрастное деление просле-
живается у индейцев тапирапе.
Так, все мужчины тапирапе принадлежат к одной из двух обрядовых
фратрий. Каждая из них делится на три возрастные группы. Таким обра
зом, в племени имеется три группы юношей (младше 15 лет), две — воинов
(от 15 до 44) лет) и две — пожилых мужчин (от 40 до 60 лет). Каждая
группа носит имя какой нибудь птицы. Группа вместе охотится и расчища-
ет землю. Параллельные группы танцуют друг против друга на празднике
или угощают друг друга. В мужском доме каждая фратрия занимает его по
ловину. Вероятно, эти фратрии являются пережитком дуального деления
племени. После разложения родовой организации они утеряли брачнорегу-
лирующие функции, сохранив обрядовые. Так как в обрядах участвуют
главным образом мужчины, женщины перестают причисляться к фратриям.
Однако и у индейцев тапирапе, правда в меньшей степени, чем, ска¬
жем, у индейцев Шингу, прослеживаются многочисленные пережитки ма¬
теринского рода. В частности, о детях вдовца заботятся, как правило, роди¬
тели его жены, тогда как он сам возвращается в группу неженатых муж¬
чин, и т.д.
Интересно, что во многих индейских группах женщины, как указыва¬
лось ранее, вступают в брак с индейцами своего племени. На брак с чужа¬
ками они идут только, если последние принимаются в племя или надолго
селятся в данной деревне. Однако сейчас этот обычай стал повсеместно на
рушаться.
Показательно, что в 70-е годы значительно усилился процесс выхода из
общин разбогатевших индейцев и кабокло ( метисов португало-индейского
происхождения). В Амазонии хижины кабокло могут располагаться по бере¬
гам рек на расстоянии 300—500 м одна от другой. На небольшой реке жи¬
вет несколько десятков таких крестьянских семей, образующих соседскую
общину. Члены ее, особенно ближайшие соседи, помогают друг другу в
сельскохозяйственной работе, в первую очередь при расчистке нового учас¬
тка от леса. Они также совместно отмечают религиозные праздники. Каж¬
дая община образует религиозное братство, имеющее своим покровителем
одного из католических святых. Характерная особенность такой общины —
родственные узы, нередко связывающие обитателей соседних домов. Обыч¬
но это родители и взрослые, выделившиеся в отдельные домохозяйства де¬
ти, кузены и т.д. Следует учитывать, что чисто соседские обязательства для
членов общины кабокло не менее важны, чем связи по родству".
Основой питания семьи кабокло и часто живущих вместе с ними детри
бализованных индейцев является маниоковая мука и рыба. В сухое время
года кабокло охотятся на сухопутных животных, но добыча по большей час¬
ти бывает невелика. Дополнительным источником мяса служат домашние
животные. Почти каждая крестьянская семья имеет свинью или несколько
свиней и домашнюю птицу (кур, уток). Их забивают главным образом для
праздничного стола. Обычно семья кабокло в течение дня ест три раза.
Большая часть дневного рациона приходится на ужин, который бывает по¬
сле захода солнца. Мужчины, по обычаю, едят первыми, женщины и дети
273
— после них^. Таков незыблемый ритуал. В целом семья кабокло, прежде
всего дети, страдает от постоянного недоедания. По подсчетам американско¬
го исследователя Ч. Уогли, белые при равном с кабокло составе семьи тра¬
тят на покупку продовольствия в 8—10 раз больше денег^.
Постоянное недоедание, плохие жилищные условия ^обычно хижины ка¬
бокло имеют стены, сплетенные из пальмовых ветвей, а иногда листьев, опи¬
рающихся на поперечные балки, поддерживаемые четырьмя столбами, пол
укрепляется на сваях) приводят к высокой детской смертности. В средней но
размеру семье кабокло обычно вырастает пять-шесть детей. Их помощь роди¬
телям начинается с самого раннего возраста. Авторитет матери и отца в семь¬
ях кабокло высок, их слушаются беспрекословно. Семьи крепкие, разводы до
последнего времени были сравнительно редки. Однако массовые миграции
детрибализованных индейцев и кабокло в города и более развитые социально-
экономические районы Бразилии стали постепенно подтачивать устои индей¬
ской семьи. Наиболее быстро указанный процесс происходил среди индей¬
ского и метисного населения северо-востока и юга Бразилии.
Социологические исследования на северо-востоке страны в 50—60-х го¬
дах XX в. показали, как сильно изменились там ценностные ориентации ря¬
довых индейцев-общинников. Многие индейцы (особенно молодые) отказы¬
вались подчиняться общинным властям, не желали участвовать в коллектив¬
ном труде общинников, всегда являвшемся важнейшей социально-экономи¬
ческой функцией общины. Они не верили в индейских богов, считали мно¬
гие нормы и правила общинного общежития устаревшими. Жили такие ин¬
дейцы обычно обособленно, небольшой семьей. Выход из общины и пере¬
езд в город они считали единственным способом улучшения своего соци¬
ального и материального положения.
В 60-е годы XX в. индейцы гуни на северо-востоке страны, как прави¬
ло, селились дисперсно, их деревни соседствовали с поселениями других
сельских жителей Бразилии. Постоянные и разнообразные связи, существо
вавшие между ними, способствовали довольно быстрому включению этих
индейцев в процесс национальной консолидации. Показательно, что в дерев¬
нях тупи жило немало детрибализованных индейцев и метисов, некоторые
перебрались гуда из районов Амазонии. Метисы — и эго следует подчер¬
кнуть — при желании могли стать полноправными членами индейской об¬
щины, так как в 60-е годы общинные земли уже сдавались в аренду как
зажиточным членам общины, так и на сторону.
В наши дни проникновение предприимчивых белых в индейскую общи¬
ну распространенное явление. Эго способствует разложению традиционных
институтов (таких, например, как семья). Сейчас почти везде расширенная
индейская семья, состоящая из нескольких поколений кровных родственни¬
ков, стала исчезать, заменяясь нуклеарной, в которую входят магь, отец и
их неженатые дети. Обычно такие семьи возглавляет мужчина, хотя жен¬
щины продолжают пользоваться в них значительным влиянием и авторите¬
том, принимают активное участие в важнейших делах общины.
Женщины в индейских семьях на северо-востоке и сейчас продолжают
выполнять важные экономические функции. Они ухаживают за посевами,
изготовляют одежду и утварь, воспитывают детей и т.н. Сравнительно сла¬
бая экономическая зависимость индеанок ог мужчин в ряде племен этого
региона обеспечивает им право самостоятельно выбирать себе мужа, но
274
собственному желанию вступать в брак и расторгать его. Правда, свобода
выбора мужа для индеанок таких племен обычно ограничивается членами
их племенной группы.
Связи индеанок с белыми не только не осуждаются, но, наоборот, под
нимают престиж женщины среди простых общинников. Ребенок, рождаю
щийся от подобных союзов, только в силу своего происхождения имеет
больше, чем индеец, шансов на повышение своего социального статуса, так
как происхождение в определенной степени продолжает влиять на социаль¬
ное положение человека. Поэтому именно метисы часто становятся крупны
ми арендаторами общинной земли. При этом в 60—70-е годы аренда земли
была обусловлена наличием значительного числа разорившихся индейцев
общинников, не имевших земли и вынужденных на кабальных условиях
наниматься в качестве батраков к богатым общинникам или крупным зе
мельным собственникам, жившим вне общины. Иные общинники, потеряв
землю, иногда совсем переставали заниматься земледелием и целиком по¬
свящали себя ремеслам, работая исключительно на туристский рынок. Не¬
которые из них богатели и становились мелкими торговцами или скупщи¬
ками ремесленных изделий индейцев общинников. Бывало, что на одного
предприимчивого скупщика целиком работали две-три индейские общины'*.
Ремесленные изделия обычно продавались в других районах страны.
Иногда община отказывалась от услуг скупщика и начинала вести тор¬
говлю самостоятельно. На вырученные деньги приобреталась грузовая ма
шина или автобус, на которых индейцы регулярно ездили в близлежащие
города.
Так обычно происходило первое знакомство с городскими условиями
жизни. Освоившись в городе, некоторые индейцы переселялись туда на
всегда, при этом частично или полностью теряли связь с родной общиной,
что вело к довольно быстрой утрате тупи этнокультурной специфики своей
группы. Такие индейцы достаточно скоро становились представителями го¬
родской бразильской культуры. Количество межэтнических браков среди
них было высоким (свыше 40% тупи, живущих в городах, вступали в брак
с представителями других групп населения Бразилии).
В 60-х — начале 70-х годов XX в. в таких крупных городах северо-вос¬
тока, как Байя, проживало 0,3—0,4% индейцев. Процент довольно высокий,
если учесть, что в то время общая численность индейского населения в се
веро-восточном районе не превышала 1%.
В городах индейцы, частично тупи, селились в районах трущоб — фаве-
лах. Они старались селиться компактно, однако довольно быстро региональ¬
ные различия стирались и формировалась единая группа городского индей¬
ского населения. В ней четко выделялись два слоя: индейцы, сравнительно
давно живущие в городах, и недавно приехавшие туда. Экономическое по¬
ложение первых было более устойчивым: часть их смогла овладеть специ¬
альностями, требующими определенной квалификации. Это позволило им
устроиться в различные частные заведения, на промышленные предприятия
и т.п. Их жены работали служанками, нянями, поварихами в домах зажи
точных горожан. При случае они устанавливали определенные связи (напри
мер, компадразго) с представителями более высоких социальных слоев, что
в определенном смысле укрепляло их положение среди индейцев.
При благоприятном стечении обстоятельств некоторые индейцы богате
275
ли, становясь лавочниками, содержателями маленьких гостиниц и рестора-
нов. Такие мелкие буржуа иногда занимались ростовщичеством, что позво-
ляло им держать в экономической зависимости индейцев контролируемой
ими группы.
В городах, где традиционные для индейцев тупи семейно родственные
связи легко разрушались, на смену им приходила своеобразная общность,
включающая индейцев различных племенных групп, живущих в данном рай
оне. Возглавлял ее наиболее богатый и преуспевающий индеец, которого
нередко называли „отцом". Он пользовался значительным влиянием среди
индейцев независимо от их племенной принадлежности: вел переговоры с
хозяином земли о праве на эксплуатацию занятого мигрантами участка, ста
рался обеспечить индейцев постоянным заработком. Подобный „патриарх"
следил и за проведением общих работ, часть денег за которые шла на нуж¬
ды данного коллектива, другая поступала в его личное пользование. Он же
руководил приемом индейцев в данную группу и выходом из нее и т.п. Та
ким образом, отдельные функции сельской общины были перенесены и
распространены индейцами тупи на свою новую, искусственно созданную
городскую общину.
Прием нового члена в группу обычно сопровождался юридическим
оформлением родственных отношений новичка с кем-то из старожилов. По
следний официально признавал его своим сыном (дочерью), братом (сестрой)
или племянником (племянницей). Установление такого „искусственного род¬
ства" было нацелено на обеспечение максимальной сплоченности группы,
что позволило индейцам быстрее адаптироваться к новым для них условиям
городской среды.
Важной функцией подобных городских индейских групп было предот
вращение культурной дезорганизации мигрантов. На протяжении первых
лет жизни в городах индейцы пытались придерживаться своих традицион
ных норм и обычаев, отмечали отдельные праздники и т.д. Однако сами ии
дейские традиции в городах подвергались резким изменениям: в их струк
туру постоянно включались новые культурные элементы.
В целом подобные своеобразные городские общины хотя в определен
ной степени задерживали адаптацию индейцев к новому укладу жизни, в то
же самое время смягчали этот процесс, оберегая их от столкновений с те¬
ми часто непреодолимыми социально-культурными барьерами, которые сто¬
яли между ними и миром обеспеченных горожан.
Сама жизнь в городах способствовала разрушению замкнутости индей¬
ских групп. Она заменяла связи, основанные на отношениях родства, кумов¬
ства, иными безличными функциональными отношениями, прежде всего
производственными. Это вело к довольно быстрому исчезновению изолиро¬
ванности индейцев тупи. Среди них, в первую очередь среди беднейшей
части, активно шли процессы культурного и расового смешения. Интенсив
ность ассимиляционных тенденций можно отчасти объяснить знанием мно¬
гими из индейцев тупи лингуа жерал или даже португальского языка. Кро¬
ме того, расовая дискриминация не тормозила интеграцию тупи в структу-
ру городского населения (основная тяжесть расовой неприязни на северо-
востоке падала на негритянскую группу). Многочисленные браки, заключав¬
шиеся между тупи, метисами и белыми в городах северо-востока, были
широко распространенным явлением, что также определяло своеобразие
276
ции индейцев тупи к городской среде. Приблизительно такие же процессы
протекали среди терена, хотя были особенно, характерные только для этой
группы индейцев.
Переселение терена в города началось еще в 20-е годы XX в., но в те¬
чение целого десятилетия оно сводилось к единичным явлениям и не ока¬
зывало существенного влияния на развитие группы в целом. Значительно
расширилась их миграция в города в 40—50-е годы XX в., а своего пика
она достигла в начале 60-х годов. Так, в 1958 г. в г. Акидуано проживало
278 индейцев терена, а в 1960 г. — уже 330 человек. В городских центрах
Гуананди и Бурако число индейцев увеличилось с 67 человек (1958 г.) до
98 (1960 г.Г
В 20—40-е годы XX в., переезжая в города, терена обычно не теряли
связи с общиной. Более того, за некоторыми из них (обычно детьми общин¬
ной аристократии) сохранились наделы земли. Поэтому в тот период их
миграции часто носили неустойчивый, временный характер. Прожив два-три
года в городах, терена возвращались в родную общину. Но уже в 50—60-е
годы более трети индейцев оставались в городах навсегда.
Обычно в города терена ехали большой группой родственников, неред¬
ко составлявших так называемую расширенную семью. Следует учитывать,
что этот тип семьи был характерен только для терена, живущих в городах.
В общине же большинство индейцев этой группы жило нуклеарными семь¬
ями (расширенная семья сохранилась менее чем у 9% индейцев). Распрос¬
транение расширенного типа семьи в городах диктовалось прежде всего со¬
циально-экономическими условиями: приспособиться к новой среде боль¬
шой группой было легче, чем в одиночку. В городах в индейскую группу
нередко включались и чужаки (необязательно индейцы), чье родство с кем-
то из членов семьи оформлялось юридически. Такие люди получали все
права наследования и даже могли претендовать на общинные наделы.
„Вступая в родство", они, как правило, вносили в общесемейную копилку
определенную сумму денег или помогали „своим новым родственникам"
найти подходящее жилье и работу.
Широкое распространение среди индейцев терена, прежде всего индеа-
нок, межэтнических браков также способствовало проникновению в индей¬
скую среду людей иной этнической принадлежности. В 60-е годы из 80 за¬
регистрированных терена браков (в городах) 43,7% заключались внутри
группы, 18,7% — между индейцами терена и метисами, 37,7% составляли
межэтнические союзы'*. Две трети последних заключались женщинами-те-
рена, как правило, из второго-трегьего поколения мигрантов. Это объясня¬
ется прежде всего тем, что мужчина-терена обычно долго не могли найти
постоянного заработка, достаточного для обеспечения семьи, в которой, как
правило, было не менее пяти-восьми детей. Но можно назвать и иные при¬
чины. Традиционно индейцы терена делились на две группы — наати и вае-
ри-тхане. К первой из них относилась родо-племенная элита, во вторую вхо¬
дила основная масса рядовых общинников. В деревне браки между этими
группами практически никогда не заключались. В городах наати предпочи¬
тали брак с человеком иной расовой принадлежности союзу с представите
лем группы ваери-тхане. Кроме того, большинство наати считало, что брак
с метисом и особенно с белым (с неграми и мулатами браков заключалось
сравнительно мало, как правило, в них вступали лишь индейцы из группы
277
ваери-тхане) поможет им и их детям „стать цивилизованнее, улучшит расу".
Основная масса терена продолжала заниматься малоквалифицированными
видами труда: были строителями, дворниками, сторожами, полотерами, са¬
пожниками и т.д. В 60-е годы только один индеец терена работал бухгалте¬
ром, 1 был личным секретарем, 2 — шоферами, 2 — парикмахерами, 2 —
железнодорожниками'^ (все цифровые данные взяты из материалов комплек¬
сного исследования социально-профессионального состава индейцев терена,
живщих в 60-е годы в четырех городских центрах юго-запада: Кампо-Гран
ди, Бурако, Гуананди, Алдейа). Индеанки терена работали нянями, прислу¬
гами, поварихами, разнорабочими, прачками, уборщицами. Только три смог¬
ли стать портнихами, I — акушеркой'*. Среди учителей начальных классов,
преподающих в указанных выше городах, не было ни одной индеанки тере¬
на. Следовательно, и во второй половине XX в. основная масса терена, жив¬
ших в городах, относилась к беднейшим слоям. Это, естественно, затрудня¬
ло адаптацию к новой для них городской среде, отрицательно влияя прак¬
тически на все сферы их жизнедеятельности. Некоторые возвращались в
родные общины. Но там многие не могли найти себе подходящих занятий и
нередко жили за счет своих родственников, жен и даже детей'*. Такие ин
дейцы обычно стеснялись своего происхождения, старались говорить толь¬
ко по-португальски и одеваться, как бразильцы.
Один-два раза в год индейцы посещали близлежащие города или про¬
мышленные центры. В них они нанимались выполнять наиболее тяжелые и
малопопулярные среди горожан виды работ. На вырученные деньги они
обычно покупали алкогольные напитки, дешевые украшения и одежду.
Большинство этих индейцев были неграмотными или малограмотными, ко¬
торые, отрицая индейские традиции, не могли воспринять общебразильские
образцы культуры и поведения.
Однако уже с середины 60-х годов из среды городских индейцев тере¬
на выдвинулось несколько талантливых профессиональных поэтов и худож¬
ников, развивающих лучшие традиции своего народа. Важно то, что в своем
творчестве они исходят из лучших образцов общенациональной бразильской
культуры.
Появление собственно индейской интеллигенции — важнейшая веха в
складывании группы терена в городах, а также показатель довольно высо¬
кого уровня адаптации этих индейцев к городской среде.
Индивидуальная адаптация индейцев тупи и терена к городу существен¬
но отличалась от групповой, прежде всего семейной. При последней, как
правило, сохранялась этническая целостность мигрантов, продолжали суще¬
ствовать многие традиции и обычаи исходной группы. Привыкание индейцев
к городской среде в этом случае протекало сравнительно легко, а строгий
контроль семьи за каждым из ее членов предотвращал социокультурную де¬
зорганизацию. Наоборот, при индивидуальных миграциях индейцев в города
показатели их социальной дезорганизации были достаточно высокими. Боль¬
шинство не могло найти постоянного заработка и пополняло ряды люмпе¬
нов. Некоторые становились бродягами, профессиональными преступниками,
проститутками и т.д. Немало таких индейцев, прожив в городах два-три го¬
да, спивались и попадали в психиатрические лечебницы с тяжелейшими
расстройствами нервной системы. Однако некоторые индейцы богатели. Их
дети получали образование и входили в среднезажиточные слои горожан.
278
* Noticiero modigenista // Атёг. indigena. 1977. Vol. 37, N 2. P. 530; Ingles preve о Пт dos
indios // Estado de SacTPaulo. 1977. 8 ag.; Moser R. Zur heutigen Lage der Indianer in
Brasilianisch-Amazonien // Bull. soc. Suisse Amer. 1979. N 43.
i Demographic summary: Lowland Indians of South America // Situation of the Indian in South
America. Geneva, 1972. P. 385.
' Oliveira C.de. Indigenous peoples and sociocultural change in the Amazon // Man in the
Amazon. Gainesville, 1974. P. 114; /dew. Movimentos indigenas e indigenismo en Brasil //
Amer. indigena. 1981. Vol. 41, N 3.
* Saraid Лаггду /?. Poliandrous adjustments in Surui society // Nature South Americans. Boston,
1974. P. 370-372.
' Cardoso V.de. Matrimonio e soludaridad tribal terena // Rev. Antropologia. 1959. Vol. 7, N 1/2.
P. 33-41; Атёг. indigena. 1960. Vol. 20, N 2. P. 91-92.
' 7еллгпдлл У. Die Indianer Nordost-Perus. Hamburg, 1930. P. 559.
^ M/?uienda/M C. The Tukuna. Berkeley; Los Angeles, 1952. P. 69.
'Ibid. P. 85, 88-90.
'Ibid. P. 96.
"Ibid. P. 68.
" Oberg ДГ. Indian tribes of Northern Mato Grosso, Brazil. Wash. (D.C.), 1953. P. 144.
" Ibid. P. 73.
" Wagiey C/i. Amazon town: A study of man in the tropics. N.Y., 1976. P. 29-30.
" Фоймйерл JL4. Обманчивый рай. M., 1986. С. 109.
" Meggers В. Caboclo life in the mouth of the Amazon // Primitive Man. 1950. Vol. 23, N 1/2.
P. 14-28, 66.
" Price D. Comercio у acculturacion entre los nambicuara // Amer. indigena. 1977. Vol. 37, N 1.
P.133.
" Oliveira Д.С. Urbanizacao e tribalismo: A integracao dos Indios Terena Numa sociedade de
classes, Rio de Janeiro, 1968. P. 129.
"Ibid. P. 161.
" Ibid. P. 179.
Аргентинцы
j7.C. й/еймбоу*
Немногочисленные исследования по семье в странах Латинской Америки
показывают, что в изменениях, которые претерпела в XX в. модель семьи в
этом регионе, наибольшую роль сыграли процессы урбанизации и матери
ально-технической модернизации в обществе'. Приведенный вывод с пол
ным правом может быть отнесен к Аргентине. Трансформация социально^
экономической структуры по типу индустриально-урбанизированных стран
началась здесь в последней трети XIX в. — раньше, чем в большинстве дру
гих латиноамериканских республик. С 1895 по 1980 г. (последняя пе
репись населения) доля городского населения выросла с 37 до 83%\ что
выдвинуло Аргентину в число наиболее урбанизированных стран современ¬
ного мира.
Однако в Аргентине в отличие от высокоразвитых государств Запада ре
зультативность процесса урбанизации в экономическом и демографическом
плане сопровождалась обострением социальных противоречий.
В силу ряда причин Аргентина не смогла достичь уровня ведущих ка
питалистических держав, оставшись на промежуточной стадии так называе
279
мых развивающихся стран. Здесь до сих пор не изжиты резкие контрасты
между высокоиндустриальной зоной конурбации Буэнос-Айреса (Большой
Буэнос-Айрес), поглотивший треть населения Аргентины (35%), значительно
уступающей ей по степени индустриализации литоралью (аргентинская Ме¬
сопотамия, образуемая реками Парана и Уругвай) и интериором, т.е. вну¬
тренней частью, отсталым в экономическом и социальном плане.
Асинхронность развития на региональном уровне дополняется структур¬
ными диспропорциями между социальными группами населения внутри од¬
ной и той же зоны. Кроме того, сохранение регионализма включает также
этнический аспект.
В процессе модификации социально-экономической структуры Буэнос-
Айрес опережал остальную часть страны. Здесь сосредоточился наиболь¬
ший контингент иммигрантов, здесь с конца XIX в. началась первая фаза
индустриализации и тогда же появился многочисленный средний класс, ко¬
торый изменил предшествующую социальную стратификацию аргентинско¬
го общества.
40-е годы XX в. — качественно новая фаза интенсивной индустриализа
ции, которая шла не за счет европейских иммигрантов, а на базе местных
трудовых ресурсов, благодаря росту внутренних миграционных потоков,
гнавших жителей из села в город. В более позднее время в этот ноток вли¬
лись мигранты из небольших городков с застойной экономикой, направляв¬
шиеся в крупные промышленные центры, и выходцы из соседних стран —
парагвайцы, чилийцы и боливийцы.
Основное направление этих движений — от периферии к центру в Буэ¬
нос-Айресе — определяло характер социокультурных процессов, ведущих к
консолидации аргентинской нации. По трудности адаптации личности к
быстроменяющимся условиям жизни, отягощенным в Аргентине переселен¬
ческим фактором, соционормативным плюрализмом, социальным неравен¬
ством, вели к разного рода болезненным явлениям, нашедшим отражение в
широко распространенных терминах „кризис культуры" и „кризис семьи'*.
Общая теория урбанизации, т.е. все возрастающего сосредоточения на¬
селения в крупных городах и складывания специфического городского об¬
раза жизни, еще не разработана, и применительно к Аргентине этот про¬
цесс получил в научной литературе неоднозначное освещение*. В 50-е годы
ученые, пионеры в области изучения урбанизации, делали акцент на пато¬
логических явлениях, сопровождающих расцвет городов, — безработице, де¬
фиците жилищ, распаде семей и т.д. 60-е годы ознаменовались приливом
оптимизма и породили надежду на излечимость „временных болезней"
больших городов — главных катализаторов и носителей общественного
прогресса. В 70-е годы концепции „десаррольизма" (развития) и модерниза¬
ции стали все больше вытесняться теорией зависимости развивающихся
стран как причины и следствия их эксплуатации и ускоренного развития
центров мирового капитализма.
Смена оценок и акцентов отражает цикличность реальных процессов, зна¬
чение в них социально-политического фактора. Еще одно отличие Латинской
Америки, в частности Аргентины, состоит в том, что здесь процесс роста го¬
родов — результат не столько набирающий темпы индустриализации, сколько
относительного застоя в сельском хозяйстве^. Следствием указанной особен¬
ности явилось то, что латиноамериканская урбанизация растянула на продол
280
жительное время национальную интеграцию и консолидацию. В целом же со¬
хранение региональных диспропорций, многоукладности, этыодифференцирую¬
щих признаков и социального расслоения приводит к многовариантности обра
за жизни населения и основных социальных институтов, обеспечивающих пер
манентность культуры, к каковым в первую очередь относится семья.
Писать об аргентинской семье сколько-нибудь обобщенно в настоящее
время сложно и вряд ли целесообразно. Не случайно сами аргентинские со
циологи и антропологи, обратившиеся к изучению современной семьи, в
качестве объекта исследования берут не широкие пласты населения города
или деревни, а сравнительно небольшие локальные общины, стремясь через
„частные" случаи показать реальные изменения, происходящие в жизни ар
гентинской семьи.
За отправную точку этих изменений так или иначе принимается доволь¬
но гипотетичная модель традиционной семьи. Известный и за пределами
Аргентины ученый-социолог Дж. Джермани в краткой ретроспективе разви¬
тия семьи в Аргентине писал, что часть европейских иммигрантов, обосно¬
вавшихся в сельской зоне, воспроизводила традиционную модель большой
семьи, состоявшей из представителей нескольких поколений и державшей¬
ся на мужском авторитете, субординации и женской зависимости^. К фак¬
торам, способствовавшим жизнестойкости такой семьи, он относит физичес¬
кую и социальную изоляцию, в которой существовала сельская семья в ря¬
де районов страны.
Ориентации колонистов на свои традиционные ценности противостояло
расшатывающее воздействие иммиграции на устои и стабильность семьи.
Невозможность получить землю в собственное владение и иметь гарантиро¬
ванный доход для большинства устремившихся в провинцию иммигрантов
трансформировалась в фактор дестабилизации семьи. В том же направлении
действовала диспропорция полов в сторону преобладания мужского населе¬
ния, сохранявшаяся долгое время после прекращения массового движения
из Европы в Аргентину.
Превращение Буэнос-Айреса в один из крупнейших мегаполисов мира,
в том числе благодаря продолжавшемуся в течение многих десятилетий
притоку выходцев из сельской зоны, означало, по мысли Дж. Джермани,
исчезновение прежней традиционной структуры семьи у подавляющей час¬
ти населения и ее замену на новую с признаками, сближавшими аргентин¬
скую семью с семьей западных урбанизированных обществ^.
Демографическая статистика середины 50-х годов подтверждала сущес¬
твенные черты этой трансформации: падение среднего размера семьи и до¬
минирование нуклуарной модели. В то же время в наиболее отсталых про¬
винциях доля семей с внуками (трехпоколенных) оставалась значительной
(34%) — втрое больше, чем в сельской зоне в целом. Эти провинции про¬
должали давать высокие показатели рождаемости, так же как и семьи вы¬
ходцев из этих провинций в городах. С другой стороны, в среде вновь при¬
бывавших из интериора в столичную зону групп быстро внедрялись сред¬
ства регулирования деторождения.
Постепенное выравнивание показателей детности в семьях низших и
средних слоев населения Буэнос-Айреса было обязано также появлению не
задолго до второй мировой войны новых тенденций внутри старожильческо¬
го контингента жителей города. Эволюционируя по типичной для индустри¬
281
ально развитых стран схеме, эта категория, в свое время начавшая движе¬
ние за снижение рождаемости и доведшая ее до минимума, перестроилась
на новый образец „идеальной" семьи с двумя, тремя и четырьмя детьми.
Снижение рождаемости в среднем классе — мелкой буржуазии, служа¬
щих, интеллигенции — шло параллельно с увеличением неустойчивости
семьи. В обход аргентинского законодательства, придерживающегося католи¬
ческой концепции нерасторжимого брака, горожане — представители сред¬
него класса стали разводиться и заключать новый брак за границей (особен¬
но в Мексике). Лишенные юридической силы в самой Аргентине, такие
семьи тем не менее удовлетворяли социальному требованию „легальности".
Другим фактором дестабилизации послужило изменение положения женщи¬
ны. В семьях средних и низших слоев населения города женщины вынуждены
были работать по найму. В Буэнос-Айресе в середине 50-х годов XX в. пример¬
но половина женщин в возрасте 18—30 лет трудилась в сфере торговли, услуг,
на фабриках (для всех возрастных категорий эта пропорция составляла 30%).
На примере Большого Буэнос-Айреса, где разные социальные группы про¬
ходили последовательные стадии урбанизации, Дж. Джермани предложил ги¬
потезу трансформации аргентинской семьи, составив следующую схему*:
I фаза -
исходная
П фаза —
переходная
Традиционная Преимущественно трехпоколенный состав; высокая рож
семья дасмость; авторитарные отношения, основанные на под
чинснии главной фигуре - отцу
Семья в состоянии Разукрупнение большой семьи; снижение рождаемости;
кризиса межпоколенные конфликты, разводы
Ш фаза — Модернизированная Нуклсарная семья, планируемая рождаемость; эгалитарные
рождение нового городская семья отношения; стабильность, основанная на взаимной привя-
типа семьи занности и согласии супругов; поиски этого согласия с
помощью специальной литературы, психотерапии и т.п.
Даже для Большого Буэнос-Айреса указанная схема упрощала реальное
многообразие форм и состава семьи у разных социальных и этнических
групп населения. Тем не менее выделенные в ней три фазы отражали суть
происходивших в XX в. изменений и характеризовали основные типы или
подтипы семьи у социально разнородных слоев, вступающих во взаимодей¬
ствие в Буэнос-Айресе.
Конечная модель семьи, к которой стремятся группы, достигшие пика
трансформации, согласно Дж. Джермани, совпадает по своей структуре с
семьей высокоразвитых обществ Запада. Но в этом отношении особняком,
например, стоит семья высшего класса потомственной аристократии мес¬
тного происхождения, которая руководствовалась традиционными образца¬
ми: неограничиваемая рождаемость, привязанность к религиозным ценнос¬
тям, сохранение отцовского авторитета, стремление держаться стержня „ро¬
да", несмотря на переход к нуклеарной семье и неолокалыюму поселению.
Однако сохранение традиционной структуры не соответствует изменившим¬
ся видам деятельности потомственной олигархии. Речь идет о сознательном
выборе, не детерминированном логикой экономического развития, о так на¬
зываемом идеологическом традиционализме. Этот феномен характерен в
особенности для городов интериора и частично для определенного сектора
населения Буэнос-Айреса. В теоретическом плане данное явление говорит о
282
специфических (национальных) аспектах процесса „рационализации " в сфе
ре семьи*.
Подтипом переходной семьи, не вошедшим в схему, можно также счи-
тать семью той части населения, которая сформировала жизнь пригорода
большого города, в зоне viHa miseria, или пояса нищеты. Выходцы из аграр¬
ных и полуаграрных зон, из небольших и средних городов не могут, как
это ни парадоксально, следовать типичной урбанизированной модели семьи.
Попадая в город, они организуют или реорганизуют исходную структуру,
приспосабливаясь к жизни в новых условиях. Вопрос о том, являются ли
деформации традиционной семьи приобретенными вследствие переселения
или перенесены на новую почву вместе с предшествующими иммиграции
проблемами, остается открытым.
По данным выборочного обследования на 1966 г., в пригороде Буэнос-
Айреса Лас-Антенас, где осели в основном выходцы из западной провинции
Ла-Риоха, экономический уровень семьи vitlero (жителя кварталов бедноты)
выше, чем был на прежнем месте'". Улучшение касается прежде всего ре¬
гулярности денежных доходов, качества питания, одежды, возможности
пользоваться определенными благами городской жизни. Но жилищные
условия хуже: семья страдает от тесноты, отсутствия удобств и ненадеж¬
ности жилых конструкций. Однако бывшие провинциалы стремятся к оп¬
рятности и порядку. Даже в самых бедных домах есть холодильники, теле¬
визоры и стиральные машины.
Жители Лас-Антенаса сохраняют относительную обособленность и эн¬
догамию. Круг их общения определяют такие же выходцы из провинции, а
не портеньос, т.е. коренные жители Буэнос-Айреса. Преобладание внутри
групповых контактов над межгрупповыми — одна из причин формирования
субкультуры, особого образа жизни пригорода, распространяющегося и на
семейные отношения. Свою роль играет социальная гомогенность. Среди
работающих подавляюшее большинство заняты неквалифицированным руч
ным трудом по найму. Мужчины работают в основном на фабриках, а жен¬
щины — прислугой. Треть женщин активного возраста не работает вне до¬
ма". Возможно, последнее благотворно влияет на крепость семейного очага,
на то, что семья сохраняет свою престижность и значение; в противовес
тенденции к распаду или дезорганизации семейной жизни, здесь семья, на¬
против, выглядит более сплоченной, чем раньше, хотя она многочисленна и
держится на авторитете родителей".
В новых специфических условиях города-гиганта семья взяла на себя
функцию консолидации и защиты всей общины от внешнего окружения.
Страх перед атмосферой жестокости, сопутствующей большому городу,
имеет под собой реальную почву в кварталах бедноты и в то же время он
„работает' на семью. Воспринимая город как источник всякого рода опас¬
ностей, родители усиливают контроль над детьми; в свою очередь, дети чув
ствуют себя в семье „как за монастырской стеной ". Возрождая старые
нормы, семья в Лас-Антенасе предотвращает дезориентацию личности, от¬
клонение в социальном поведении и одновременно тормозит ассимиляцию
выходцев с периферии'* в принимающем обществе.
Следует все же иметь в виду, что перечисленные Марио Маргулисом
черты — только часть структуры семьи viHem, выделяющаяся при сравне¬
нии образа жизни выходцев из провинции в рабочих кварталах и в так на¬
283
зываемом поясе бедности. В отличие от мигрантов, устраивающихся в рабо¬
чих кварталах, и от иммигрантов в широком смысле жители villa miseria
живут в особой „экологической изоляции" и медленнее применяют нормы
экзогруппы. Но через работу, систему образования семья становится все
более открытой, откликаясь на запросы и устав нового общества. Во всяком
случае, двойственность и противоречивость свойственны ее структуре как
семье переходного тина. Кроме того, нельзя забывать, что только часть ма¬
терей не работает. Для остальных семей задача контроля за детьми ослож¬
няется.
Миграция из периферийных районов в прибрежный с центром в Бу¬
энос-Айресе, определявшая вплоть до 80-х годов характер этнокультурных
процессов в Аргентине, дезорганизовывала или возрождала с неизбежными
модификациями традиционную модель семьи. Через семью в таком городе-
гиганте, как Буэнос-Айрес, осуществлялась частичная универсализация на¬
циональной культуры, постепенно преодолевшая сопротивление „материа¬
ла", поставляемого глубинкой.
Срабатывала также обратная связь — воздействие миграции на исход¬
ную модель традиционной семьи в местах выхода. Длительный отток жите¬
лей из села обескровливал их в демографическом отношении и создавал
специфические условия образования и развития семьи. М. Маргулис пока¬
зал эти кризисные явления на примере небольшого поселения Кампанас в
провинции Ла-Риоха. В 40-х годах Кампанас был изолированным поселени¬
ем, единственная связь которого с внешним миром осуществлялась на му¬
лах и лошадях. Строительство железных дорог в этом горном районе поло¬
жило конец вековой изоляции и открыло путь для эмиграции молодежи
обоих полов в Сан-Хуан, Кордову и Буэнос-Айрес. Численность населения
Кампанаса уменьшилась в 1947—1966 гг. с 975 до 600 человек, несмотря
на высокий уровень рождаемости. К концу 60-х годов Кампанас производил
впечатление упадка: „небольшие семейные наделы, используемые для выра¬
щивания винограда и орехов, недостаточны для поддержания всей земли, а
рабочих мест мало и оплата невысокая и нерегулярная. Немногочисленные
юноши и девушки, не имеющие возможности уехать, жалуются на депрес¬
сию и скуку. Мужчины собираются в питейных заведениях. Девушкам нег¬
де развлечься вне дома. Женщины не имеют денег от доставшейся им по
наследству собственности и ни малейшей возможности их заработать, про¬
должая полностью зависеть от родителей или от мужа"".
В то же самое время под воздействием оттока молодых людей из Кам¬
панаса в условиях сужения выбора супруга (супруги) традиционные се¬
мейные нормы превратились в формальность. Сексуальная мораль, забота о
репутации и семейный контроль над детьми становятся менее строгими, и
допускают отклонения от прежних правил.
Дополнительный материал о последствиях внутренних миграций и кон¬
тактов с урбанизированным обществом на семейную жизнь в окраинных об¬
ластях страны, где преобладает креольское и метисное население, дает ис¬
следование аргентинских антропологов одной коррентинской общины в ар¬
гентинской Месопотамии". На культурную специфику этого северо-восточ¬
ного ареала с центром в Корриентесе оказывают влияние гуарани. Жители
зоны — владельцы небольших минифундий, обрабатывают также землю в
ближайших поместьях, собственники которых проживают в самом городе.
284
Используют в основном традиционные плуги, приводимые в движение уп¬
ряжкой волов. Уход в города на временные или постоянные заработки глав¬
ным образом мужчин в активном возрасте сформировал тип семьи, концен¬
трирующейся вокруг женщин. Преемственность этой ситуации в новых по¬
колениях провоцирует тяготение взрослых дочерей с детьми к матери. Ба¬
бушка не только передает своим дочерям традиционные навыки и обычаи
ухода за детьми младенческого возраста, но и становится главой семейного
очага. Изменение ролевых функций женщин и детей, взявших на свои пле¬
чи хозяйственную ответственность, не оправдывает поддерживающийся на
высоком уровне престиж мужчин. Аргентинские антропологи объясняют
это противоречие влиянием мачизма в традиционном обществе" (нехватка
мужчин в данном случае, вероятно, усиливает эффект).
Чтобы заслужить благосклонность мужчины, женщины не должны
иметь добрачных отношений. Нарушение этого требования осуждается и
квалифицируется как „отсутствие стыда". Одной из форм контроля за пове¬
дением девушки служит наступление первой менструации, которая обычно
ожидается в возрасте 14 лет, но в результате половой жизни может прийти
досрочно, в 10—12 лет. Вместе с тем в отношении к матери-одиночке, ро¬
дившей без мужа, традиция отступает. Молодая мать всегда находит защиту
в родительском доме. Исследователи считают, что в этой терпимости видна
уступка изменившимся условиям жизни сельской общины, в которой се¬
мейная группа становится единственным институтом социального обеспече¬
ния. В противном случае одинокая женщина оказалась бы абсолютно беспо¬
мощной**.
Но только в ограниченных случаях члены изучаемой группы обнаружи¬
вают необходимость переоценки собственных традиционных ценностей. В
основном же консерватизм традиций, как отмечает и ряд авторов, мешает
локальным периферийным общинам приспособиться к требованиям совре¬
менной жизни", отчего страдают благополучие и гармония в семье.
Супружеская связь формализуется общественным признанием. Граждан¬
ские браки нечасты. Прокреативная функция — главная в семье, и факт бе¬
ременности является доказательством того, что брак состоялся, „дал резуль¬
тат".
При том, что дети всегда желанны, явное предпочтение отдается маль¬
чику. Желание иметь мальчика реализуется в „поддерживающем" поведе¬
нии в момент зачатия. Некоторые изменения в самочувствии беременной и
отдельные „знаки" природы, ассоциируемые с ношением мальчика, требуют
от женщины особой осторожности, поскольку плод мужского рода „более
деликатный". И первый период после рождения младенца мать более осто¬
рожна с мальчиком, чем с девочкой^*.
Эмпирический материал о семейном укладе в коррентинской общине
при всей его неполноте и специфичности подтверждает роль этнокультур¬
ного фактора в эволюции традиционного семейного уклада. Наблюдающиеся
несоответствия характерны для маргинальных групп, в которых семья эко¬
номически втянута в новую орбиту, но социокультурно продолжает оста¬
ваться частью иной (стадиально или этнически) системы.
Сказанное объединяет такие разные группы, как метисные общины и
иммигрантские колонии.
Небольшая земледельческая колония Сан-Себастьяно, основанная в про¬
285
винции Энтре-Риос итальянскими иммигрантами, принадлежавшими к про¬
тестантской секте вальденсов, насчитывает в настоящее время около тысячи
жителей. Эта довольно обособленная колония представляет собой комплекс
деревни и расположенных вблизи ферм. Не будучи самой типичной для
сельской зоны Аргентины, она тем не менее стала частью аргентинской
действительности. Многие ее жители, потомки иммигрантов в четвертом
поколении, полностью овладели занятиями современных животноводов — га-
учо, участвуют в общих состязаниях и скачках, пьют крепкий мате. По сло¬
вам североамериканского историка К. Хоффман Ругьеро, проводившей со-
циоантропологическое исследование в Сан-Себастьяно в 1976/77 и в 1981
гг., при всем своеобразии социальная жизнь этой общины является доста¬
точно представительной не только для сельской Аргентины, но и всей Ла¬
тинской Америки^'.
Семья, вернее семейная группа, живущая под одной крышей, или домо¬
хозяйство, представляет ядро социальной жизни общины. По данным пе¬
реписи 1980 г., около половины домохозяйств в Сан-Себастьяно содержали
расширенные семьи. Другую половину составляли „урезанные" домохозяй¬
ства из нуклеарных семей^.
Состав семейной группы часто меняется в продолжение жизни одного
поколения, но преобладающая модель довольно специфична. Около двух
третей расширенных семей принадлежат к категории многопоколенных,
объединяющих в одном доме три-четыре поколения прямых родственников.
Временное проживание с родителями невесты или жениха — обычное
начало для молодоженов. В этом смысле брак означает расширение уже су¬
ществующего хаусхолда в той же мере, как и создание отдельной семьи.
Еще одной типологической чертой структуры домохозяйства, подтвер¬
ждающей его роль в качестве центра общественной жизни в Сан-Себастья¬
но, является присутствие в нем дополнительных членов — неродственников.
Одна треть расширенных хаусхолдов, т.е. одна шестая часть всех домохо¬
зяйств, включает лиц, не связанных с проживающей в доме семьей ни
кровным родством, ни свойством. Возраст их может быть разным, но пол —
преимущественно мужским. Неродственных членов семьи К. Хоффман де¬
лит условно на три категории: работники, которым хозяева платят; жильцы,
от которых хозяева получают плату; неформально усыновленные или прием¬
ные дети.
Работники — типичные пеоны — и домашняя прислуга составляют ос¬
новную категорию. Обычно пеоны живут в собственных ранчо на эстансии^
хозяев, но некоторая часть их — в доме патрона и его семьи.
Прислуга почти всегда живет с семьей нанимателя. Что касается панси¬
онеров, то большая их часть — учащиеся, которые переселяются в дом зна¬
комых или друзей, чтобы быть ближе к школе. Фактический статус тех и
других в семье хозяев выше, чем их официальное место, особенно положе¬
ние детей, которых со стороны бывает трудно отличить от членов семьи.
Место „усыновленных" в структуре домохозяйства определить особенно
сложно. Эти лица, чаще дети, переходят в чужую семью в основном из-за
распадения собственной (по причине смерти одного или обоих родителей
либо из-за финансовых трудностей). Неродных детей называют „чикос" (от
chico — „ребенок"), чтобы отличать от собственных „ихос" (дети), но „чико"
также употребительное обращение к родным детям.
286
Когда первые иммигранты прибыли в Сан-Себастьяно и соседний горо¬
док Ла-Пас, обычай принятия в дом неродственных членов, уходящий корня¬
ми в колониальное прошлое, когда владельцы асьенд не обходились без по¬
левых работ и домашней прислуги, был свойствен местным креольским
семьям. Домашняя группа состояла, например, из двух одиноких мужчин со
сходными занятиями или двух братьев, которым помогали по хозяйству одна
или две женщины. В качестве дополнительных членов семьи бывали также
вдовцы, сироты и т.д. И сейчас еще среди креольского населения Сан-Себас¬
тьяно встречаются семьи с неродственными членами, но теперь этот тип
семьи больше присущ потомкам гринго (как называют здесь иммигрантов). В
отношении причины бытования у них этого обычая К. Хоффман допускает
возможность влияния креолов, но не только это. Она пишет: „Принятие в
семью неродственников можно интерпретировать как результат влияния сис¬
темы ритуального родства креолов или их великодушия... а также как ре¬
зультат осознанной необходимости для колонистов принять кого-то в семью,
как метод социализации, приводящий к гармонии и равенству в колонии"^.
С оттенком некоторой идеализации общества в Сан-Себастьяно воспринима¬
ется автором и тот факт, что семьи иммигрантского происхождения среднего
и высшего классов принимают в свое лоно представителей низшего класса
из креольского окружения. Как и ритуальное родство, эта система стала ме¬
ханизмом экономической кооперации. При высокой рождаемости (в 1980 г.
среднее число детей на семью в колонии достигло пять-шесть человек) при¬
емные дети и пеоны помогают удовлетворять нужды фермерской семьи.
Обычай жить с родителями и другими родственниками до самой же¬
нитьбы остается неизменным. Молодые люди часто живут дома до 25 лет и
позже не покидают его, если требуется уход за родителями. Большая часть
одиноких людей и женатых пар до 40 лет не уходят из родительского до¬
ма. Такова традиция, зародившаяся в Италии. Одна из неизменных ценнос¬
тей — испытываемые с большой полнотой чувства близости и теплоты —
' компенсирует потомкам иммигрантов недостающее ощущение родины.
„Общество, в котором семья играет ограниченную роль, в котором дети жи¬
вут отдельно от родителей и нарушают семейный кодекс, как это происхо¬
дит в телевизионных сериалах из североамериканской жизни... представля¬
ется молодым людям в Сан-Себастьяно чуждым и неприемлемым"^.
Для большей части семей не характерны присущие латиноамерикан¬
ской культуре черты мачизма. Семейные отношения основаны на привязан¬
ности, взаимном предупреждении разногласий, разделении забот, совмес¬
тной работе и принимаемых сообща решениях. Все же некоторая часть на¬
селения обнаруживает влияние прежних половых стереотипов. Женщина
сильнее осуждается за неверность мужу, чем мужчина в соответствующей
ситуации. Характерно в этой связи высказывание отца Каглиеро: „Семья
здесь еще крепкая, но имеются случаи разводов во всех социальных груп¬
пах... Как жена может жить, обманывая мужа, — я не знаю. Дети смотрят
такие вещи но телевизору и в кино... И еще: женщина не должна давать в
доме приют молоденьким девочкам — она не предполагает, какой опасности
подвергает свою семью"^. Нельзя забывать, пишет К. Хоффман, что приве¬
денные слова принадлежат католическому священнику из маленького города
(Ла-Пас), но представление о том, что только женская добродетель охраняет
семейную честь, разделяется и другими. Тем не менее в сексуальном пове-
287
дении происходят заметные сдвиги. Добрачные отношения в Сан-Себастьяно
и Ла-Пасе становятся общепринятыми. Врач-гинеколог сообщила, что в Ла
Пасе ей известны три случая беременности старшеклассниц. Их исключили
из школы с правом вернуться. Родители принимают ребенка незамужней
женщины и растят как своего. В настоящее время родители не оказывают
того давления на детей в вопросах женитьбы, какое когда-то они сами ис
пытали в своих семьях. Кроме того, широко используются контрацептивные
средства. Аборт всеми осуждается, в том числе по радио, и некоторые жен
щины решаются „поднять" ребенка без мужа.
Повышение роли женщины в семье и обществе происходит в Аргенти¬
не в общенациональных масштабах, меняя ее образ и реальное участие
женщин в разных социальных сферах. Эва Перон, проявившая себя как го¬
сударственный и политический лидер, стала своеобразным символом жен
щины, переступившей традиционную область женской активности, ограни¬
ченную частным миром дома и семьи. Характерно в этой связи, что сверже
ние Изабеллы Перон в 1976 г. военной хунтой воспринимается как потеря
женщинами своих позиций^. ^
Еще один пример семьи сельского типа очерчен рамками локальной об¬
щины, но, как и предыдущие, показателен для более широкой прослойки
населения Аргентины. Имеются в виду сельские пролетарии, хотя речь
идет в данном случае о сельскохозяйственных рабочих одной плантации са¬
харного тростника в местечке Севиль-Уэко, расположенном недалеко от
столицы провинции Тукуман, на северо-западе страны. Сахарные плантации
появились здесь в конце XIX в., но иммигранты никогда не составляли
сколько-нибудь значительного числа рабочих рук на финке (поместье в кон¬
тексте северо-запада).
Труд на плантации и на сахарном заводе требует высокой концентра¬
ции рабочих в одном месте и в то же время носит сезонный характер, что
накладывает отпечаток на всю социальную жизнь. Часть молодежи ежегод¬
но покидает Севиль-Уэко из-за ограниченных масштабов местного производ¬
ства и растущей механизации работ. Кроме того, после уборки урожая не¬
занятая группа рабочих мигрирует в другие места до следующей сафры
(меняя до трех видов занятий).
Особое значение для социальной и семейной организации приобрела
новая форма организации труда. Принимая во внимание большую текучесть
кадров и прочие „неудобства" местного порядка, администрация компании,
которой принадлежит плантация, оформляет на работу только главу семьи,
становящегося главой „квадрильи" (cuarta). Рядовые ее члены не зарегистри¬
рованы в управлении компании и не получают социального пособия, их
зарплата устанавливается бригадиром. Членами квадрильи чаще всег выс¬
тупают ближайшие родственники: брат, сын, отец или дядя. Во время мас¬
совой уборки сахарного тростника подключается вся семья или большая ее
часть. В результате размер выполненной работы и причитающаяся за нее
сумма денег являются результатом коллективных усилий семьи, и прямой
зависимости от отца или другого главы квадрильи нет. Все в конечном сче¬
те зависят от хозяев компании.
Таким образом, родство и качество семейных отношений оказывают не¬
посредственное воздействие на благосостояние семьи, но связь эта иного
рода, чем в фермерской семье.
288
В 1971 г., когда проводилось социологическое обследование в Севиль-
Уэко, только около 9% домохозяйств возглавлялось женщиной". В основном
это было связано с вдовством матери или бабушки и не может быть отне
сено к феномену матрифокальности (хотя были и матрифокальные семьи,
как и семьи без матери).
Больше половины семей принадлежали к нуклеарному типу, остальные
— к раширенным и сложным. В отличие от принятой у нас классификации
аргентинская статистика эти два подтипа рассматривает как две отдельные
категории. К расширенным относятся семьи, связывающие более двух поко
лений родственников по прямой линии, сложным — семьи, в которых, кро¬
ме родителей с детьми, живут боковые родственники, а также их семьи.
Средняя численность домашнего объединения — 4,6 человека — говорит
о небольшом размере семьи. Но семьи пеонов в основном многодетные, и
их дети при усреднении „распределяются " между семьями одиноких пеней
онеров, бездетных супругов и т.п. Существует и реальная циркуляция де¬
тей между семьями. Дети, которые не воспитываются своими матерями, уе¬
хавшими к другому мужу, растут у бабушек, предпочитающих забрать ре¬
бенка у матери, чем отдать чужому отцу. Многие семьи просто не в состоя¬
нии вырастить всех детей и одного или двух отдают на воспитание в семью
родственников или соседей (возможно, крестных ребенка).
Наиболее распространенной формой брака является традиционный кон¬
сенсуальный брак, который не способствует стабильности семьи в услови¬
ях нехватки жилья и слабых возможностей занятости. В жизни многих
информаторов происходит последовательная смена созданий и распадений
брачных союзов. Дети от разных отцов часто живут в одном доме, что вно
сит путаницу в определение родства. Особенно нестабильны браки в рас¬
ширенных семьях.
Традиционная модель взаимоотношений мужчины и женщины приходит
в столкновение с социально-экономической реальностью, с крайне низкими
и нерегулярными доходами сельских рабочих. Идеал жены, соответствую¬
щий мачистскому эталону, — послушная, умеющая выносить лишения жен¬
щина, которая сидит дома и не участвует в пересудах с соседками. Муж
должен содержать семью и пользоваться неукоснительным авторитетом.
Фактически же роль женщины в семье значительно возросла, поскольку в
течение нескольких месяцев мертвого сезона она вносит основной вклад в
бюджет семьи. Женщины ухаживают за огородом, часть которого отведена
для идущих на продажу во время религиозных праздников цветов; продают
сигары из листьев кукурузных початков и разные съестные изделия из ма
иса; прислуживают (готовят и стирают) в домах горожан. Надежда также
возлагается на зарплату мужа, но он тратит почти все на выпивку. Неспо¬
собность мужчины обеспечивать семью и держать в подчинении жену спо¬
собствует возрастанию роли женщины, что, в свою очередь, болезненно от¬
ражается на взаимоотношениях супругов", так как противоречит мачис-
тским представлениям и о мужчине, и о женщине.
Особенности социально-экономического положения сельских пролетари
ев в сочетании с традиционным культурным наследием креольского населе
ния северо-запада обусловливают и специфику добрачных отношений.
Внутри колонии практически отсутствуют социальное расслоение и воз
можности социальной мобильности. Сходные занятия и статус объединяют
10 Тип. зак. 1065
289
жителей в один низший класс, несмотря на разницу в доходах постоянных
и временных рабочих, трактористов и пеонов. Поэтому родители предпочи¬
тают, чтобы их дети, особенно девушки, вступали в брак за пределами ко¬
лонии, там, где есть шансы сделать хорошую партию.
Создалась специфичная ситуация: девушки, одержимые желанием вый¬
ти замуж на стороне, упорно сопротивляются официальным и неофициаль¬
ным предложениям местных парней. Любовные связи внутри колонии ред¬
ки, и временные миграции на юг превращаются для юношей в наиболее
доступную альтернативу. В то время как девушки продолжают считать дев¬
ственность тем козырем, который поможет им выйти замуж и покинуть ко
лонию, юноши уже не придают значения цедомудрию невесты, что может
стать залогом стабилизации населения.
Одно из стремлений родителей состоит в том, чтобы сын как можно
раньше начинал зарабатывать и жить самостоятельно, внося свою лепту в
семейный бюджет и помогая младшим братьям и сестрам в подыскании
подходящего места. Ранняя социальная зрелость юноши, не связанного к то¬
му же с родителями общей земельной собственностью или другим семей¬
ным хозяйством, определяет и его свободу в выборе супруги, и последую¬
щие отношения молодой семьи с родительской. Моральная и материнская
связь между ними сохраняется, но нет иерархии, авторитарности, что сбли¬
жает семьи сельских и городских рабочих.
В контексте миграции сельских рабочих родственные отношения приоб¬
ретают новое значение. Для тех, кто переселяется из Севиль-Уэко в город,
функциональность родства активизируется, но признаются только те связи,
которые удовлетворяют реальные потребности, т.е. отношения с оставшими¬
ся в колонии родственниками вариативны и выборочны. Они зависят не
столько от генеалогической близости, сколько от возможности оказать не¬
обходимую поддержку, а также от психологической совместимости, сход¬
ства интересов, темперамента и т.п.
Можно согласиться с заключительным выводом аргентинской исследова¬
тельницы М.С. Эбе Вессури: процесс пролетаризации ведет к закономер¬
ным изменениям в структуре семьи. Он освобождает от жесткой регламен¬
тации межличностные отношения в семье и в общине в целом**.
Сравнение результатов исследований по четырем локальным общинам
(образованный выходцами из интериора пригород Лас-Антенас в Буэнос-Ай¬
ресе; сельская община в районе Коррьентеса, в зоне влияния культурных
традиций гуарани; иммигрантская колония Сан-Себастьяно в провинции Эн-
тре-Риос; община сельских пролетариев — рубщиков сахарного тростника в
Тукумане) показывает, что изменение основных элементов структуры семьи
и характера семейных отношений соотносится в первую очередь с социаль¬
но-экономическими факторами. Во всех перечисленных общинах отмечается
адаптация семьи к социально-экономическим условиям. Но немалую роль в
объяснении региональных особенностей этого процесса играют историко-
культурные различия — будь то акцент на прокреационную функцию
семьи у жителей коррентинской общины, тяготение к трехпоколенной
семье в колонии потомков итальянских иммигрантов или действие мачис-
тских установок в семьях рубщиков сахарного тростника в селении Севиль-
Уэко в провинции Тукуман.
Взаимодействие модернизированной городской семьи, близкой или даже
290
Взаимодействие модернизированной городской семьи, близкой или даже
совпадающей по своим параметрам с типичной семьей высокоразвитых
обществ Запада, с разными вариантами семьи, которые сохраняются во
внутренних районах страны, придает своеобразие аргентинской семье в це¬
лом в том условном значении, которое имеет это понятие.
Следует также иметь в виду особенности социодемографических про
цессов последних полутора-двух десятилетий с их возможными последстви¬
ями этнокультурного значения.
Новые тенденции выражаются в начавшемся впервые за последнее сто¬
летие оттоке населения из мегаполиса Буэнос-Айреса с численностью насе¬
ления близкой к 10 млн в города второго ранга (от 100 тыс. до 1 млн) и
частично в сельскую зон%,
По переписи 1980 г. , из общего числа домохозяйств (7104 тыс.) отно¬
сились к (%):
одноличным 10
нуклеарным 59
с подтипами: супруги с детьми 40
супруги без детей 12
один из супругов с детьми 7
расширенным 24
с подтипами: из трех и более прямых поколений 12
из двух прямых поколений 8
из одного поколения и боковых родственников 4
сложным 7
с подтипами: глава семьи с другими родственниками 2
нуклеарная семья с другими родственниками 3
расширенная семья с другими родственниками 2
Среди преобладающего нуклеарного типа подавляющая часть семей от¬
носится к полным. Эта доля меньше на северо-западе и особенно на северо-
востоке Аргентины, куда входят провинции Мисьонес, Корриентес и Энтре-
Риос. На том же северо-востоке, наиболее „традиционном" регионе страны,
сохраняется самая высокая пропорция семей расширенного типа — из трех
и более поколений (31%). Менее всего распространены расширенные семьи
в Патагонии, районе с относительно новым населением.
Разные варианты сложной семьи, составляющей наименьшую долю от
общего количества семей, также характерны для более традиционных
групп населения, например на севере страны, в то время как в Большом
Буэнос-Айресе вес их минимальный.
Характерную картину в отношении состава семей показал анализ наци¬
ональной художественной литературы (сборники рассказов и теленовелл).
Обычная семья чаще всего представлена двухпоколенной, но в ней нередко
отсутствует один из супругов. В проанализированных телепьесах за 1979—
1980 гг. на 35 семей приходилось только 8 полных, то же самое происхо¬
дит в рассказах, в коих из 26 семей 6 представлены отцом и матерью. Ти¬
пичным оказывается и включение в семейную группу дополнительных чле¬
нов, когда, например, сирот принимают их крестные, лица без детей или
старшие братья^.
291
Для аргентинской семьи характерна малодетность. Преобладают семьи
с одним или двумя детьми как в целом по стране, так и в боль
шинстве районов, за исключением северо-востока, где выше всего доля се¬
мей с тремя и более детьми, и северо-запада с равной пропорцией
семей обоих размеров. Но следует учитывать один из интересных результа¬
тов переписи 1980 г., свидетельствующий о тенденции увеличения рожда
емости. Если в 1966—1970 гг. в среднем по стране рождалось
2,7 детей на одного главу семьи, то в 1971—1975 гг. — 3,1 и в 1976—
1980 гг. - 4,4 ".
Изменения среднестатистических характеристик семьи определяются
тенденциями развития аргентинского общества. В этом смысле появ¬
ляется возможность говорить о некоторых общих направлениях развития
института семьи в стране. Аргентинские ученые Франсиско А. Суарес и
Марта Мо разделяют мнение о том, что современная семья претерпевает
глубокие изменения, и отвергают постановку вопроса о возможности ее ги¬
бели. Происходящие изменения касаются внутреннего разделения труда,
форм участия в семейных заботах, отношений с другими семьями и внесе-
мейными институтами, системы авторитета и контроля, принципа выбора
партнеров. Свою концепцию развития моделей семьи в Аргентине они увя¬
зывают с одной из европейских концепций исторических моделей семьи,
соотнесенных с тем или иным типом общественной системы. При этом в
основу характеристики общественных систем положена комбинация
двух переменных: социальной стратификации (распределения материальных
благ, власти, престижа, информации) и социальной интеграции или соли
дарности.
Полученные таким образом модели социальных структур не исчерпыва¬
ют исторической реальности, но могут служить одним из инструментов
анализа трансформации семьи":
Тип стратификации Коллективистская интеграция на базе
слабой степени различий
Плюралистическая интеграция на базе
высокой степени различий
Неравенство
Равенство
Модель I
Модель Ш
Модель II
Модель IV
Для Аргентины, как подчеркивают авторы, наиболее близки модели I и II.
Модель I, характерная для обществ с преимущественно аграрно-пасту¬
шеской ориентацией (и соответствующая большесемейной организации с
авторитарной структурой, многофункциональностью, высокой степенью ре¬
лигиозной, расовой и социальной гомогенности и ограниченной свободой
выбора супругов), „продолжена" в латиноамериканских обществах в мачис-
тской структуре семьи.
Модель II соответствует современным капиталистическим обществам
либерального типа, которые, по Суарес и Мо, характеризуются неравным
распределением (стратификацией) и гармоничной интеграцией социально
дифференцированных элементов. Социальное неравенство в них „нивелиру¬
ется" идеологией равных возможностей с вытекающим отсюда упором на
личный успех, индивидуализм и инициативу.
292
Тип семьи, присущий этому жиду обществ, отражает специфические
черты индустриального урбанизированного общества, такие, как высокий
уровень социальной, религиозной и расовой гетерогенности, расширенный
выбор пар, множество неинтегрирожанных ценностных установок. Некото¬
рые из этих нормативных правил, предписанных семье, пользуются призна¬
нием в широких слоях населения, как, например, цена успеха, поиск путей
социального продвижения и нацеленность семьи на достижение этих целей.
В то же время десакрализация семьи, вызванная гетерогенностью формиро¬
вания пар и ослаблением социального контроля в условиях большого горо¬
да, значительно увеличили неустойчивость, конфликты и распадение семей.
Вместе с превращением большой семьи в нуклеарную, отделенную
от лиц преклонного возраста, этот процесс привел к утере старых дефини¬
ций социальных ролей в семье без замены их на столь же проч¬
ные новые. Так, старикам благодаря успехам науки продлена жизнь, но под
воздействием новых профессиональных требований они оказались без¬
защитны перед растущей социальной маргинализацией. Подростки, в свою
очередь, должны проходить длинный период обучения своим ролям
у взрослых, испытывая при этом нехватку четко институализированных ри
туалов, которые существуют в модели I. Вырисовывается и новый
образ женщины, который противоречит традиционному, но роль и имидж
женщины еще недостаточно выработаны обществом, оставляя широкие
зоны двойственности и конфликта. Пошатнулась также позиция мужчины,
который обязан оправдать модель, полученную от своих родителей, поте¬
ряв прежнее привилегированное положение в семье. Очень редко через ин¬
дивидуальные усилия, работу достигается переход в другую социальную
категорию, обычной формой такого перехода остается „брак, наследство
или случай"*. Кроме всего прочего, буржуазная модель инструментализиро-
вала христианские принципы, которые придавали жизненность институту
семьи.
Важно подчеркнуть, что распространение модернизированного варианта
современной семьи в Аргентине ученые считают результатом не столько
внутреннего структурного развития, сколько некритическим импортом мо
дели, выработанной в других условиях: она не учитывает местную специфи¬
ку, ж том числе христианские установки аргентинского народа. Многие ее
черты поэтому не согласуются с аргентинской действительностью. Модер¬
низация нуклеарной семьи не соответствует традиционной модели социаль¬
ной идентификации личности.
При всем многообразии конкретных вариантов модели И у разных им¬
мигрантских групп и социальных прослоек населения она характеризуется
неустойчивостью и чревата дезинтеграцией. В этом смысле аргентинские
специалисты пишут о кризисе семьи, преодоление которого они видят в
альтернативах обществу потребления*.
Социолог И. Карденас де Беку из католического университета в Буэ¬
нос-Айресе считает, например, что если потенциальные и реальные кон¬
фликты не приводят с неизбежностью к распаду аргентинской семьи, то
это происходит во многом благодаря высокой консервативной способности
семьи сопротивляться переменам*. Миф о том, что в семье осуществляется
самореализация личности, развеян, но идеал прочной семьи остается жи
293
вым, что во многом объясняется большой ролью католической церкви в
жизни аргентинской семьи.
На вопрос анкеты, распространенной среди репрезентативной группы
юристов из 27 человек, — от кого (чего) зависит укрепление брака и семьи
в Аргентине? — ответы по значимости причин распределились следующим
образом":
1) от государства 17 4) от средств коммуникации и информации 11
2) от церкви 13 5) от супругов и самой семьи 10
3) от системы образования 13 6) от стиля современной жизни, ценностей, культуры 7
В послевоенные годы и особенно в последние десятилетия католичес¬
кая церковь активизировала деятельность по удержанию семьи в своем ло¬
не. Несколько католических институтов в Аргентине специализируются по
семейной проблематике (Лига матерей семьи, Христианское движение за
семью, Сообщество семей). Церковь выступает против государственной под¬
держки планирования деторождения.
Со своей стороны государство укрепляет социальные и правовые основы
семьи. В 1972 г. создан Национальный жилищный фонд с целью обеспече¬
ния жильем нуждающихся в нем семей. Государственный секретариат
„Жилье и урбанизм" совместно с муниципалитетом Буэнос-Айреса отвечает за
искоренение стихийно возникающих кварталов бедноты с помощью банков¬
ских ссуд.
Некоторые министерства, государственные и частные предприятия, при¬
ходы и частные школы содержат детские сады и группы, чтобы помочь семь¬
ям со средними и низкими доходами, в которых оба родителя работают.
Если роль церкви, государства и системы образования оценивается как
интеграционная, то в отношении средств массовой информации обществен¬
ное мнение настроено весьма критично. На них возлагается ответственность
за „подталкивание" к адюльтеру, преувеличение роли секса, создание иска¬
женных, мнимых идеалов супружеских отношений, равно как и за пропа¬
ганду ложных потребностей, стимулирующих потребительский бум, агрес¬
сивность и обманутые надежды.
Судя по результатам опроса, существует недооценка влияния фактора
культуры на стабильность семьи. Ответы разводящихся о причинах развода
объединены юристами в три группы, из которых опять-таки на пер¬
вое место поставлены индивидуальные проблемы супругов, а на последнее
— социальные условия и культура. К первой группе отнесены и ответы ти¬
па: „Мне надоело быть его мамочкой", т.е. ухаживать за мужем, как за ма¬
леньким, угождать ему во всем. Очевидно, что за личную проблему здесь
принят образчик традиционных нормативных (мачистских) установок в
семье.
К негативным факторам функционирования современной семьи арген¬
тинцы относят также быстрые темпы смены шкалы ценностей и плюра¬
лизм ценностных стандартов. Отношения между супругами превращаются
в нечто неустойчивое, поскольку существует большой разнобой в оценках,
взглядах на жизнь и нет уважения к единым нормам.
Осложнились взаимоотношения родителей с детьми. Будучи частью проб¬
294
лемы взаимоотношения поколений, конфликт отцов и детей заостряется по ме¬
ре „деколонизации" последних в современных индустриальных обществах. По
словам француза Ж. Менделя, дети превратились в новый идеологический
класс, противостоящий взрослым. Свою мысль он подкрепил следую¬
щей формулой. Вместо „ребенок — мать — отец" мы видим: „ребенок — его
возрастной класс — возрастной класс возрослых"". Родители имеют дело не
только со своим ребенком, а с кругом его сверстников. По существу,
эта оппозиция существовала всегда, но не выступала в столь непосредствен¬
ной форме.
Суммируя мнения аргентинских специалистов, можно заключить, что
нуклеарная семья в Аргентине находится в сложном процессе адаптации к
специфическим условиям развития страны, в которых она не обрела устой¬
чивых форм, могущих обеспечить ее стабильность.
' Мягдой&у L. El desairoHo de la antropologfa urbana en Venezuela // Montalban 17. Caracas,
1986. P. 252.
* Censo nacional de la poblacion, 1980. Buenos Aires, 1981. P. XI.
' C. Claves para la cultura nacional: Teona у desenvolvimiento historico. Buenos Aires,
1979. P. 86.
'BiiMerwor;/: D., САяясе Latin American urbanization. Cambridge, 1981. P. 117.
'Ibid. P. 201-202.
' Сег/яяш C. La sociedad en la epoca de la transicion. Buenos Aires, 1965. P. 256.
'Ibid. P. 258.
'Ibid. P. 262.
'Ibid. P. 266.
Мягдмйл M. Migracion у marginalidad en la sociedad argcntina. Buenos Aires, 1968. P. 152.
" Ibid. P. 154.
"Ibid. P. 168.
" Ibid. P. 169.
" Мягдмйл M. Contacto cultural у crisis en una comunidad // Extracto Rev. Museo La Plata. N.S.
Seccidn Antropologfa. 1968. T. 7. P. 54.
" Ibid. P. 55.
" МямсА/я S.de. Itzigsohn etc.: Grupo familiar у matrimonio en una area rural // Amer. indfgena.
1973. Vol. 33, N 3.
"Ibid. P. 795.
" Ibid.
'* Gringo and Creole: Foreign and native values in a rural Argentine community // J.
Interamer. Studies. 1982. Vol. 24, N 2. P. 173.
** Ммммг/мя S.de. Op. cit. P. 796.
" Яб^тяяя X. And here the world ends: The life of an Argentine village. Stanford, 1988. P. 8.
* Ibid. P. 142.
^ Эстансией в Аргентине называют поместье, которое не специализируется на
скотоводстве.
^ Мдруяяя X. Op. cit. Р. 145.
* Ibid. Р. 147.
"Ibid. Р. 166.
" Marmf М. Women in contemporary Argentina // Latin Amer. Perspectives. 1977. Vol. 15, N 4.
P.116.
* VeMMrf M.C. Familia, parentesco у trabajo entre los proletaries rurales en Tucuman //
Etnia. Olavarria. 1984. N 31, P. 69.
" Ibid. P. 76.
295
"Ibid. P. 89.
" Censo nacional de poblacidn у vivienda, 1980. Ser. B. Caracteristicas gencrales. Buenos Aires,
1981. P. ХЫП.
" Arn^do L. et al. Analisis comparative del cuento fblkldrico у la telenovela // Etnia. Olavarria.
1984.N29/30. P.25.
* Censo nacional... P. XLIV.
** Saarez FA., Ma' Af.C. Pautas para la comprencidn de la problemdtica familiar // Criterio.
Buenos Aires, 1976. N 1753/1754. P. 677.
" Ibid. P. 679; Amedo L. et al. Op. cit. P. 26.
"SaarezFA., Afa'Af.C. Op. cit.P. 682.
" Card^naj d^ /. Algunos enfoques sobre la familia atraves del cine у teatro contemporaneos
// Criterio. Buenos Aires, 1976. N 1753/1754. P. 717.
* Mo" Af., Ftdanza F. El artfculo 67 bis: Una Encuesta a jueces // Rev. Centro Investigacion у
Accidn Social. Buenos Aires, 1977. N 262. P. 33.
* Цит. по: Маяйагга; Af. Educacidn у familia // Criterio. Buenos Aires, 1976. N 1753/1754. P. 735.
Семья у русских староверов
на Аляске
С.Л. Федором
На Аляске первые ходоки русских староверов появились в 1967 г. Прохор
Мартушев и Григорий Гостевский ездили на Аляску из штата Орегон нес¬
колько раз, прежде чем нашли желанную землю. С помощью благотвори¬
тельного „Толстовского фонда" (г. Нью-Йорк) община приобрела в кредит
(частично уплатив наличными) за 14 тыс. долларов три земельных участка
на п-ове Кенай примерно в 10 милях к северо-востоку от местечка Анкор-
Пойнт и в 25 милях к северу от морского порта Хомер. Первые четыре
семьи (к названным выше присоединились Павел Косачев и Анисим Калу¬
гин, женатый на родной сестре Мартушева Соломии) двинулись из Орегона
через Канаду, загрузив гусеничный трактор на 20-тонный самосвал, к кото¬
рому был прицеплен еще один грузовик. Спустя две недели, 13 мая
1968 г., путешественники прибыли на Аляску и разбили палатки первона
чально на земле своего соседа — американца Билла Ребика, ибо собствен
ную землю еще предстояло очистить от леса. Женщины и дети переносили
все тяготы наравне с мужчинами. На их долю выпало немало испытаний:
напал мор на скот, случился пожар в одной из палаток (и погибла девочка),
не хватало мест для детей в трейлере, оборудованном под школу. „Амери
канцы привозили нам рыбы, креветок, другую пищу. Некоторые привозили
одежду. Больше всех приезжали алеуты", — вспоминает Соломин Григорь
евна Калугина [Ю]. Русские упорно расчищали лес, прокладывали дорогу,
тянули трубы водопровода, готовили столбы для линии электропередачи. В
!9б8 г. группа переселенцев уже включала приблизительно 150 человек.
Прошли годы, и в глубине п-ова Кенай вырос поселок Николаевск с
добротными двухэтажными домами, школой, молельным домом (а затем и
церковью). В 1980-х годах число русских переселенцев уже достигало 600
человек, и миграционные процессы — приливы и отливы продолжаются по
сей день (на современной карте района Селдовия в Николаевске показано
более 50 жилых строений [2]). Учитывая, что к северу от поселка прибли¬
зительно в расстоянии одной мили в начале 1980-х годов возникло еще два
поселения — Находка (8 жилых домов) и Ключевая (около 10 домов), рус¬
ское население этого „куста" насчитывает немногим более тысячи человек.
По сути дела, русские староверы, придя на Аляску, стали вновь обживать
те самые места, где с середины 8&х годов XVH1 в. уже были русские поселе¬
ния, основанные российскими мореходами и промышленниками, пришедшими
на парусных судах через Тихий океан из Охотска и Камчатки. Волею судеб да¬
же название Николаевск (в честь св.Николая) словно позаимствовано из тех дав
них времен, когда в устье реки Кенай на Кеиайском полуострове в 1791 г.
был построен и долго действовал Николаевский редут. Однако эпоха Русской
297
Америки завершилась в 1867 г., когда земли, подведомственные Российско-
Американской компании, были проданы Соединенным Штатам Америки.
Поселок Николаевск (и ближайшие к нему Находка и Ключевая) стал са¬
мым северным пунктом длительного и трудного пути староверческой общины.
Старшее поколение, которому сейчас за 50 лет, хорошо помнит начало этого
пути: их родители и старики с детьми, объединившись по нескольку семей, в
начале 3(Ух годов нелегально, ночью покидали Советскую Россию, уходя от
гонений на верующих и от коллективизации. Трагическую историю бегства
своей семьи из России в Китай описывает жительница Николаевска Анна Ба¬
саргина, в ту пору 12-летняя дочь раскулаченного владельца водяной мельни¬
цы: преследуемые советской милицией, они в утлой лодке отправились всей
семьей по реке, чудом остались живы (утонул лишь трехлетний брат), а ока¬
завшись в Китае, спасались от китайской полиции. „Шли пешком, без обуток
и ноги поотбили. Потом мы зашли к одним китайцам, попросили их, чтобы
продали нам обутки. Китаянка пожалела нас, сняла ботинки с себя и отдала
мне. Также и моей младшей сестре Вере. Когда мы попросили купить обут¬
ки, китаянка тоже сняла с себя и отдала Вере" [7].
Переправившись через Амур и оказавшись в Китае, беглецы на какое-то
время задерживались в северной Маньчжурии, но затем перекочевывали в ок¬
рестности Харбина — узлового пункта Китайско-Восточной железной дороги
(КВЖД), строительство которой было начато на инвестиции России и Китая
еще в i903 г. Ко времени прибытия староверческой общины в ближайших к
Харбину городах уже было сосредоточено многотысячное русское население
(староверы из Приморья, остатки армии Колчака, ижевские и воткинские ра¬
бочие российских оружейных заводов, сражавшиеся в 1918—1919 гг. против
Красной Армии в рядах колчаковцев) [26]. Вновь пришедшие присоединились
к староверам, ушедшим задолго до них из Приморской обл. России и осев¬
шим в Харбине в 20-х годах, но не слились с ними. Обе эти группы именова
лись харбинцами — в отличие от еще одной староверческой общины, пересе¬
лившейся в Китай — в северо-западную пограничную с СССР (Казахстаном и
Киргизией) провинцию Синьцзян (современный Синьцзян-Уйгурский автоном¬
ный район). „Синьцзянцы", как стали именовать там русских староверов, пере¬
селились со Среднего и Южного Урала в 1918—1931 гг.
Итак, вторая волна харбинцев — они представляют для нашей темы наи¬
больший интерес — прибыла в Китай, когда Маньчжурия (а следовательно,
и г.Харбин) была оккупирована японцами (1931—1945 гг.). Политические
события в Китае развивались стремительно. 8 августа 1945 г. Советский
Союз объявил войну Японии и советские войска вместе с войсками Мон¬
гольской Народной Республики вступили на территорию Северо-Восточного
Китая и Внутренней Монголии, где в короткий срок разгромили самую
сильную часть японских вооруженных сил Квантунскую армию; граждан
ская война между Гоминданом и Китайской компартией, крестьянские и
национальные восстания, победа коммунистов и образование КНР (1949 г.)
привели к тому, что в 1952 г. КНР в содружестве с Советским Союзом
стала осуществлять программный документ — „Бороться за мобилизацию
всех сил для превращения страны в великое социалистическое государ¬
ство". В 1953—1957 гг. уже 96,3% крестьянских хозяйств состояли в коо¬
перативах. Коллективизация, от которой староверы ушли из Советского Со¬
298
юза, настигла их и в Китае. Кроме того, с приходом советской власти нача¬
лись аресты. Священник Никольской церкви в селе Николаевск Кондратий
Фе'фелов вспоминает, как арестовали в Харбине его отца Созонта и старше¬
го 17-летнего брата (за то, что был призван в японскую армию); тюрьма и
длительный лагерный срок разрушили семью. Остальные братья и сестры,
забрав мать и собственные семьи, решили покинуть Китай.
Почти одновременно харбинцы (в 1955—1960 гг.) и синьцзянцы (в
1956—1961, 1965 гг.) стали покидать Китай через Гонконг. Здесь Харбин
цы вновь разделились. Одна их часть перебралась в Бразилию, где задержа¬
лась ненадолго: из-за неурожаев риса, невозможности прокормить семью, а
также из-за опасения, что правительство Бразилии будто бы „поворачивает
влево ", отдельные семьи начали мигрировать в штат Орегон (США); вторая
часть из Гонконга направилась на жительство в Австралию и Новую Зелан¬
дию, а оттуда — в Аргентину, Уругвай, Боливию и Перу.
В 1963 г. стараниями сенатора Роберта Кеннеди в США было разрешено
переехать из Турции большой общине русских староверов. Еще в
ХУП в. они переселились с юга Кубани первоначально на территорию со
временной Румынии, а оттуда в 1879 г. в Турцию. В 1963 г. „турчане"' пере¬
брались в США и, проведя год-другой в штате Нью-Джерси (где их также
опекал „Толстовский фонд "), двинулись ближе к Тихоокеанскому побе
режью — в штат Орегон.
Таким образом, в штате Орегон, в окрестностях крупного города Порт¬
ленда, в частности в г.Вудбёрне — центре русского заселения — и других
ближайших небольших поселениях, к 1966 г. обосновалось около 550 рус
ских староверов (главным образом харбинцев). В 1971 г. их насчитывалось
уже около 3 тыс. (харбинцы, синьцзянцы, турчане, а также община моло
кан, переселившихся из Лос-Анджелеса, и община баптистов из Сан-Фран
циско), к 1981 г. — около 5 тыс., вследствие чего более четверти населе
ния этих мест оказалось русскоязычным. В 1967 г. часть харбинцев, стре¬
мясь удалиться от цивилизации в более глухие места, с помощью „Толстов
ского фонда" начала переселение на Аляску, а другая в 1974 г. — на бере
га р. Плат в провинции Альберта (Канада).
Таков путь русских староверов, пройденный ими почти за шесть деся
тилетий из России до Аляски. В каждом из географических пунктов, кото
рые они на своем пути обживали, оставались русские общины, они живут
по сей день, сохраняя русский язык, нравы, обычаи, свое вероисповедание,
материальную культуру. Что помогло им, оторванным от родной земли,
страны, оказавшимся в иноязычной — китайско испано-португало-румыно
турко-англоязычной — среде, в новых для них климатических и обществен
но-экономических условиях, сохранить свою „русскость"? Основой этничес¬
кой устойчивости, надо полагать, был многовековой опыт российского цер¬
ковного раскола, начавшегося в первой четверти XVI в. и достигшего своего
апогея при патриархе Никоне в XVII в. По мнению русского историка,
профессора казанской духовной академии А.П. Щапова, высказанному в
1850-х годах, раскол с самого своего появления имел не просто религиоз
но-обрядовый, мнимостарообрядческий, но главным образом религиозно-де
мократический характер. С 1666 г. раскол перешел из сферы церковной в
сферу гражданской народной жизни и здесь принял характер народно-демо
299
кратической оппозиции. При Петре I — это „общинная оппозиция податно¬
го земства против всего государственного строя — церковного и граждан¬
ского, отрицание массою народною греко-восточной никонианской церкви и
государства или империи всероссийской с ее иноземными, немецкими чи¬
нами и установлениями" [23]. Развивая эту мысль, русский историк Н.И.
Костомаров в 1870 г. писал: „В расколе привыкли видеть одну тупую лю¬
бовь к старине, бессмысленную привязанность к букве; его считают плодом
невежества, противодействием просвещению, борьбою окаменелого обычая
с подвижною наукою. По сущности предмета, который служил расколу ос¬
новою, раскол действительно представлялся с первого раза до крайней сте¬
пени явлением консервативного свойства: дело шло об удержании старых
форм жизни духовной, а по связи с ней — и общественной, при этом до
мельчайших подробностей и тонкостей, без всяких уступок. Но в то же
время потребность удержать то, что прежде многие века стояло твердо, не
подвергаясь колебанию, вызвала вслед за собою такие духовные нужды, ко¬
торые выводили русский народ в чужую ему доселе область мысленного
труда... Раскол не есть старая Русь; раскол — явление новое, чуждое старой
Руси... Раскол является крупным явлением умственного прогресса" [23].
Возникнув как оппозиция, раскол никогда не был опасен для России; на¬
против, своим бегством раскольники способствовали расширению ее преде¬
лов, внося обрусение на окраины. Бегство староверов за пределы России,
вызванное желанием не только избавиться от гонений за веру, но и освобо¬
диться от ига крепостного права, имело глубокие традиции в XVII—
XVIII вв. Уход восточносибирских староверов из Советской России в 1930-х
годах лишь продолжил традицию побегов и в значительной мере, надо по¬
лагать, был вызван перестройкой всего крестьянского быта и первыми декре
тами Советской власти о равноправии мужчин и женщин, о гражданской рег¬
ламентации брачных союзов, нарушившими религиозно-обрядовые устои старо
веров.
Автору этих строк довелось побывать у староверов Аляски в селениях
Николаевск (1979, 1988, 1990 гг.), Находка и Ключевая (1990 г.), Качемак
Село (1990 г.), а также в г.Вудбёрн, штат Орегон (1988 г.). Хотелось узнать,
откуда сами жители Николаевска ведут свою родословную. Батюшка Кондра-
тий Созонтович Фефелов (1936 г.р.) поведал, что его далекие предки — вы¬
ходцы из Москвы. Как известно, московские староверы были одними из
первых, кто в 1668 г. бежал от жестокого взыскания податей и недоимок в
Стародубский край и на Ветку, принадлежавшие Польше. Стародубье стало
центром беглопоповщины. Все недовольное население убегало в Стародубье
вплоть до отмены крепостного права в 1861 г. Стародубско-ветковская груп¬
па старообрядцев сохранила многие черты культуры допетровской Москов¬
ской Руси. Однако вековое проживание на землях Польши, Украины и Бело¬
руссии наложило свой отпечаток на их духовную и материальную культуру.
Среди староверов, бежавших в Польшу, были выходцы не только из Мос¬
квы. После того как в XVIII в. было решено старообрядцев из Польши пере¬
селить в малоосвоенные районы Сибири и они четырьмя большими партия¬
ми (в 1757, 1764, 1767 и 1780 гг.) насильственно, под конвоем были от
правлены в Сибирь, русские историки и этнографы XIX в. попытались уста¬
новить основные районы их выхода. Выяснилось, что, кроме староверов из
300
Архангельской и Вологодской губерний, в Забайкалье\ерез Стародубье и
Ветку пришли староверы, предки которых проживали в областях к югу от
Москвы (Тульской, Калужской, Орловской, Рязанской, Белгородской; иссле¬
дования А.М. Селищева), а также из центральных губерний России (Костро¬
мы, Ярославля, Москвы, Калуги, Тулы, Орла, Курска, Смоленска, Новгорода,
Вологды и Твери, Владимира и Симбирска; исследования М.И. Лилеева) [24].
Можно предполагать, что предками харбинцев — староверов Аляски бы¬
ли „семейские" Забайкалья (они были названы так потому, что переселяли
их семьями). Вероятно, именно поэтому, поселившись в 30-х г. XX в. в ок
рестностях Харбина, они не слились со староверами, пришедшими ранее
из Приморской обл. Дальнего Востока. И по семейному укладу староверы
Аляски имеют черты сходства с семейскими Забайкалья.
В конце XIX в. на территории Приангарья существовали две формы
семьи — малая и неразделенная. Малые семьи чаще всего состояли из роди¬
телей с неженатым сыном или с принятым в дом зятем. Нередко малые
семьи включали два поколения: родителей (или одного из них) и неженатых
детей либо супругов (чаще бездетных) и приемышей. Супруги, а иногда кто-
либо из одиноких родственников могли жить отдельно от взрослых детей.
Особняком можно рассматривать так называемые договорные семьи: две
семьи, которые из-за малого числа рабочих рук были не в силах вести самос¬
тоятельное хозяйство, заключали между собой так называемый договор и объ¬
единялись в одно хозяйство. Родственники, отделяясь, селились гнездами по
соседству. Преобладающей формой семьи были отцовская, в которой, как
правило, вместе с родителями жили два-три сына с женами и детьми. Число
членов семьи в ней обычно колебалось в пределах 12—15 человек, но иногда
превышало это число. Семьи представляли собой прежде всего союзы род¬
ственников, но сами крестьяне обычно называли семью артелью, следователь¬
но, определенное значение имели в них хозяйственные начала [25].
Сходные формы семьи можно увидеть и у староверов Аляски. В семьях
обычно по 10—12 детей. Например, у Кондратия и Ирины Фёфеловых 11
детей: 7 дочерей (Людмила, Кира, Раиса, Фаина, Пелагея, Федосья, Фили-
цата) и 3 сына (Денис, Никита, Иосиф), к 1988 г. был 21 внук. Дочери вы¬
даны замуж за староверов в Николаевске и Орегоне. Старшие сыновья же¬
нились, и родители выделили им землю неподалеку. В 1990 г. с родителя¬
ми оставались младшие несемейные Иосиф (23 лет) и Филицата, заканчива¬
ющая местную школу (16 лет).
Родственными считаются семьи по „восьмое колено", и это налагает
запрет на браки между родственниками. Замуж девушек выдают рано — в
13—13 с половиной лет, и если в селении нет подходящего жениха (невес¬
ты), то сватают из числа староверов, проживающих в штате Орегон, в про¬
винции Альберта (Канада) либо в Бразилии или Китае. С недавних пор к
этому перечню добавился Советский Союз. Юноши женятся в 16—18 лет,
когда они еще находятся в полной экономической зависимости от родите¬
лей и подчиняются их воле. Запрет на использование контрацептивов спо¬
собствует увеличению семей. Молодую девушку, решившую выйти замуж
за американца, родители против ее воли могут увезти в Орегон, откуда она
вернется замужней женщиной. Как объяснила молодая женщина Агриппи¬
на, вышедшая замуж из Альберты в Качемак-Село, только „перестарки"
301
(старше 20 лет) стремятся выйти замуж за американцев. В Хомере у прича¬
ла мне довелось встретить семью рыбаков из Орегона, в которой отец —
темнокожий выходец из Бразилии, мать — русская староверка и три пре¬
лестные беленькие с темными глазами дочки младшего школьного возраста.
Не приходилось слышать, чтобы юноши из староверов женились на амери¬
канках, хотя в Николаевске в 1988 г. мне довелось встретить девушку-аме
риканку, обращенную в „старую веру". Воля отца и матери — закон для
семьи, объединяемой единым кровом.
С трудом можно назвать „избами" дома староверов на Аляске: по боль¬
шей части это двухэтажные постройки с двускатной кровлей, наружные
стены обшиты гладкостругаными досками, а окна лишь одного дома, где
когда-то жил образованный и мастеровой человек Прохор Мартушев, укра¬
шены резными наличниками по образцу сибирских изб. Дома крепких хозя¬
ев обставлены и украшены внутри с небывалой роскошью. Множество жи¬
лых комнат, гостиная, столовая, кухня, туалетные комнаты, калориферное
отопление, бассейн с электроподогревом, переговорное устройство, заменя¬
ющее телефон, — Би Си (по типу тех, которыми оборудованы московские
такси, позволяющие поддерживать связь с командами рыболовных катеров
на большом расстоянии во время путины). В домах староверов, принявших
институт священства, с увлечением смотрят телевизионные программы, го¬
рячо интересуются перестройкой в Советском Союзе. В каждой из комнат
икона в „красном" углу в обрамлении вышитых крупными яркими соцве¬
тиями занавесок. На стенах — цветные семейные фотографии. Часто можно
увидеть великолепные изделия из Хохломы и других российских народных
промыслов, а также ярчайшие вязаные коврики местного изготовления.
Кухни оборудованы современной техникой: электронные печи с програм¬
мным управлением „майкровейв" для моментального приготовления еды,
электроплиты, в кладовках огромные морозильники в форме сундука (нарезан¬
ную лососину замораживают в полиэтиленовых небольших пакетах), сепаратор.
Климат Аляски не слишком приспособлен для сельского хозяйства. Од
нако во времена Русской Америки россияне считали наиболее благоприят¬
ным для огородничества район Кенайского полуострова. Ныне же имеются
и новая техника, и особо устойчивые сорта овощей. Но, увы! Если в
1979 г. еще можно было увидеть картофельное поле или „гринхаус" (теп¬
лицу с овощами), то теперь овощеводчество, а также скотоводство и птице¬
водство забыты, ибо невыгодны: все покупается в магазинах Анкор-Пойнта,
Хомера либо в Анкоридже или других городах. Охотно пользуются услуга¬
ми фирмы Макдональд, покупая расфасованную горячую еду, не выходя из
автомобиля. В Николаевске лишь у поповцев (не принявших священство)
еще сохранились две убогие коровенки, в то время как рядом с селом фер¬
мер-американец разводит рогатый скот и свиней, а русские в случае необ¬
ходимости закупают у него скотину живой и гонят в село на убой.
Основными занятиями мужского населения Николаевска можно считать
рыболовство и судостроение. Делать катера научились у американцев и да¬
же превзошли их в этом искусстве. Корпуса отливают из „фибрового стек¬
ла" (стекловолокна) и начиняют их новейшей японской электроникой. Пет-
ро и Фиктиста Фёфеловы возглавляют судостроительную фирму „Polar Boat
Works". Эллинг рассчитан на одновременное строительство трех судов. Ра¬
302
бота выполняется добротно и высоко ценится заказчиками. Многие семьи
имеют собственные катера: те из хозяев, кто несколько лёт назад сумел ку¬
пить лицензию на ловлю палтуса (халибут) и лососей в залюю Качемак или
возле Сьюарда и Кордовы (с тех пор лицензии выросли в цене), за нес¬
колько весенних дней рыбного хода успевают обогатиться, сдавай в Хомере
улов оптом „кенарям" — перекупщикам-заготовителям консервных фабрик и
одновременно обеспечивая собственную семью калорийной пищей впрок.
Как и в любой престижной фирме, в работе судостроителей ис¬
пользуются компьютер и факсмашина. Рыбалка бывает и в летние дни. Кое-
кто зимой занимается ловом крабов и креветок. Молодые мужчины устраи¬
ваются работать на консервный завод в Солдатне и Хомере. Там же работа¬
ют и многие русские женщины (летом они занимаются сбором грибов и
ягод вблизи Николаевска). Молодой дьякон Никольской церкви Павел Семе¬
нович Фёфелов (племянник Кондратия) — отец пяти дочерей школьного и
дошкольного возраста — имеет собственный катер и во время путины с ним
в море выходят и работают наравне со взрослыми две старшие до¬
чери. Его отец и мать также владельцы нового быстроходного катера и на
время путины приезжают в Николаевск из Орегона. Жена Павла Наталья
Фёфелова, молодая, привлекательная, умная и образованная женщина, дер¬
жит в Николаевске почтовую контору, при которой находится и промтовар-
ный магазин. Здесь можно купить не только ткани и галантерею, но и сши¬
тую по местным обычаям одежду, вышивки, вязяные из ярчайших шерстя¬
ных нитей коврики. Тут же продаются и книги о жизни в Николаевске, из¬
даваемые находящейся поблизости начальной школой (выручка за книги по¬
ступает в бюджет школы). С недавней поры в магазине стали тор¬
говать сувенирами из Советской России, которые пользуются спросом у ту¬
ристов.
Если лет десять назад женщины, девушки и девочки носили цветастые
яркие сарафаны из японского трикотажа (круглый сарафан на бретельках) и
в то время более модную таличку* носить считалось зазорным, то сейчас
сарафан носят в основном пожилые женщины, а девушки предпочитают хо¬
дить в таличках нежных (голубых, розовых, сиреневых) акварельных тонов.
Сарафан они надевают лишь в церковь (вечером в субботу, утром в воскре¬
сенье) и по праздникам. Харбинцы и синьцзянцы форму талички переняли
у турчан, у которых она уже давно стала общепринятой одеждой. Теперь
ее покрой несколько изменился: ворот и рукава стали неотъемлемыми
частями талички, появилась оборка по подолу (фамбра). Кокетка
выкраивается и шьется разными фасонами, воротник часто бывает
открытым, подол, прежде закрывавший ноги до лодыжек, стал немного ко¬
роче [16,17]. Цветастый закрывающий грудь передник и плетеный поясок
дополняют наряд. Женщины покрывают головы платком или косынкой по¬
верх специальной повязки („шашмуры"), девушки могут быть и простоволо¬
сыми. С рождения головы женщин не знают ножниц, как и бороды муж¬
чин. Милые женские и девичьи лица прекрасны своей строгой естествен¬
ностью, на них никогда не бывает косметики. Мужчины в ярких вышитых
* Таличка первоначально представляла собой глухой круглый сарафан с кокеткой, под кото
рый надевалась рубаха с длинным рукавом и воротником.
303
по вороту рубахах (ворот в прежнее время был стоячим, теперь чаще от¬
ложной), подпоясанных плетеным поясом, в брюках современного покроя.
Из села староверы выезжают в своих национальных праздничных одеждах.
В будни кое-кто носит обычную американскую одежду из синтетики — кур¬
тки, безрукавки, джинсы. С удивлением я увидела школьницу-староверку,
пришедшую на почту в шортах.
Двенадцатилетняя начальная школа в Николаевске — просторное, свет¬
лое одноэтажное здание, вблизи которого оборудован прекрасный спортив¬
ный комплекс. Школа объединяет детский сад (куда набирают детей 3—5-
летнего возраста) и собственно школу, где вместе учатся девочки и мальчи¬
ки не только из семей староверов, но и американские дети со всей округи.
Учителя и директор Боб Мур — американцы (не говорящие по-русски). Рус¬
ский язык и некоторые прикладные науки (набивка чучел птиц и рыб,
шитье меховых шапок, шитье таличек, сарафанов и рубах, вышивание, кули¬
нарию) преподают сами староверы. Многолетний директор школы Боб Мур
собрал хороший коллектив учителей, о которых дети в своих выпускных со¬
чинениях пишут с любовью и благодарностью [21]. Школа (как и по сей
день не мощенная, ведущая из Анкор-Пойнта в Николаевск дорога) принадле¬
жит штату Аляска. В ней осуществляется программа обучения на двух язы¬
ках — русском и английском. Расписание школьных занятий увязано с цер¬
ковным календарем староверов (в дни религиозных праздников детей распус¬
кают по домам). В школе не обучают танцам, ритмике, однако успешно зани¬
маются активными видами спорта (баскетбол, борьба, лыжи, футбол). Дети с
легкостью управляют сельскохозяйственными машинами, ездят на трех-четы-
рехколесных мотоциклах, изучают компьютерную технику. Бывает, что роди¬
тели посылают свою замужнюю юную дочь в школу, а сами няньчат внуков.
К пониманию необходимости изучения английского языка в школе рус¬
ские староверы пришли не сразу. В семьях и до сих пор сохраняется рус¬
ский язык (хотя между собой и по телефону школьники часто говорят по-
английски). Взрослые мужчины, связанные с внешним миром интересами
рыболовства, вполне прилично владеют английским (женщины старшего
возраста почти не знают его). Умение объясняться на английском — непремен¬
ное условие получения статуса гражданина США. „Люди без родины" не мо
гут чувствовать себя полноценными, и поэтому теперь новое поколение старо¬
веров приобщается к английскому наравне с русскими с детства. Первая
группа староверов в Николаевске (59 человек) получила права гражданства в
1975 г. после четырехмесячных курсов интенсивного (даже ночью) изучения
английского. В 1979 г. следующая партия из 86 человек (многие из которых
только достигли 18-летнего возраста, хотя был среди них и человек 64 лет)
получила права гражданства на торжественной церемонии в Хомере [35].
Школьники сами зарабатывают деньги на развлечения (моют автомоби¬
ли, изготавливают корзиночки для пасхальных яиц, варят по особому ре¬
цепту конфеты) и используют деньги для коллективных экскурсий в дру¬
гие штаты или для спортивных мероприятий. Некоторые из молодых людей
поступают на работу в американские учреждения официантами, мойщиками
посуды, уборщицами (работа уборщицы в 1990 г. оплачивалась 7 долларов
в час). Девушки и юноши часто уезжают из поселка в соседний Хомер, где
проводят время вместе с американской молодежью. На дорогах Аляски рус¬
304
ские бородатые мужчины и женщины в русских сарафанах и платочках за
рулем автомобилей создают особый колорит.
Некоторые из молодых людей поступают учиться в Университет Аляски
(Анкоридж и Фэрбанкс) и в колледжи, хотя мне не известен пока ни один
из окончивших подобное учебное заведение. Расширение контактов с внеш¬
ним миром заставило включить в школьное обучение программу по преду¬
преждению алкоголизма, наркомании, токсикомании и спида, а также прог¬
рамму психологической адаптации русских староверов в американском обще¬
стве. Неплохая школьная библиотека доступна всем жителям Николаевска.
Жизнь в Николаевске не стоит на месте. В 1979 г. мне довелось застать
поселенцев в ту пору, когда они причисляли себя к „поповцам", те. у них
был выборный „уставщик" Прохор Григорьевич Мартушев — человек образо
ванный, интересующийся историей раскола, владелец обширной частной биб¬
лиотеки (около 3 тыс. томов). Жена его Галина преподавала в местной шко¬
ле. Мартушев отправлял службу в молельном доме (который впоследствии
сгорел), хорошо читал церковнославянские тексты и комментировал их. В
1988 г. эту семью я уже не застала в Николаевске — они возвратились в
Орегон, где одними из первых приняли новое старообрядческое священство.
Многие из оставшихся в Николаевске также пришли к идее принять священ
ство. Кондратий Фёфелов — простой крестьянин и рыбак, два года провел в
Румынии, где обучался в семинарии, распространяющей новое старообрядчес
кое священство белокриницкого толка. В Николаевске была построена цер¬
ковь св Николая, где ныне служит священник Кондратий Фёфелов, рукополо¬
женный староверческим архиереем из Румынии. Не всеми староверами в Ни¬
колаевске это рукоположение одобрено. Поповцы восприняли его как возврат
в никонианскую веру, как подчинение ортодоксальной православной церкви.
Новый раскол среди староверов прошел по душам людей, иногда разделил
семьи. Поповцы стали покидать Николаевск: в миле от него на север семья
Басаргиных основала село Находку, семья Реутовых — селение Ключевая. Од¬
нако большая часть семей Басаргиных, Реутовых, Кузьминых, Полушкиных, а
также некоторые из Мартушевых (Николай и Мария, Феоктист и Анна, Иван
и Зар) и Фёфеловых (Степанида, Ксенофонт, Созон) в начале 1980-х годов
ушли из Николаевска на восток и в глубине залива Качемак на его северо-за¬
падном берегу основали Качемак-Село, а также две деревни — Раздольная и
Вознесенка — по обе стороны верхнего течения Фокс-Ривер.
Качемак-Село вместе с Раздольной и Вознесенкой — особый, малопосеща-
емый и в силу географических условий труднодоступный район Аляски. В
отличие от Николаевска, где наряду с добротными домами еще сохранились
неказистые постройки первых поселенцев, где лес раскорчеван и отодвинут
бульдозером, но земля зарастает бурьяном, где столбы электропередач по¬
ставлены вкось и вкривь, в отличие от Находки и Ключевой, где чувствуются
следы запустения, а сами они превращены в кладбище старых ржавеющих
автомобилей, — Качемак-Село поражает удивительной гармонией обработан¬
ных и ухоженных огородов (где хорошо родятся картофель, свекла-брокала,
морковь, репа, брюква, редис, горох, цветная капуста), гринхаузов (в которых
созревают огурцы и помидоры), опрятных прочных и красивых жилых домов
с хозяйственными постройками и крытыми дворами наподобие сибирских (в
Николаевске хозяйственные строения отдалены от жилья, почти нет оград и
305
дома открыты всем ветрам), пасущихся лошадей, рыбацких катеров на глади
океана. Улов здесь сдают кенарям прямо у берега. Чтобы спуститься к Каче-
мак-Селу с крутой горы, надо петлять опасной тропой. Автомобили обычно
оставляют наверху и идут пешком. Местные жители эти несколько километ
ров преодолевают на японских трехколесных (их называют „убийцами") и че¬
тырехколесных мотоциклах (на больших широких шинах с шипами).
В Качемак-Селе есть школа, где обучение также ведется на русском и
английском языках. Однако нравы здесь более строгие: нельзя заниматься
спортом, весьма ограничены контакты с окружающим миром. Есть молель¬
ный дом, окруженный цветочными клумбами, где собираются поповцы и
служит службу уставщик, ими избранный.
Разлад и брожение между поповцами и староверами, принявшими священ
ство, разметал членов одной семьи „по разную сторону баррикады": два зятя
батюшки Кондратия Фёфелова не приняли священства, сестры матушки На¬
тальи (жены дьякона Павла Семеновича Фёфелова) также не захотели перейти
в священство. Но, как мне представляется, принятие института священства де¬
лает общину староверов более открытой, и, хотя это противоречит самому ук¬
ладу общины и ее вере, нововведение более привлекательно для юношества, а
ведь только в воспитании молодого поколения будущее староверов Аляски.
Принятие священства отразилось в лучшую сторону на обычаях семьи.
Если в 1979 г. мне не могло прийти в голову даже по приглашению сесть
в доме за стол (из опасения, что угощать будут из „поганой" посуды), то
весной 1990 г. несколько дней, которые я жила в семье батюшки Кондра¬
тия Фёфелова, были проникнуты таким взаимопониманием и неподдельным
интересом к жизни наших стран и изменениям в отношениях государства и
церкви в Советском Союзе, а матушка Ирина столь гостеприимно потчевала
меня палтусом из нового улова и пирогами с рыбой, мясом, ягодами (после
американской эта еда была необыкновенно вкусной), что это общее семей¬
ное застолье — в обществе взрослых детей и малолетних внучек — создавало
ощущение прочности доброжелательных семейных уз, их основательности.
В шести староверческих селах на Аляске (Николаевск, Находка, Ключе¬
вая, Качемак-Село, Раздольная, Вознесенское) владельцами земли и имущес¬
тва (по налоговой ведомости) являются семьи (последовательность указыва¬
ется по числу семей): Мартушевы — 17 семей, Басаргины — 14, Фёфеловы —
7, Кузьмины — 7, Реутовы — 6, Калугины — 4, Якунины — 4, Полушкины —
2, Богдановы, Добряновы, Ефимовы,Ивановы, Куликовы, Мелкомуковы, Павло¬
вы — по одной семье [5]. Довольно отчетливо можно наблюдать имуществен¬
ное расслоение среди поселенцев Николаевска. В 1979 г. семья Кондратия
Фёфелова — судостроителя и рыбака — жила в сравнительно небольшом доме,
весьма скромно. В 1988 г. уже был отстроен и заселен просторный дом возле
новой церкви. В промежутке между этими датами семья „уезжала к морю" (к
тихоокеанскому заливу), где имела трехэтажный дом из 11 комант с 3 туалет¬
ными комнатами. Когда вернулись в Николаевск, семья уменьшилась (дочери
вышли замуж), и был построен дом меньшего размера. Теперь Кондратий со¬
жалеет об этом: приходят живущие по соседству дочери с детьми, из Орегона
приезжает дочь с тремя детьми — полная изба. Но в доме и подвал может
быть использован как жилое помещение (во многих домах подвалы хорошо
оборудованы). Кондратий Фёфелов имеет собственный эллинг, который могут
306
арендовать односельчане для постройки своих катеров. Он — удачливый ры¬
бак, имеет собственный катер в заливе Качемак. Рыбачить помогают родствен
ники и наемные рабочие (либо используются разные виды „помочи", выполня¬
ющиеся по очереди членами общины — „собора"). Со слов К. Фёфелова, он
платит налоги за 11 земельных участков — „кусков" (около 7 акров каждый).
Всего в селении 143 участка [4,5].
Обычно староверческая семья пользуется помощью родственников и
„собора". Бывают разные виды „помочи": при уборке урожая или ловле ры¬
бы, помощь вновь прибывшим в постройке дома или погорельцам, угоще¬
ние на свадебном празднике или на похоронах. От родни можно получить
достаточно крупные беспроцентные займы на строительство дома, на свадь¬
бу (жениху свадьба иногда обходится в несколько тысяч, а невесте, не счи¬
тая приданого, в несколько сотен долларов). Взаимная помощь создает проч¬
ную цепь крупной взаимной задолженности, обязательств, соподчиненности.
Трудно предвидеть будущее староверческой общины. С одной стороны,
прочны вековые традиции, выстраданные историей, с другой — молодое по¬
коление уже осознало, что нельзя замыкаться только в своем русскоязыч¬
ном мире. Стены этого мира раздвигаются, общение с окружающими рас¬
ширяется. Одновременно возобновляются и упрочиваются контакты со ста¬
роверами СССР, где в июле 1988 г. архиепископия Московская и всея Ру¬
си Русской православной старообрядческой церкви (Белокриницкой иерар¬
хии) преобразована в митрополию. Кое-кто из староверов Николаевска по¬
бывал в Москве на юбилейном соборе Русской старообрядческой церкви в
честь 1000-летия крещения Руси. „Мы там с матушкой были сейчас, прое¬
хали всю Россию, — делится воспоминаниями К. Фёфелов (1990 г.). — Ко¬
нечно, трудно. Но ведь и там наладится, ведь все это исправимо. Нужно
людей научить, дать им свободу... Вот и мы собираемся вернуться в Рос¬
сию, но когда будет Россия только. Есть такая идея. Всегда сердце горит.
Ведь наш дом там! Мы все ведь как бы в разбросанном виде". Изменение
политической ситуации в СССР, обращение к человеческой личности могут
отразиться и на судьбах русских людей, заброшенных в отдаленные угол¬
ки Земного Шара. Однако самой прочной основой их нынешней жизни по-
прежнему служит приверженность старой вере и семья.
* * *
Автор приносит искреннюю благодарность коллегам — американским
историкам, всемерно помогавшим в эспедиционной работе: проф. Ричарду
А. Пирсу (Универсистет Аляски, Фэрбанкс), Алис, Гретчен и Финдли Аб
бот (Анкоридж, Аляска), Бейзилу Дмитришииу (Орегонское историческое
общество, Портленд); а также Чаде Филлипс (Университет Аляски, Анко
ридж) за ценные консультации.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
I. Картография
* Seldovia, Alaska. Topographic-Bathymetric Series [Nikolaevsk, Kashemack-Selo]. Scale
1 :250 000. Ed. US Dep. of Interior of Geological Survey, 1963. Limited revision 1985.
* Seldovia (D-5) SE Quadrangle Alaska — Kenai Peninsula Borough [Nikolaevsk, Nahodka,
Kluchevaya]. 1: 25 000 Scale. Series Topographic. Ed. US Dep. of die Interior Geological
Survey, 1987.
' Seldovia (D-3) SW Quadrangle Alaska — Kenai Peninsula Borough [Kachemack-Selo's
Region]. 1:25 000 Scale. Series Topographic. Ed. US Dep. of the Interior Geological Survey,
1987.
' Assessor's Maps of Kenai Peninsula Borough Alaska. Scale 1" - 1200'. Sec. 24, T4S, R. 14 W,
S.M.: N 165-65. Nikolaevsk Village, N 4 (H-80-33); N 165-64. Nikolaevsk Village, N 5 (H-80-
99); Sec. 19, 20, 29-31, T4S, RIOW N 185-22. Kachemak Bay; Sec. 24, 25, T4S, RIIW N 185-
46. Razdolna (H-83-44).
П. Статистика
* Kenai Peninsula Borough real property listing of Villages of Russian Old Believers near Anchor
Point and Homer — Kenai Peninsula, Alaska. Prepeared by Kenai Peninsula Borough Assessing
Dep., Alaska. December 18, 1989. (Указаны фамилии и имена владельцев земельных
участков, стоимость принадлежащей им земли и построек, общая стоимость
собственности, почтовые адреса).
Ш. Фольклор
' Басаргина, Анна. Хунхузы. Этот рассказ рассказала Анна Басаргина ноября 6,
1979 г. в деревне Николаевск. Картинки Олимпиады Басаргиной. Рус. яз.
Николаевск, Аляска, 1980. 14 с.
^ Басаргина, Анна. Как мы бежали с России (How we escaped from Russia). Рус. и
англ. Запись, пер. на англ, и рис. Олимпиады Басаргиной. Николаевск, Аляска:
Nikolaevsk Publishing С°, 1989. 15 р.
' Басаргина, Олимпиада. Наша деревня (Our Village). Книжка красить (Coloring
Book). Писание и ил. Олимпиады Басаргиной. Николаевск, Аляска, без даты (не
ранее 1980). 26 с.
* Басаргина, Олимпиада. Золотые ушки (Golden Ears). Сказка и картинки Олимпиа
ды Басаргиной. Рус. и англ. Пер. на англ. Валентины Фефеловой. Printed by
National Bilingual Materials Development Center Rural Education University of Alaska.
Anchorage, Alaska, 1980. 38 p.
"* Калугина, Соломия. История Николаевска (A Story of Nikolaevsk). Рус. и англ. За
писано Олимпиадой Басаргиной. Ed. and transl. Olimpiada Basargin, Janice Stutzer, Faina
Steinbuk, Alice Taff, Stan White, Bob Moore. Illustration by Olympiada Basargin. Nikolaevsk
School, May 1984. 25 p.
" Народные песни старообрядцев (Folk Songs of the Old Believers). Песни пели Агрип
пина Кожина, Ирина Басаргина, Улита Калугина, Екатерина Богданова. Рус. и
англ. Пер. на англ. Олимпиады Басаргиной и Жени Студзер. Produced by Bilingual
Program: Kenai Peninsula Borough School District. 1982.113 p.
** Русские девишные песни (Russian Wedding Songs). Рус. и англ. Пер. на англ. Анны
Мартушевой. Корректоры Алис Тяфф и Агафья Молодых. Песни печатали: Сата Фе
308
фелова, Люба Фефелова, Таисья Мартушева, Нина Якунина, Соломония Мартушева,
Катя Гостсвская, Анна Мартушева. Nikolaevsk: Nikolaevsk Publishing С, 1988.124 р.
" Якунин, Пимен. Охота на тигров. Эти рассказы рассказывал Пимен Якунин янва
ря 22, 1980 г. в деревне Николаевск, Аляска. Картинки Олимпиады Басаргиной.
Рус. Printed by National Bilingual Materials Development Center Rural Education University
of Alaska. Anchorage, 1980.27 p.
^.Учебные пособия
для школы в Николаевске, Аляска
** Басаргина, Олимпиада (текст и ил.), Феоктист Мартушев (таксидермист). Набивка
чучел птиц. Пособие для учеников 5 го класса. Рус. и англ. Kenai Peninsula Borough
School District Bilingual Program. University of Alaska. Anchorage, November, 1981. lip.
^Русская староверская поваренная книга (Рецепты изображают мировые путешес
твия этой группы русских эмигрантов). Рис. Англ, (без даты). 65 с.
** Сарафан (How to make a sarafan). Рус. и англ. Ил. Олимпиады Басаргиной.
Nikolaevsk School, 1984. 23 р.
^ Таличка (How to make talichka). Рус. и англ. Nikolaevsk School, Alaska, May 1984. 24 p.
*' Bailey, Don. Fur Hats (Меховые шапки) Russ, and Engl. 5-th Grade. Nikolaevsk School,
Febr. 1983.37 p.
** Bailey, Don and Feoktist Martushev. How to mount a fish (Набивка рыбных чучел). Рус. и
англ. Пер. Стана Вайта и Олимпиады Басаргиной. Николаевск, Аляска, 1982. 15 с.
** Fall Traditions by 1987 Foxfire Class Nikolaevsk School. Nikolaevsk, Alaska, 1987. 33 p.
V. Сочинения учащихся
Николаевской школы, Аляска
** Николаевские новости (Nikolaevsk News). Iss. 5-6. Vol. 11. April-May 1990. Russ, and
Engl. 28 p.
** Nikolaevsk. Warriors (Teachers and students of the Nikolaevsk School), 1989-1990 (Photos).
School Annual Publishing C°, Coshocton, Ohio, 1990. 40 p.
VI. Литература
^ Васмлемжо M Раскол (в России) // Энцикл. слов. Брокгауз и Ефрон. Спб., 1890.
Т. 51. С. 284-303.
** Доломея Ф.Ф. Семейские: Историко этнографические очерки. Улан-Удэ, 1985.
* Лсрелоя АЛ. Структура и численный состав семьи: (По материалам Братского и
Нижне Илимского районов Иркутской области и Кежемского района Красноярске
го края) // Быт и искусство русского населения Восточной Сибири. Новосибирск,
1971. Ч. I: Приангарье. С. 96 97.
* ХЬбэея Я С красным флагом против красных // Огонек. 1990. .№ 30. С. 9 12.
Хузкжмма JU7. Старообрядцы в Северной Америке: Второй конгр. Междунар. о-ва
этнологии и фольклора Европы. Симпоз. № 6, Суздаль, 30 сент. 6 окт. 1982. 10 с.
^ Лебеуеяа А.А. К истории формирования русского населения Забайкалья, его хо
зяйственного и семейного быта (XIX-начало XX в.) // Этнография русского населе
ния Сибири и Средней Азии. М., 1969. С. 104-188.
** Лодромжиб Я.А Крестьянский побег и традиции пустынножительства в Сибири
ХУШ в. // Тез. докл. и сообщ. XIV сес. межресп. симпоз. по аграр. истории Воет.
Европы. М., 1972. С. 169 173.
* Рамамзаа ЛЯ. Экономические отношения России и Китая на Дальнем Востоке,
XU( - начало XX в. М., 1987. 167 с.
309
з* С<йгурояа JMf. Культура и быт русского населения Приангарья: Конец XIX
начало XX в. Л., 1967. 280 с.
^ /Учеясжмб 4. Беглопоповщина // Энцикл. слов. Брокгауз и Ефрон. СПб., 1891. Т.
9. С. 153 158.
" A manual for educators of Russian old believer children in Oregon / Comp, by Marion County
Russ. Resource Comm. Salem (Or.): Marion Intermediate Education District, 1976.49 p.
* C. Old believers in a time of change / Photos by L.Smogor // Alaska: the Magazine of Life
on the Last Frontier. Oct. 1988. (Spec. Iss.: Alaska's Russian heritage). P. 22-27, 56-58.
" Ped^rjen IV. and E. Nikolaevsk (Russian village) // A larger history of the Kenai Peninsula.
1983. P. 120-122.
* Pearden 7. Nikolaevsk: A bit of old Russia takes root in Alaska // Photos by Ch.O'Rear // Nat.
Geogr. 1972. Vol. 142, N 3. P. 400-425.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видит читатель, семьи разных народов Америки отличаются значитель¬
ным разнообразием — в зависимости от стадии исторического развития, ко¬
торую они проходят, от социальной, экономической, культурной обстанов¬
ки, в которой живут. Но у всех, за малыми исключениями, наблюдается од¬
на мощная тенденция — к преобладанию нуклеарной семьи. Эта форма гос¬
подствует в развитых странах Северной Америки и наиболее распростране¬
на во всех остальных, чему способствует быстрая урбанизация, характерная
для XX в. И дело не только в переселении в города, но и во влиянии го¬
родского образа жизни на сельскую периферию. Так, нуклеарная семья
преобладает в резервациях североамериканских индейцев.
Вместе с тем везде бытуют сохранившиеся, иногда даже развивающиеся
более широкие родственные связи, близкие к тем, которые характерны для
расширенной семьи, хотя члены ее не живут вместе. Такие семейные связи
продолжаются там, где они функциональны, где вписываются в новую сре¬
ду. Иммигранты городов США вызывали из стран выхода родственников,
устраивали их на работу, давали пристанище. Так создавался родственный
круг в новой стране. Италоамериканцы начала века и пуэрто-риканские им¬
мигранты середины века сдавали родственникам жилье. Бразильские индей¬
цы терена селились в городах целыми кланами, помогая родственникам, а
то и обеспечивая их. Все это означало и эмоциональную поддержку, и по¬
мощь в быту, какая оказывается, например, среди афроамериканцев США.
Наряду с родством биологическим немалое значение имеет родство риту¬
альное, преимущественно у народов Латинской Америки и выходцев из этих
народов, — так называемое компадразго. Это отношения с крестными отцами
и матерями детей данной семьи. Крестные родители обязаны заботиться о
своих крестниках и вступают в особые отношения с их биологическими ро¬
дителями. Таким образом, связи компадразго по происхождению имеют рели¬
гиозный характер, но фактически приобретают все более светский облик. Ро¬
дители нередко отдают детей на воспитание своим компадрес. Вообще широ
ко принято отдавать детей — на время или постоянно — в другие семьи.
В тех же странах издавна широко распространены консенсуальные бра¬
ки. Не будучи оформлены ни церковным, ни гражданским обрядом, они, од¬
нако, принимаются обществом, как и дети, рожденные в этих браках. По¬
добные семьи, иногда долговечные, относительно легко распадаются. Такие
фактические браки, уже не вытекающие из этнической традиции, получили
теперь распространение в Северной Америке среди людей любого этничес¬
кого происхождения.
Число детей в семье, даже нуклеарной, сильно варьирует по рассмот¬
ренным в этой книге регионам. Однако здесь тоже просматривается четкая
тенденция к уменьшению детности. Это главным образом следствие новых
методов планирования семьи. В пример можно привести о-ов Пуэрто-Рико,
где рождаемость еще в середине нашего века была одной из самых высо
ких в мире, а за последующие десятилетия резко снизилась.
Широчайшее распространение получили матрифокальные семьи. Тради¬
ционно они бытовали в разных регионах. Так, на Карибских островах не¬
31!
редки были семьи, состоявшие из матери и детей, часто от разных отцов.
То же наблюдалось среди афроамериканцев США. Причем одиноким мате¬
рям помогали родственники, особенно женщины старших поколений. Но в
последние десятилетия матрифокальные семьи широко распространились и
среди белого населения Америки, имеющего разное этническое происхож¬
дение. Эти семьи, хотя многие из них получают государственное пособие,
обычно плохо обеспечены материально, и в США получил хождение тер¬
мин -феминизация бедности".
В семьях всех американских народов господствовал — в той или иной
степени и форме — мужчина, муж и отец. Женщине отводилась подчинен¬
ная роль хранительницы очага и воспитательницы детей. С этим связан
двойной стандарт половой морали — что можно мужчине, то нельзя женщи¬
не. Наиболее яркое проявление указанного явления — мачизм, широко бы¬
тующий в Латинской Америке. Для мужчин он означает подчеркнутую му¬
жественность, некоторую агрессивность, сексуальную свободу и актив¬
ность. От женщин в этой системе требуется целомудрие. Такой семейный
строй включал в себя культ матери, в связи с чем на Кубе, например, при¬
вился американский праздник День матери.
Авторитарная власть мужчины в семье в течением времени размывается.
Этого нельзя сказать о мачизме, который культивируется не только среди
выходцев из Латинской Америки, но и среди молодежи негритянских гетто
в США. Однако в положение женщины XX век внес особенно большие пе¬
ремены. Широкое вовлечение женщин в общественное производство, осо
бенно бурное во второй половине столетия, изменило их положение в
семье. Работой по найму занимаются теперь и замужние женщины, и мате
ри. Образовательный уровень женщин заметно повысился и во многих стра¬
нах превышает соответствующий уровень мужчин. В последние десятилетия
большое влияние получило феминистическое движение. Все это заметно
действует на структуру семьи и отношения в ней. Мужчина уже не един
ственный кормилец. Занятость жены налагает на него какие-то домашние
обязанности. Тенденции к эгалитаризации семейного быта дают себя знать,
хотя пробиваются с трудом. Мужчины психологически не готовы к уходу
за детьми и к другим домашним делам, окружающее общество этого от них
не требует, их престижу такая эгалитаризация не способствует. Заметно,
что в США подобные семьи чаще распадаются.
Разводы вообще чрезвычайно участились, лидируют здесь США. Множе
ство матрифокальных семей представляют собой результат развода, причем
во многих случаях покинувший семью отец мало и нерегулярно помогает
своим детям. Очень часто разведенный муж вступает во второй и третий
брак. То же происходит с разведенной женой, но реже. Следствием таких
повторных браков является новый вид родственных связей — между детьми
супругов от прежних браков, между детьми и их биологическими, а также
названными родителями, и их новыми семьями и т.д.
Социализация детей всегда была одной из главных функций семьи. В
наш век значительную часть этих функций берут на себя школа, а также —
в возрастающей степени — средства массовой информации. Этнические тра¬
диции обычно передаются в семье, но отсутствие в мигрантских нуклеар-
ных семьях поколения дедов и бабок этому препятствует. Впрочем, в пору
3!2
этнического возрождения последних десятилетий престиж этого поколения
(поскольку оно сохранилось), помнящего этнокультурные обычаи, возраста¬
ет. Но воспринимают эти обычаи уже возросшие потомки. Для мигрантских
семей особенно характерен конфликт поколений. Дети, более адаптирован¬
ные к окружающей среде, отходят от родителей, зачастую противостоят им.
В традиционных семьях латиноамериканских негров (и выходцев из них)
мальчиков и девочек воспитывают по-разному — соответственно двойному
стандарту. Мальчиков — в духе мачизма, девочек — как будущих хозяек до¬
ма, подчиненных мужчине. Но сам двойной стандарт ослабляется. В совре¬
менных молодых поколениях американцев девушки не менее сексуально ак¬
тивны, чем юноши. Результатом массовых добрачных беременностей явля¬
ются многие матрифокальные семьи.
Межрасовые и межэтнические браки — а более того, связи — были ха¬
рактерны для Нового Света с самого его заселения европейцами. Так, соб¬
ственно, создавалась основная часть населения Латинской Америки, состоя¬
щая из потомков межрасового смешения, т.е. метисов в широком смысле
слова. В более узком смысле этого слова, из европейско-индейских метисов
формировалось население многих латиноамериканских стран. В Северной
Америке значительная часть афроамериканцев в результате межрасового
смешения первых столетий является мулатами.
Браков между черными и белыми в США становится больше, но общее
их количество невелико. Черно-белые пары и их потомки встречают насторо¬
женное, а то и враждебное отношение к себе в окружающей среде, как бе¬
лой, так и черной, что сказывается на внутреннем климате подобных семей.
Межэтнические браки, всегда характерные для Америки, в XX в. уча¬
щаются. В США, особенно во второй половине века, возросло число браков
как между представителями разных этнических общностей, так и межкон¬
фессиональных браков. В подобных семьях дети иногда наследуют этничес¬
кую традицию одного из супругов, чаще же ассимиляционные процессы в
них идут особенно интенсивно, и семьи эти наиболее близки к среднеаме¬
риканскому типу.
Совершенно своеобразный интерес представляет семейный быт поселе¬
ний русских староверов на Аляске. У этих мигрантов XX в. стойкие этно¬
культурные традиции трехвековой давности переплетаются с бытовыми
чертами современной урбанизированной Америки.
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 3
СЕМЬЯ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 5
США %Я.А. Бозмум^ 5
Афроамериканцы в США 0.Д Яа/добурз^ 29
Индейцы в США Й?.Л. С/дельмах^ 61
Американские эскимосы /Я.А. Лалулемж^ 80
Пуэрториканцы в США Я/алызада^ 96
Китайцы в США Й?.А. Сяроздакоза^ 118
Филиппинцы в США #L4. Скроздахгаза^ 126
СЕМЬЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 135
Кубинцы (1ЙС. Я/еймбаул^ 135
Гаитийцы ^ЯЯАула^оза^ 166
Семья на Пуэрто Рико (Я.АЯ/алызада^ 176
Семья в англоязычной Вест Индии %4.Д. Драуз<^ 193
Мексиканцы (AM. Afa/дзееза Аузде^аза) 208
Народы андских стран Сероз^ 225
Бразильцы %М.Л. АЪ/дозс/сая^ 238
Индейцы Бразилии %М.Л Alo/дозсжая, Л.А. Файдберз^ 265
Аргентинцы ^/7.С. Я/ейу^бауж^ 279
СЕМЬЯ У РУССКИХ СТАРОВЕРОВ НА АЛЯСКЕ - 297
Феусраза^
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 311
Семья у народов Америки. — М.: Наука, 1991.— с. 312.
С 30 ISBN 5—02—010049—8
Книга — первая в отечественной науке обобщающая работа по семье.
Она охватывает обширный регион — страны Американского континента. На
большом историческом материале авторы показывают, как складываются и
живут семьи США, Бразилии, Аргентины, Кубы и др. Интересно рассказыва
ется о традициях, обычаях, обрядах, численности семей разных национальное
тей, о ценностных ориентациях, воспитании детей.
Для научных сотрудников и широкого круга читателей.
0505000000-1 $0
^ 0 42(02) - 91
109—91 (1 пол.)
ББК 63.5
Научное издание
СЕМЬЯ У НАРОДОВ АМЕРИКИ
Утверждено к печати
ордена Дружбы народов
Институтом этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо Маклая АН СССР
Заведующая редакцией Л.С. Х]ручммммо
Редактор издательства //.Л Лордммо
Художник А. 71 Смуоремдю
Художественный редактор 77.Д. ймдчев
Технические редакторы Т.С. ^иярмково, 77.А Уууецкал
Корректор Л.77. Левожмово
ИБ^ 47787
Сдано в набор 06.11.90. Подписано к печати 17.10.91
Формат 70 * 90
Бумага тип 2. - Печать офсетная
Уел. печ. л. 23,4. Уел. кр. отт. 23,7. Уч.-изд. л. 26,1
Тиражи50 экз. Тип. зак. 1065.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485 Профсоюзная ул., 90
4гя типография издательства "Наука"
630077, Новосибирск, 77, ул. Станиславского, 25
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА»
ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:
Америка до Колумба:
Контакт цивилизаций и культур.
17 л. 4 р.
Книга посвящена проблемам индеанистики, процессам 500-летне¬
го взаимовлияния и взаимодействия, контактам и конфликтам абори¬
генных культур народов Америки с народами и культурами европей¬
цев. В центре внимания — исторические судьбы индейцев и эскимо¬
сов, их борьба за сохранение своих традиций и самобытной культуры,
за суверенитет и права в современном мире. Особо рассматривается
история русской колонизации Америки, ее влияние на развитие севе¬
ро-западного побережья Тихого океана.
Для этнографов, историков, широкого круга читателей.
Страницы отечественного кавказоведения.
17 л. 3 р. 50 к.
В книге анализируются главные направления научной работы по
изучению культуры и быта народов Кавказа. Воскрешаются малоизве¬
стные страницы отечественного кавказоведения. Монография содер¬
жит очерки о жизни и творчестве академика Н. Марра, ведущих со¬
ветских исследователей народов Кавказа Н. Генко и Л. И. Лаврова.
Для этнографов, историков.
Американский ежегодник. 1990.
16 л. 3 р. 50 к.
В юбилейном XX выпуске * Американского ежегодника* публику¬
ются материалы к столетию со дня рождения Дуайта Эйзенхауэра, ин¬
тервью с его братом Милтоном, а также документы из архива Роберта
Шервуда («Рузвельт предупреждает Сталина*). Особое внимание уде¬
ляется проблемам двух мировых войн и экономической истории. Пуб¬
ликуются также статьи двух американских историков — «Трумэн и
бомба* и «Представление русских об Америке*. Публикуется также
список диссертаций по истории США и Канады, защищенных в
СССР в 1980—1990 гг., содержание АЕ за десять лет и библиография
новейших работ по истории США и Канады.
Для историков и более широкого круга читателей.
Аскольдова С.М.
Развитие высшей школы США в XVII—XIX вв.
20 л. 4 р. 50 к.
Модель высшей школы США стала предметом изучения во мно¬
гих развитых странах. Ее опыт используют в Западной Европе, Япо¬
нии, в странах «экономического чуда* — Южной Корее и Тайване.
Сегодня в американских колледжах и университетах обучается более
12 млн. человек, что в процентном отношении к населению страны
выдвигает США на первое место в мире. Важным фактором амери¬
канской модели образования следует считать сочетание учебной и на¬
учно-исследовательской функций. Обучение студентов осуществляется
в лучших лабораториях страны, что сокращает путь внедрения дости¬
жений науки в производство. У истоков американских университетов
стояли выдающиеся ученые, отцы-основатели государства — Б. Фран¬
клин и Т. Джефферсон, определившие американскую модель образо¬
вания.
Для широкого круга читателей.
Лебедева А.А.
Очерки материальной культуры русских
в селениях Забайкалья и Притоболья.
XVIII - начало XX в.
18 л. 4р.
Широкая картина культурного развития русского населения За¬
падной Сибири представлена в монографии автора, много лет занима¬
ющегося этническими проблемами этого региона. В ней рассматрива¬
ются жизненно важные вопросы хозяйственного развития русского
крестьянства Притоболья и Забайкалья: формирование русского насе¬
ления в указанных регионах, средства передвижения, сельские ремес¬
ла и промыслы, уходящие в глубь веков богатейшие ярмарки и торж-
ки, народные знания. Книга иллюстрирована рисунками и фотогра¬
фиями.
Для этнографов, историков, широкого круга читателей.
Чернецов А.В.
Золоченые двери XVI в.
(соборы Московского Кремля
и Троицкий собор Ипатьевского монастыря в Костроме)
15 л. 3 р.
Книга посвящена шедеврам московского художественного ремес¬
ла XVI в. — монументальным дверям храмов, украшенных сложной
техникой ^огненного золочения*. Впервые публикуются и комменти¬
руются все изображения и надписи на дверях соборов Московского
Кремля, а также Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Кост¬
роме. Сюжетно-стилистический анализ этих изображений позволяет
установить их относительную хронологию.
Для археологов, историков и широкого круга читателей.
АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ^АКАДЕМКНИГА^
С УКАЗАНИЕМ МАГАЗИНОВ И ОТДЕЛОВ <КНИГА-ПОЧТОЙ*
480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 ("Книга—почтой");
370001 Баку, ул. Коммунистическая, 51 ("Книга—почтой");
720001 Бишкек, бульвар Дзержинского, 42 ("Книга—почтой");
232600 Вильнюс, ул. Универеитето, 4;
690088 Владивосток, Океанский проспект, 140 ("Книгаг-почтой");
320093 Днепропетровск, проспект Гагарина, 24 ("Книга—почтой");
734001 Душанбе, проспект Ленина, 95 ("Книга—почтой");
375002 Ереван, ул. Туманяна, 31;
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289 ("Книга—почтой");
420043 Казань, ул. Достоевского, 53 ("Книгаг-почтой");
252030 Киев, ул. Ленина, 42;
252142 Киев, проспект Вернадского, 79;
252025 Киев, ул. Осипенко, 17;
252208 Киев, проспект Правды, 80а ("Книга—почтой");
277012 Кишинев, проспект Ленина, 148;
343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1 ("Книга—почтой");
660049 Красноярск, проспект Мира, 84;
191104 С.-Петербург, Литейный проспект, 57;
197345 С.-Петербург, Петрозаводская ул., 7 ("Книга—почтой");
199164 С.-Петербург, Таможенный пер., 2;
194064 С.-Петербург, Тихорецкий проспект, 4;
220012 Минск, Ленинский проспект, 72 ("Книга—почтой");
103009 Москва, Тверская ул., 19а;
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;
117393 Москва, ул. Академика Пилюгина, 14, корп. 2
("Книга—почтой");
630076 Новосибирск, Красный проспект, 51;
630090 Новосибирск, Морской проспект, 22 ("Книга—почтой");
142284 Протвино Московской обл., ул. Победы, 8;
142292 Пущино Московской обл., МР, гВ", 1 ("Книга—почтой");
443002 Самара, проспект Ленина, 2 ("Книга—почтой");
620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137 ("Книга—почтой");
700000 Ташкент, ул. Ю. Фучика, 1;
700029 Ташкент, ул. Ленина, 73;
700070 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43;
700185 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 ("Книга—почтой");
634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18;
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 ("Книга—почтой");
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49;
310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87.
Семья
унароарв
Америки
*
-Наука*