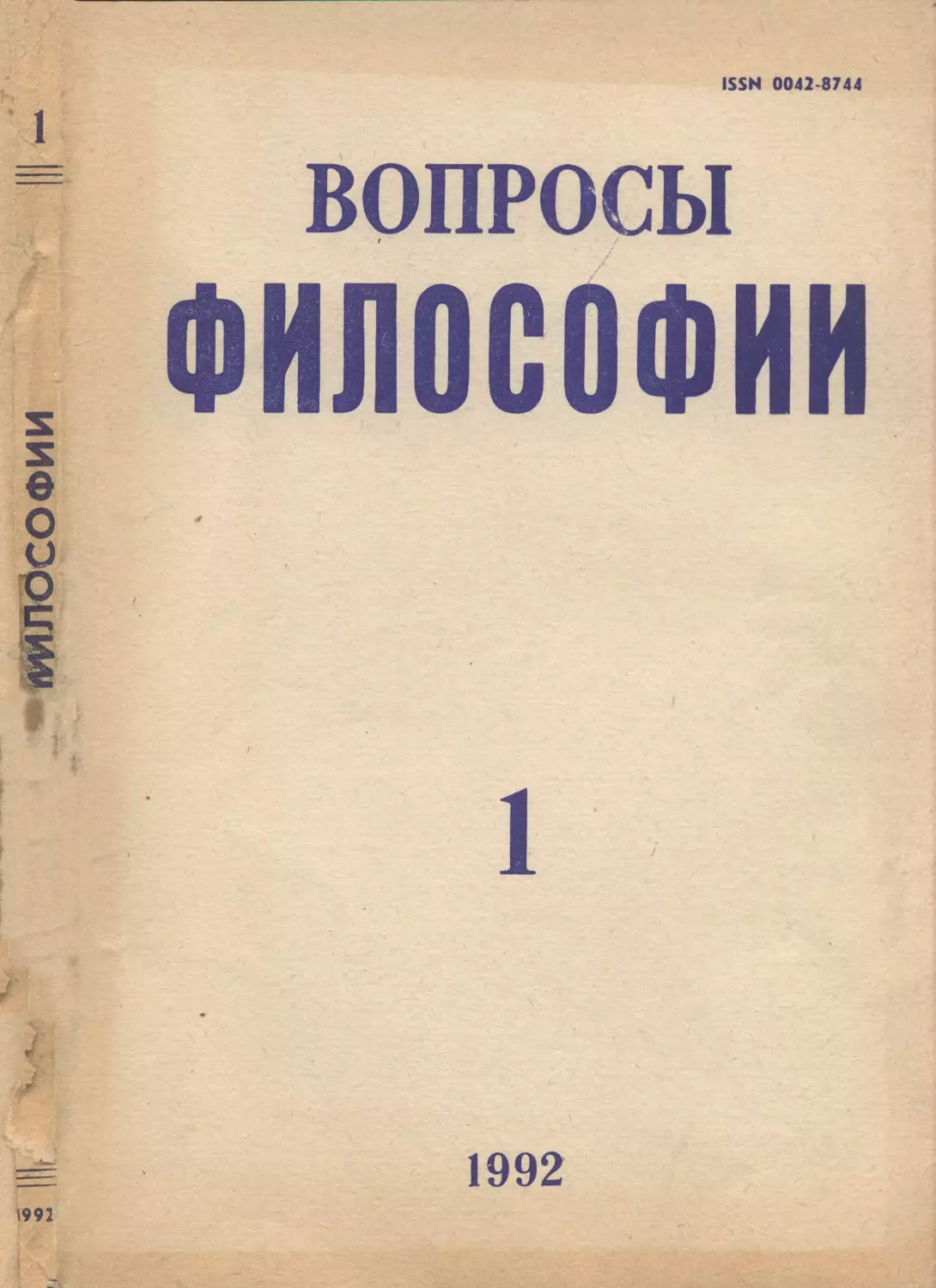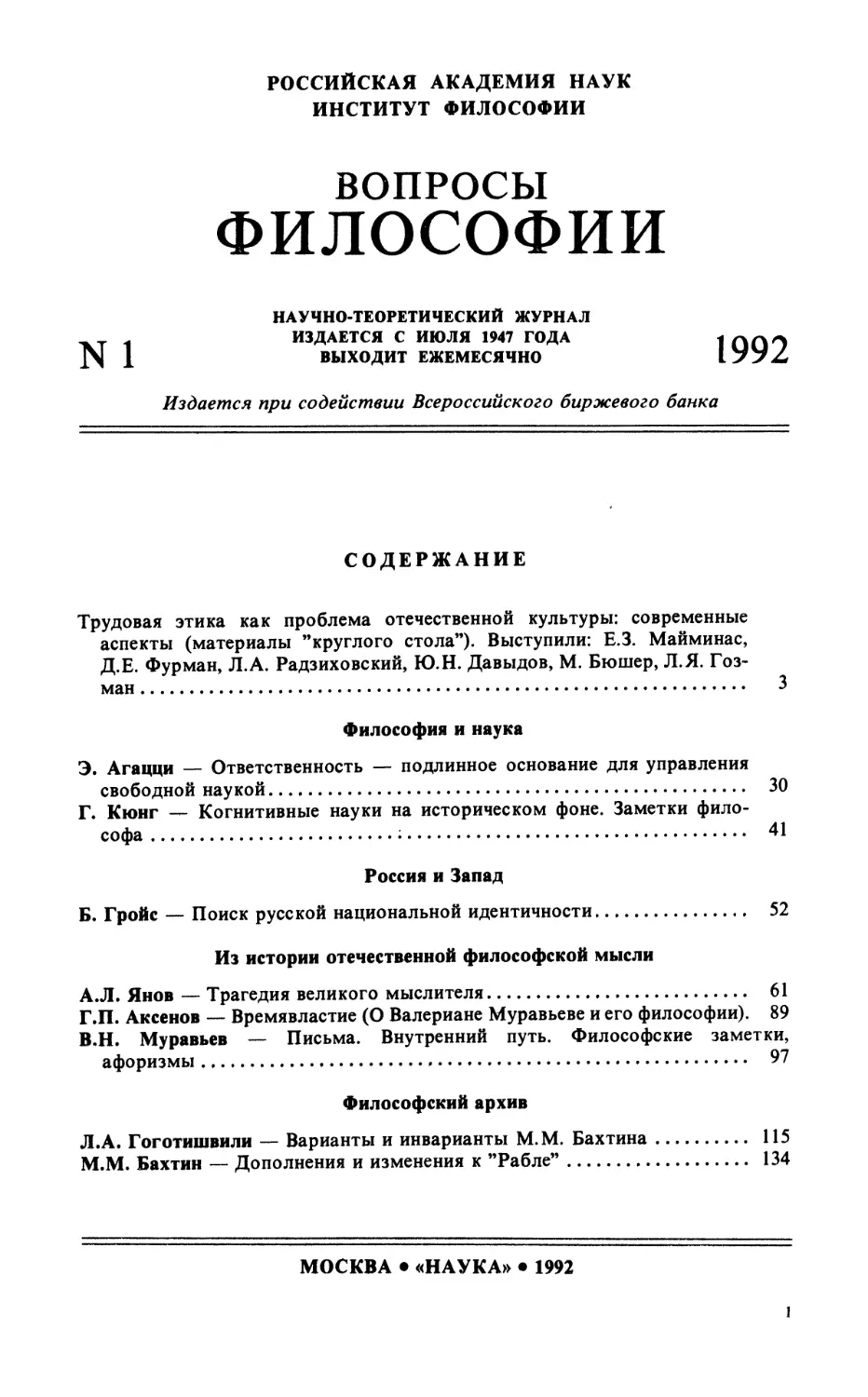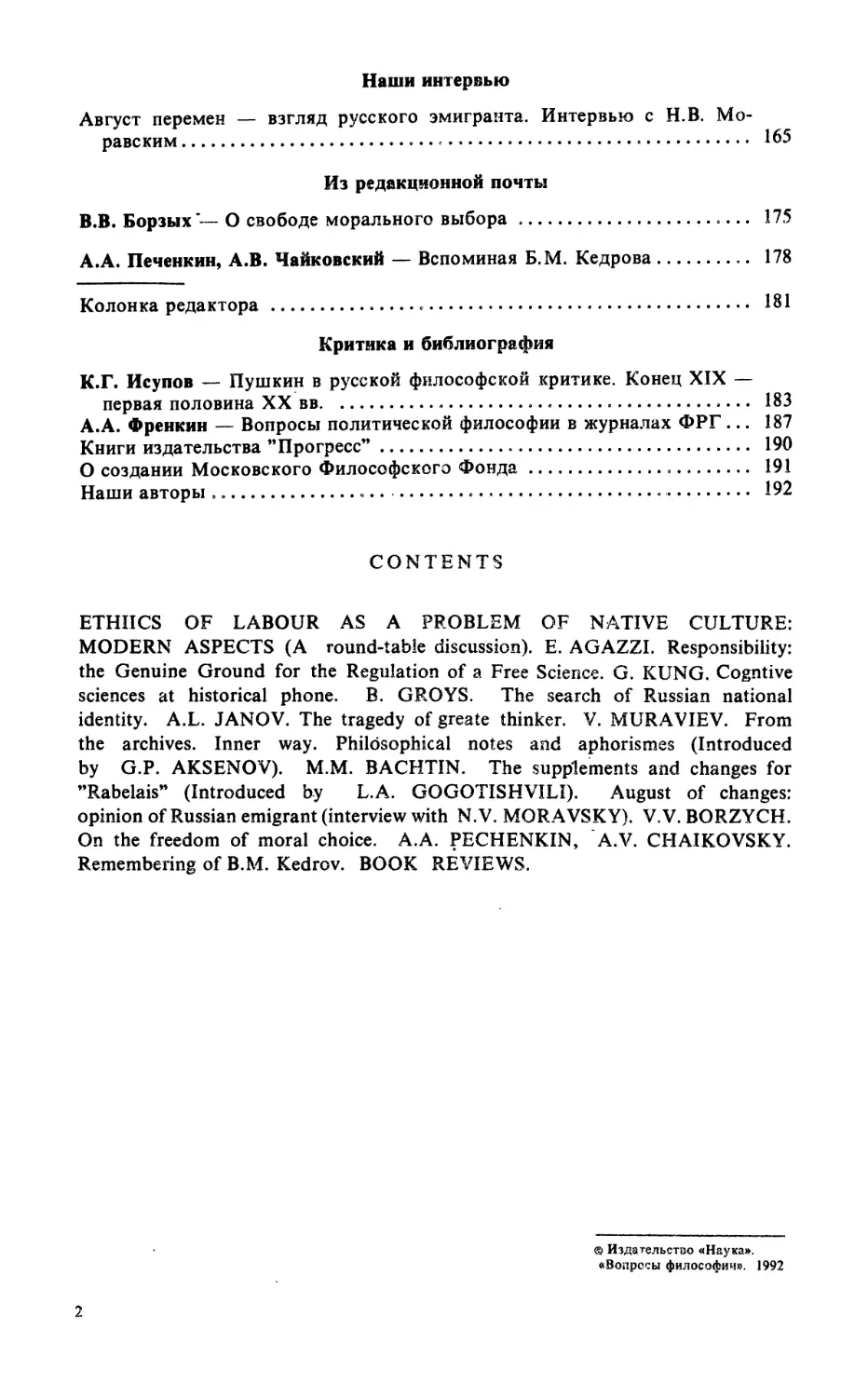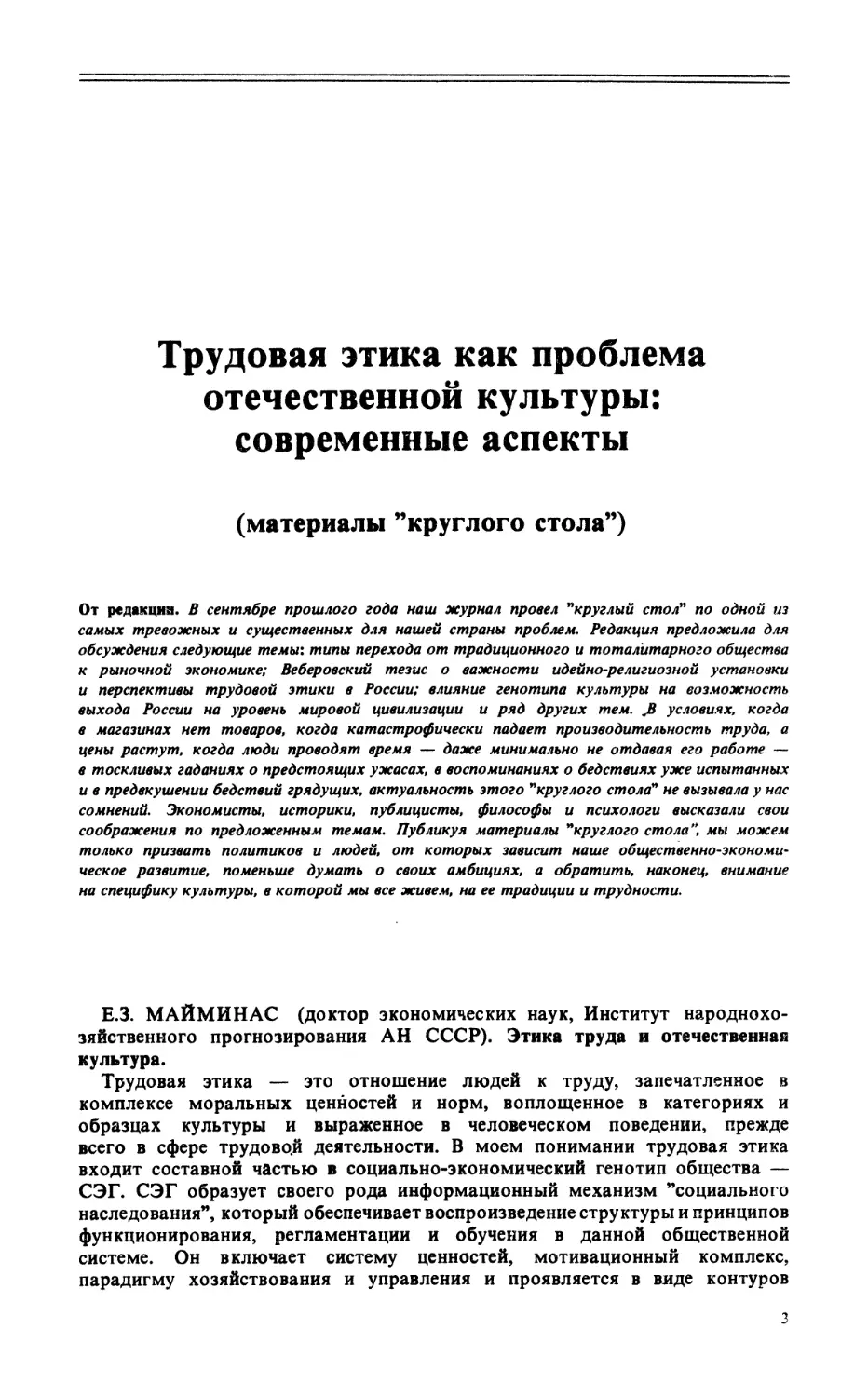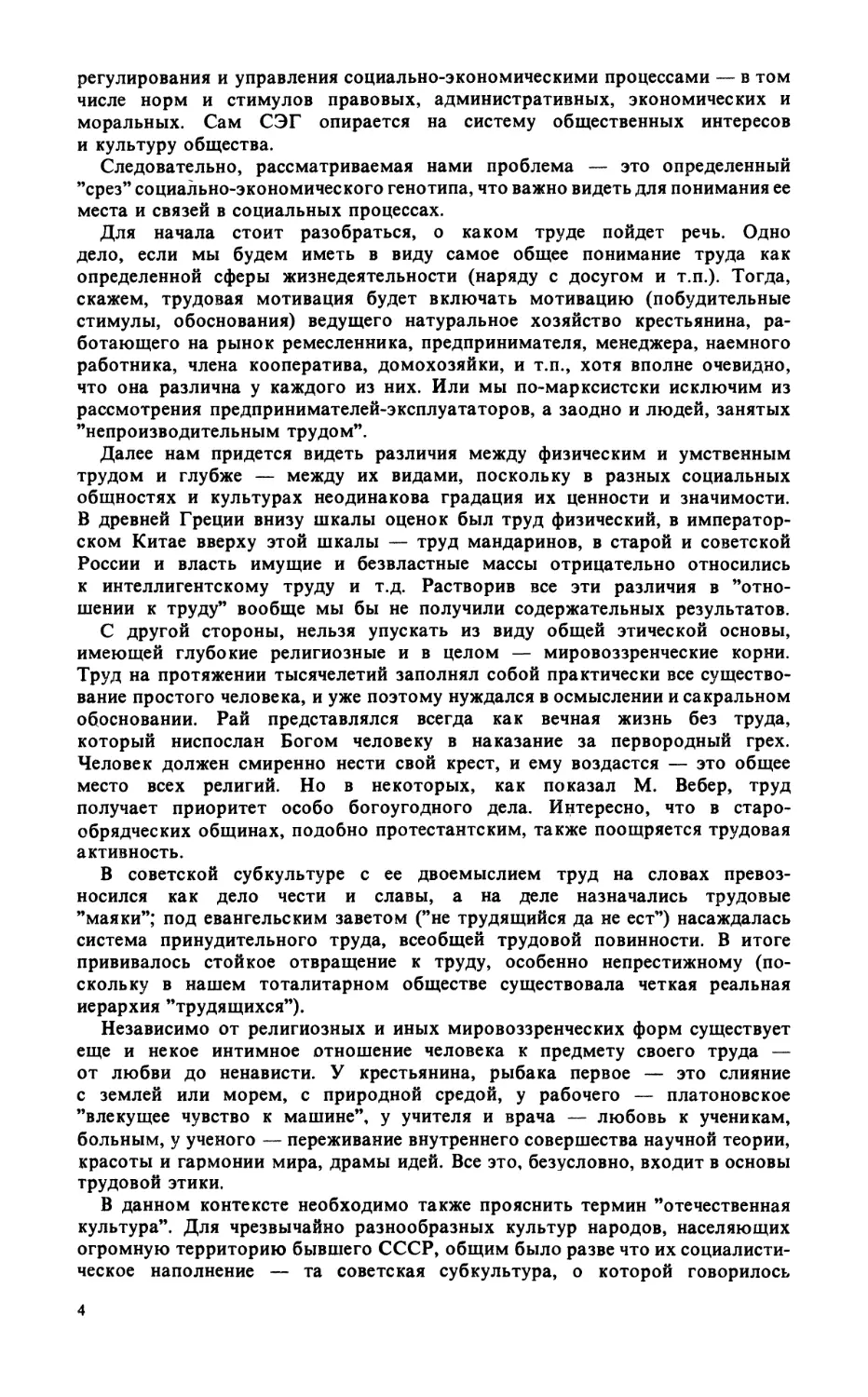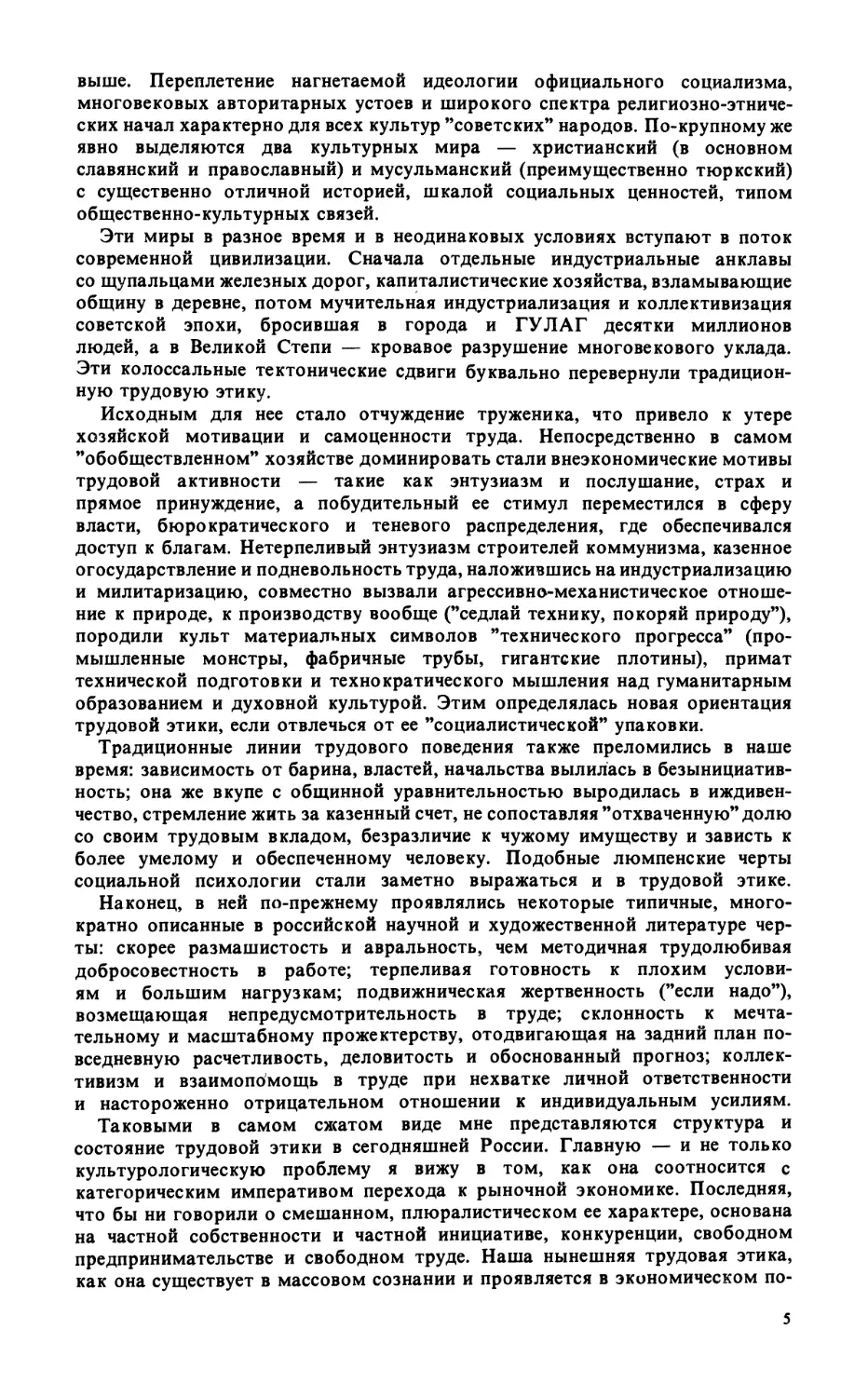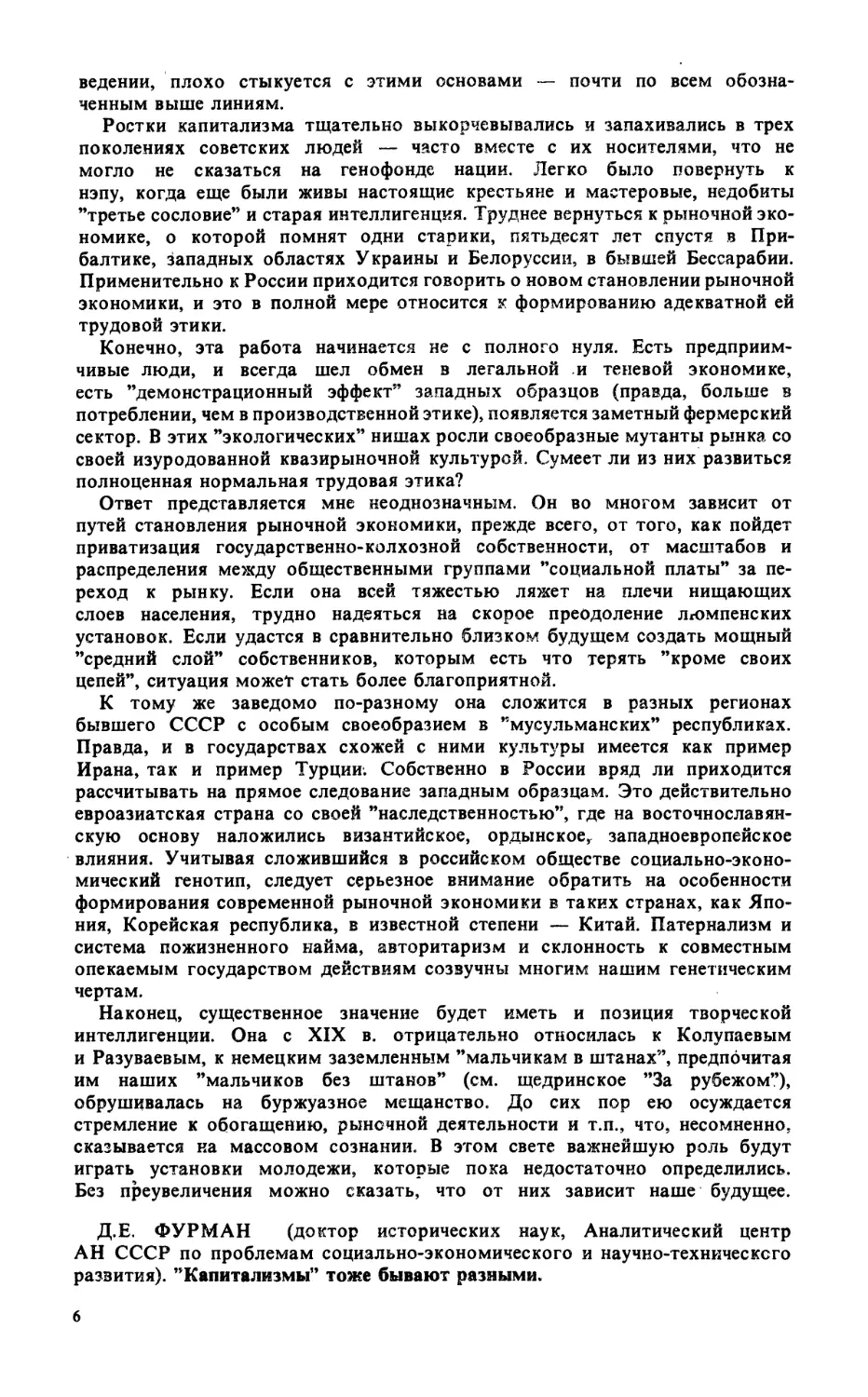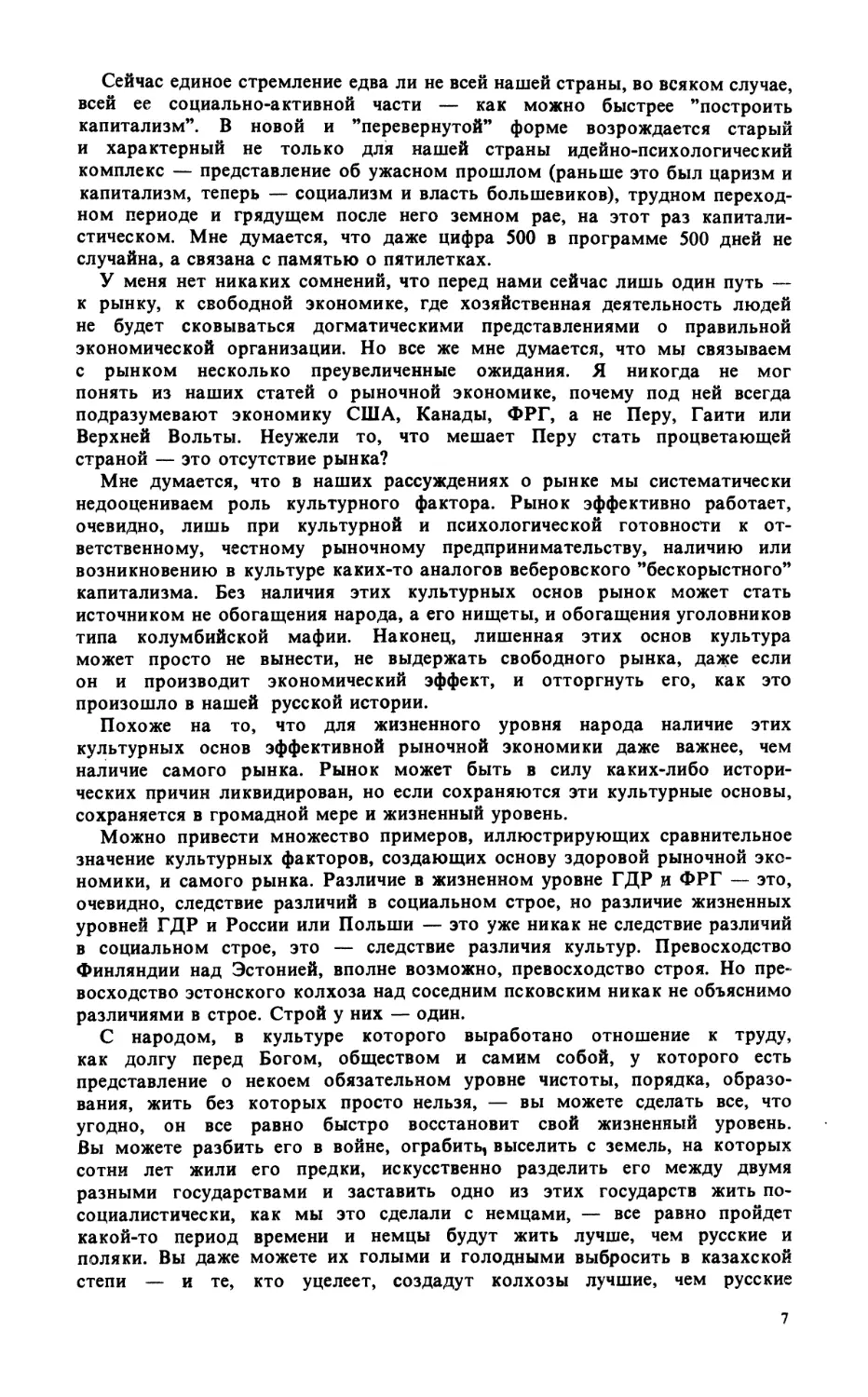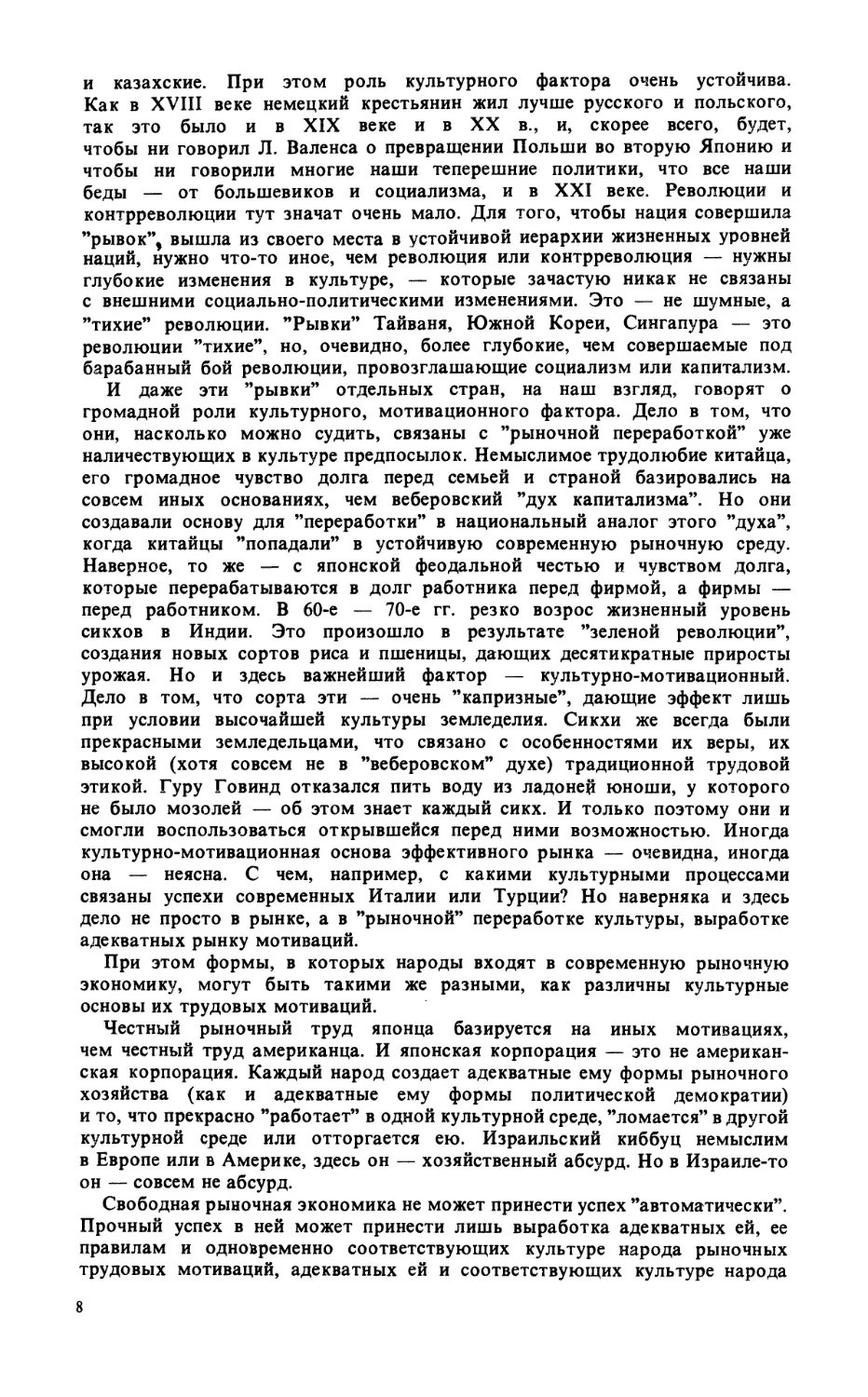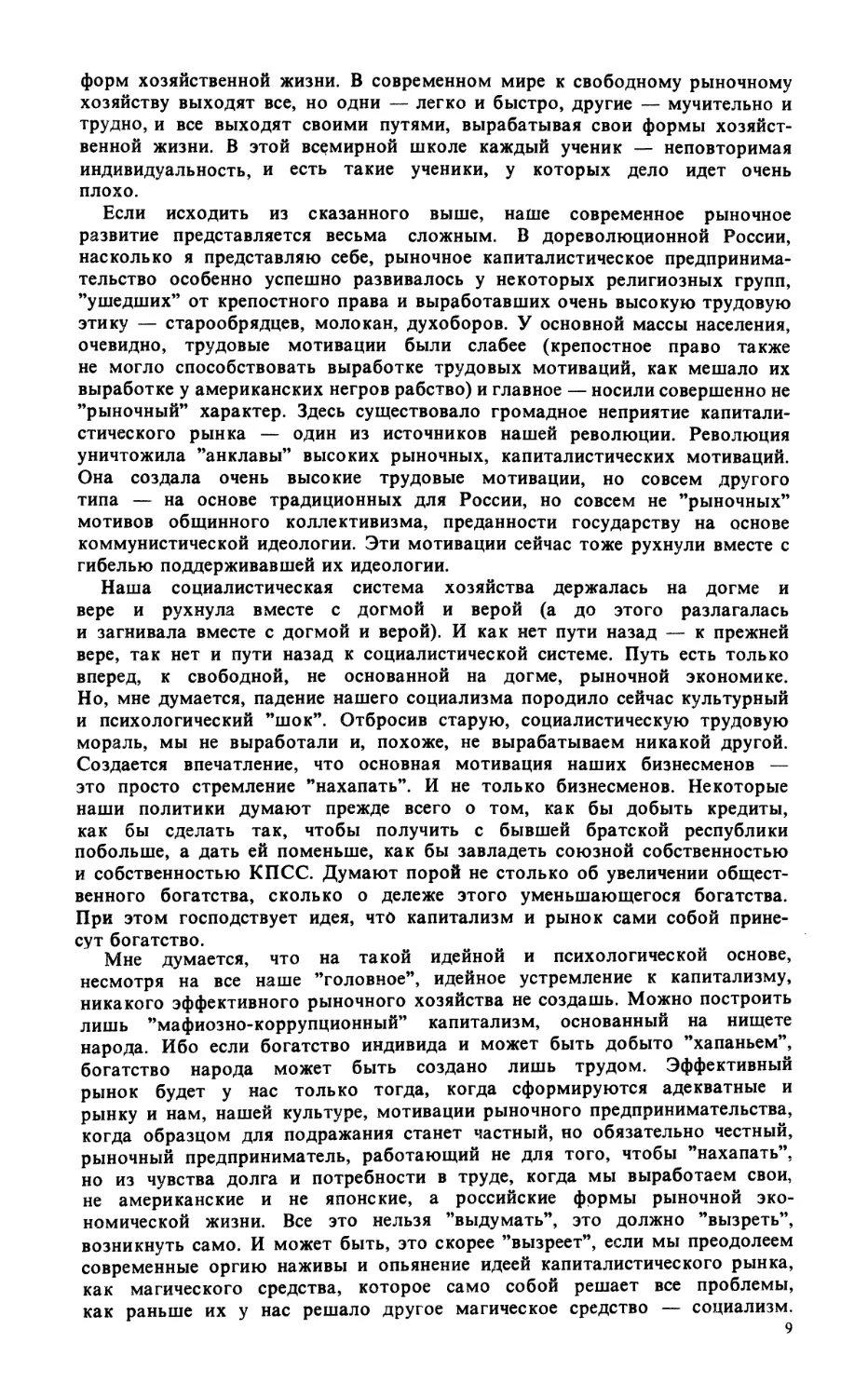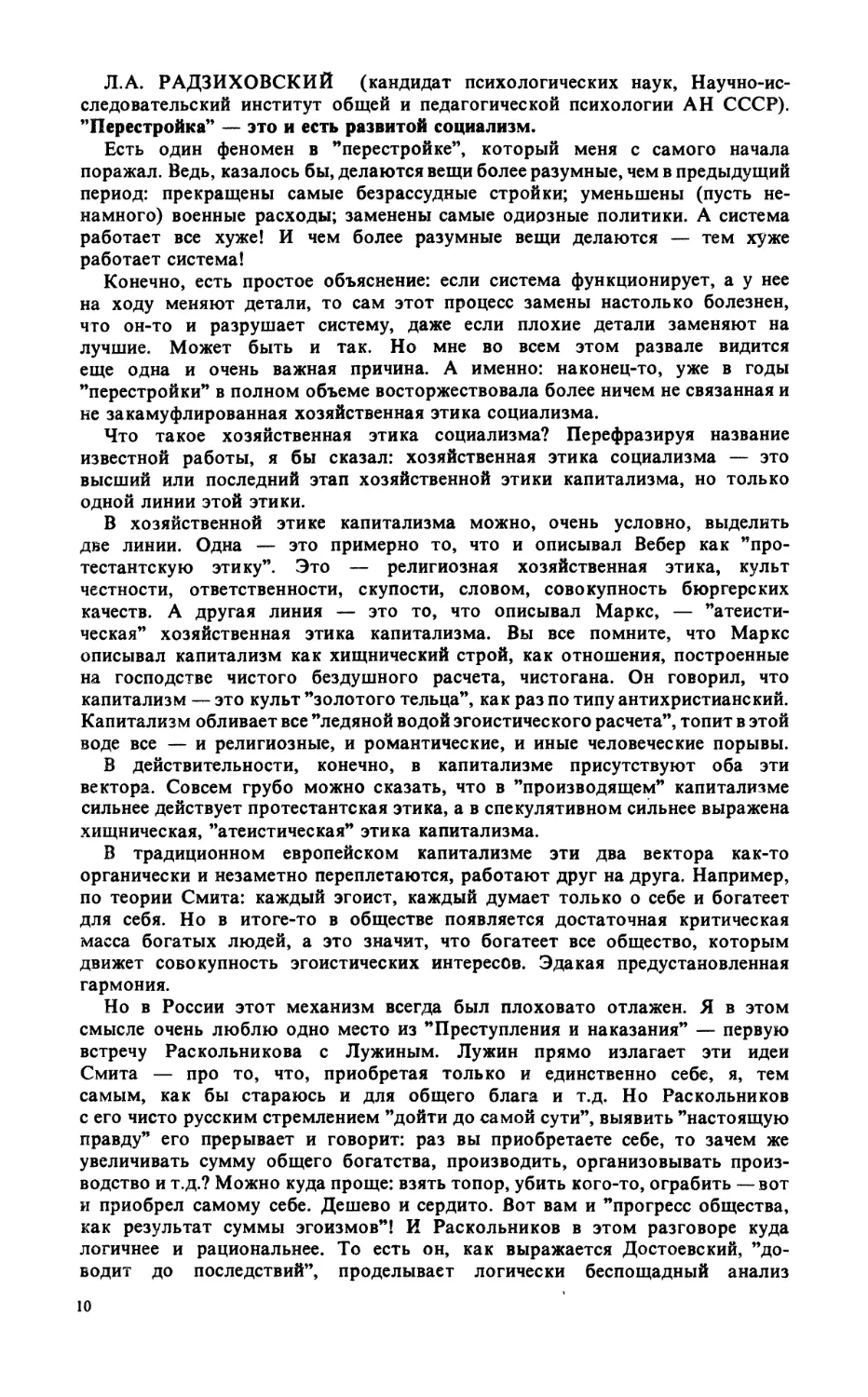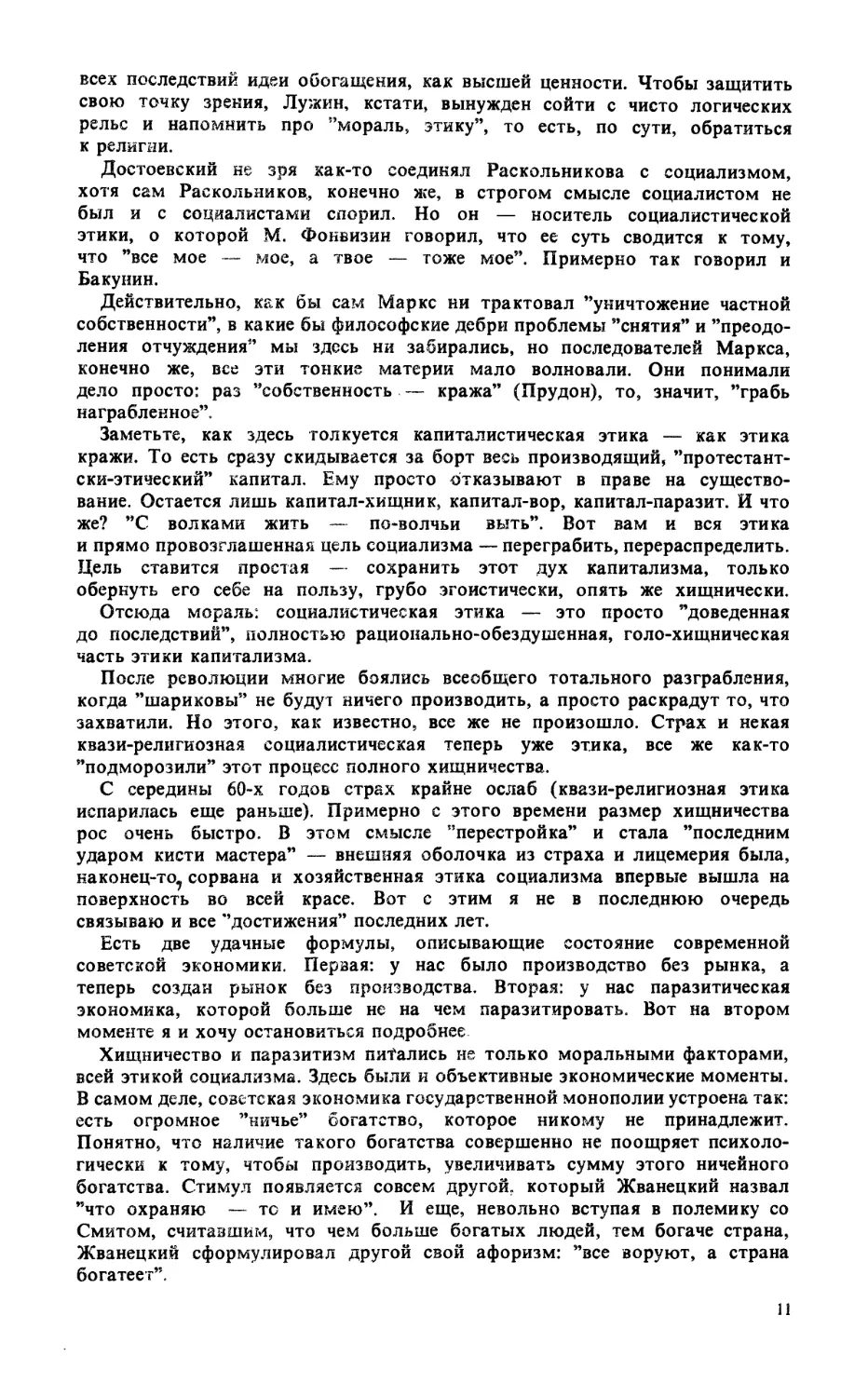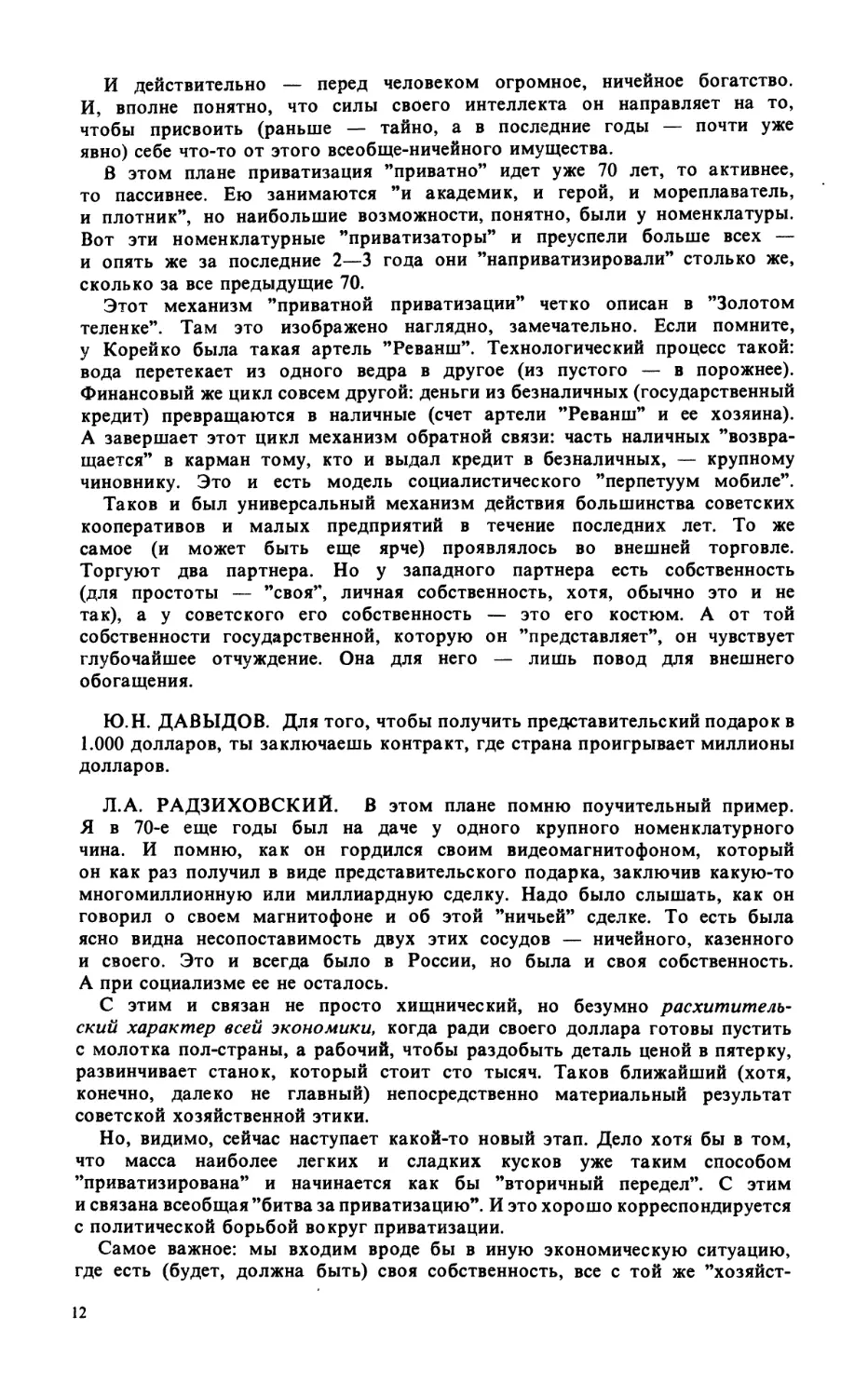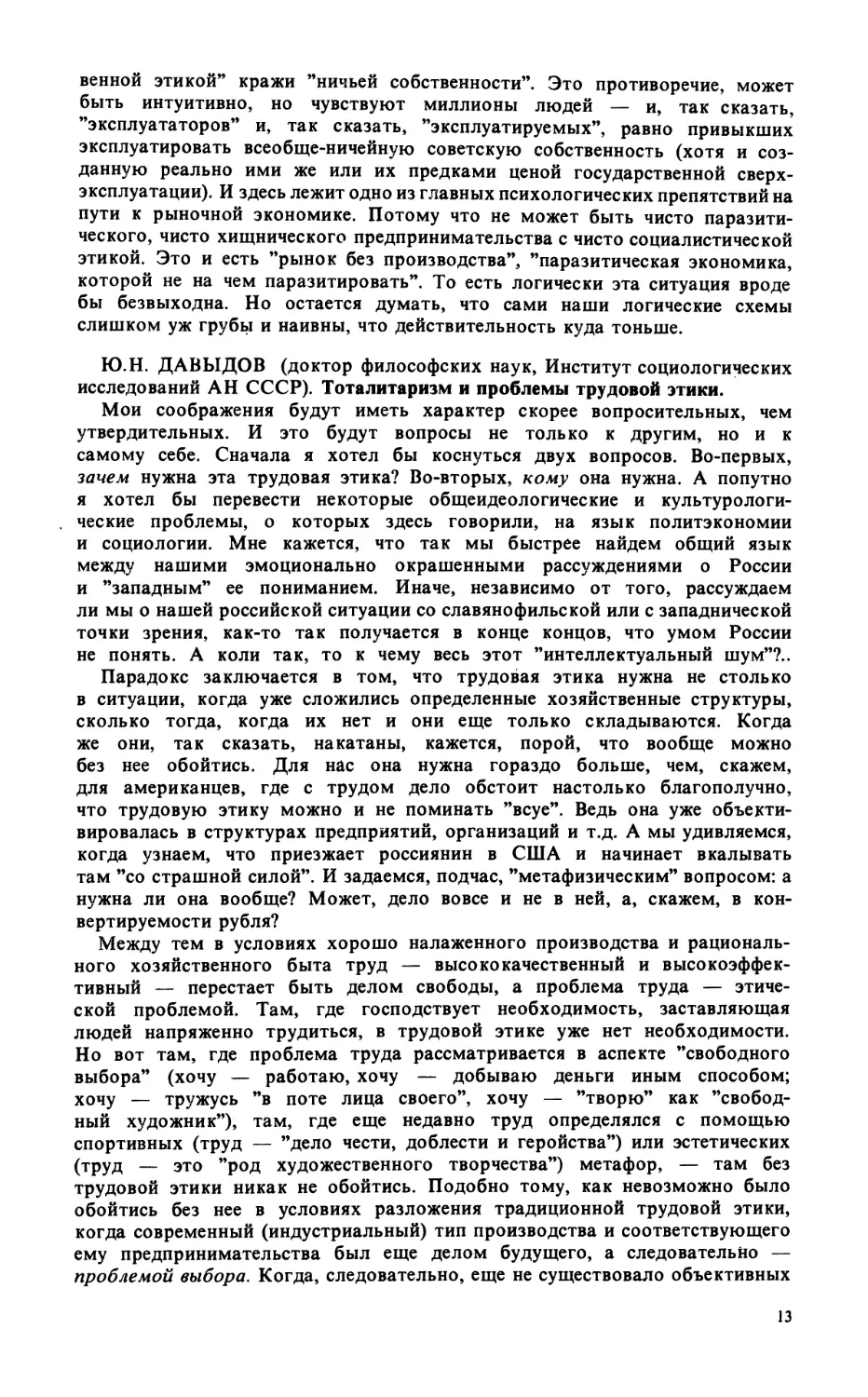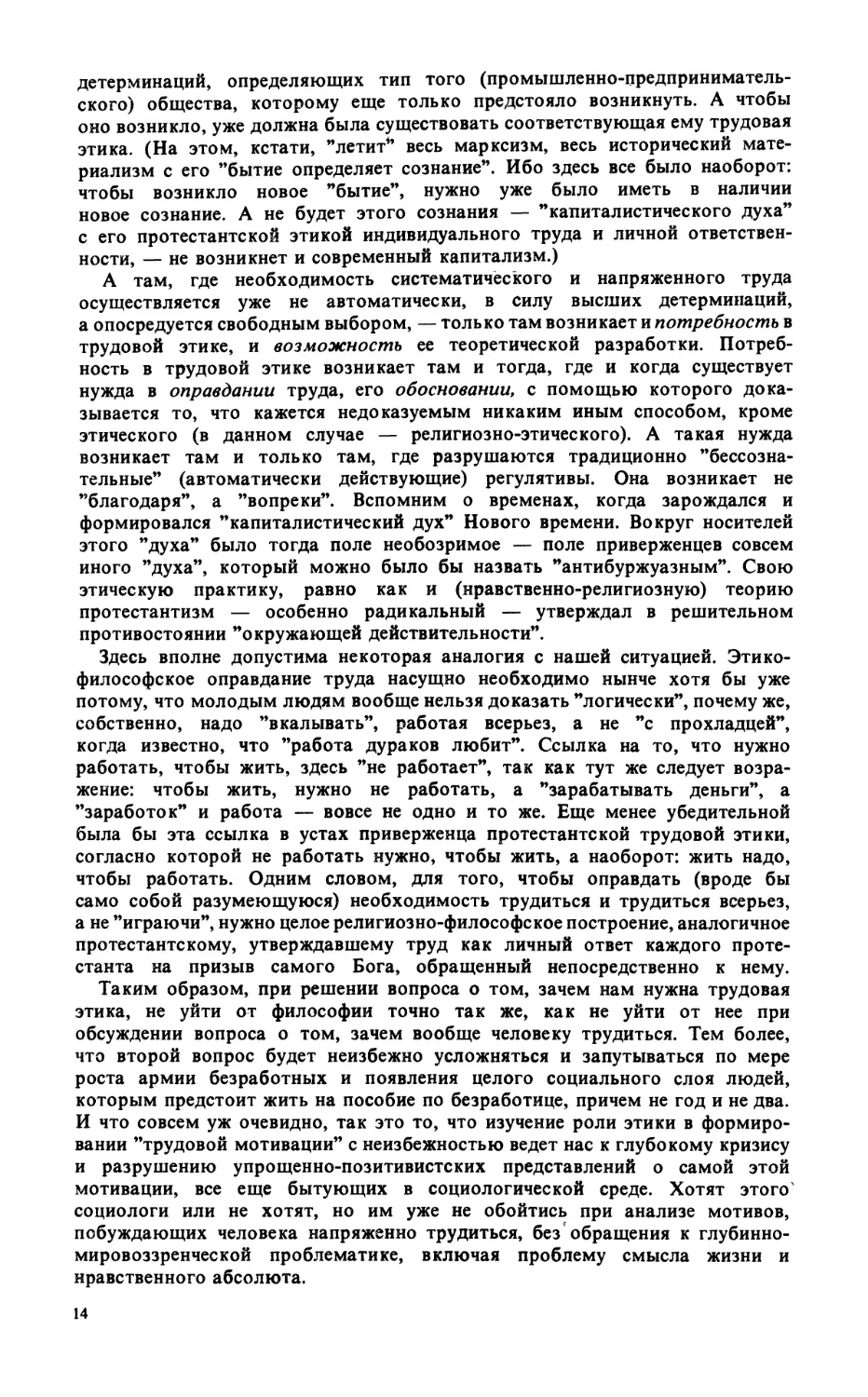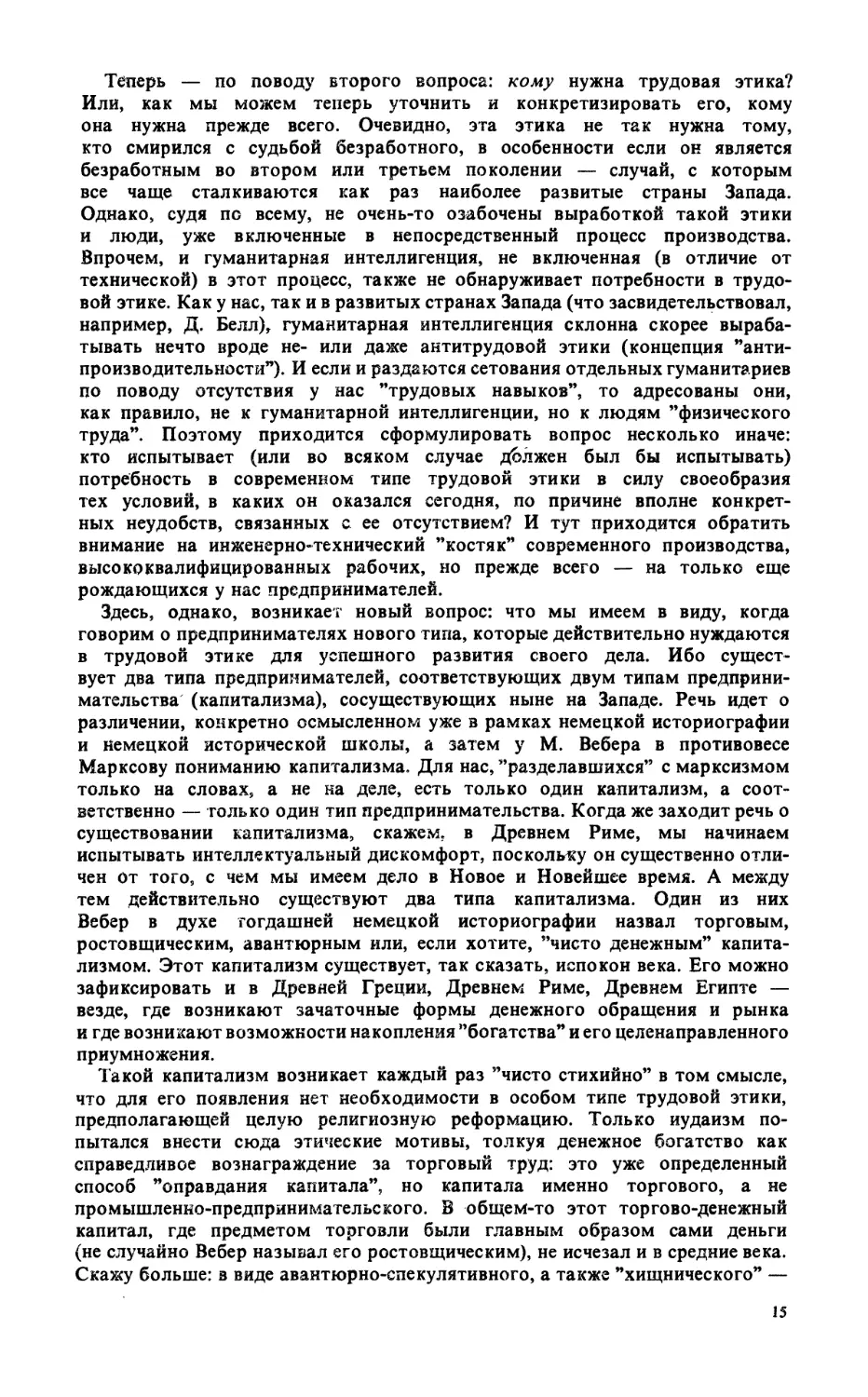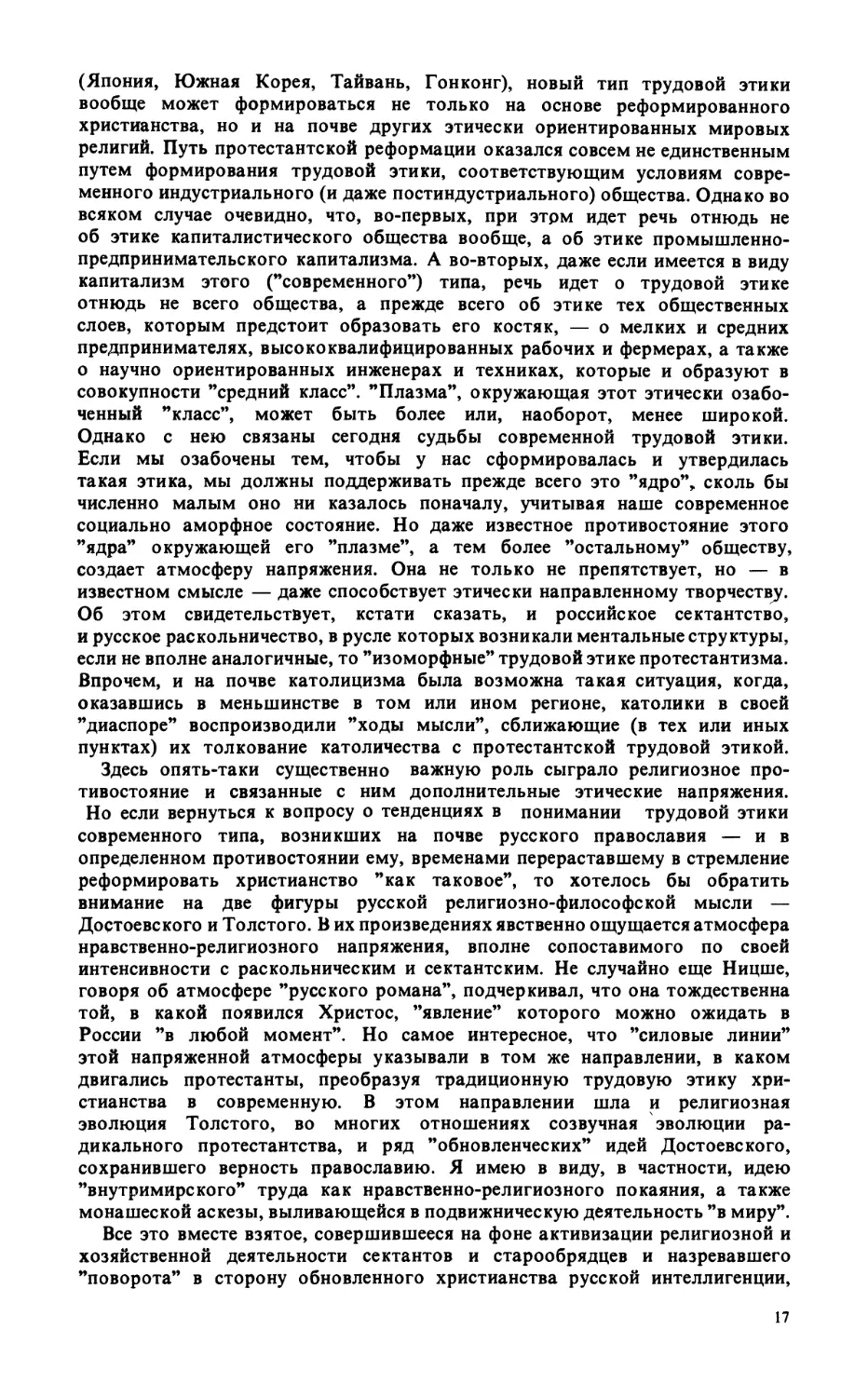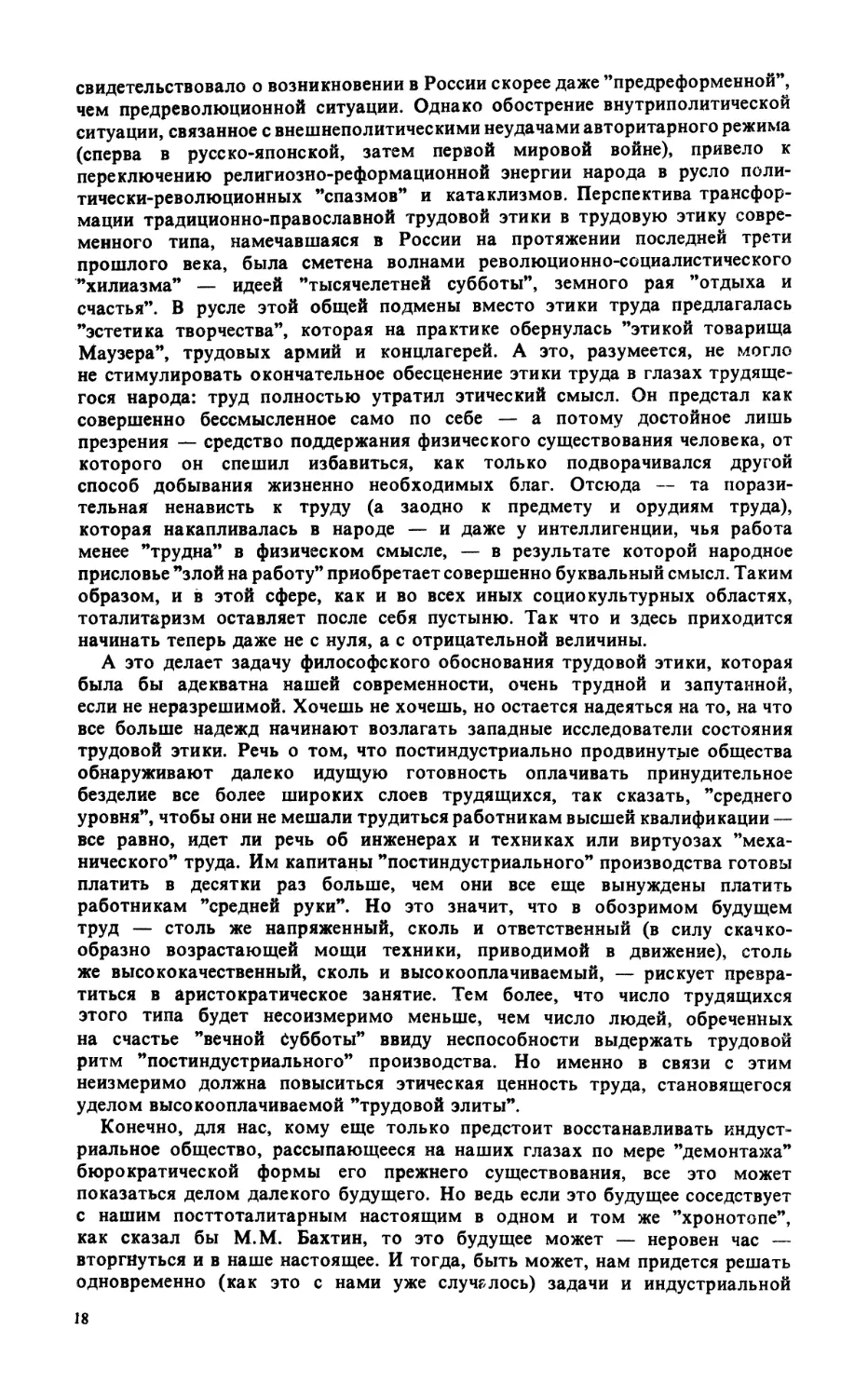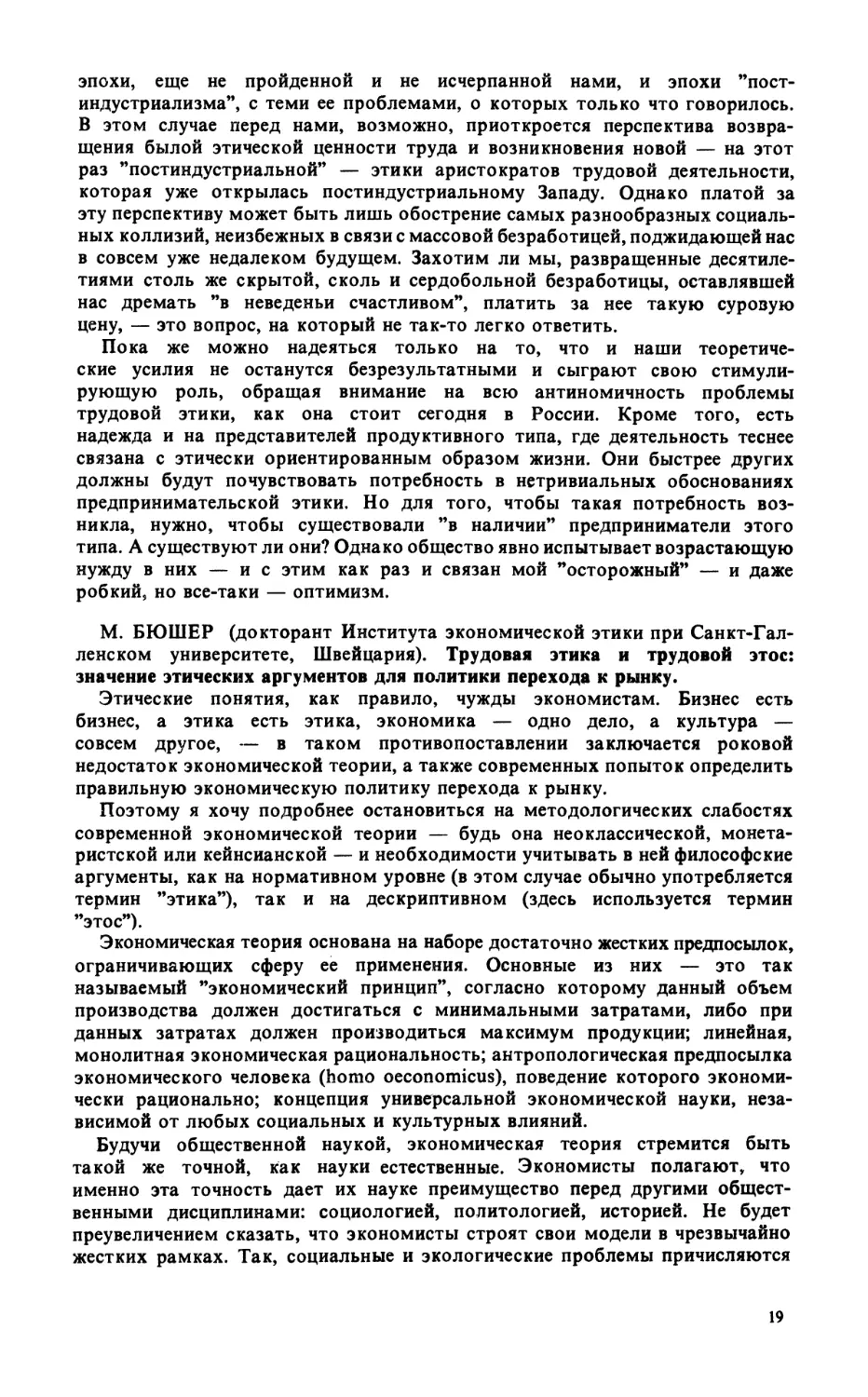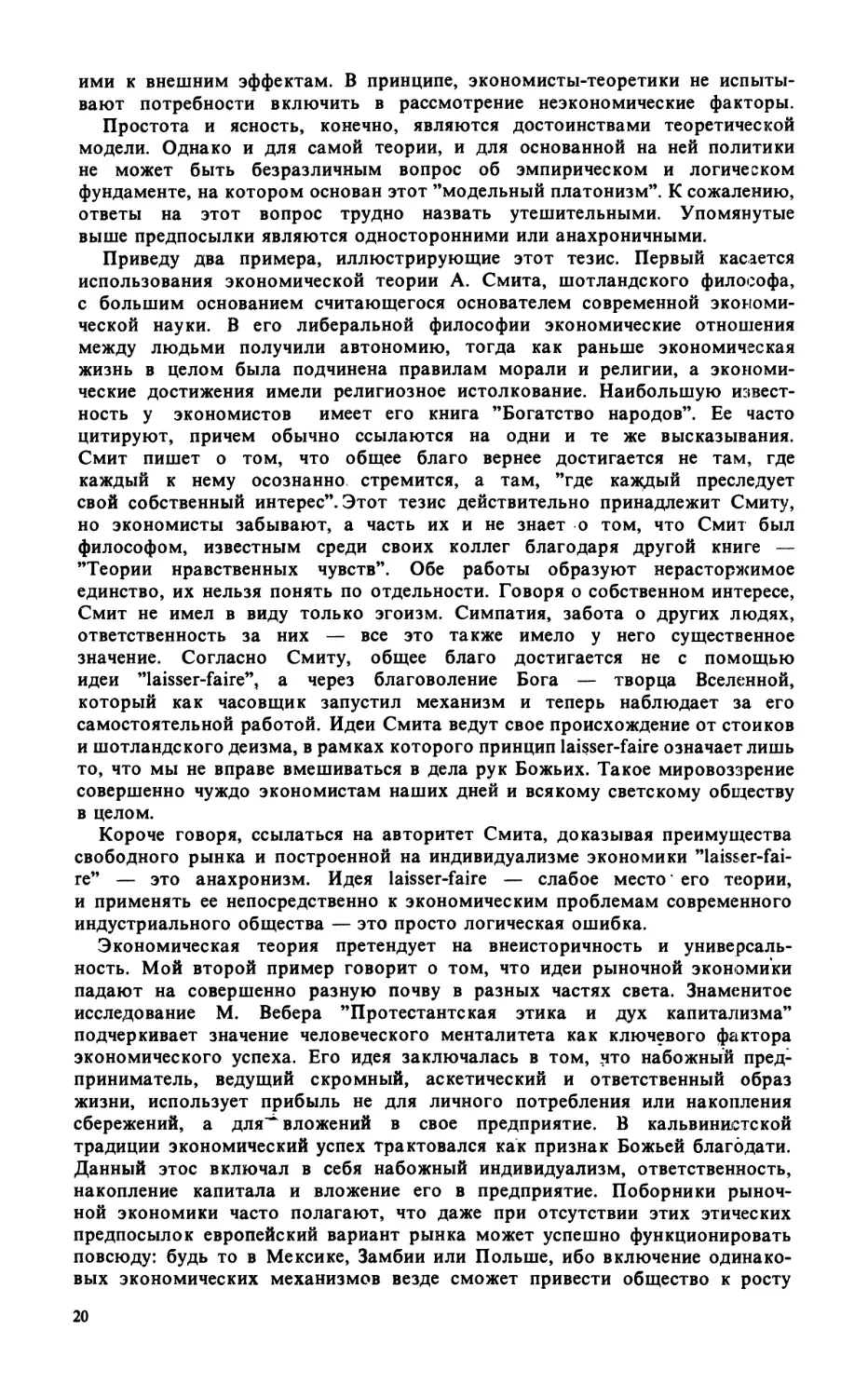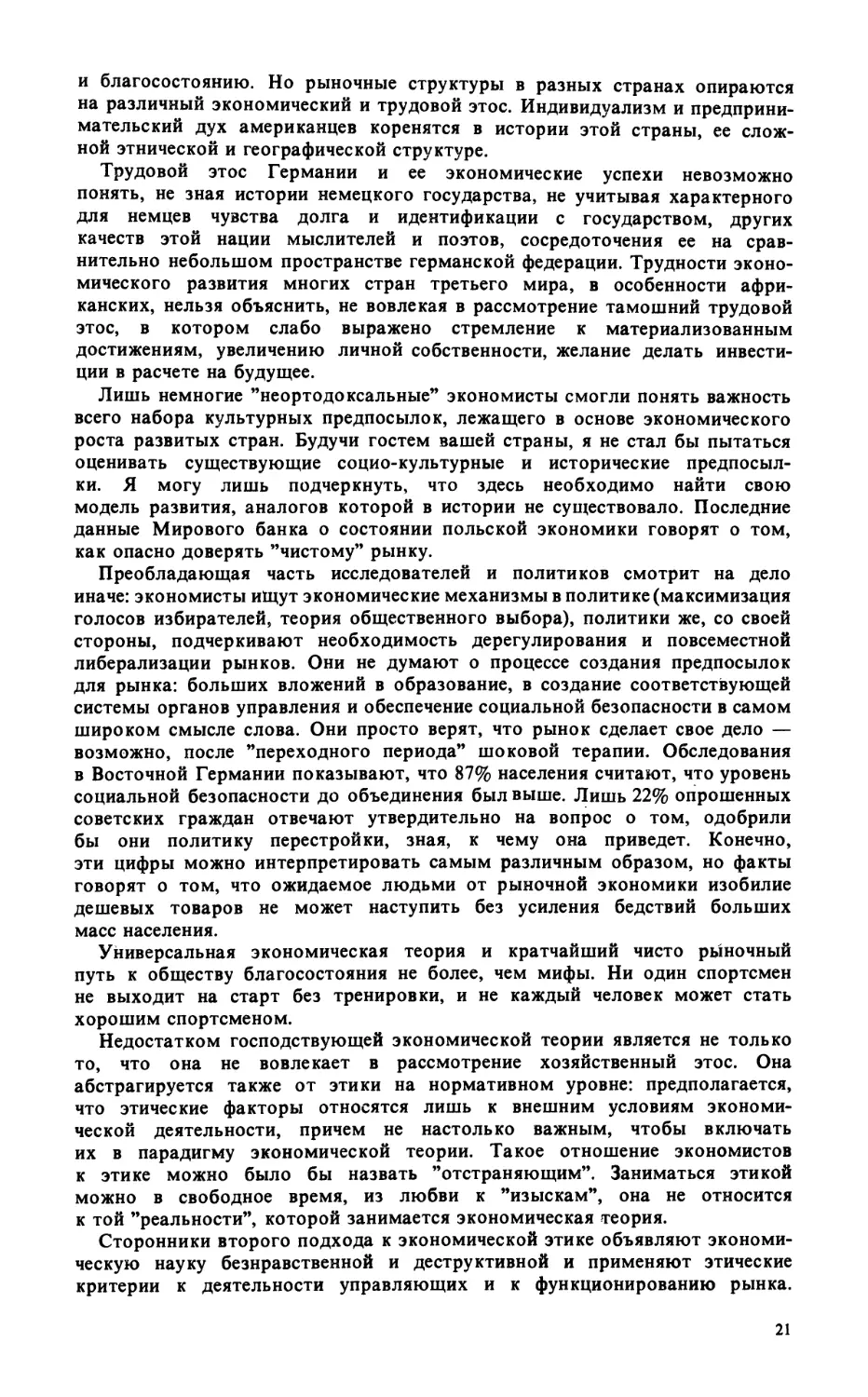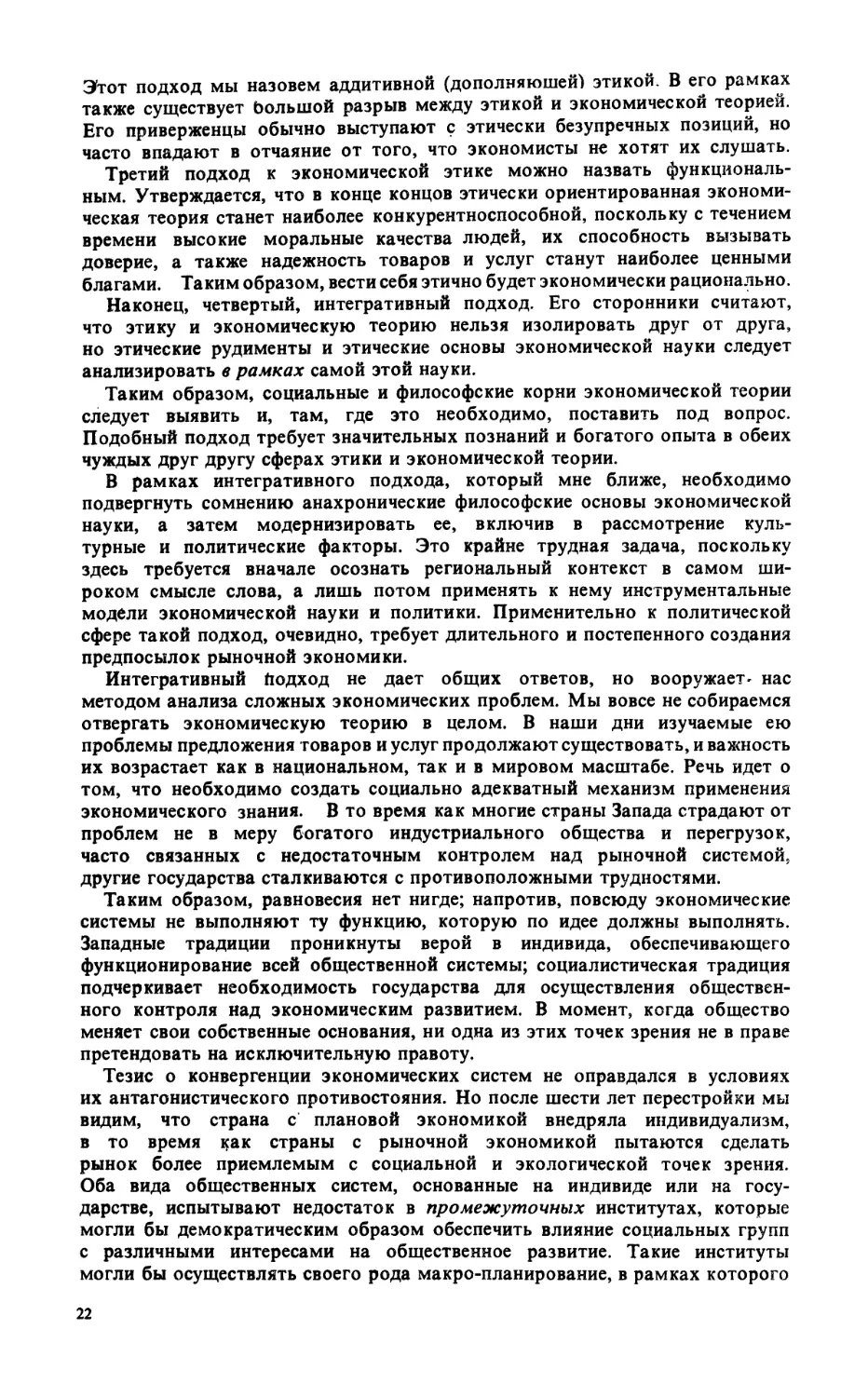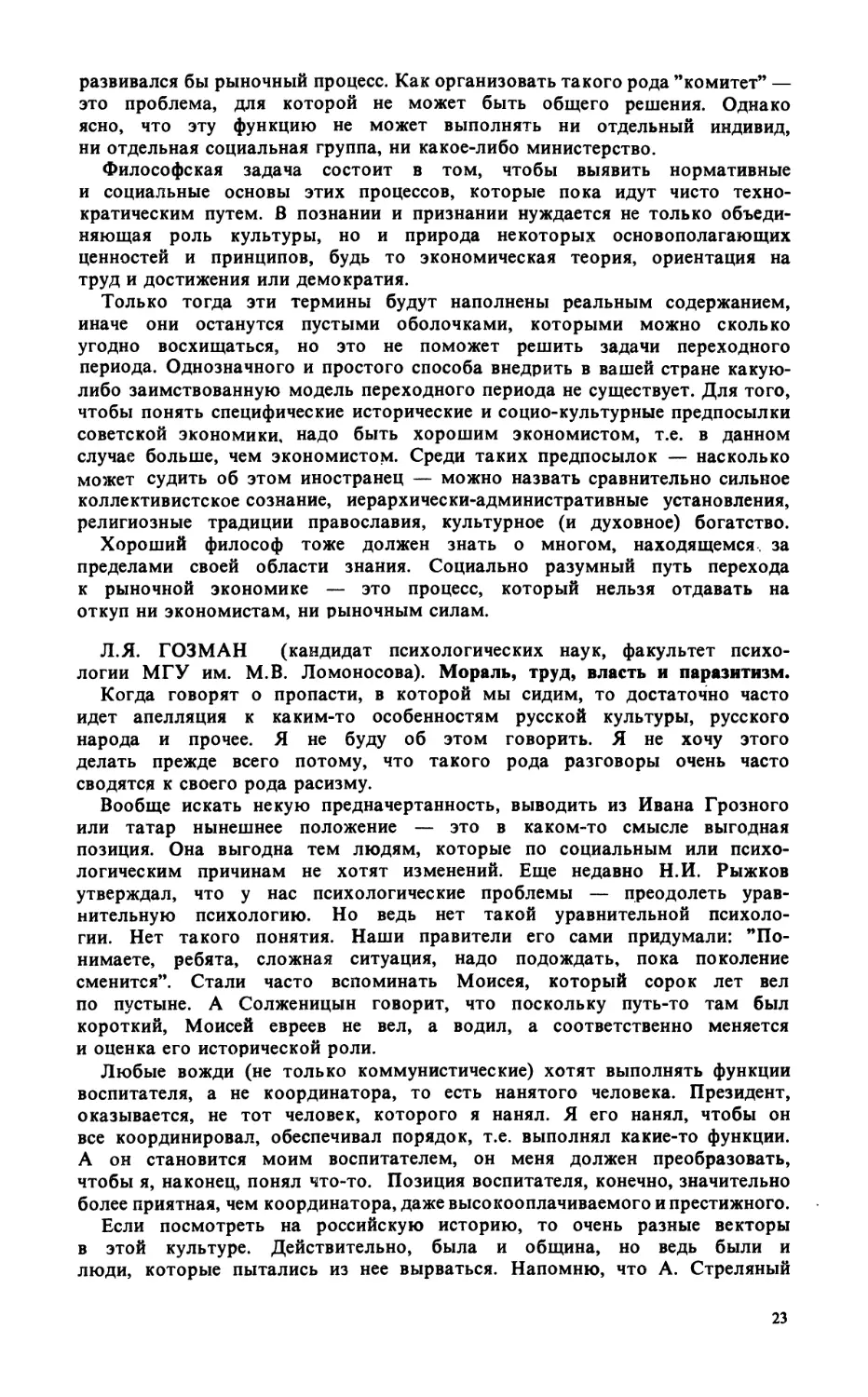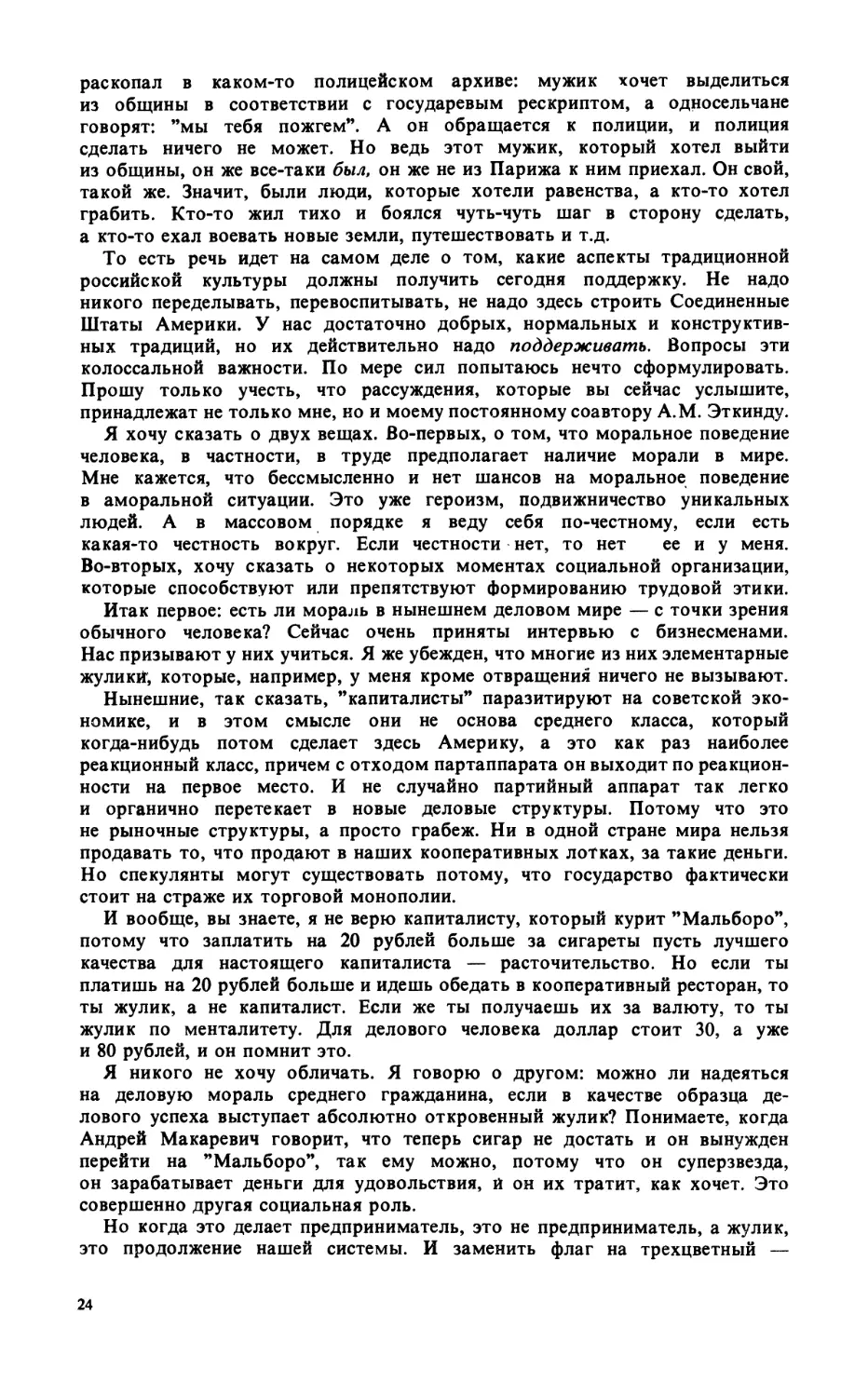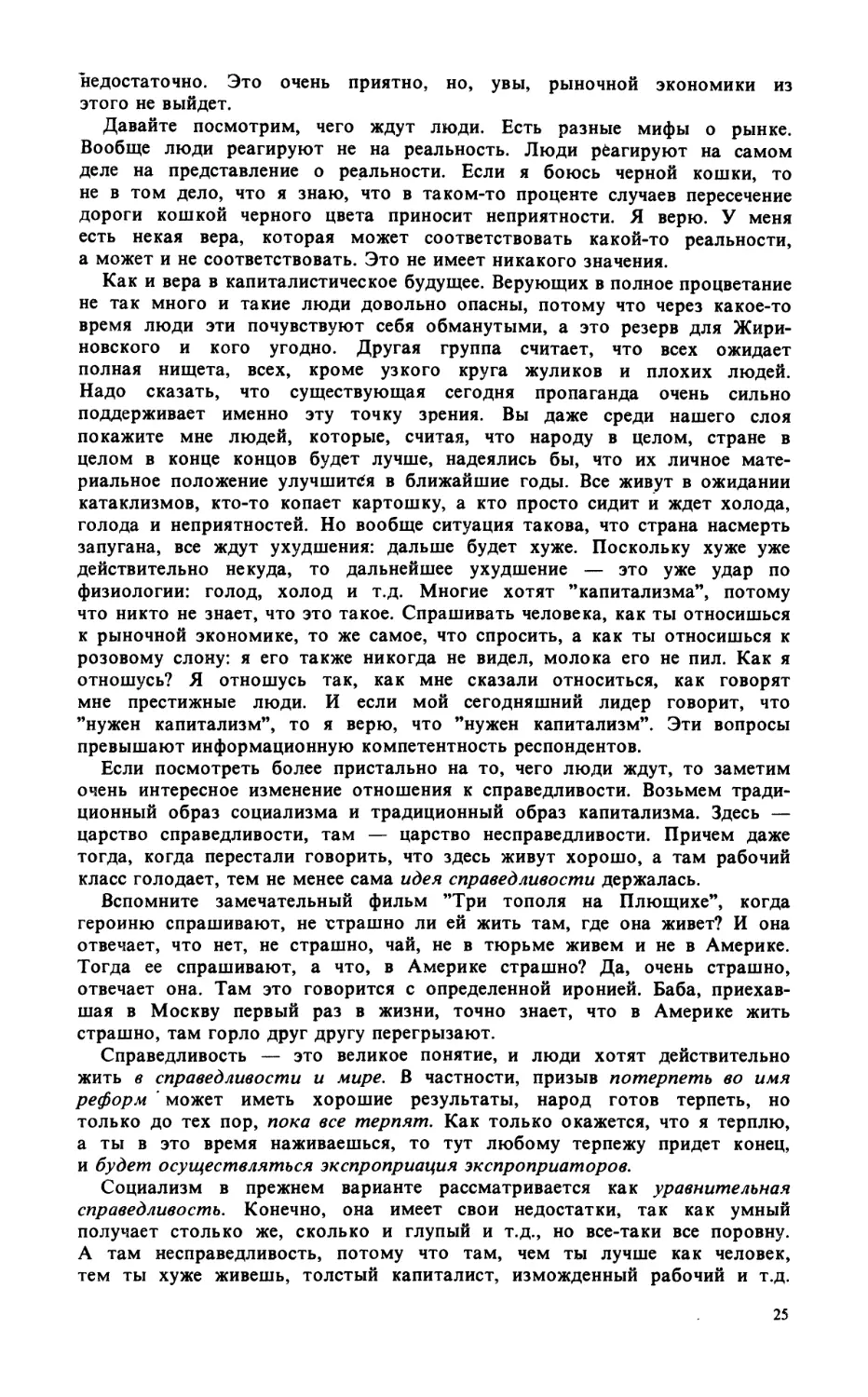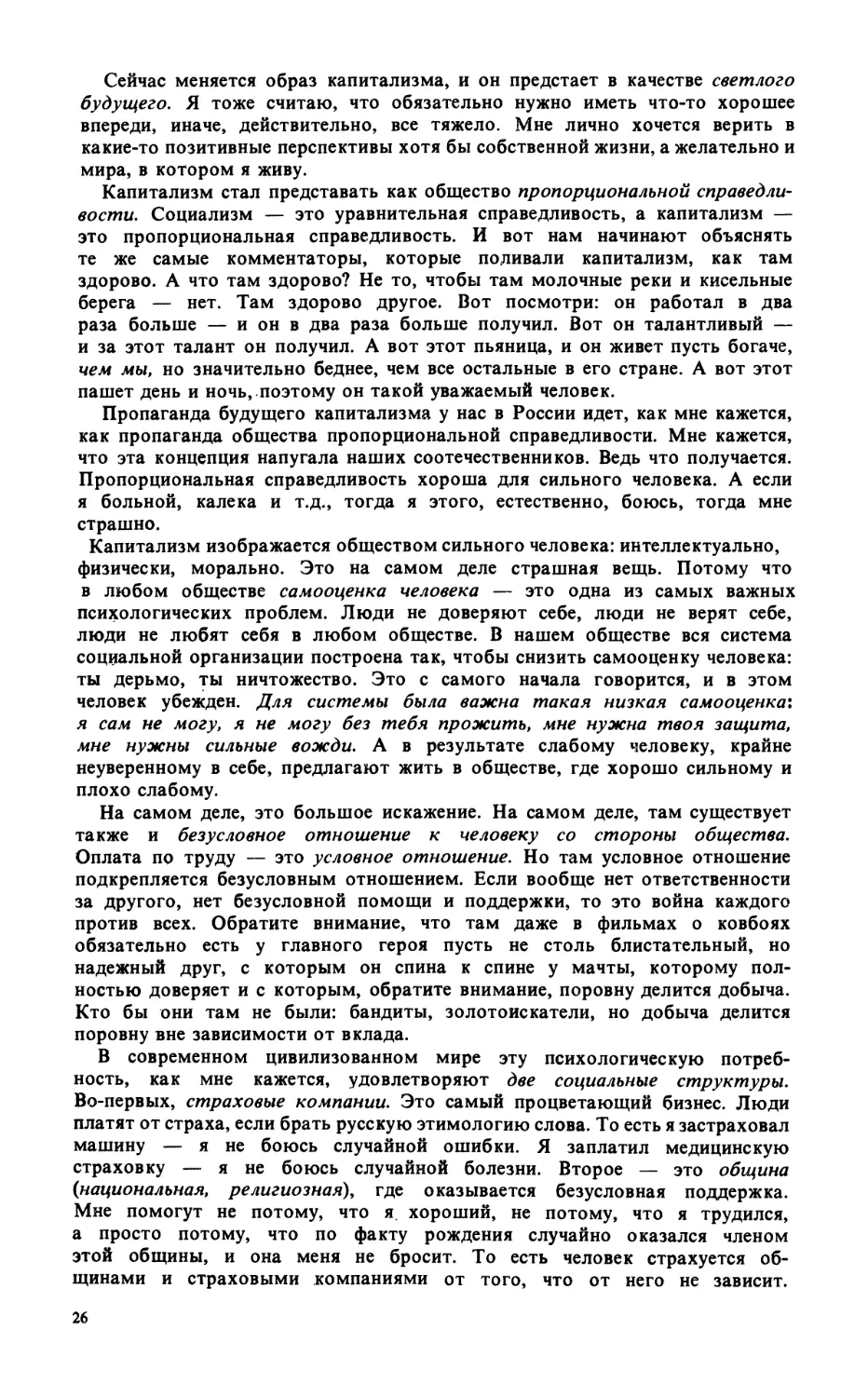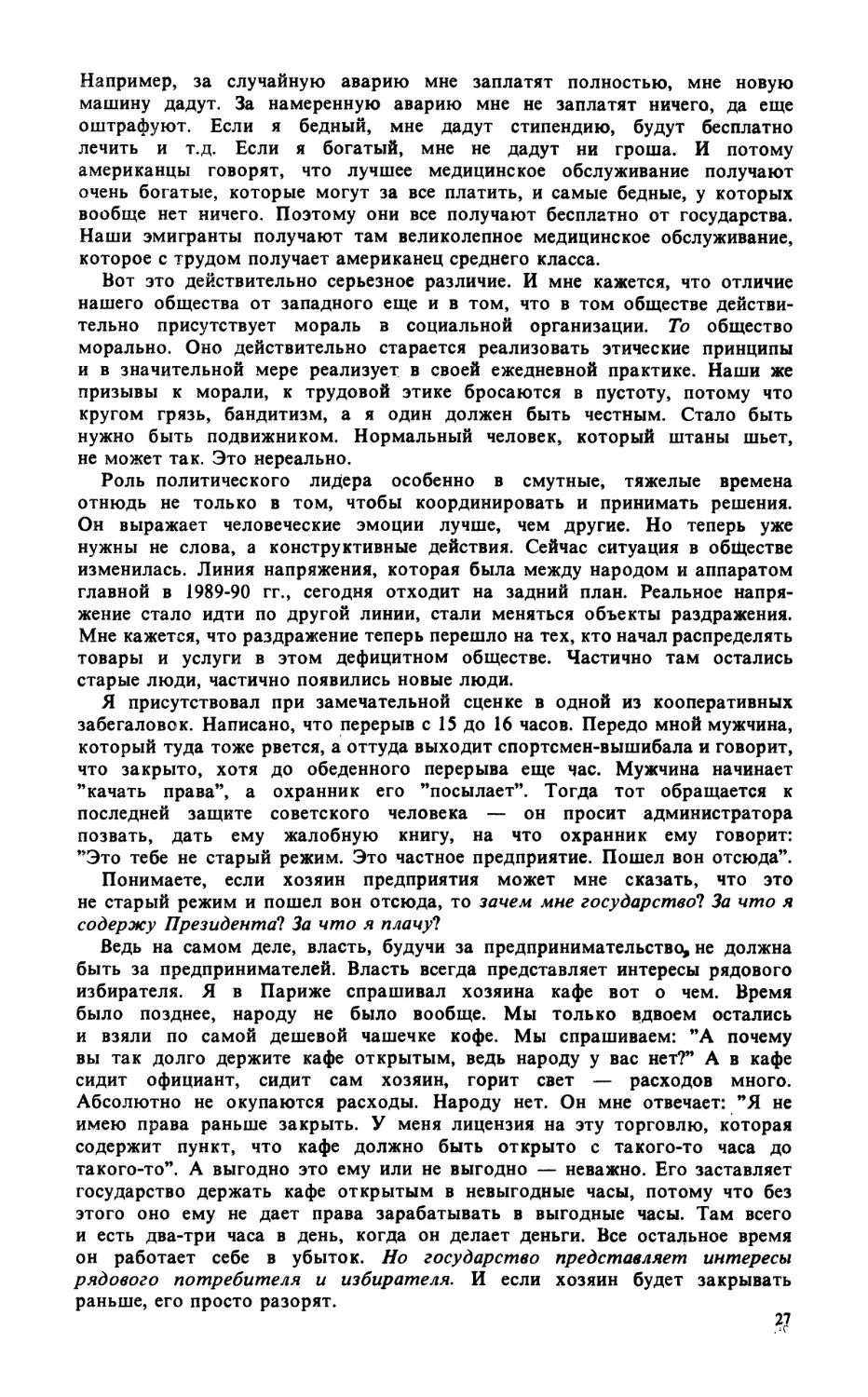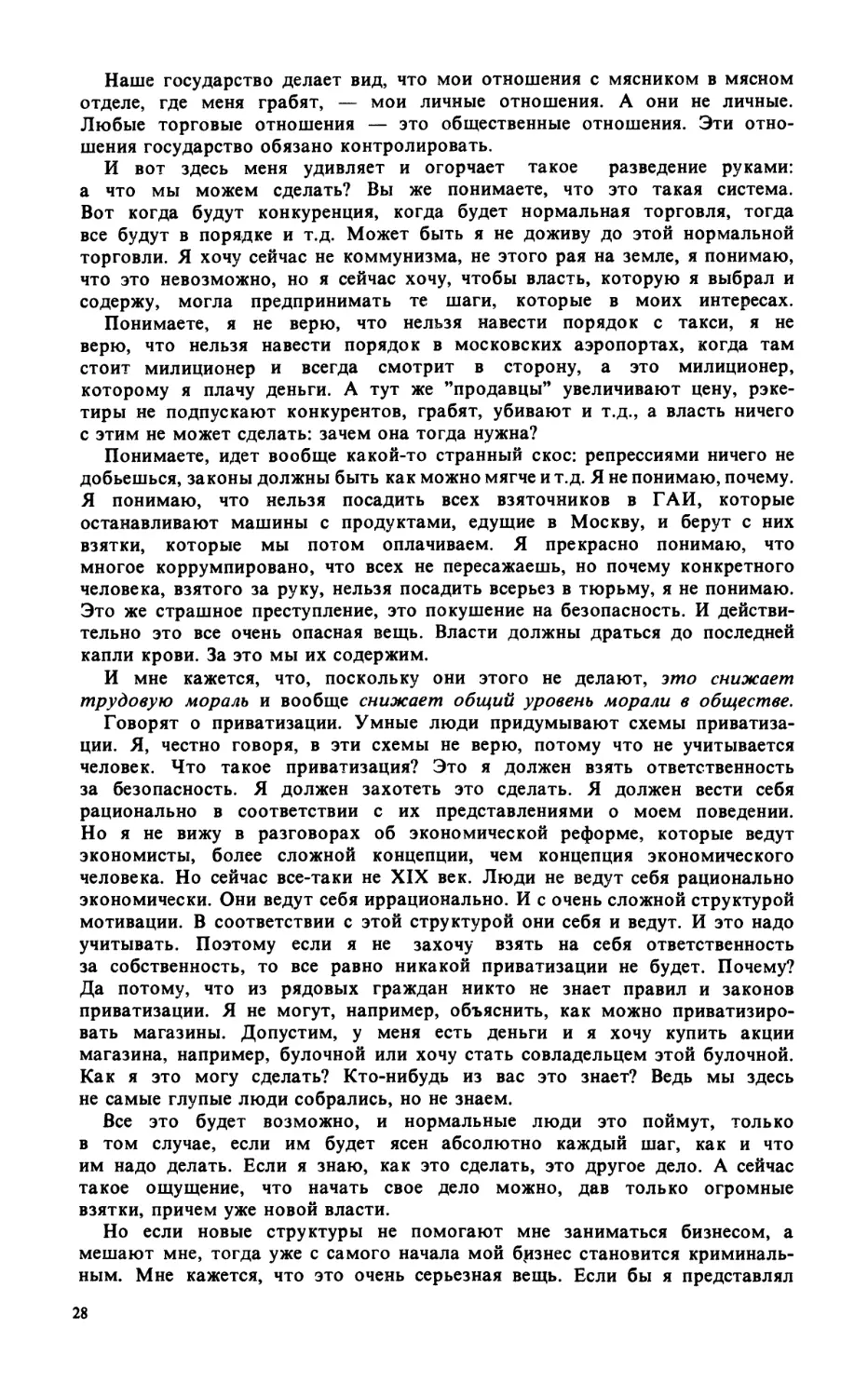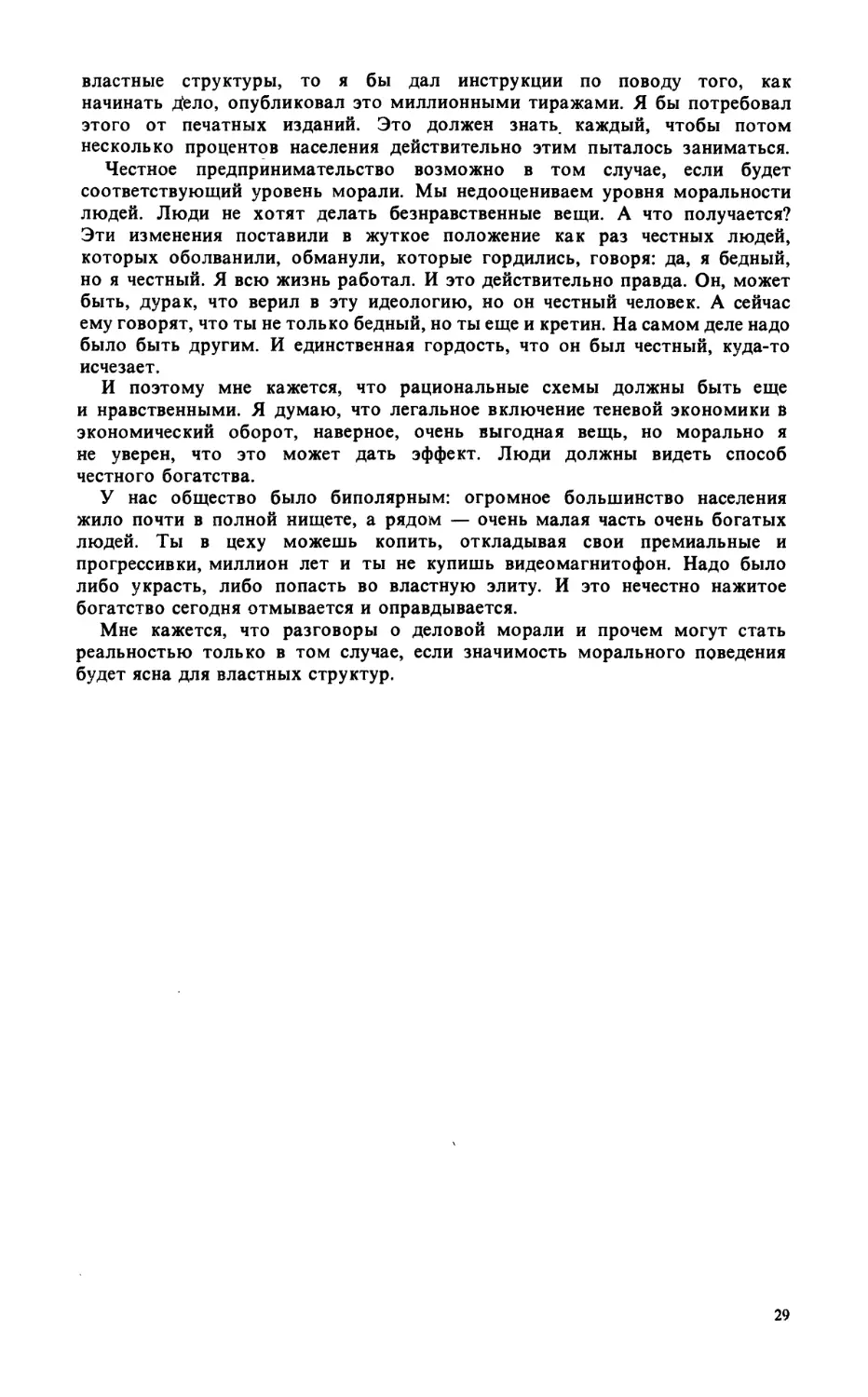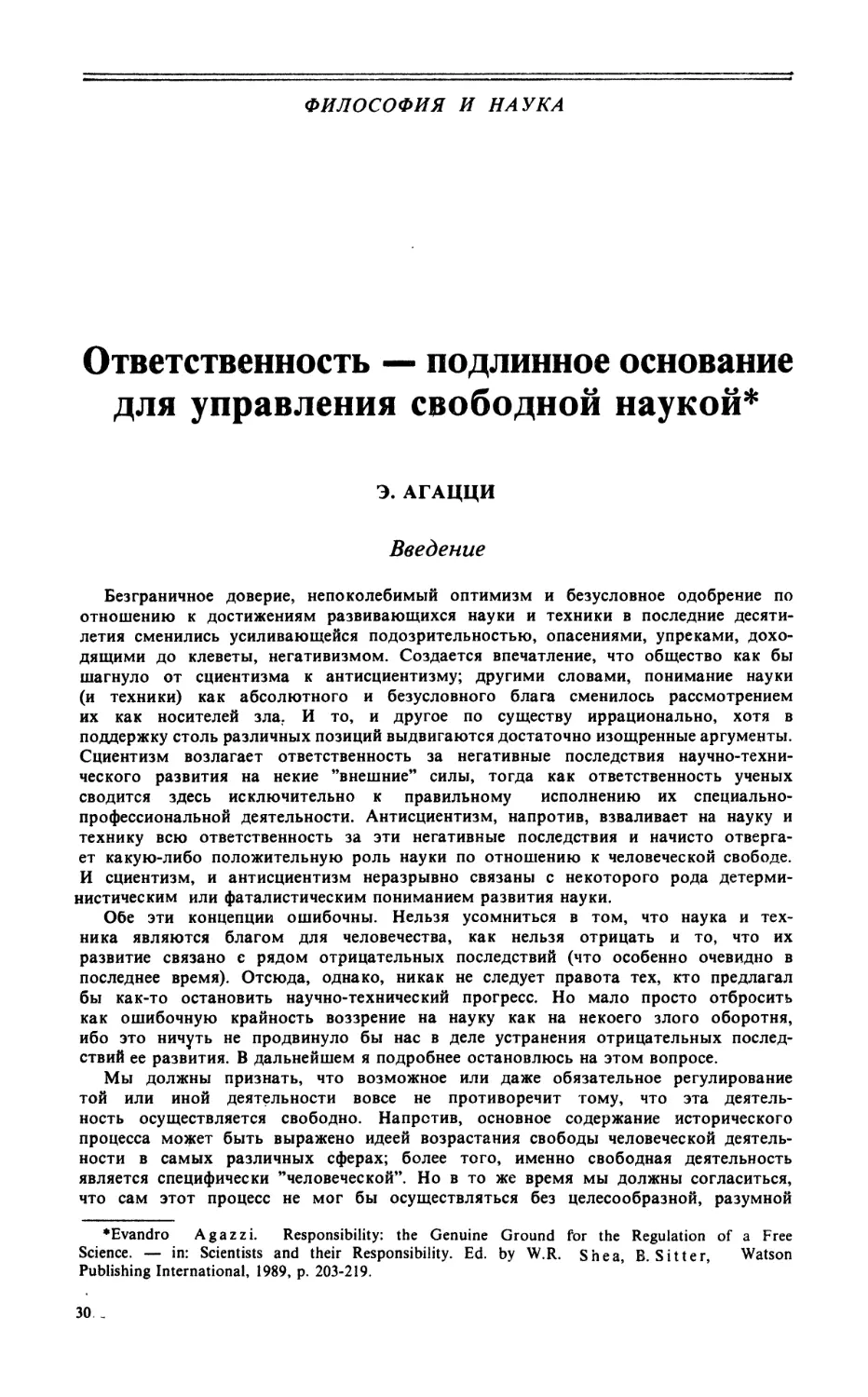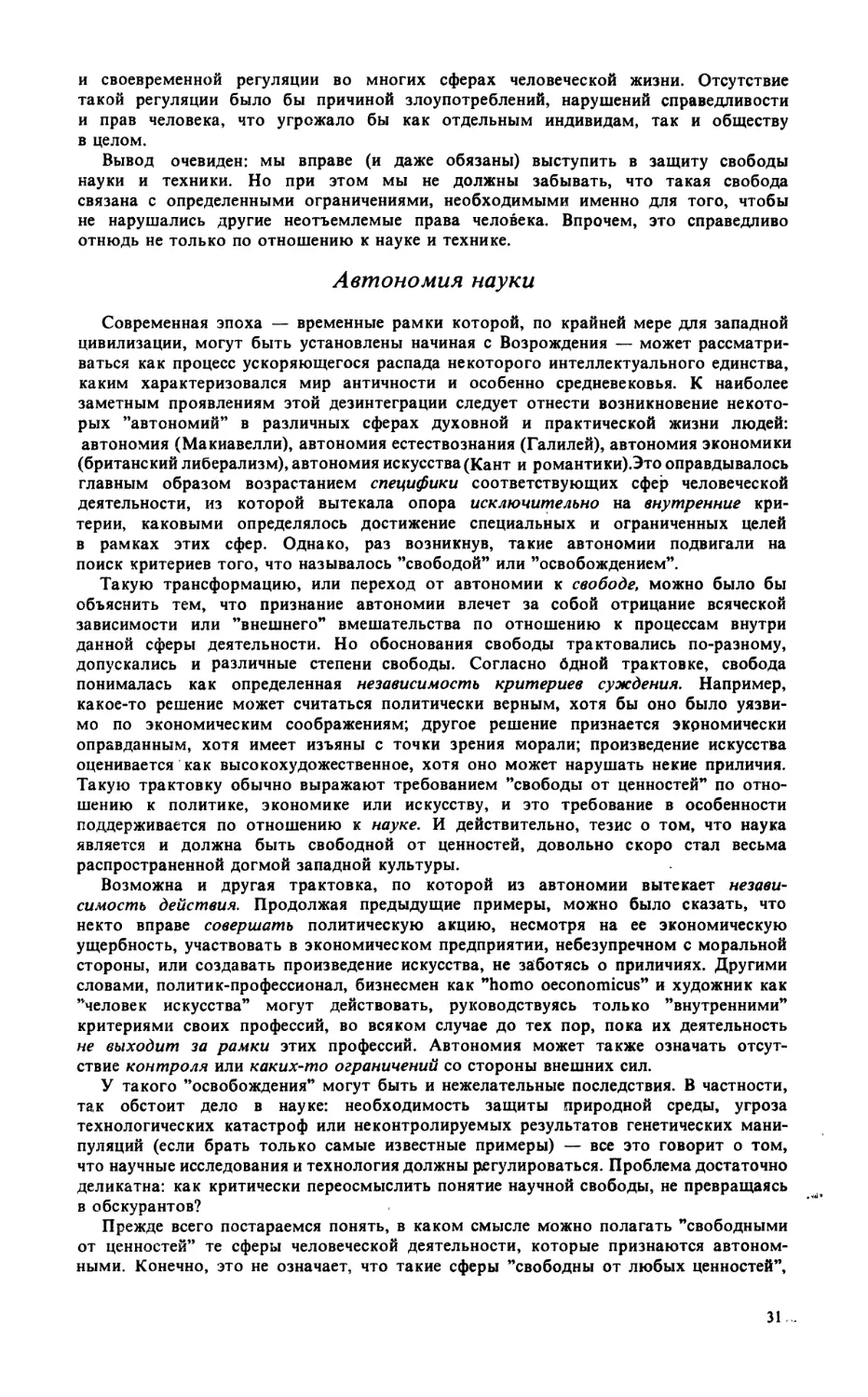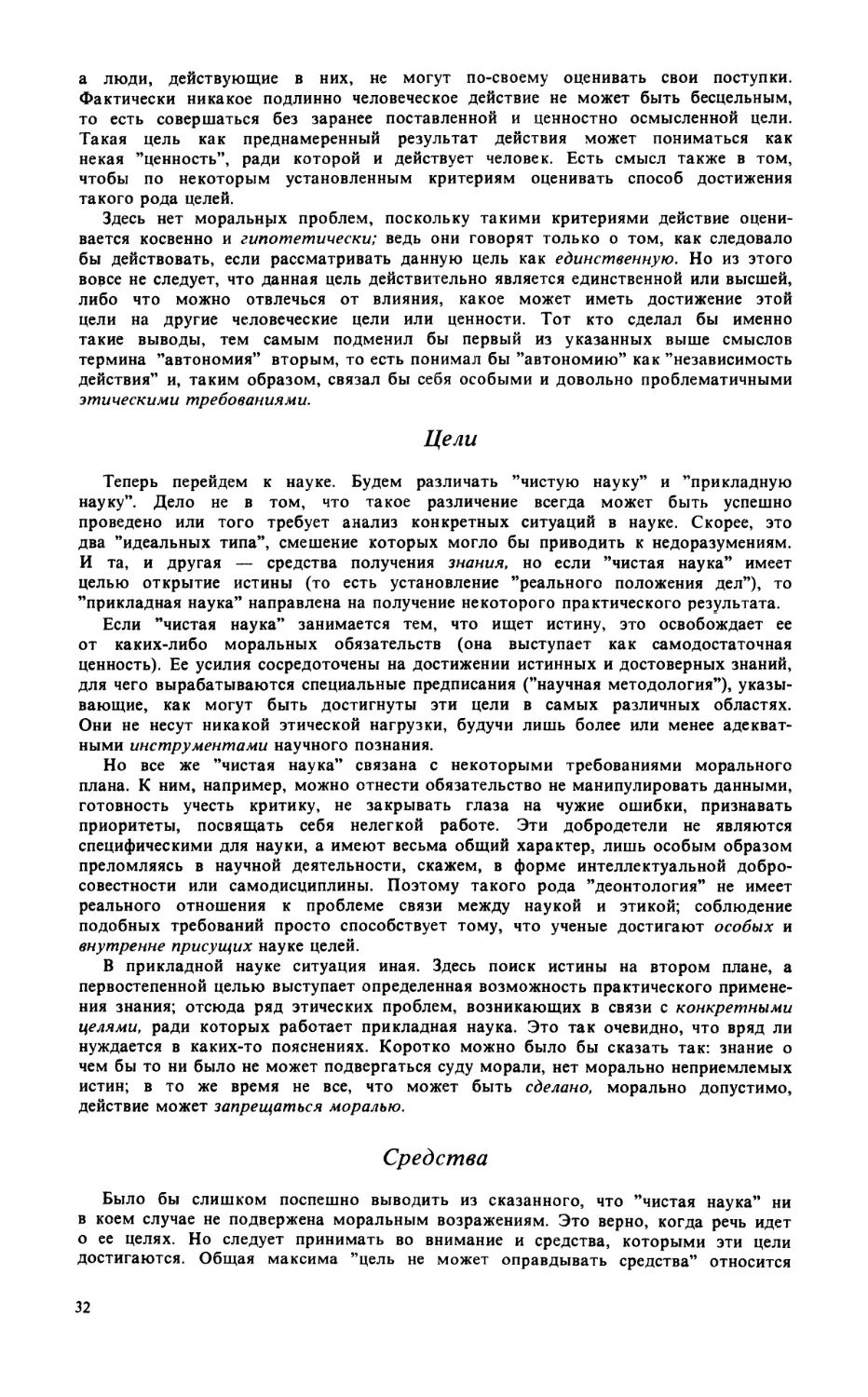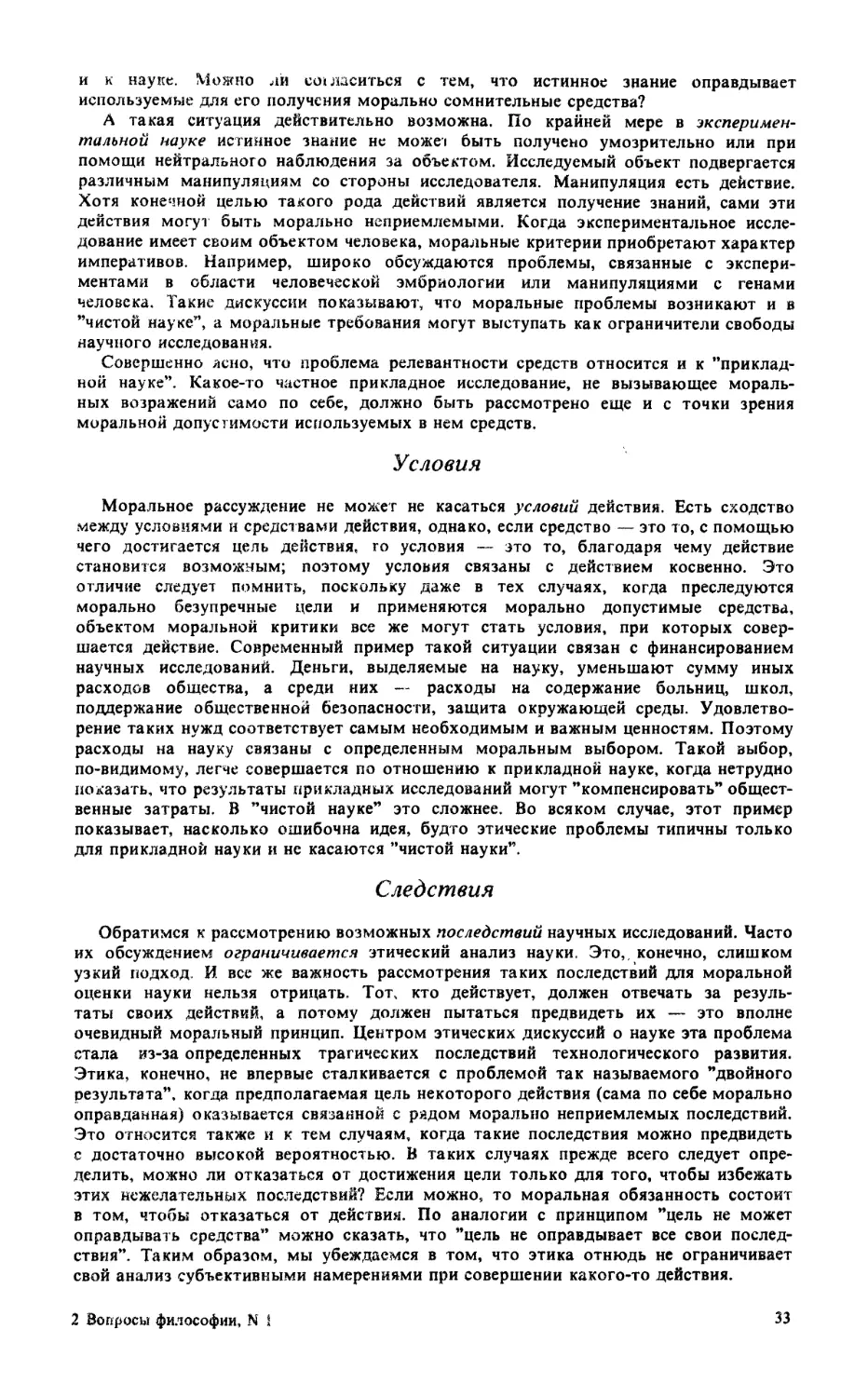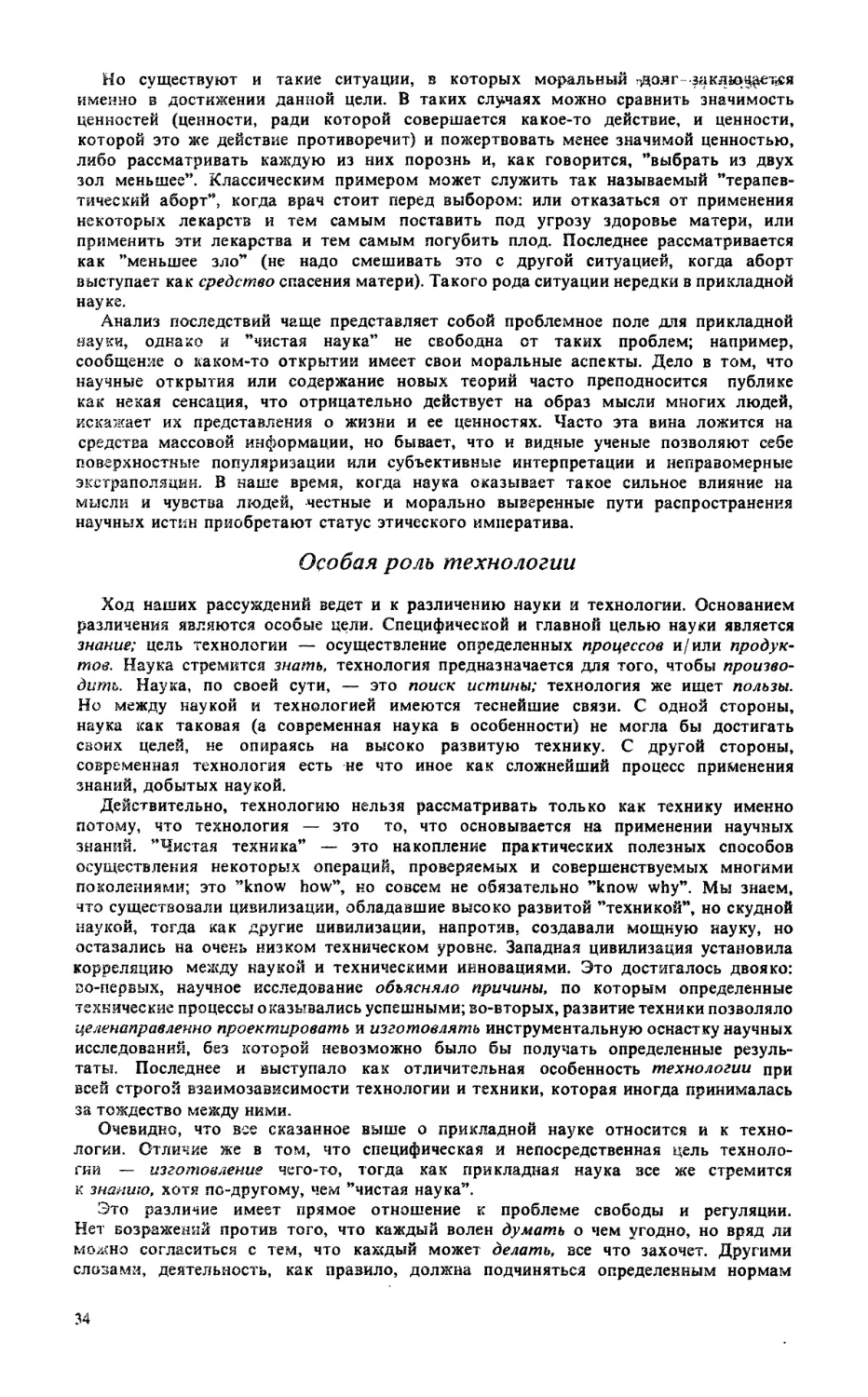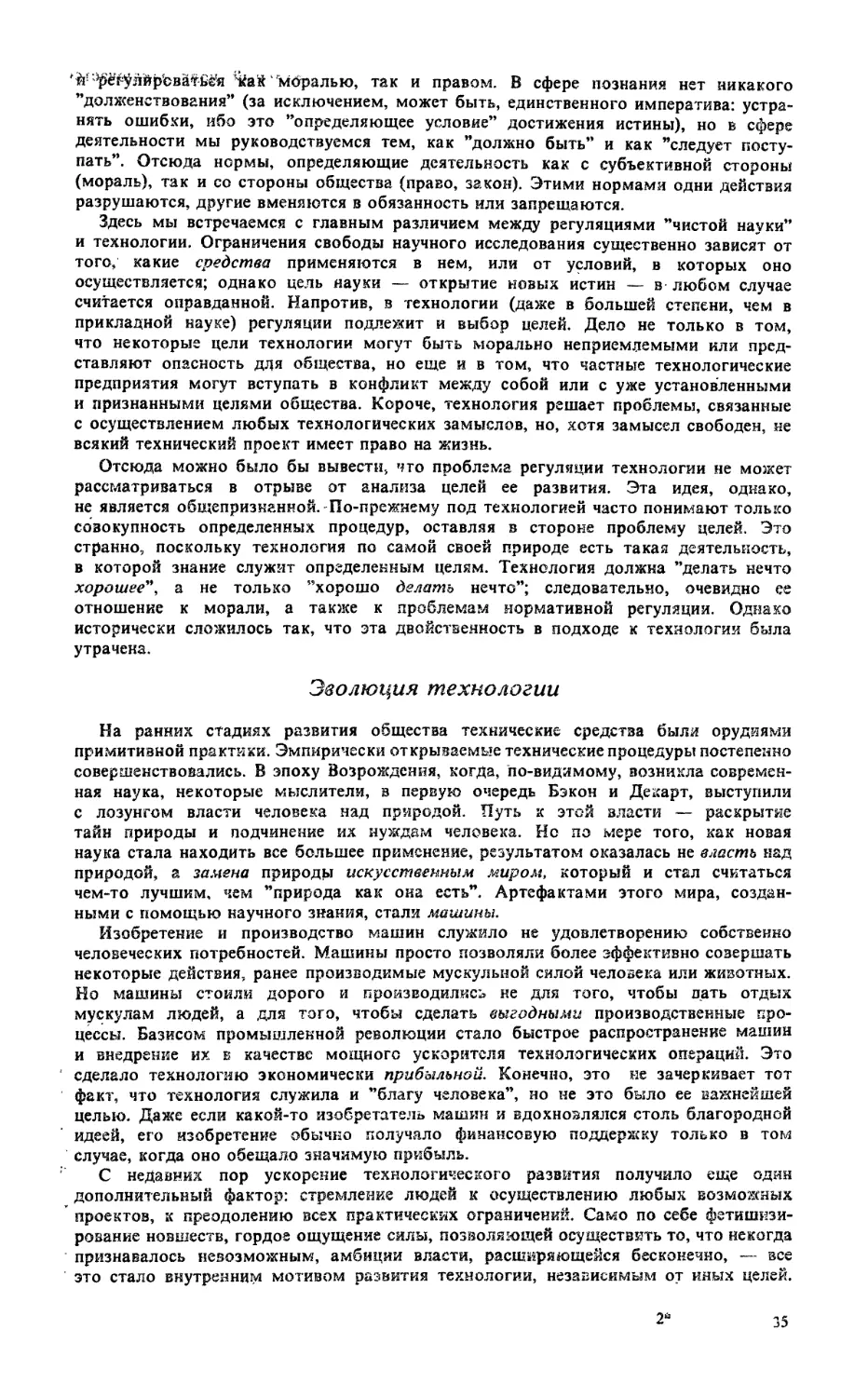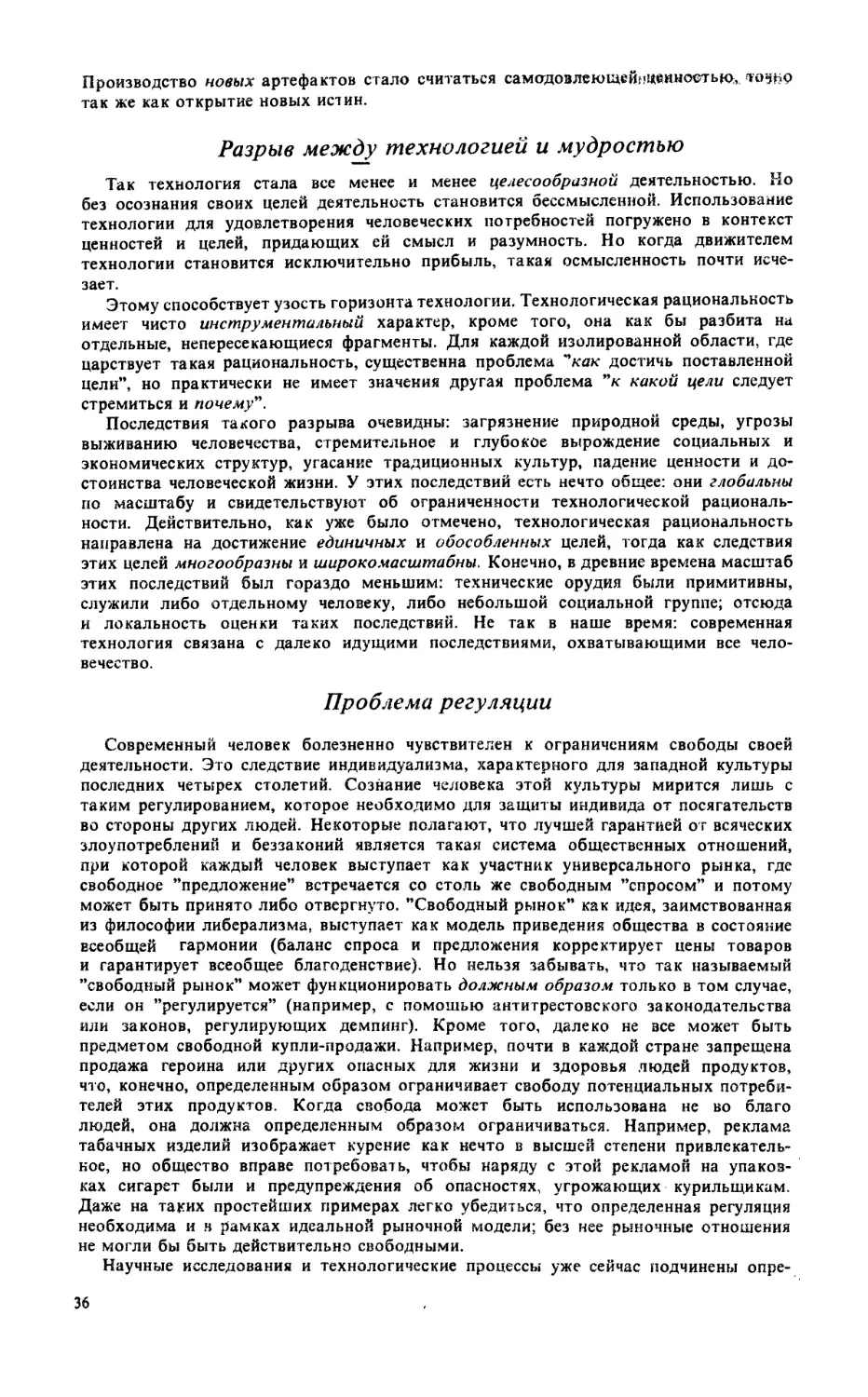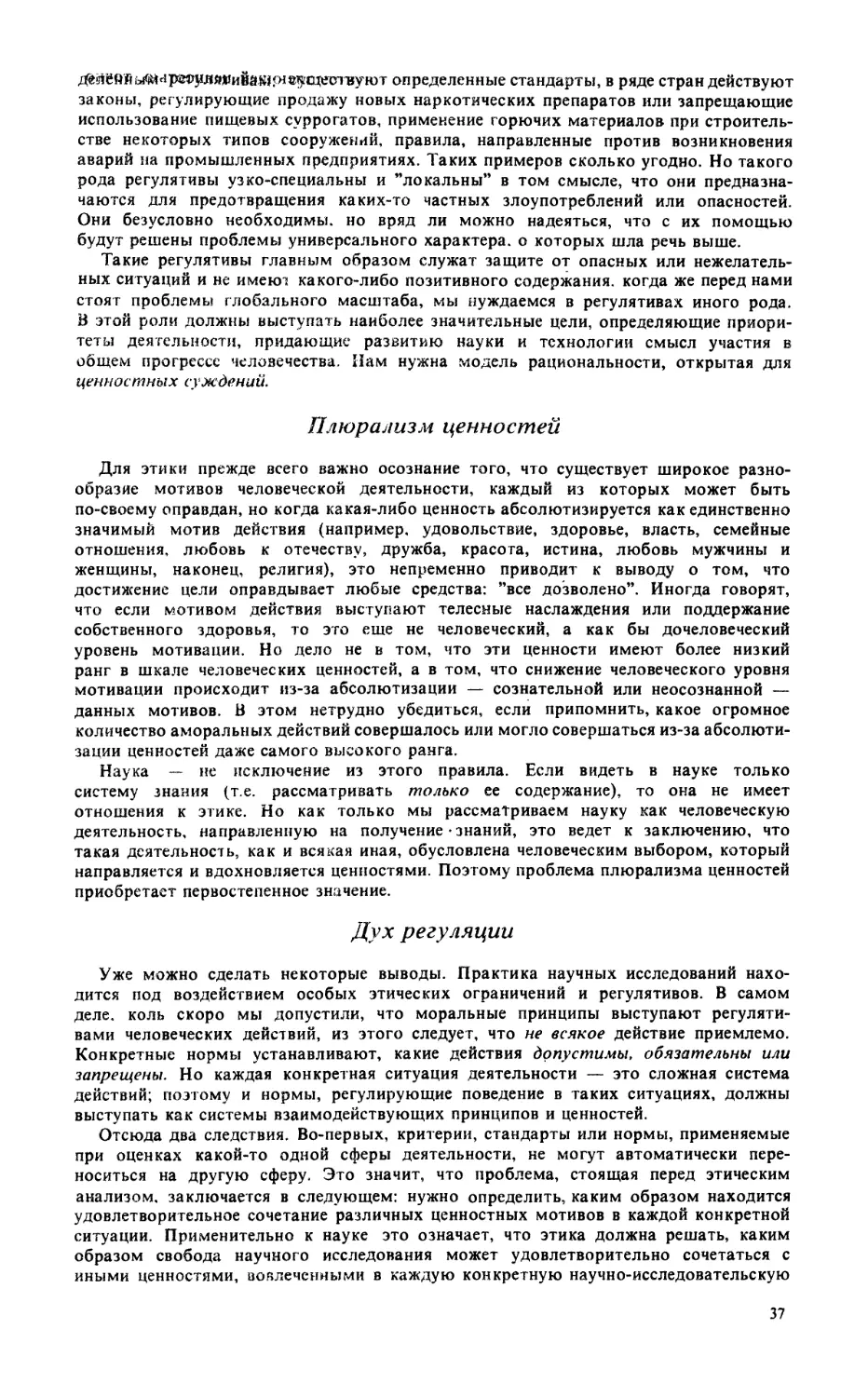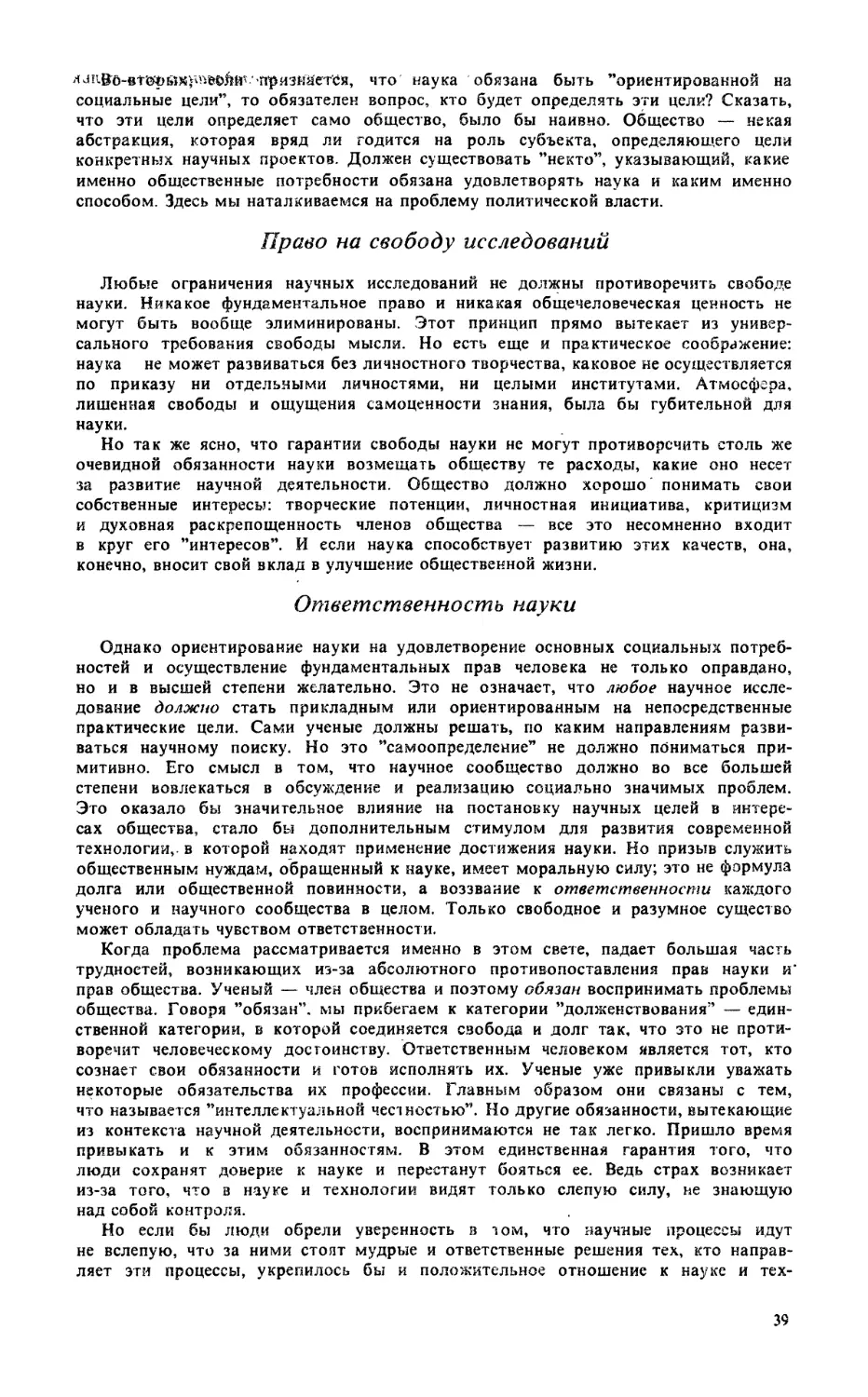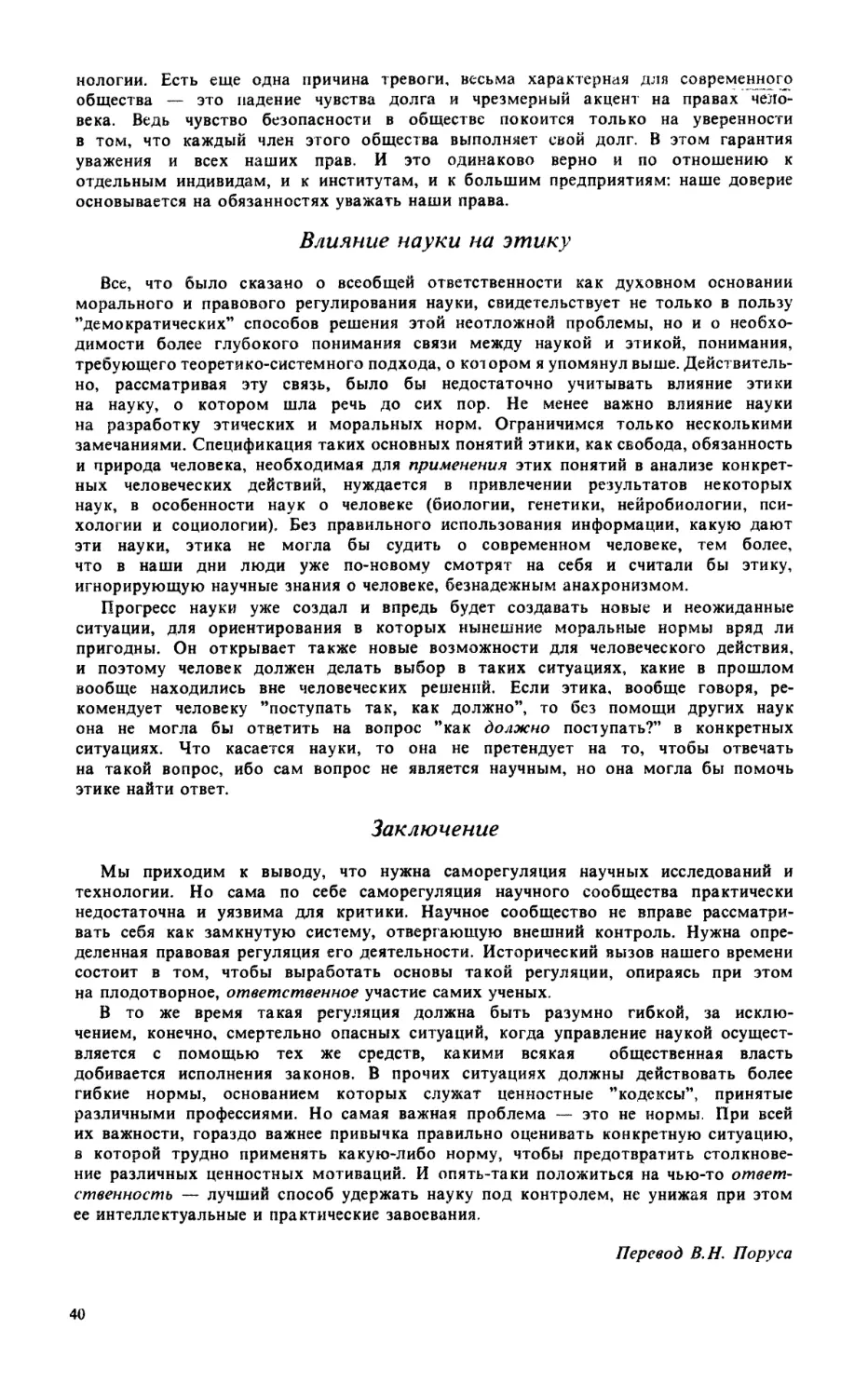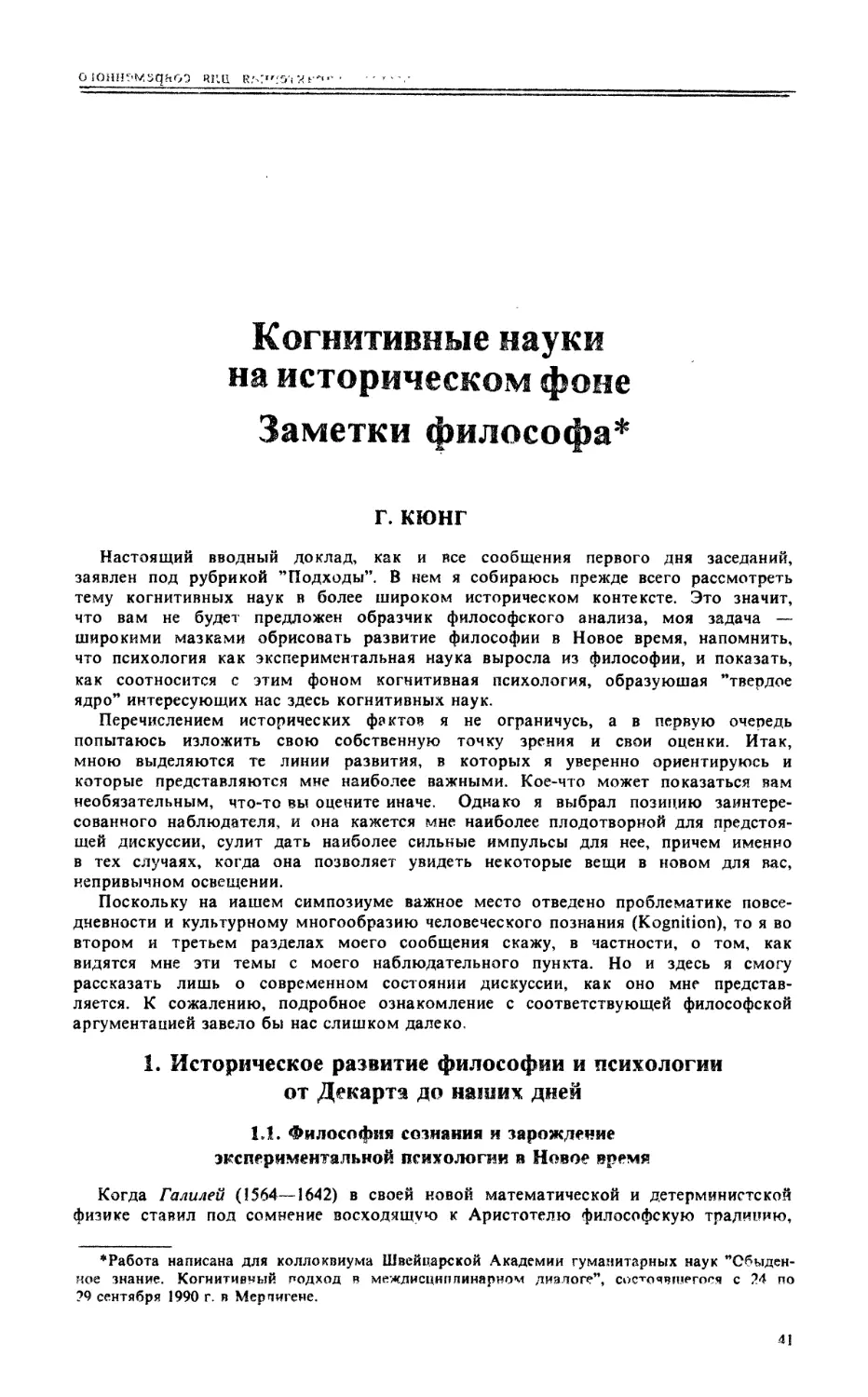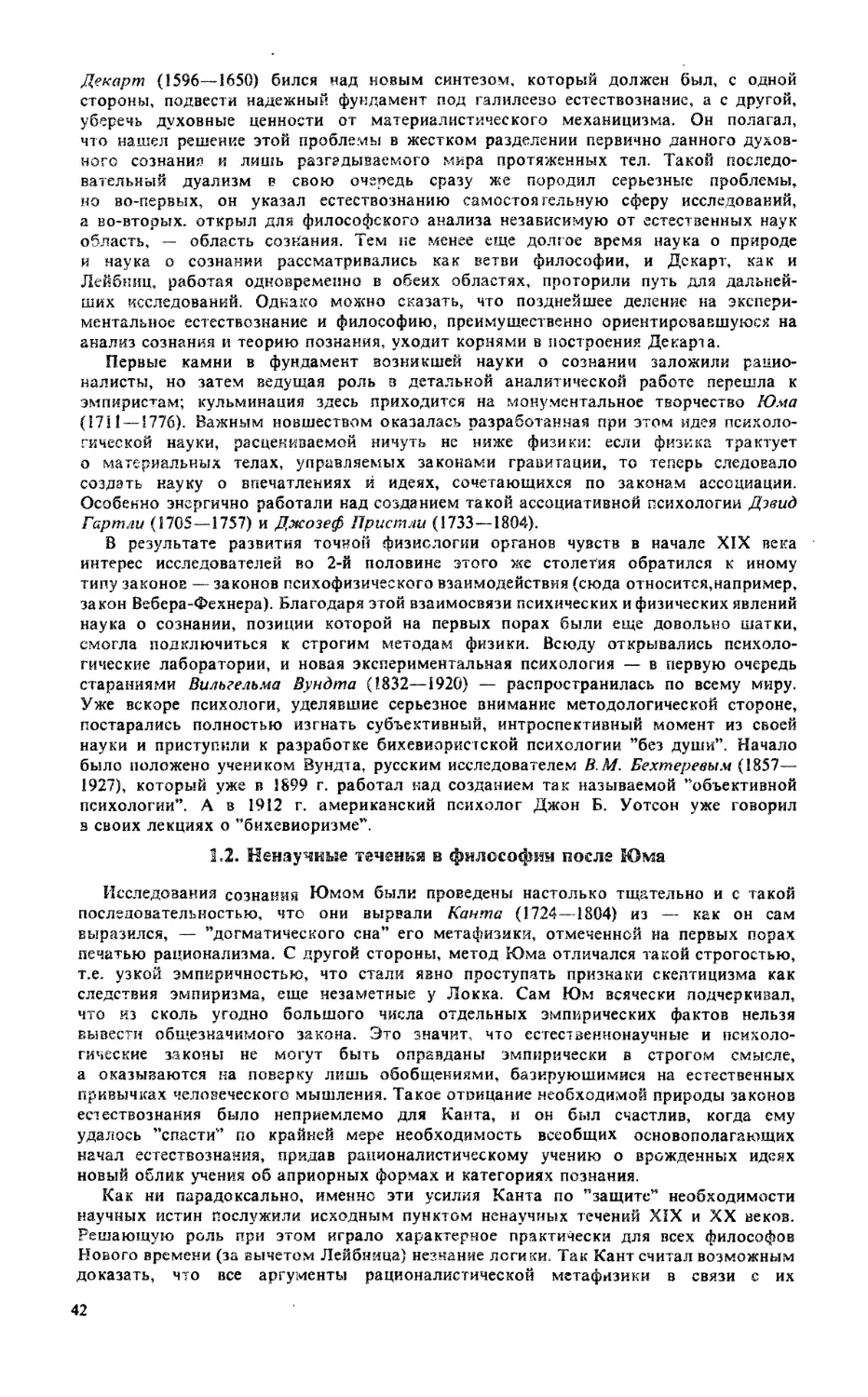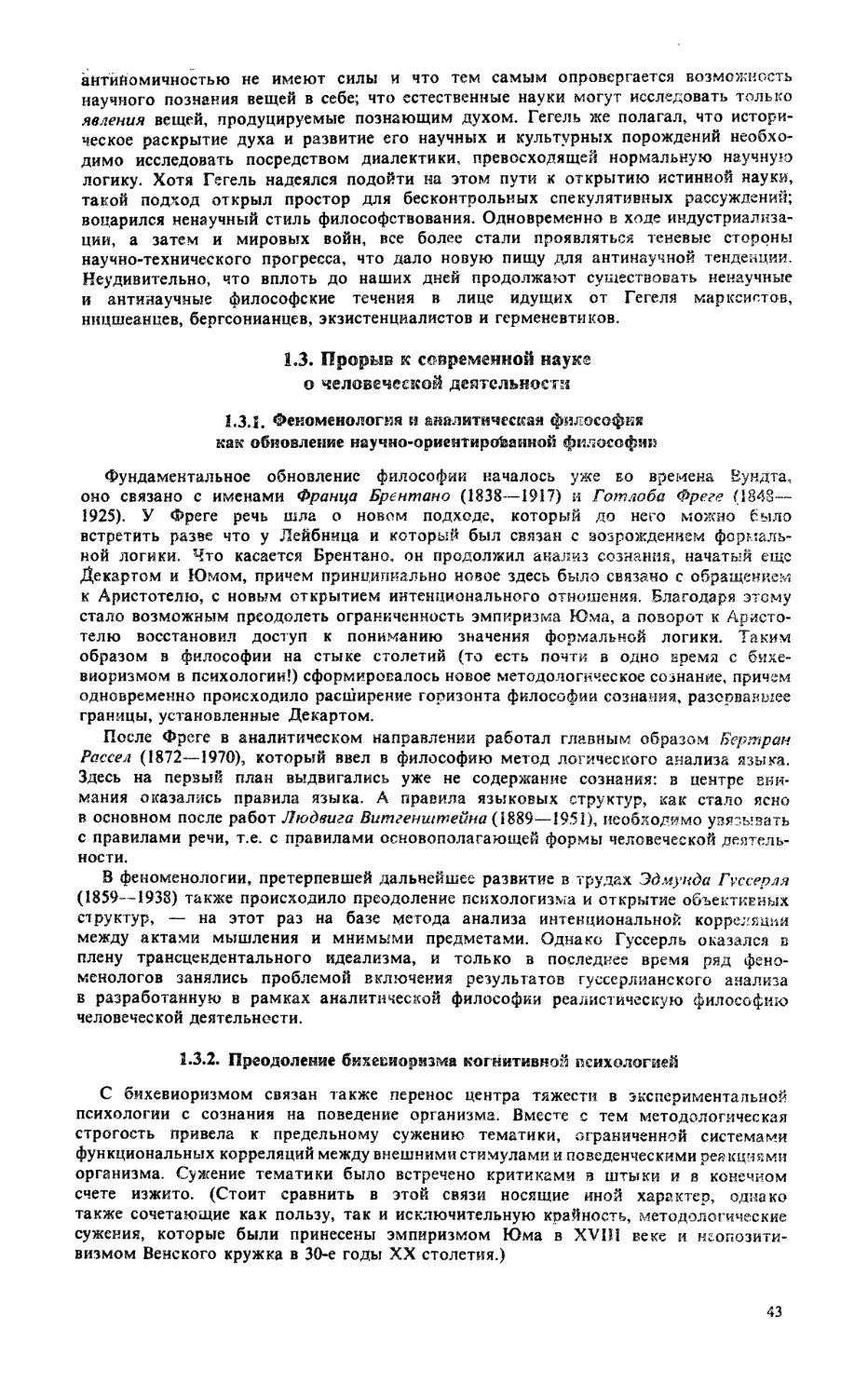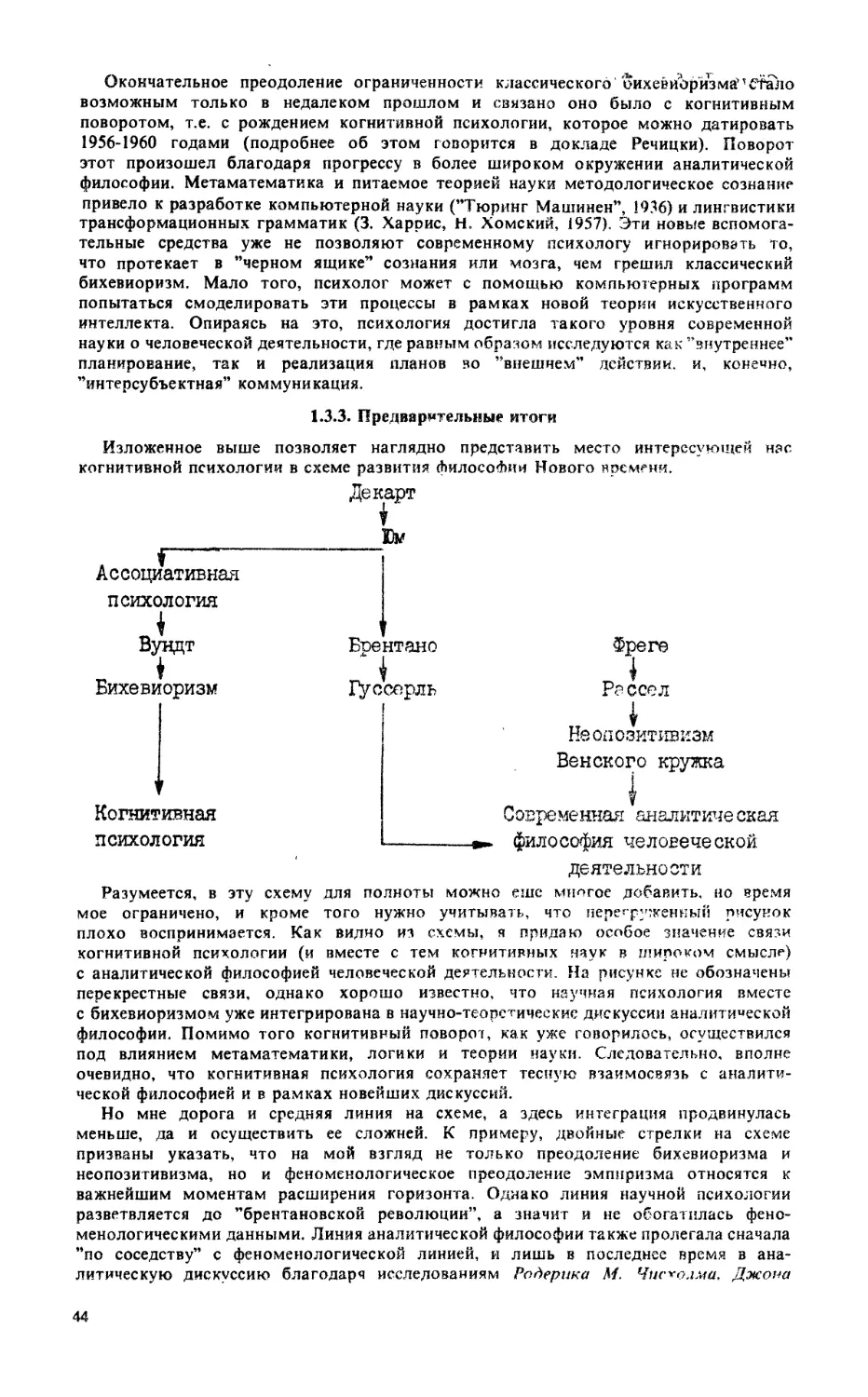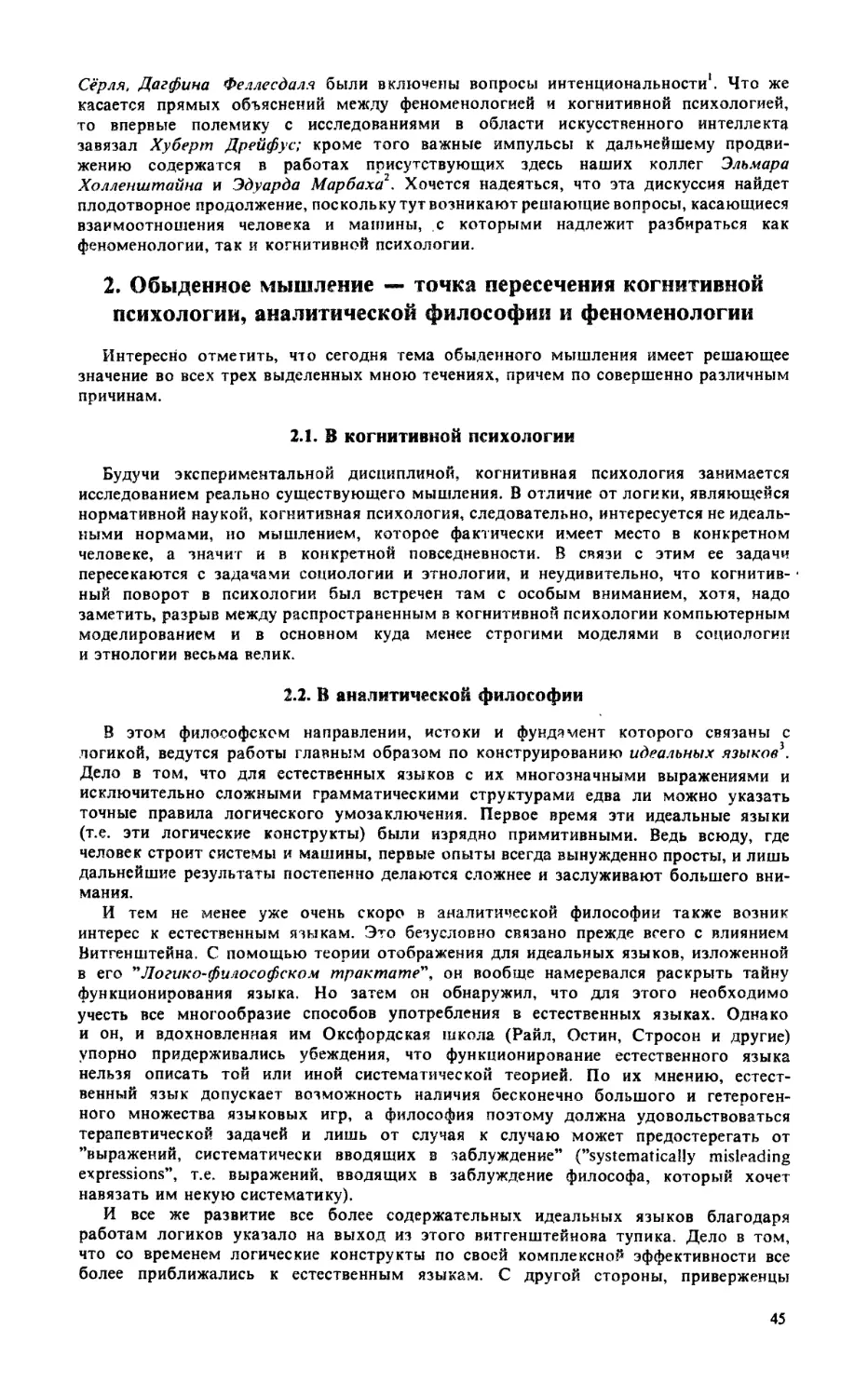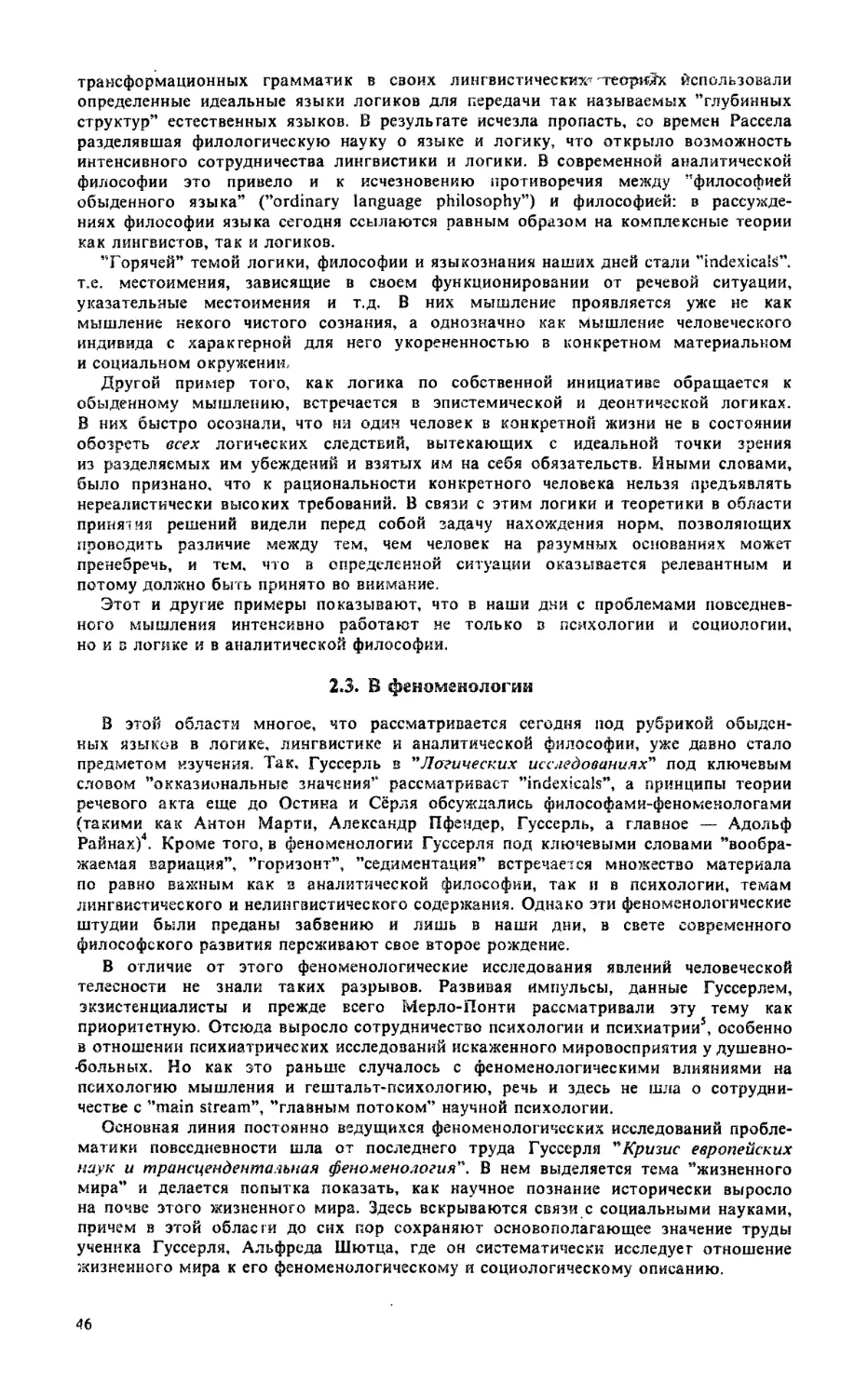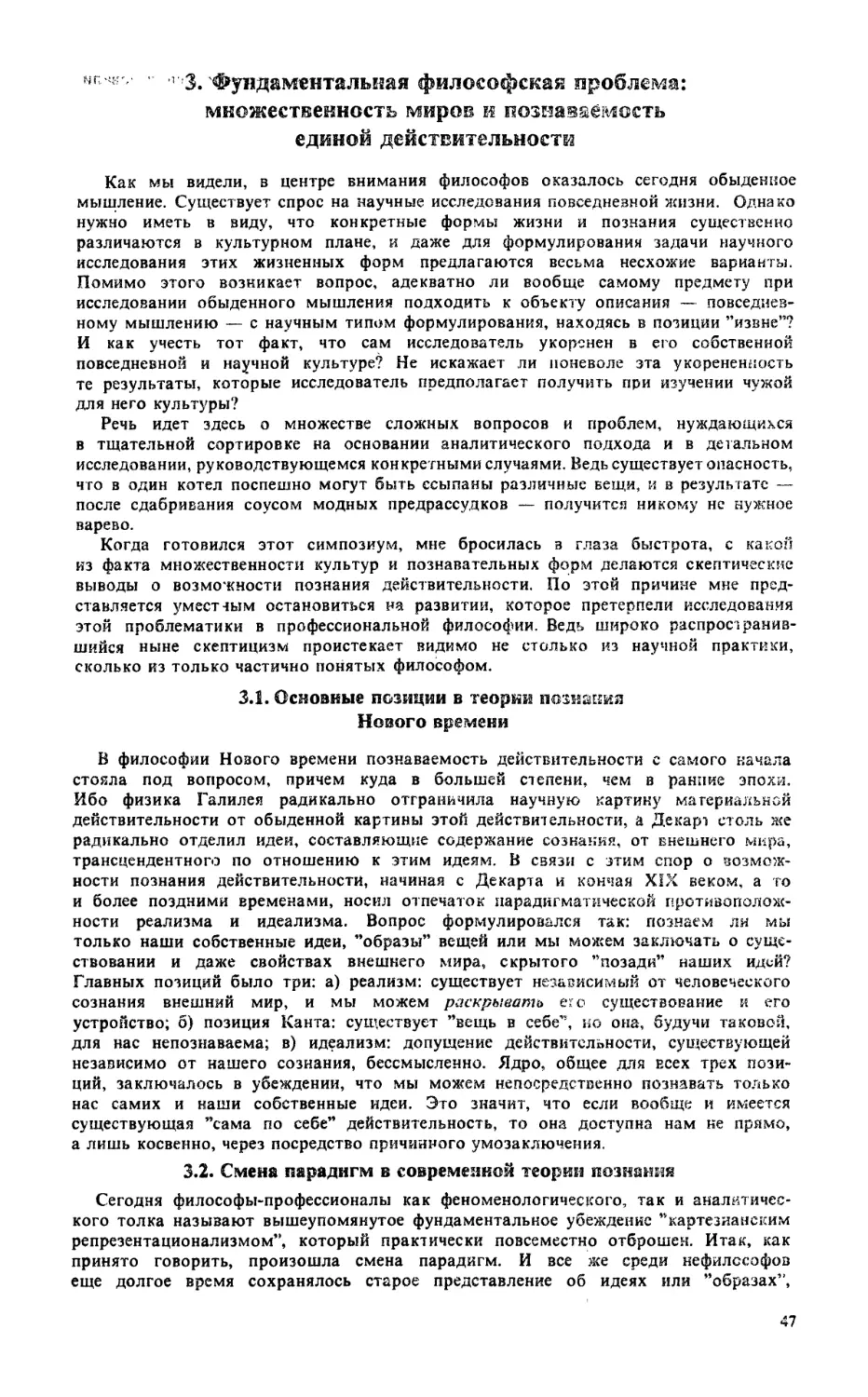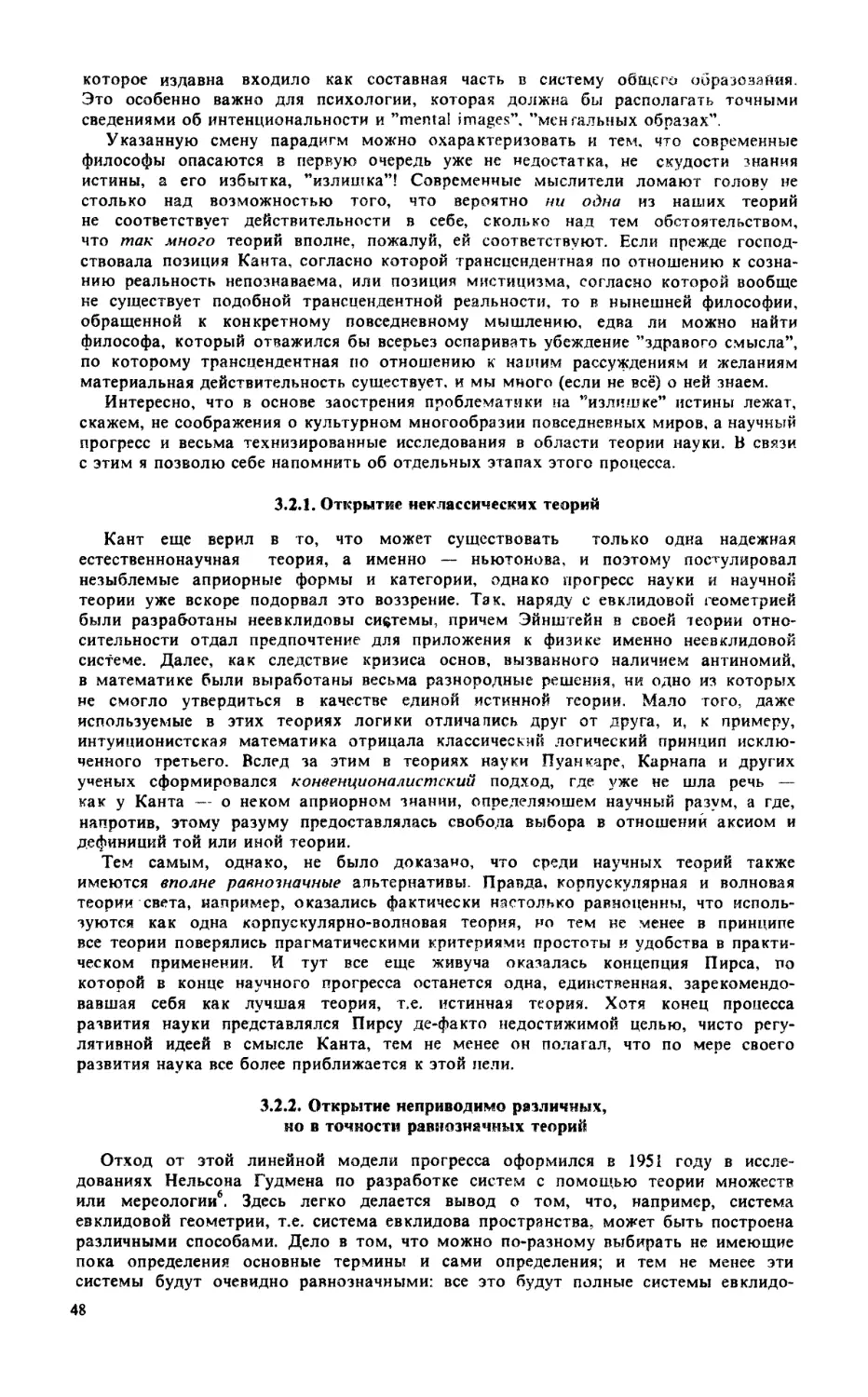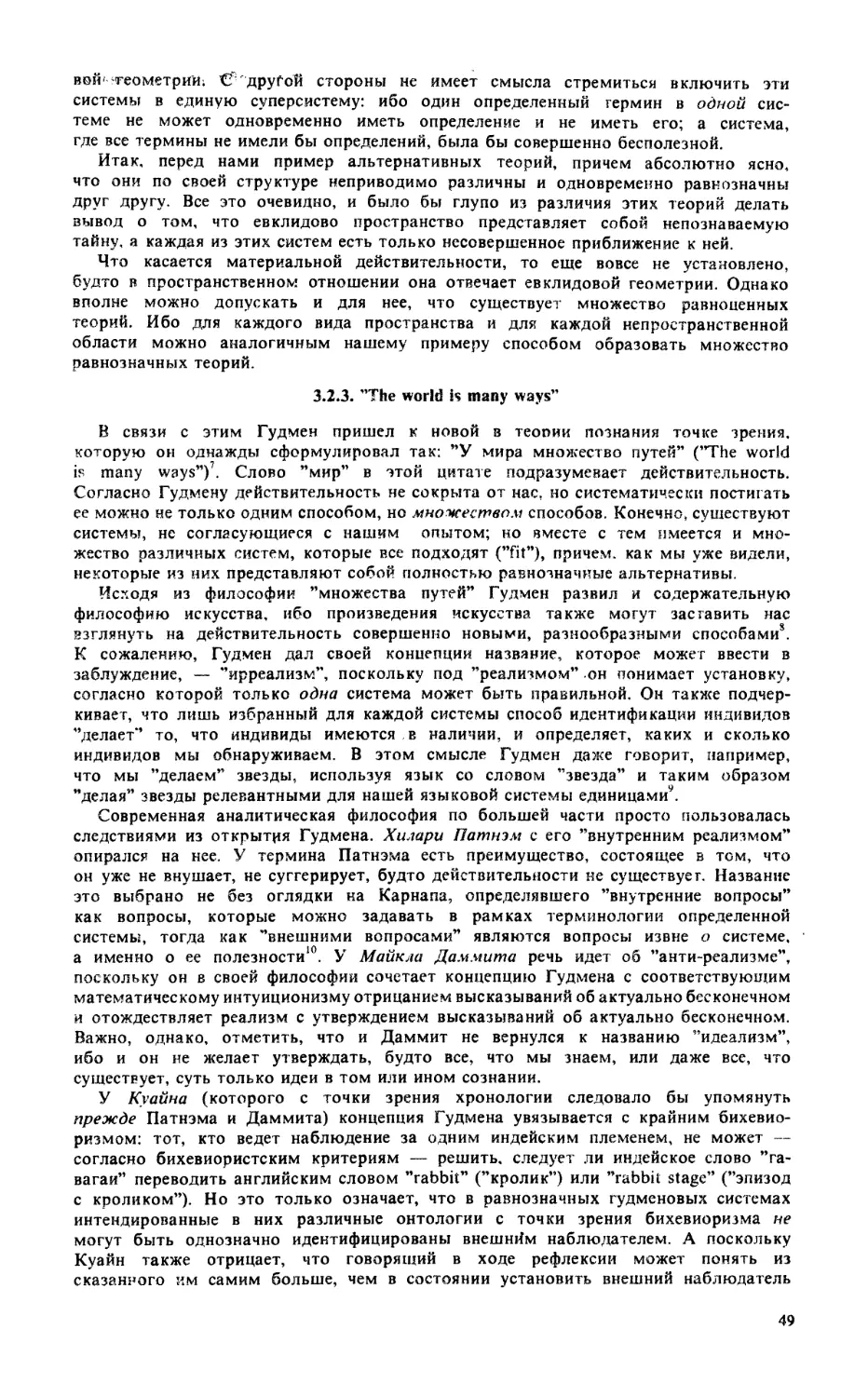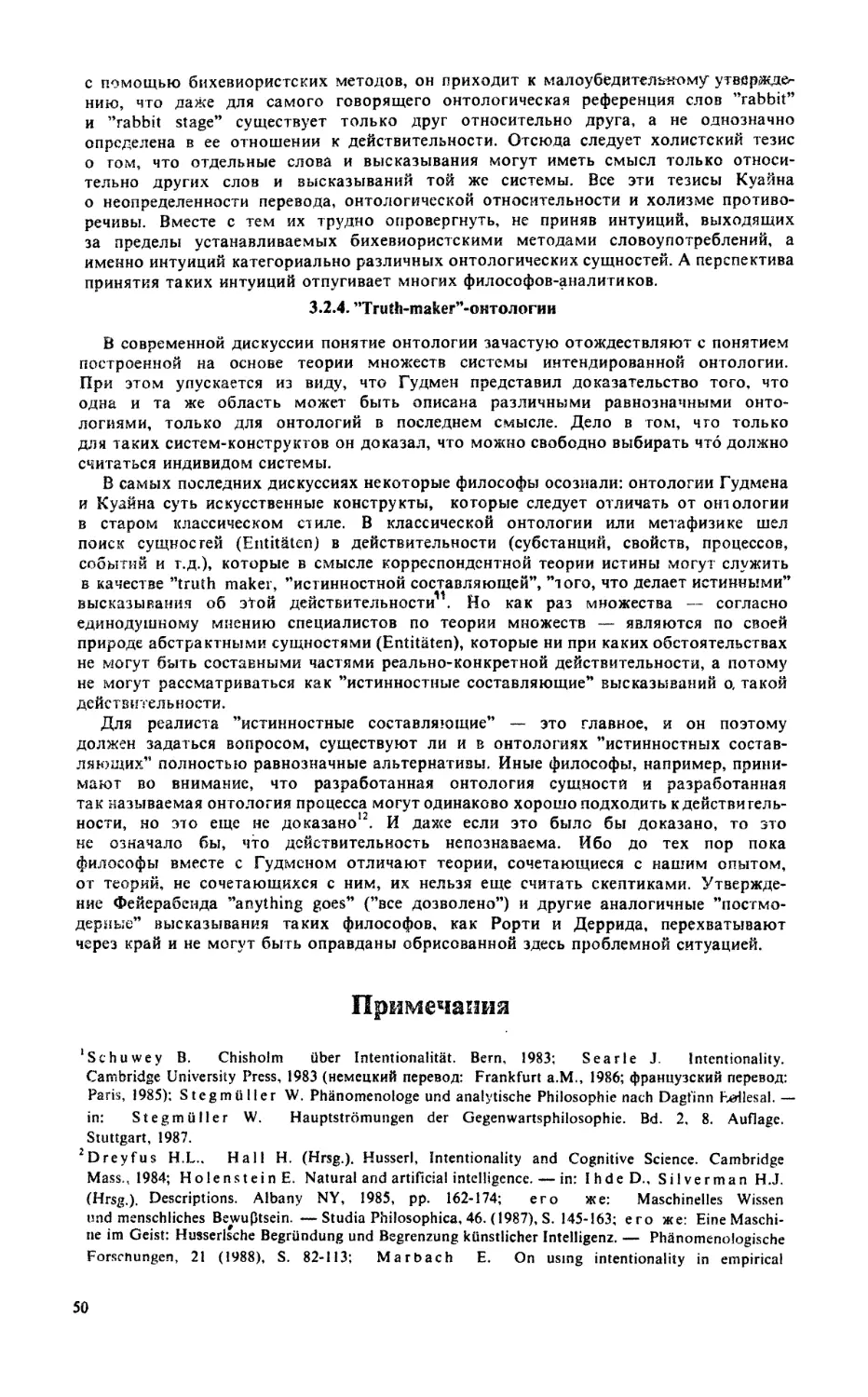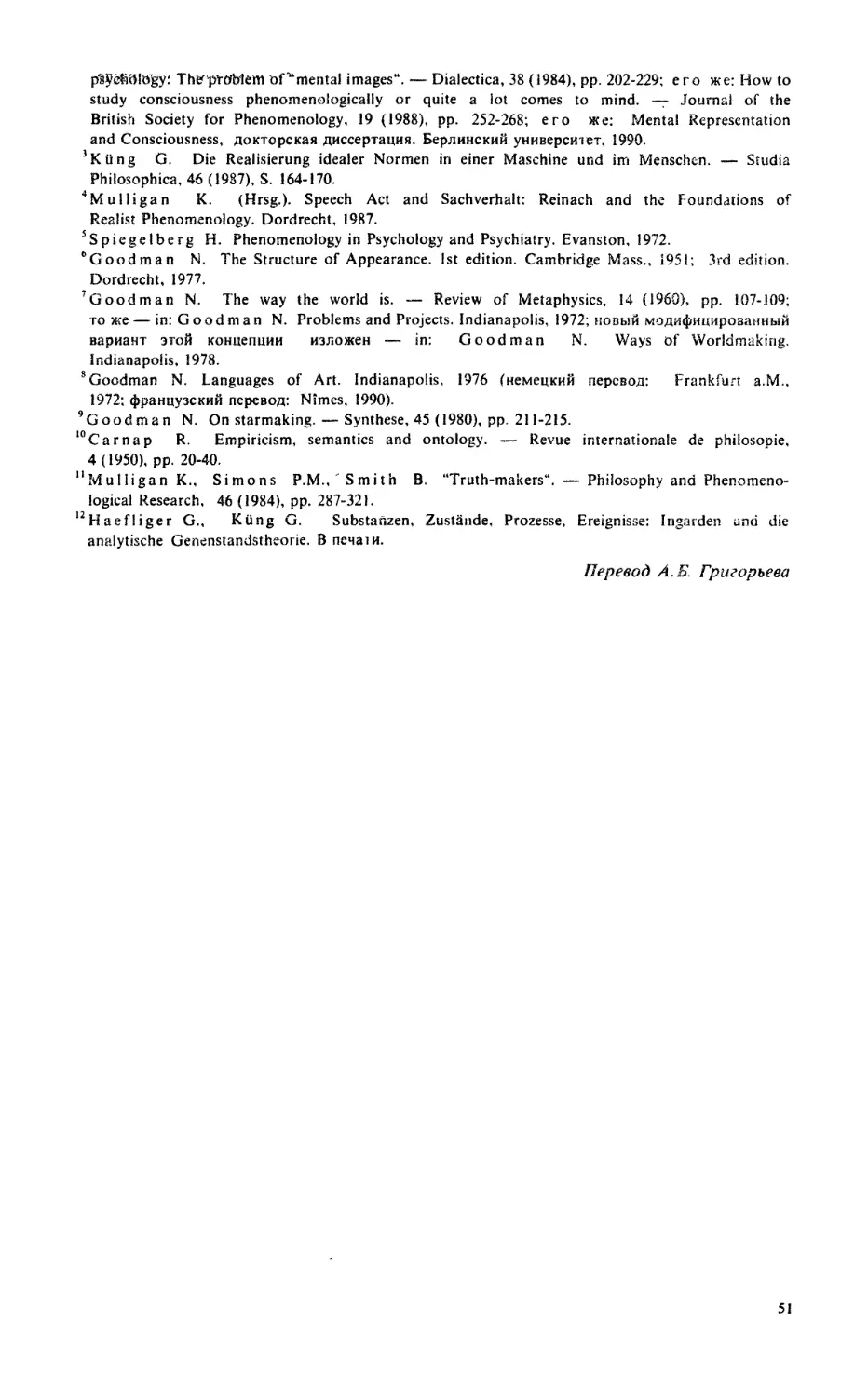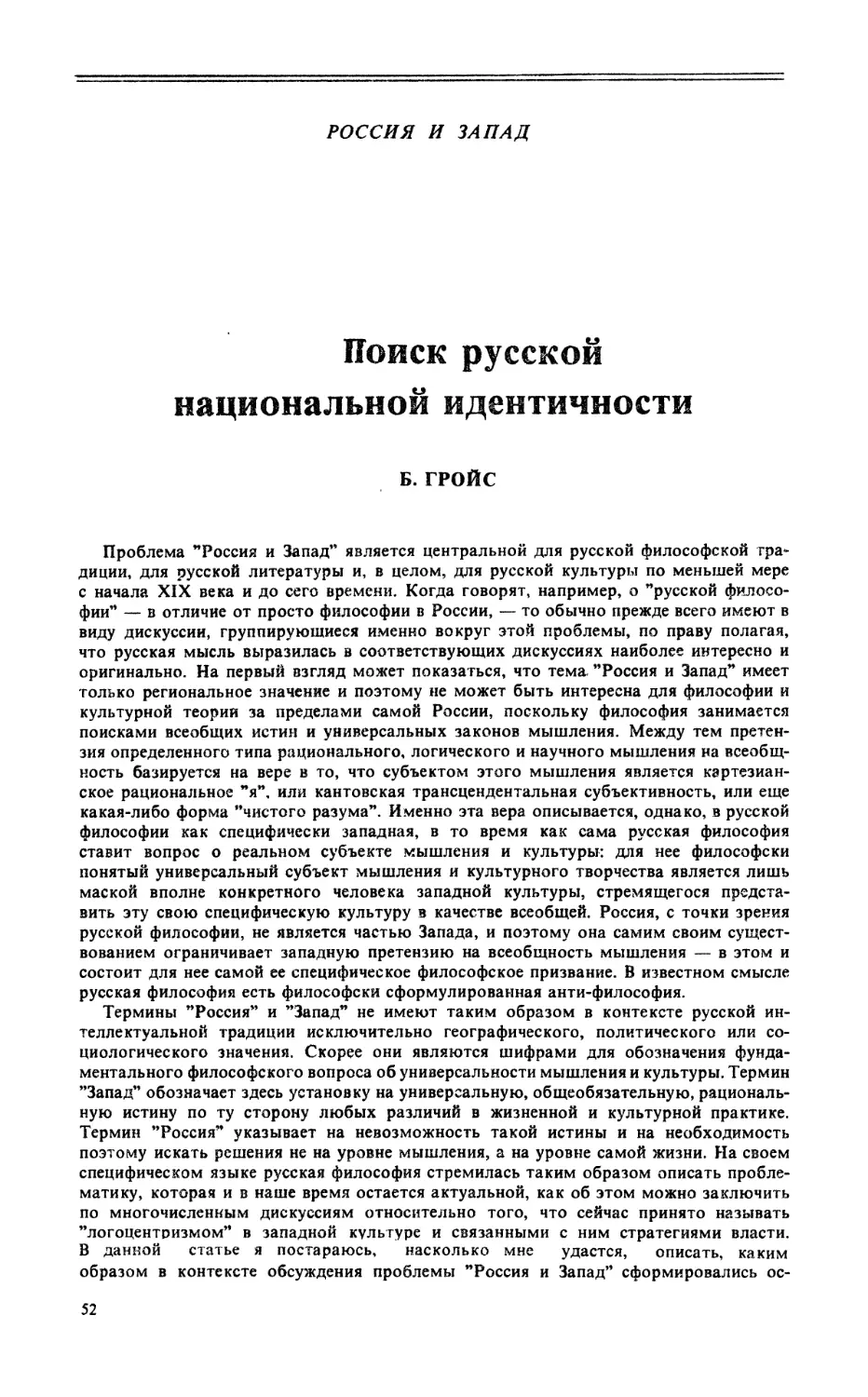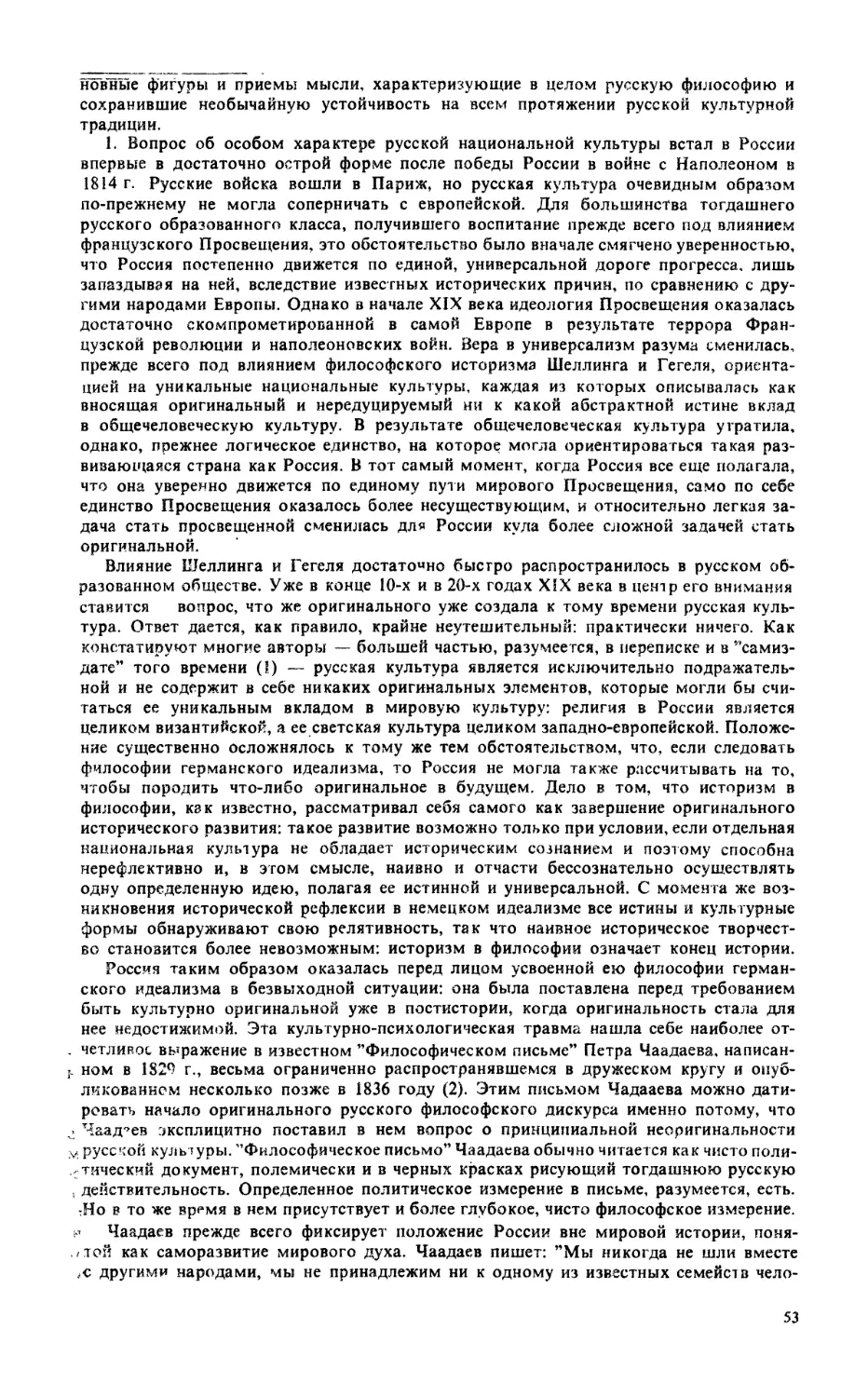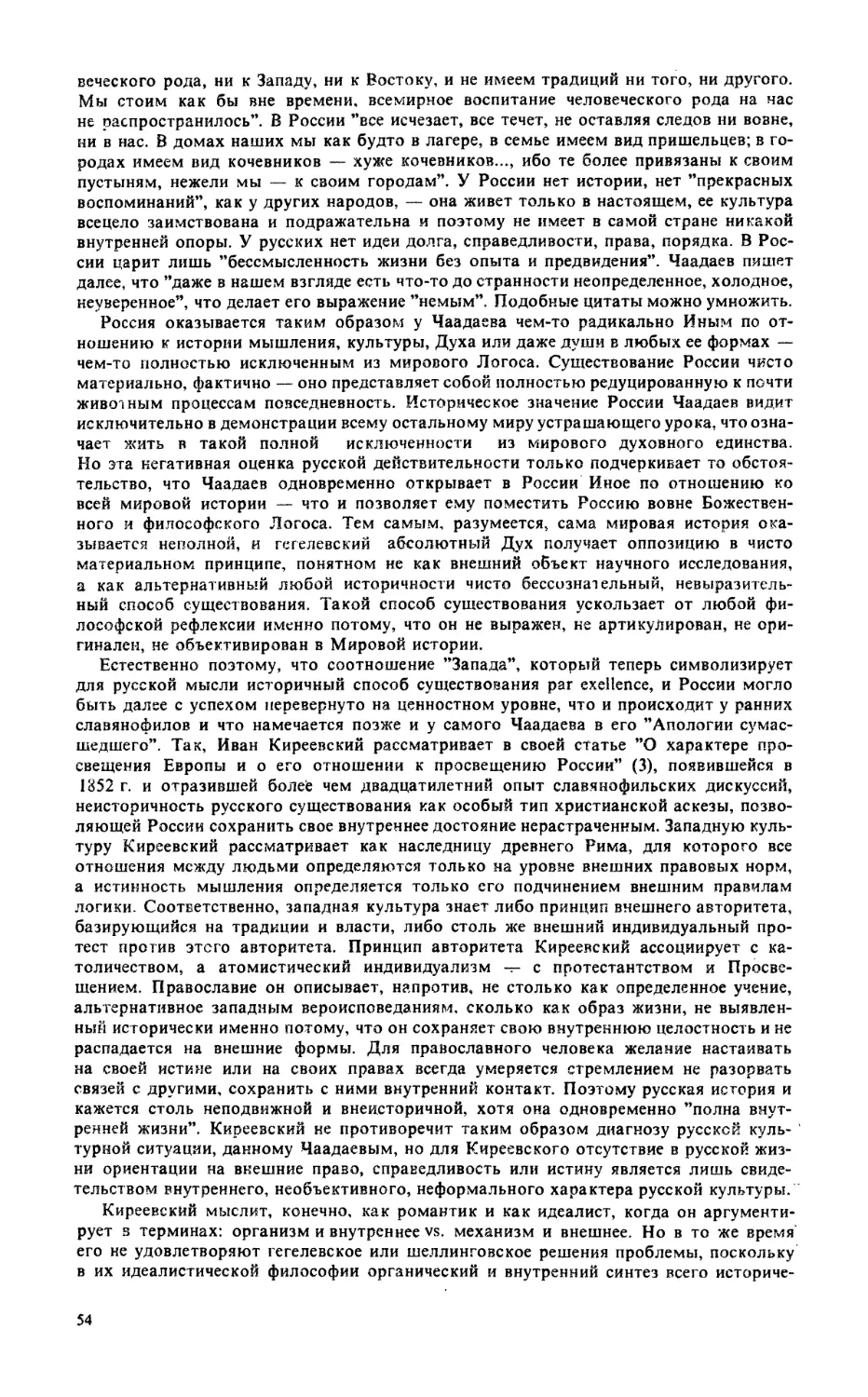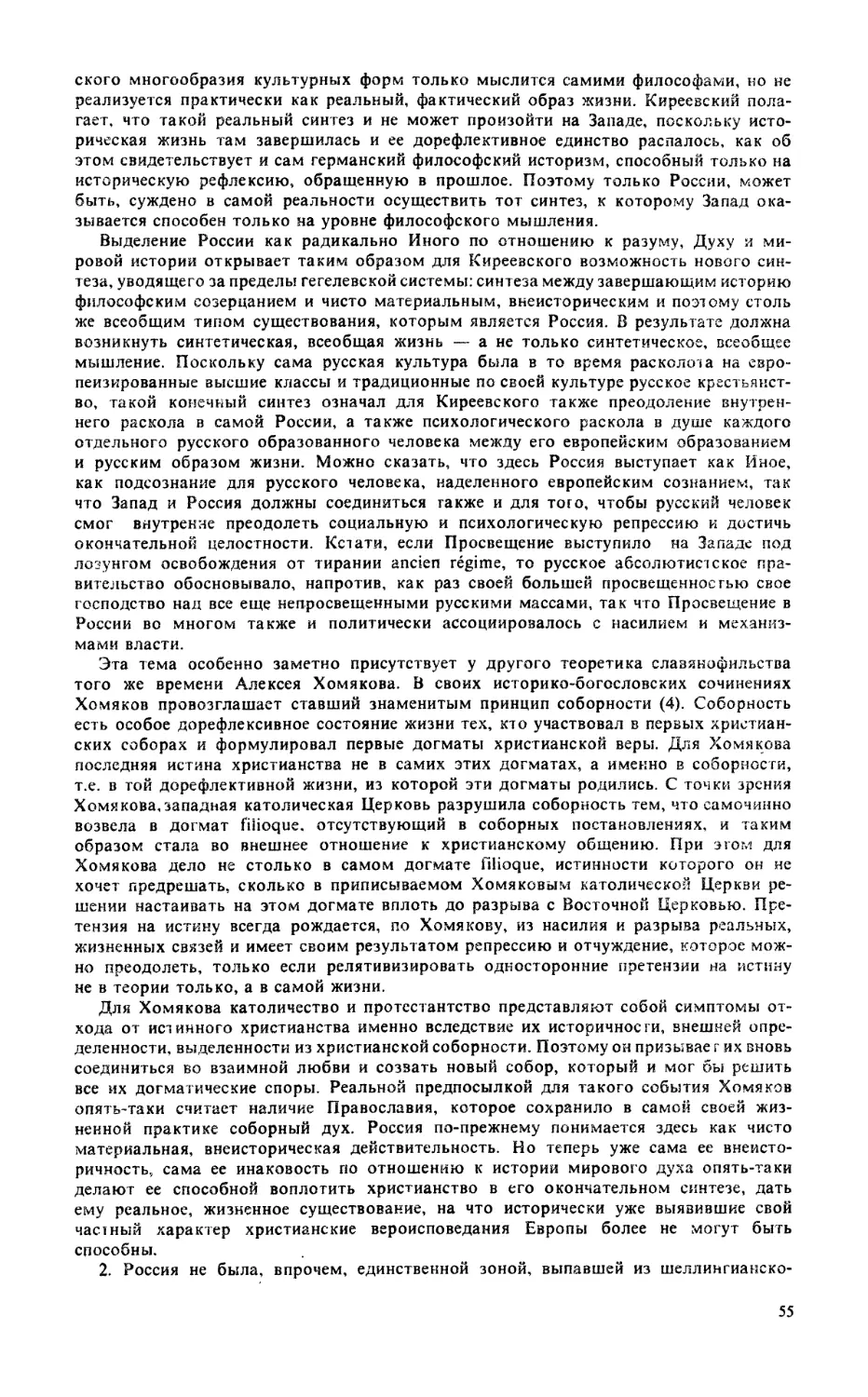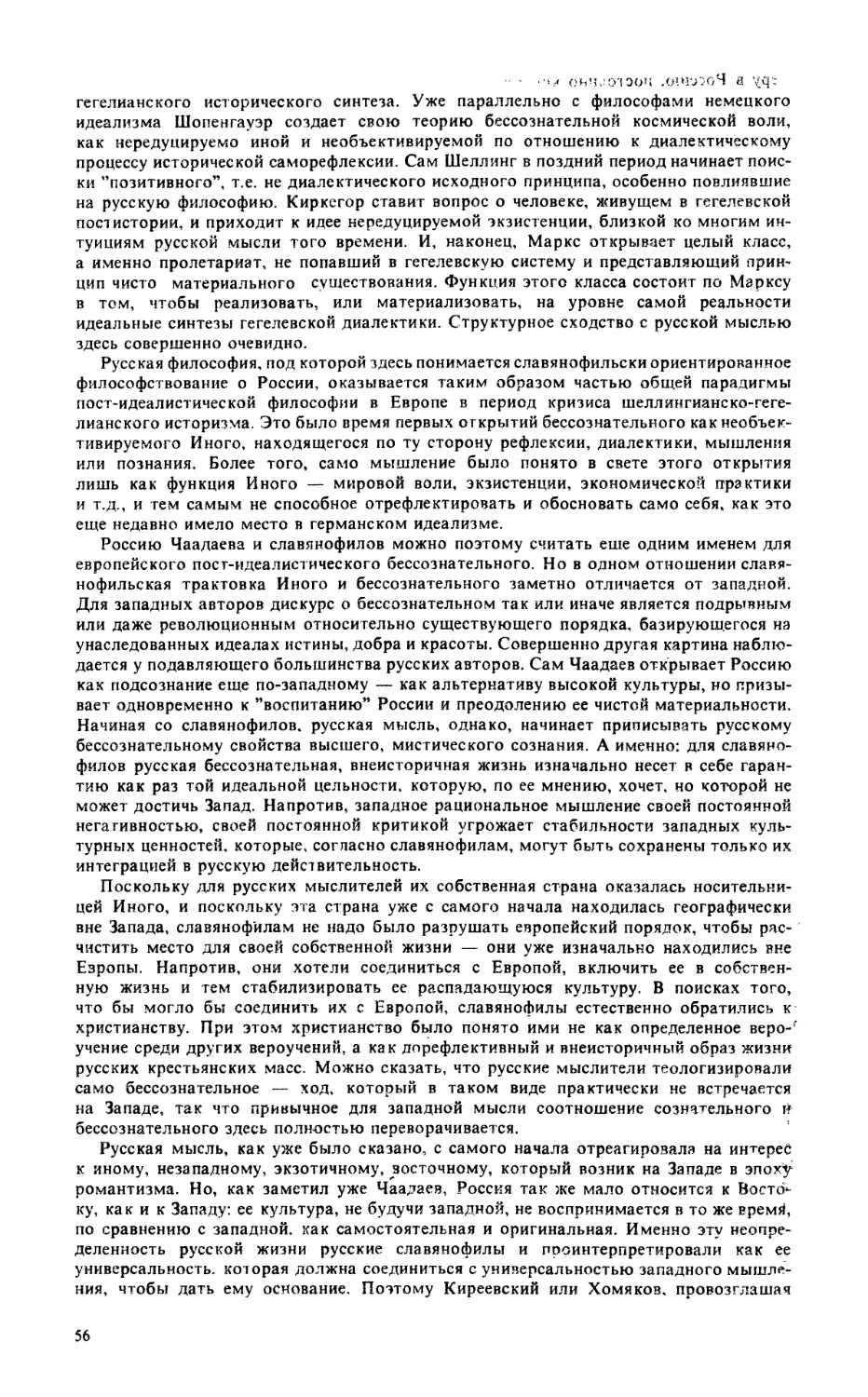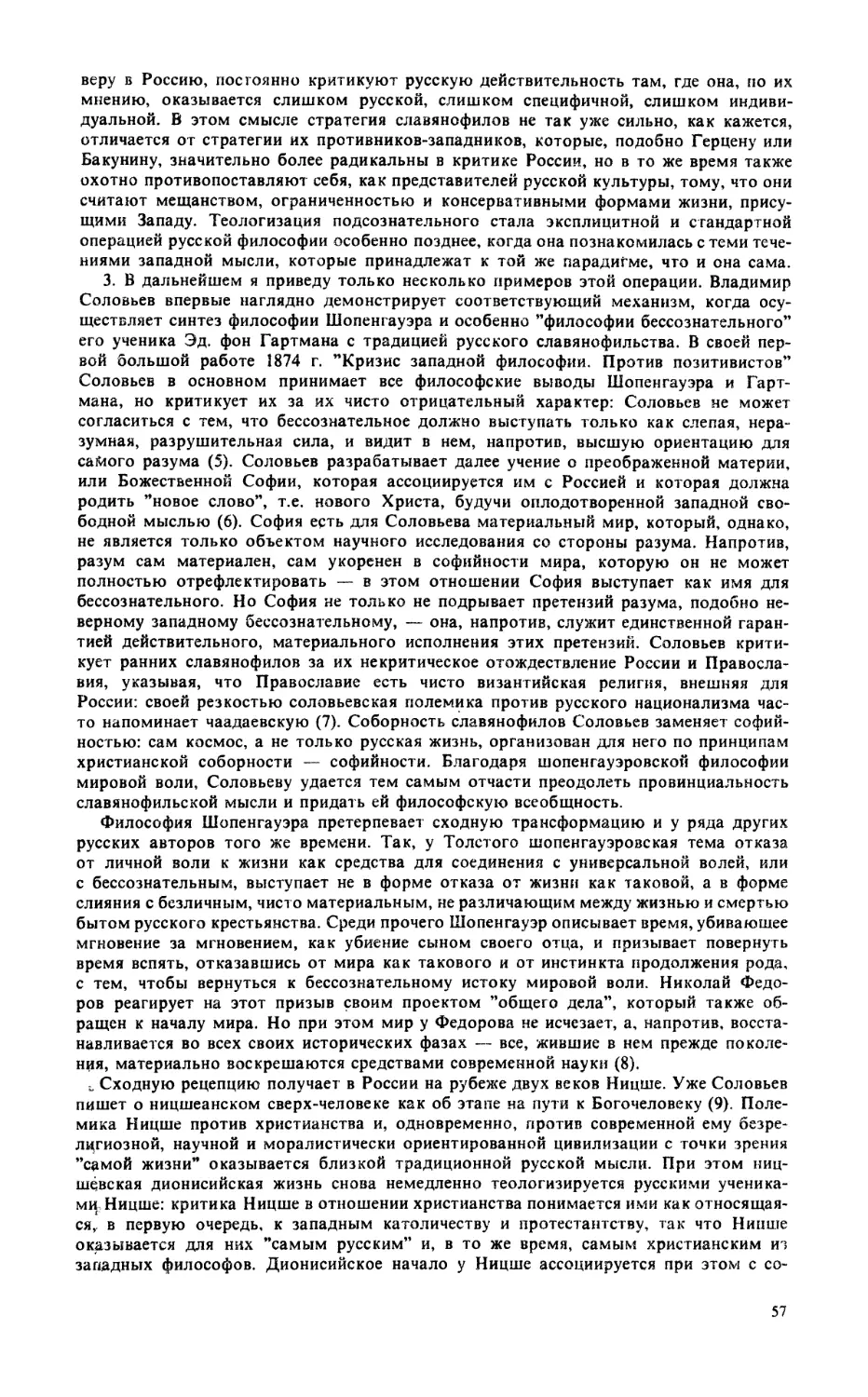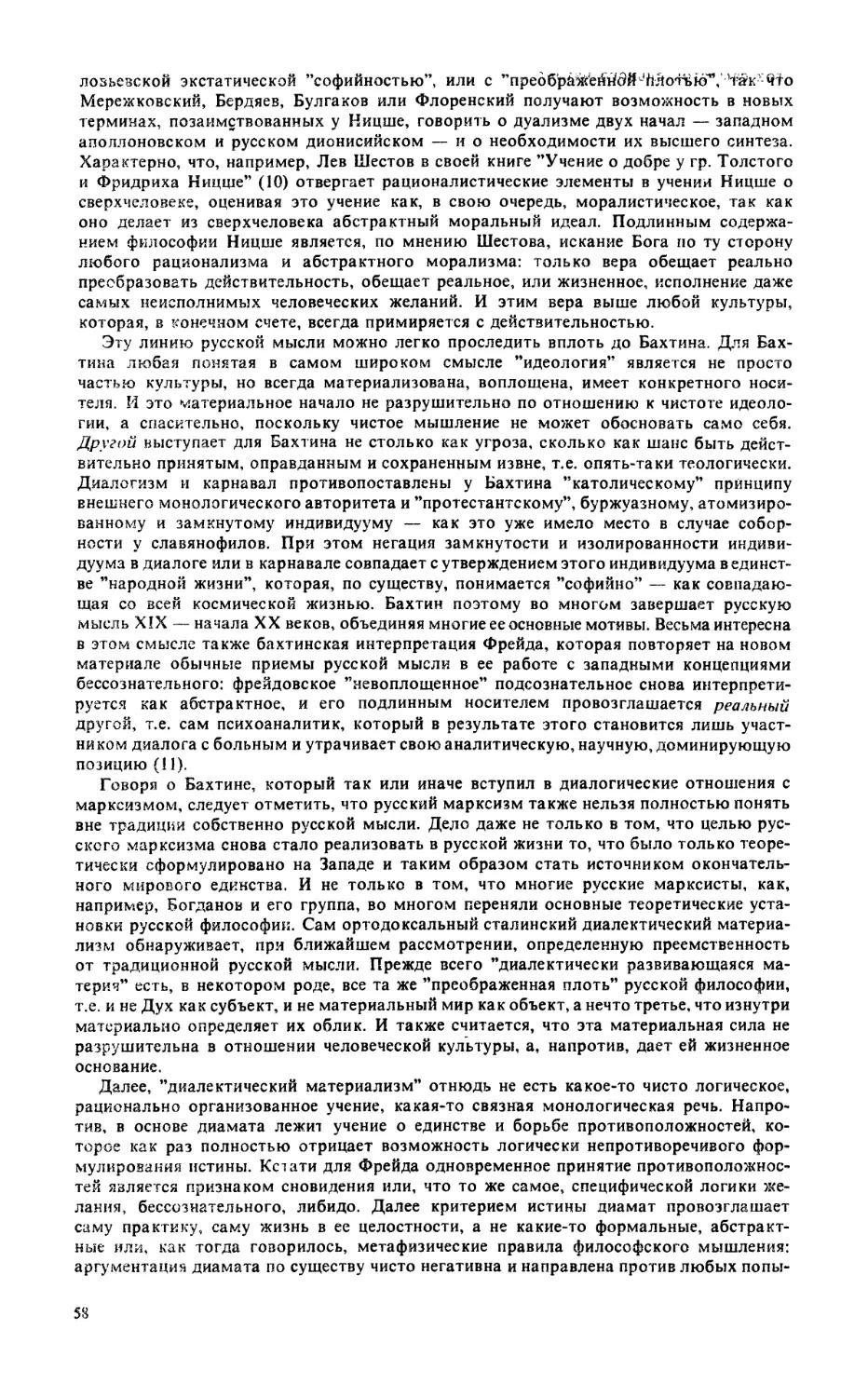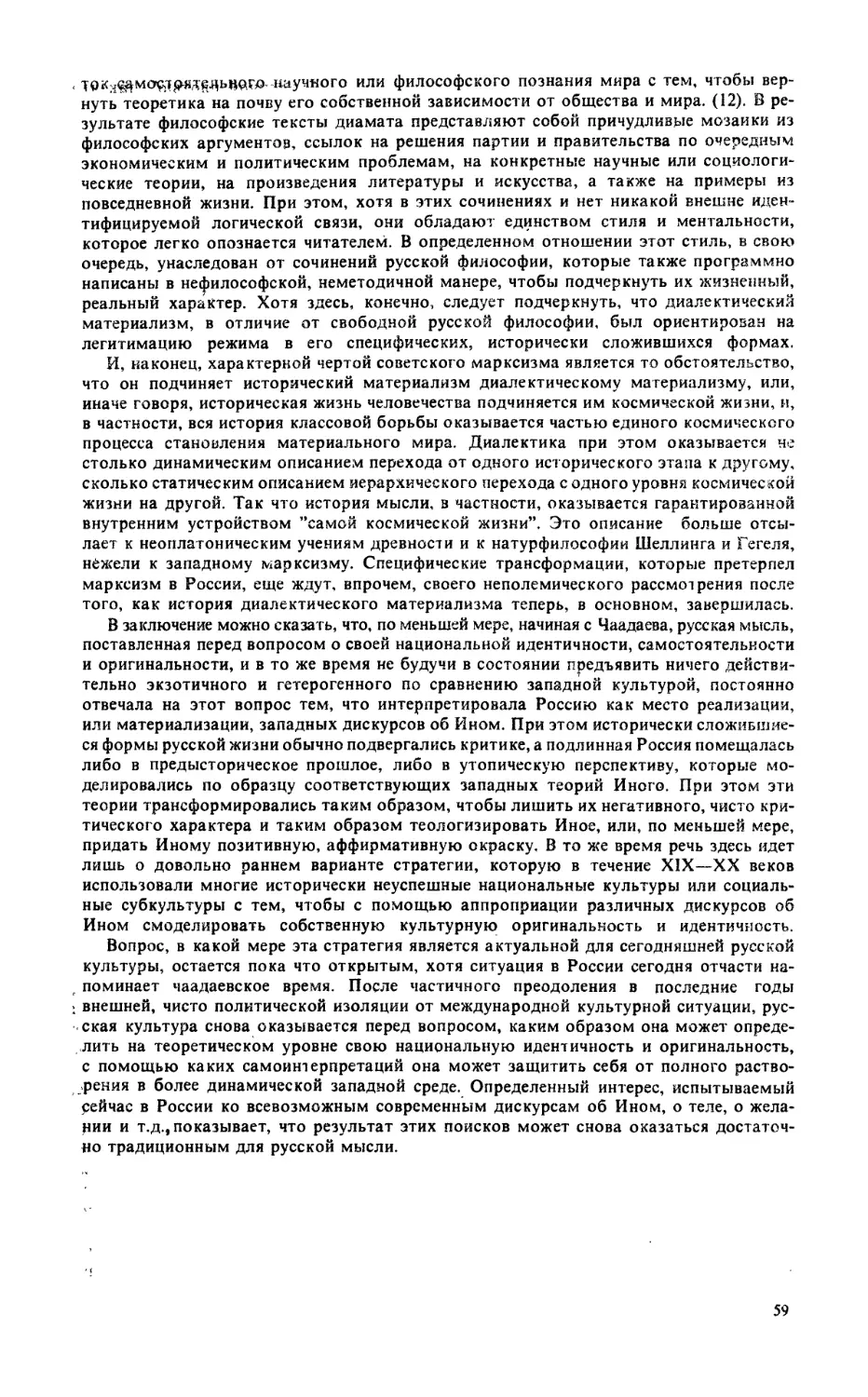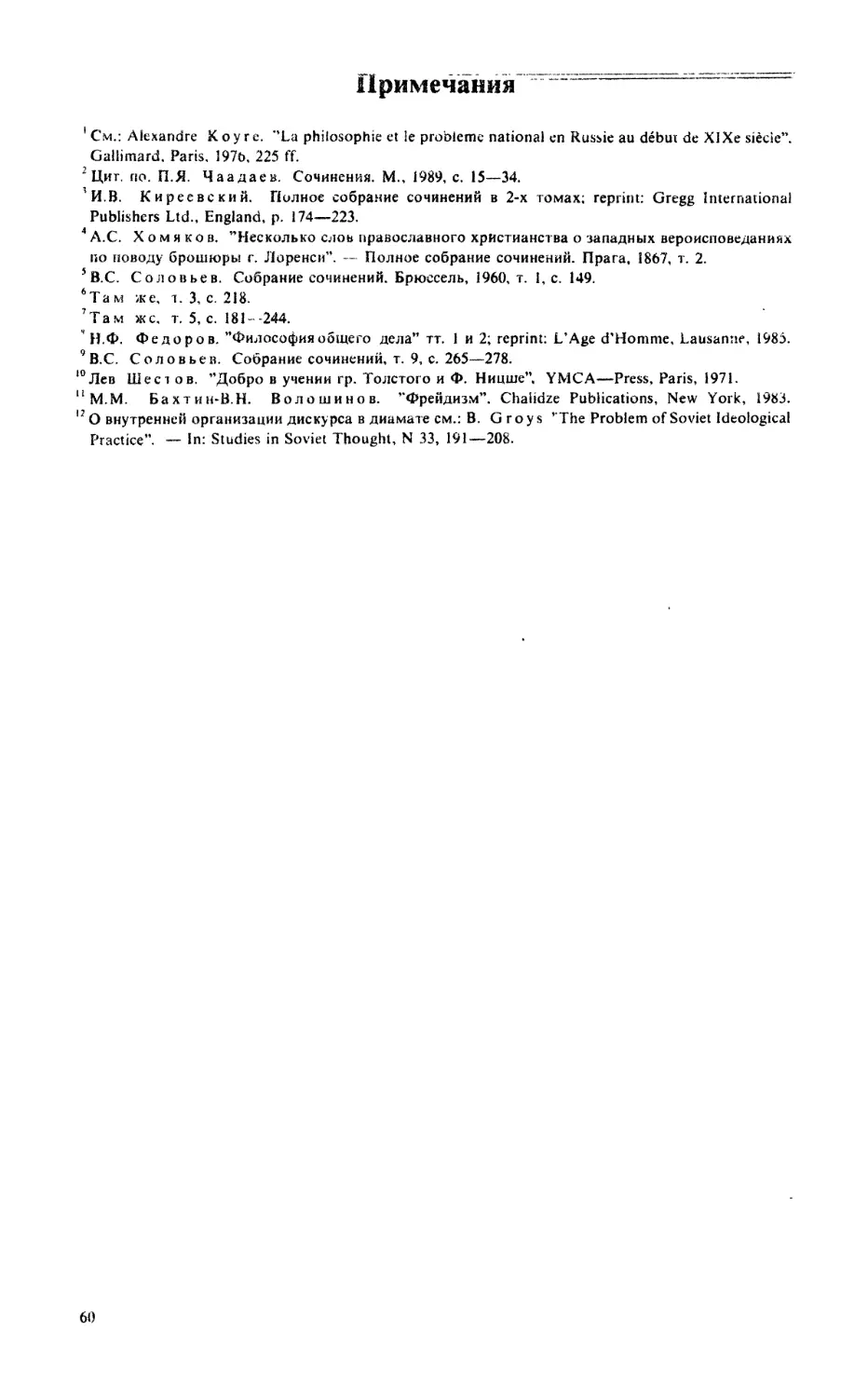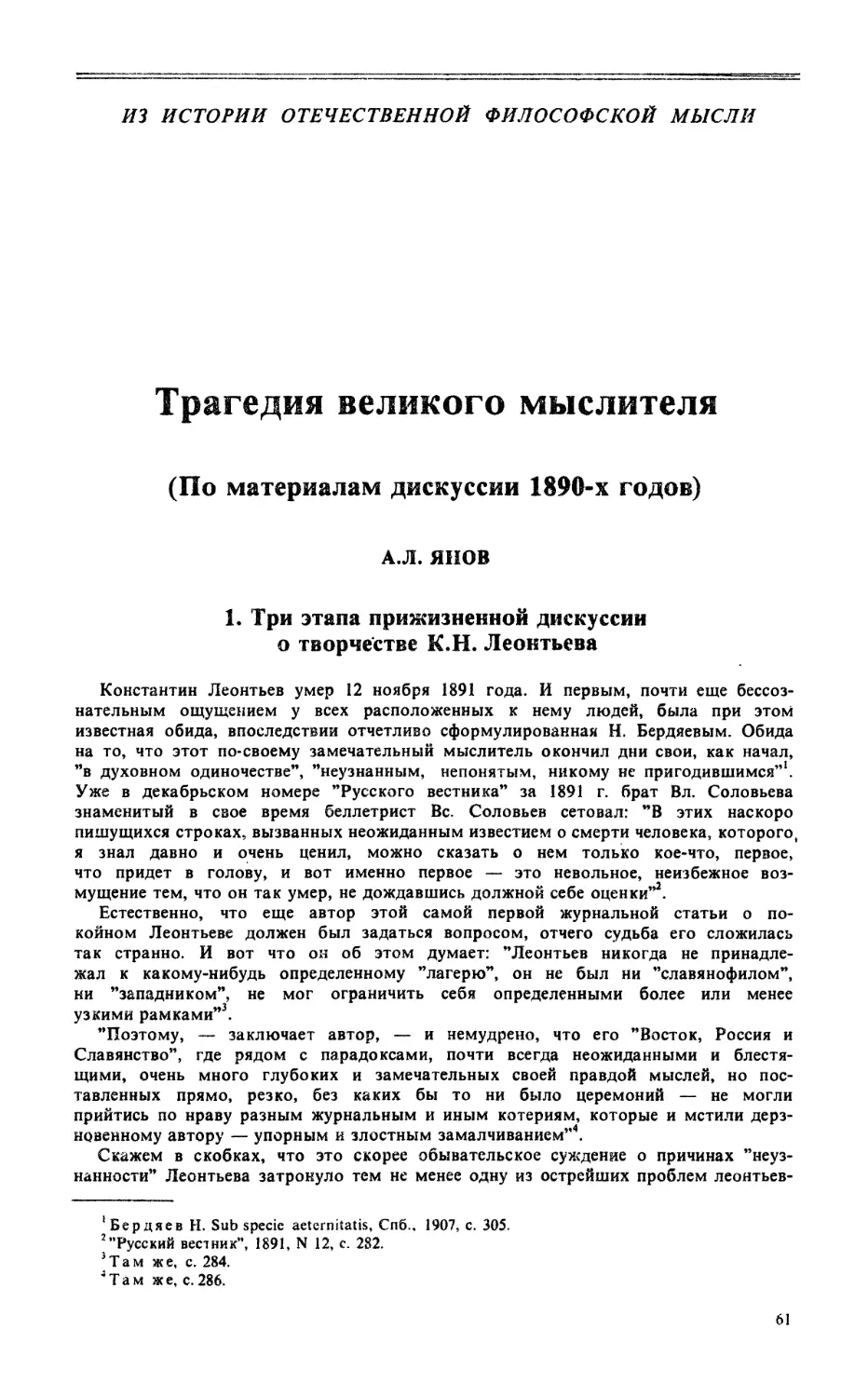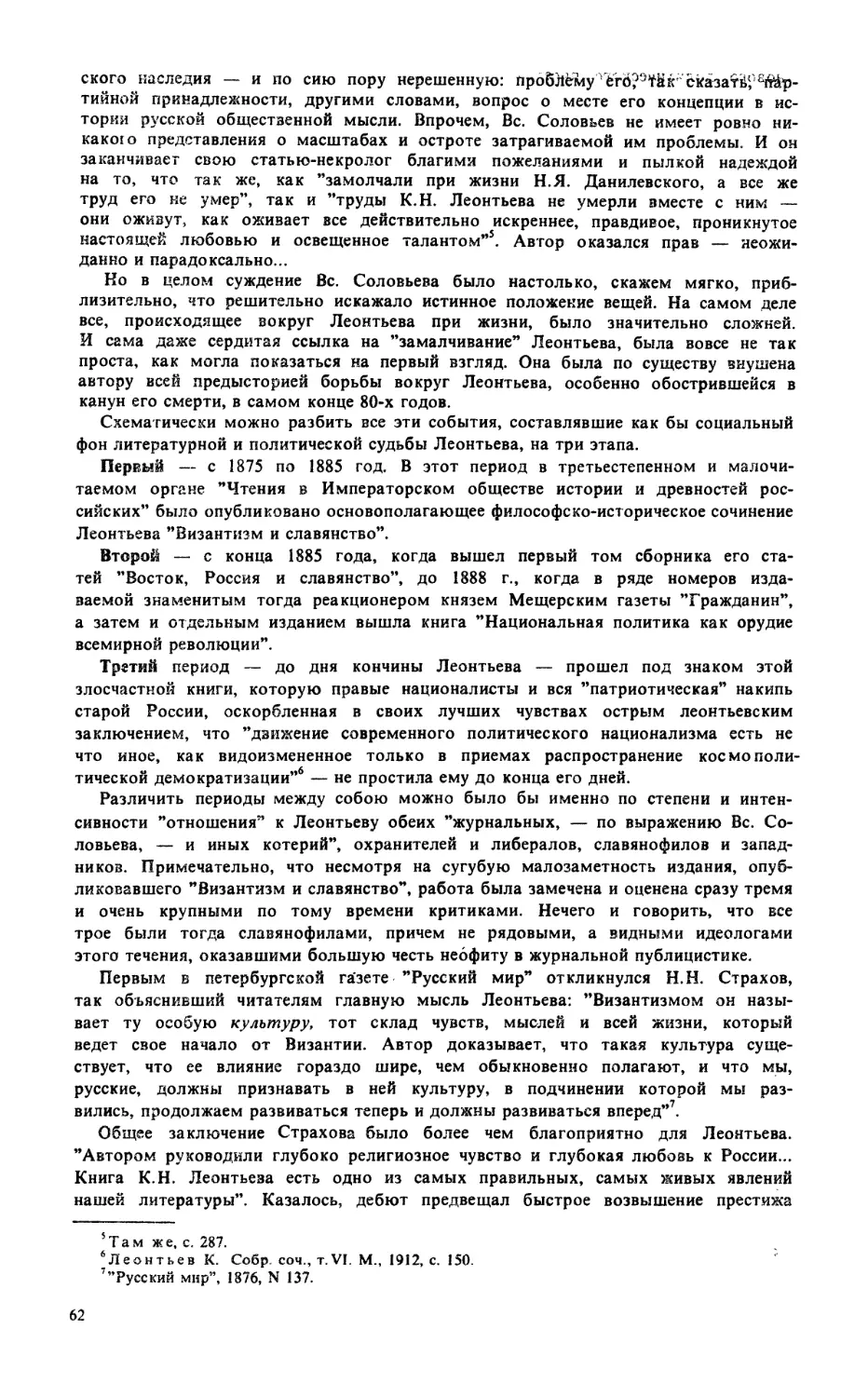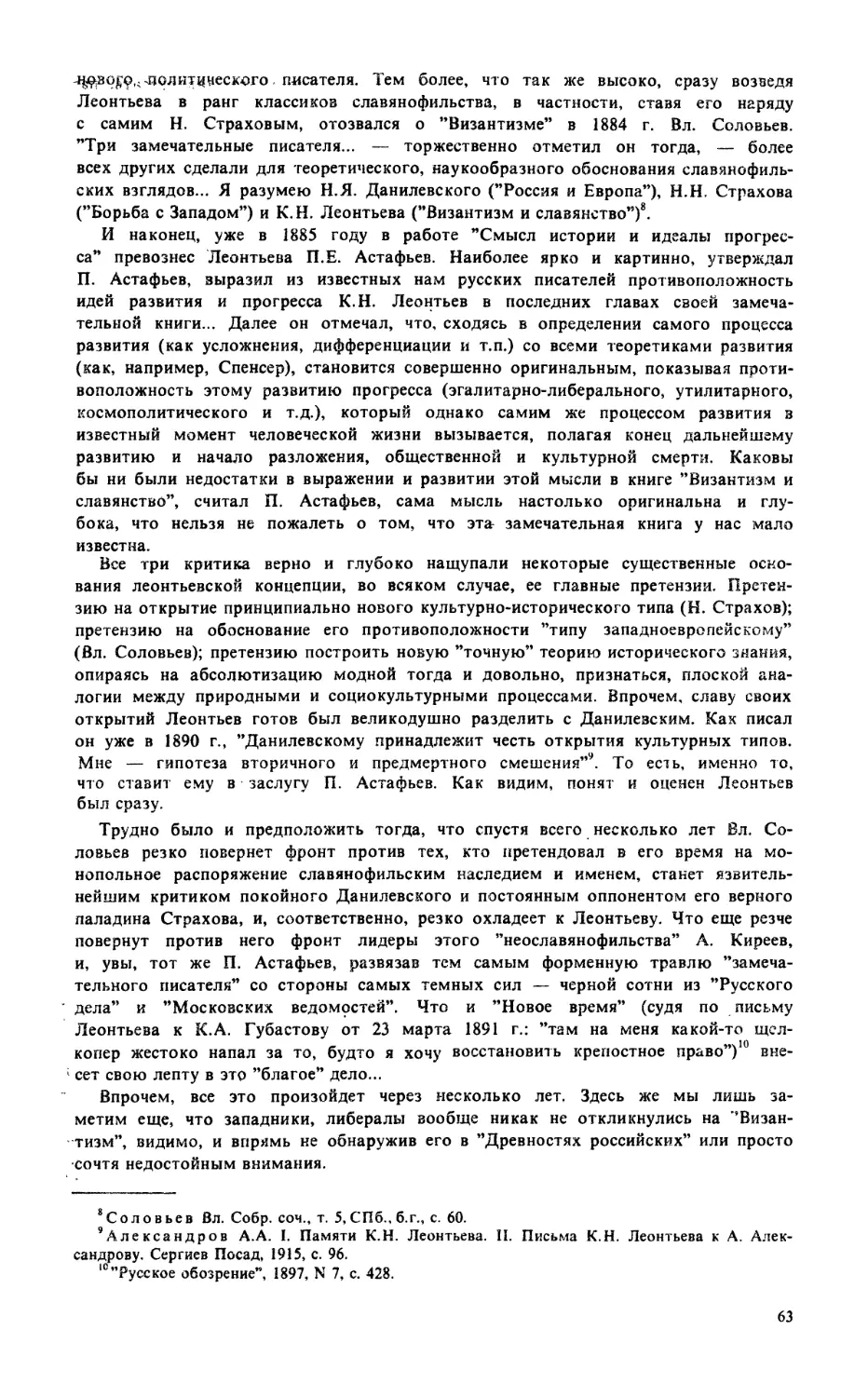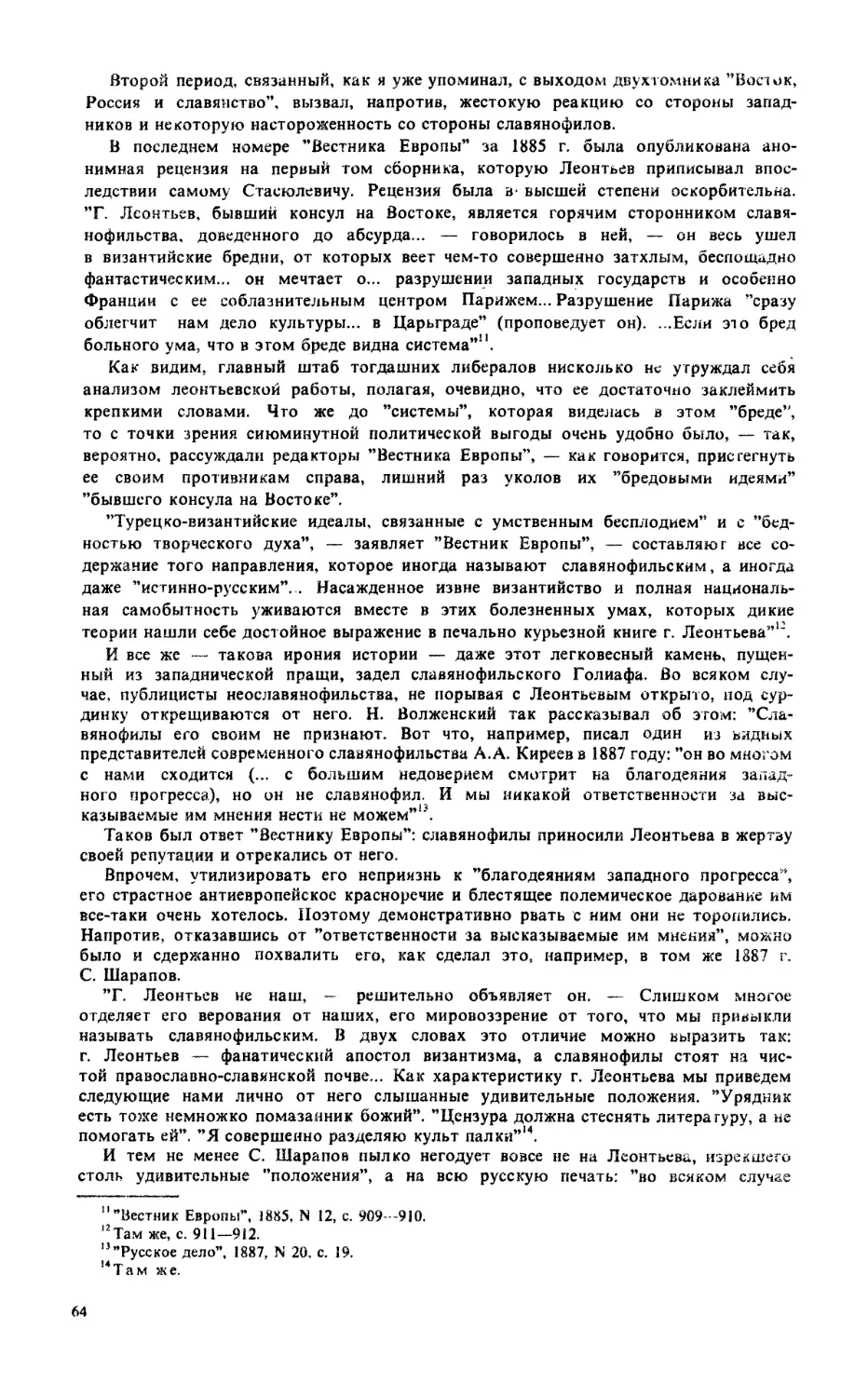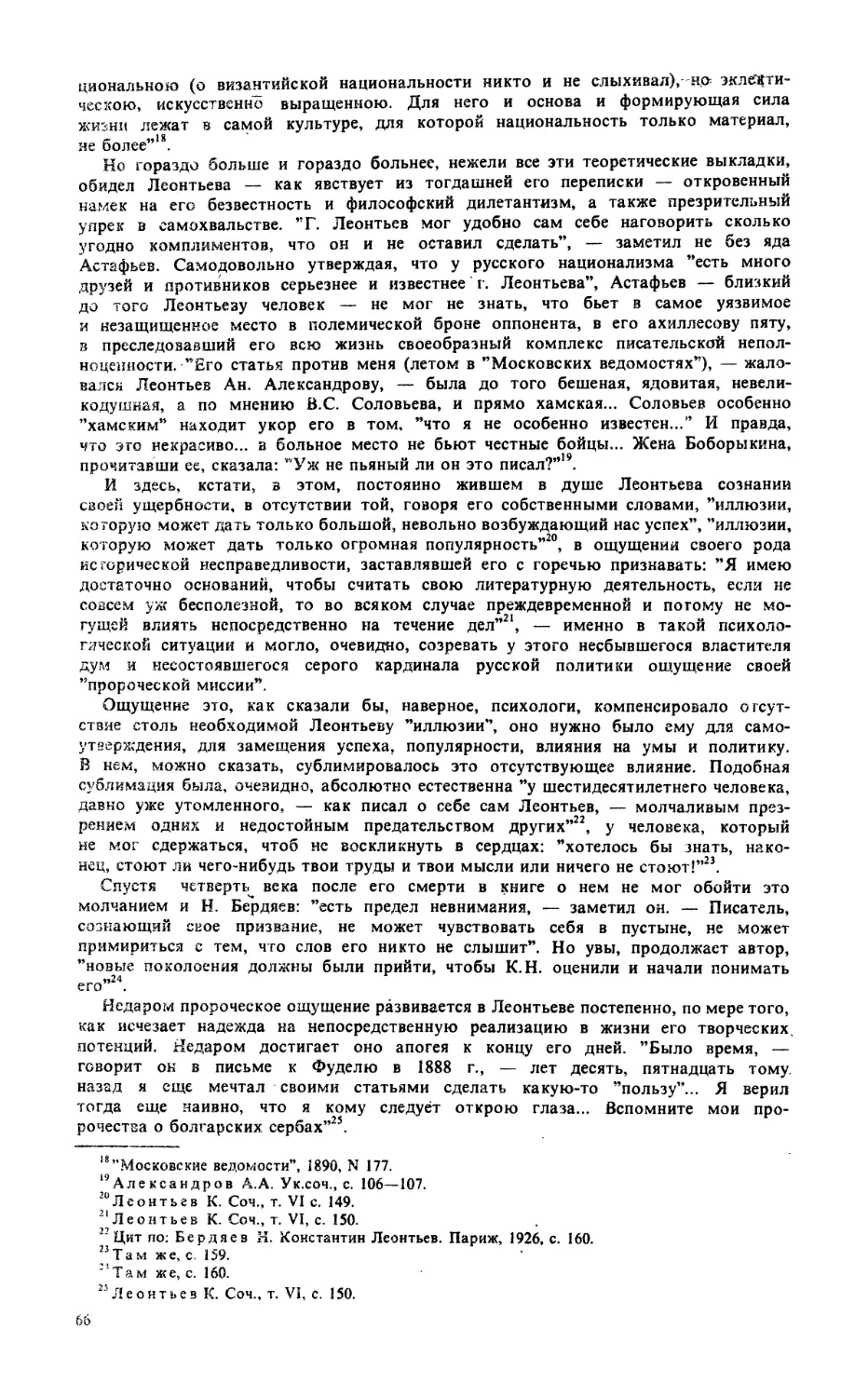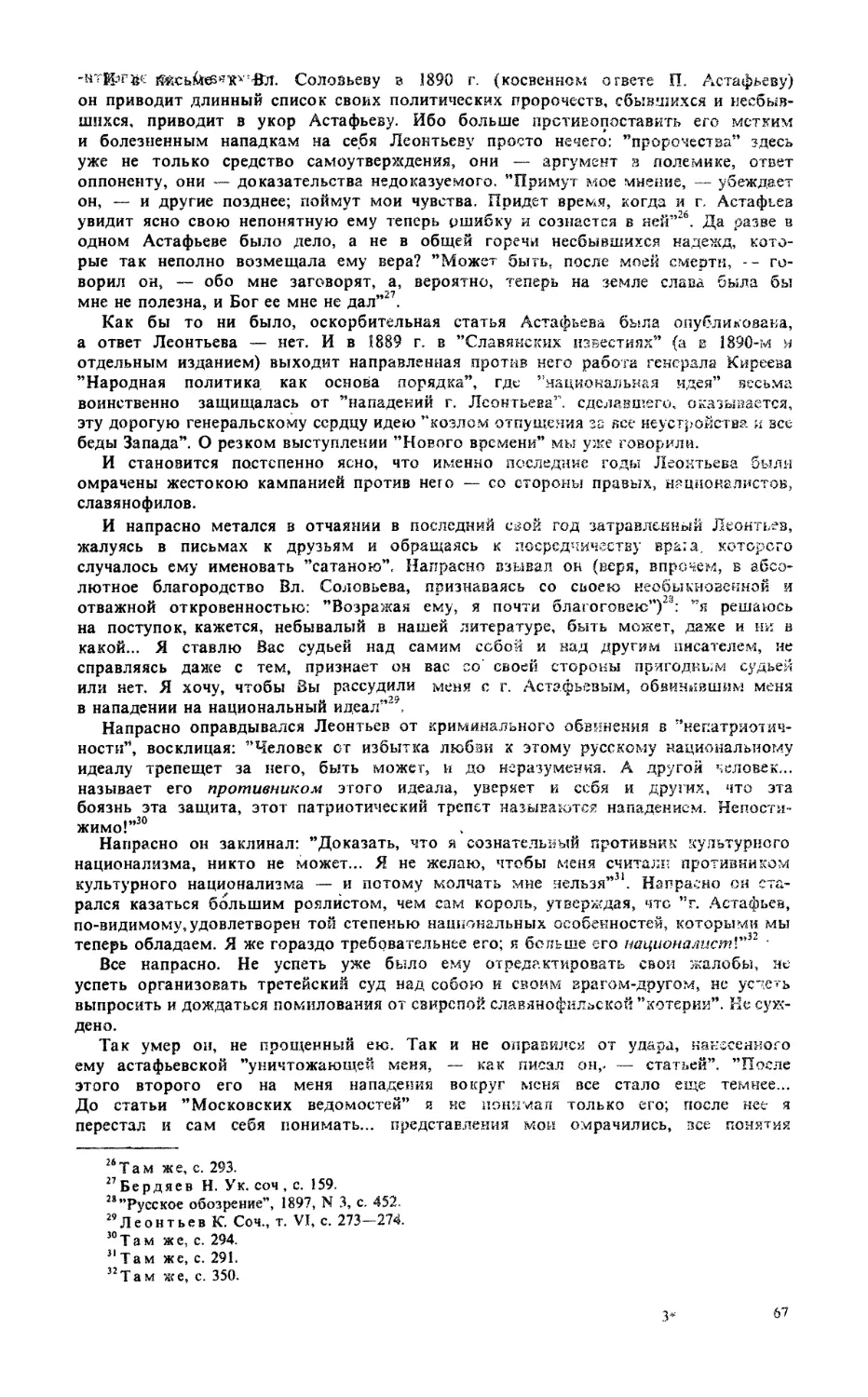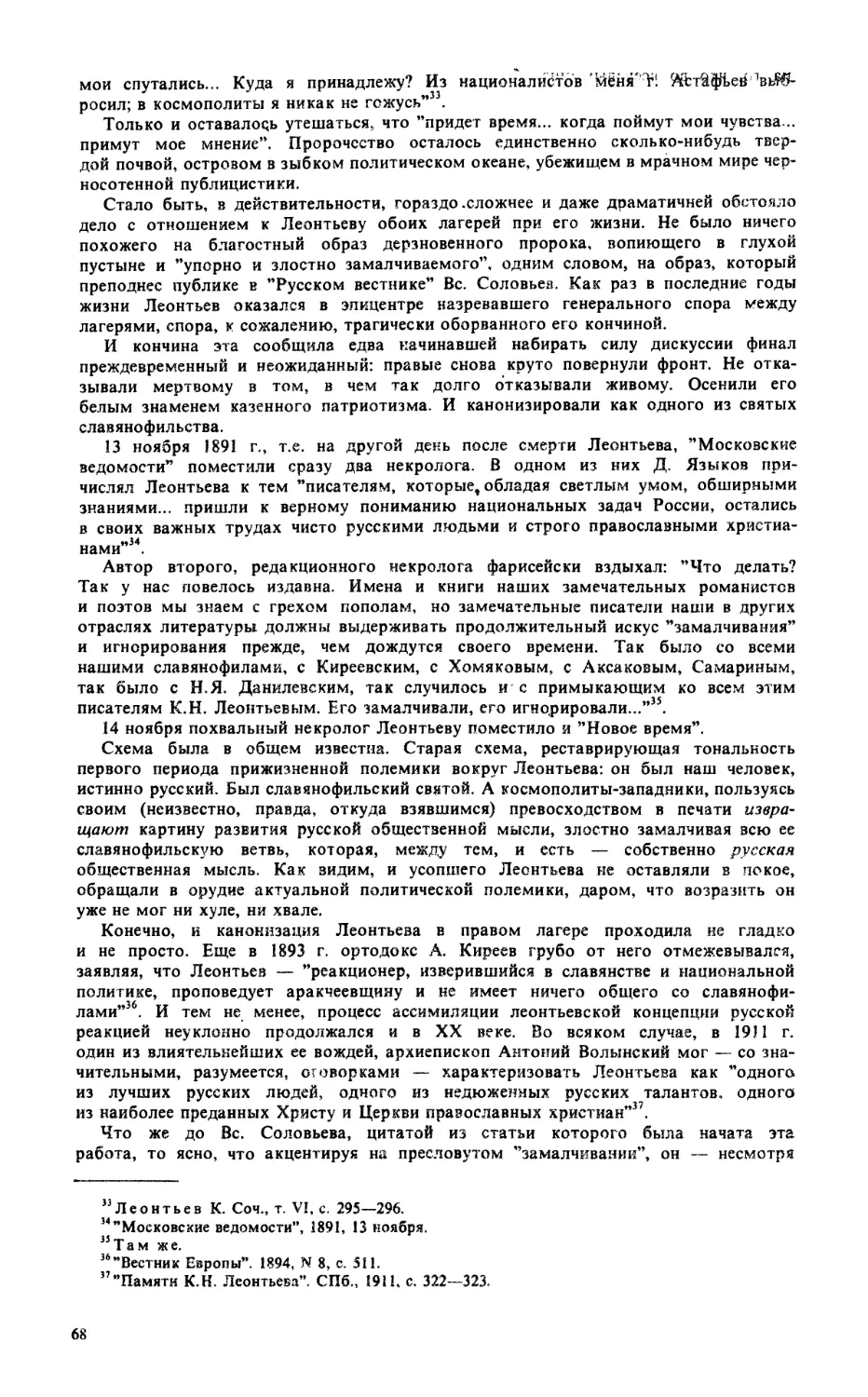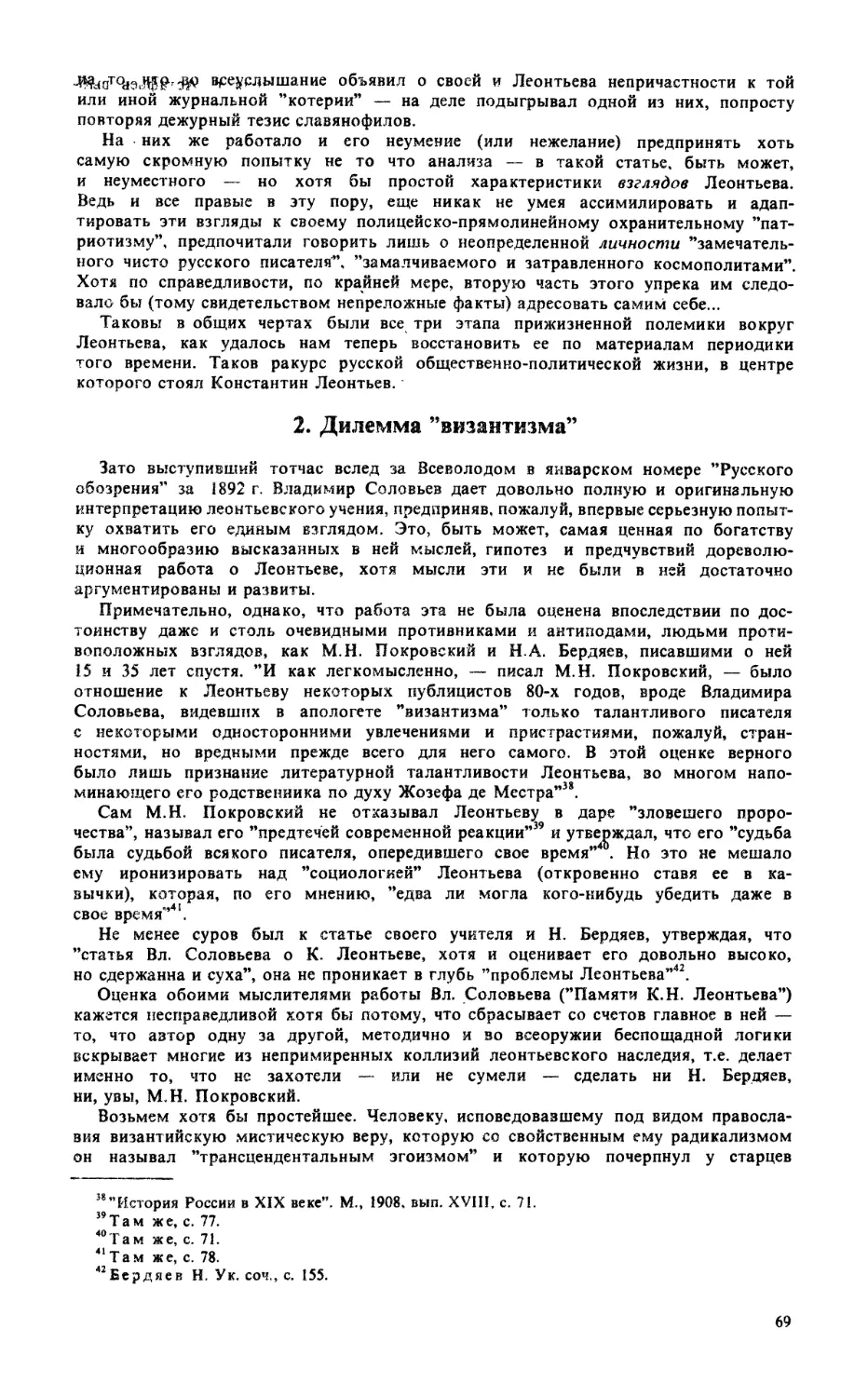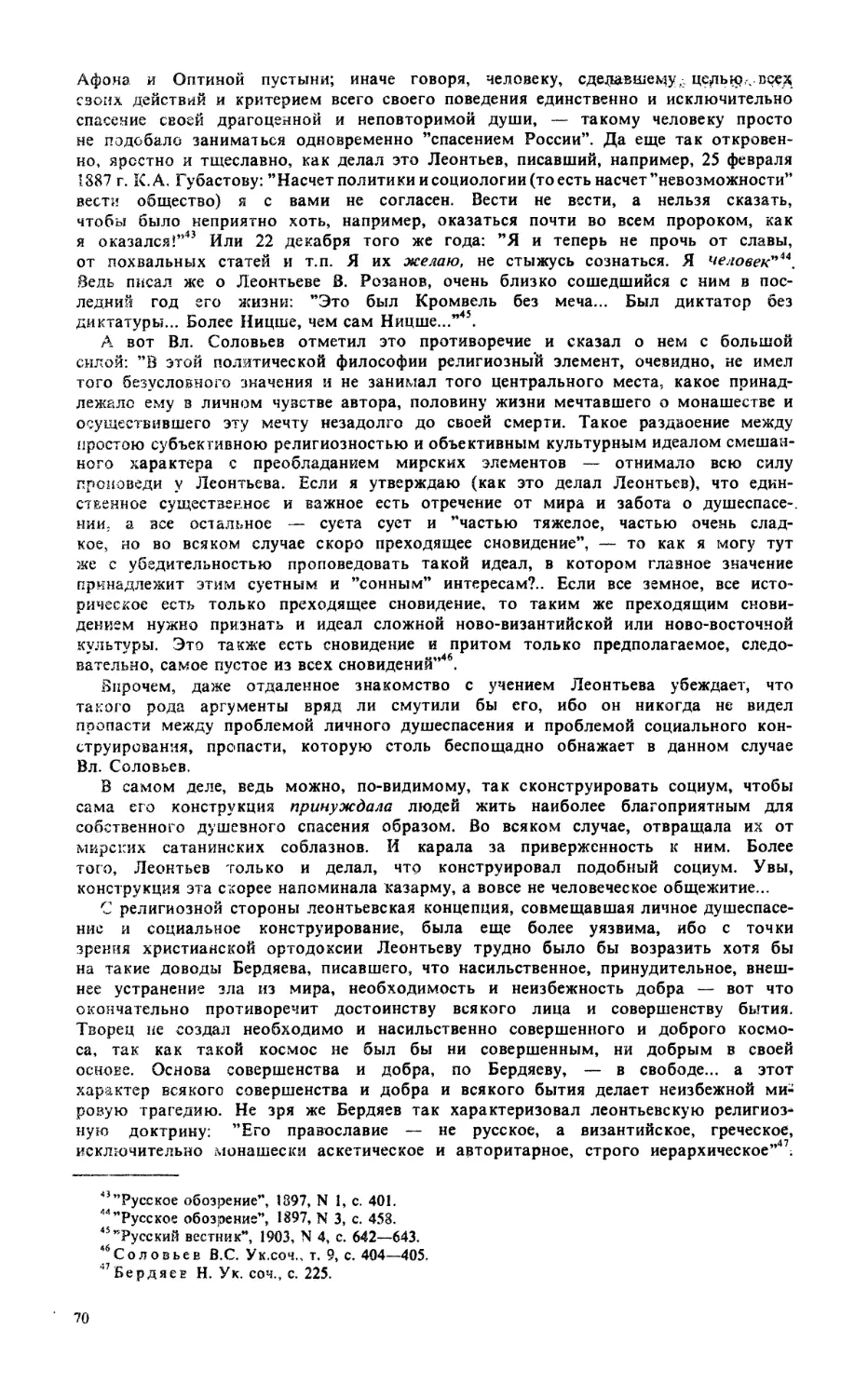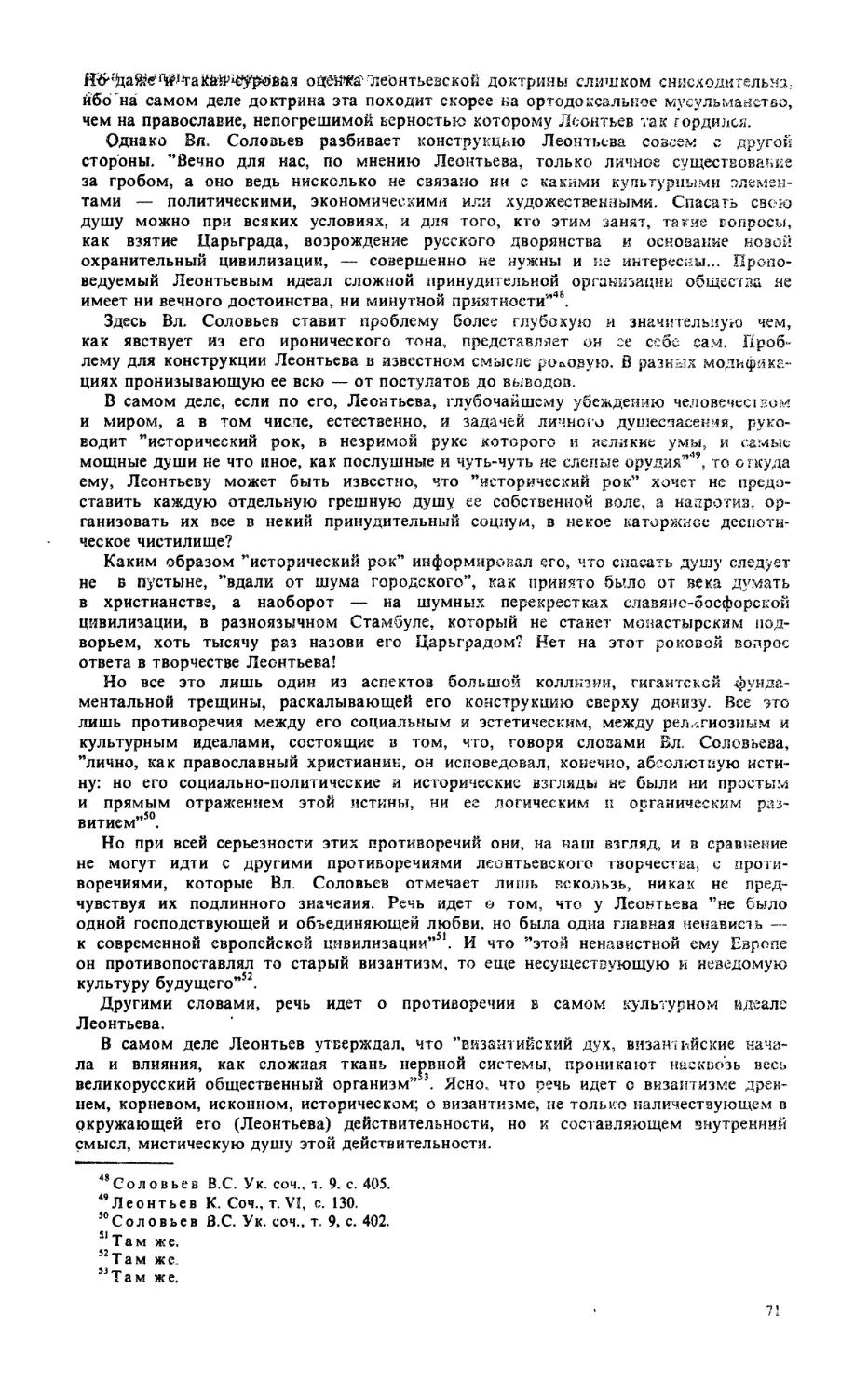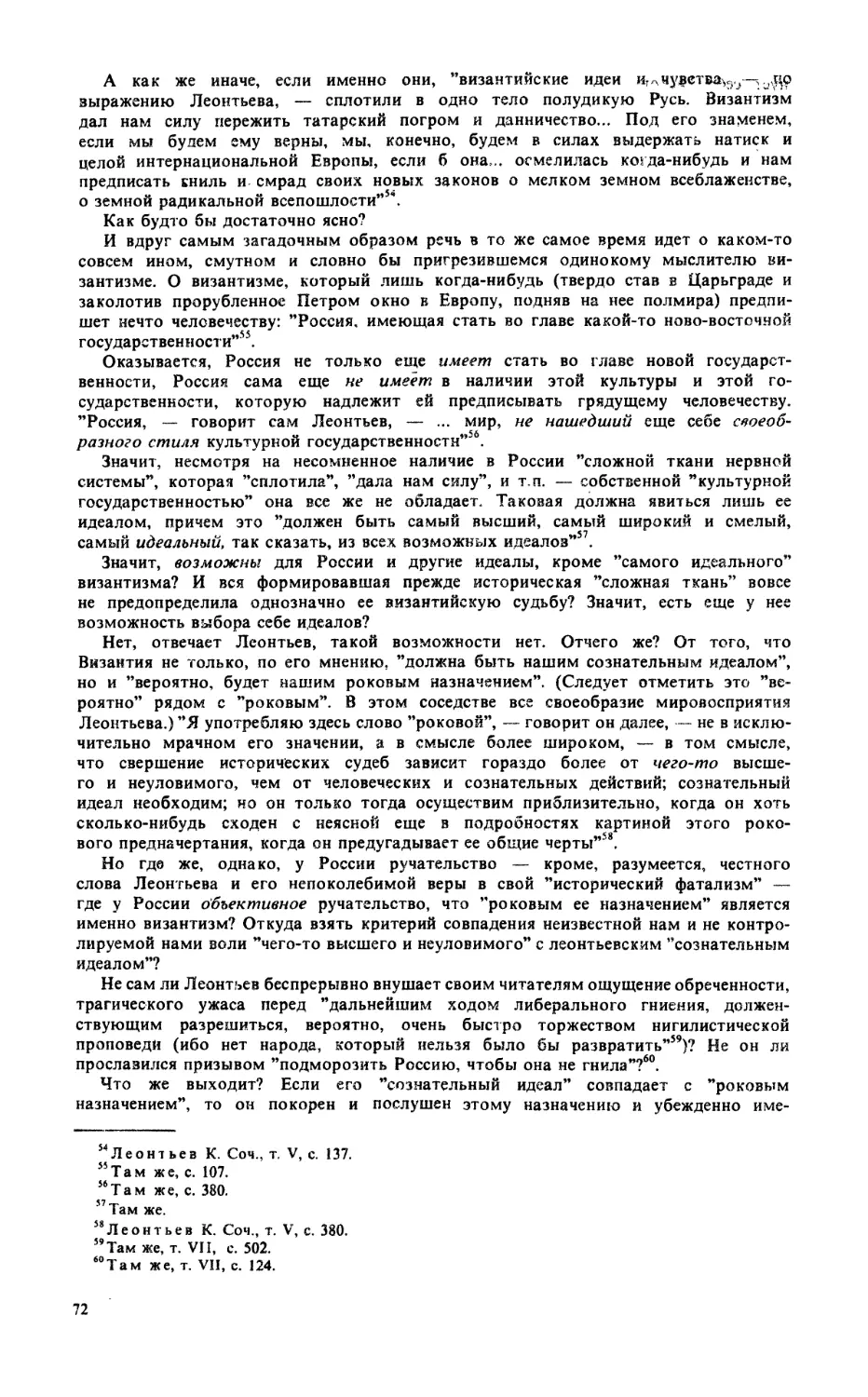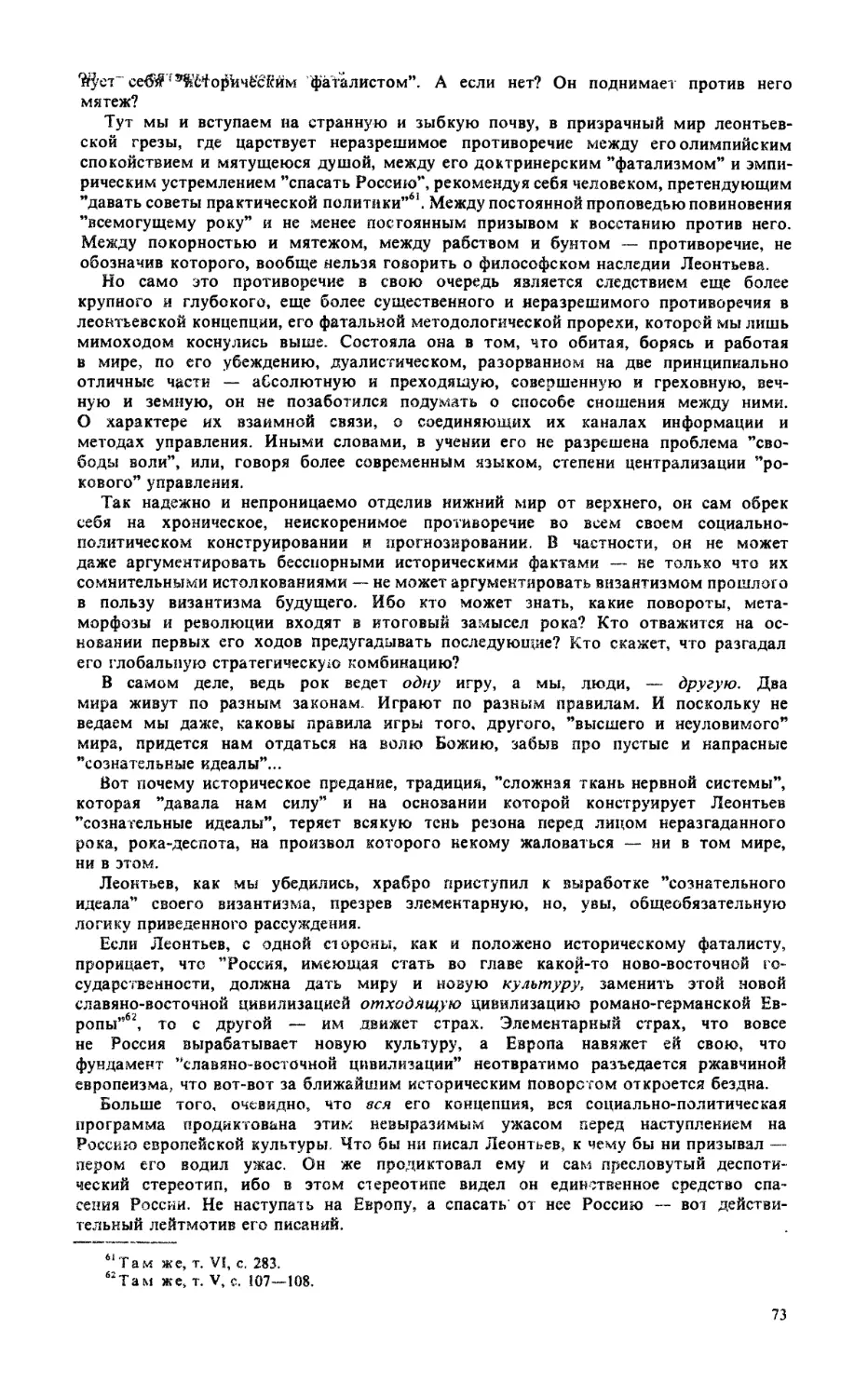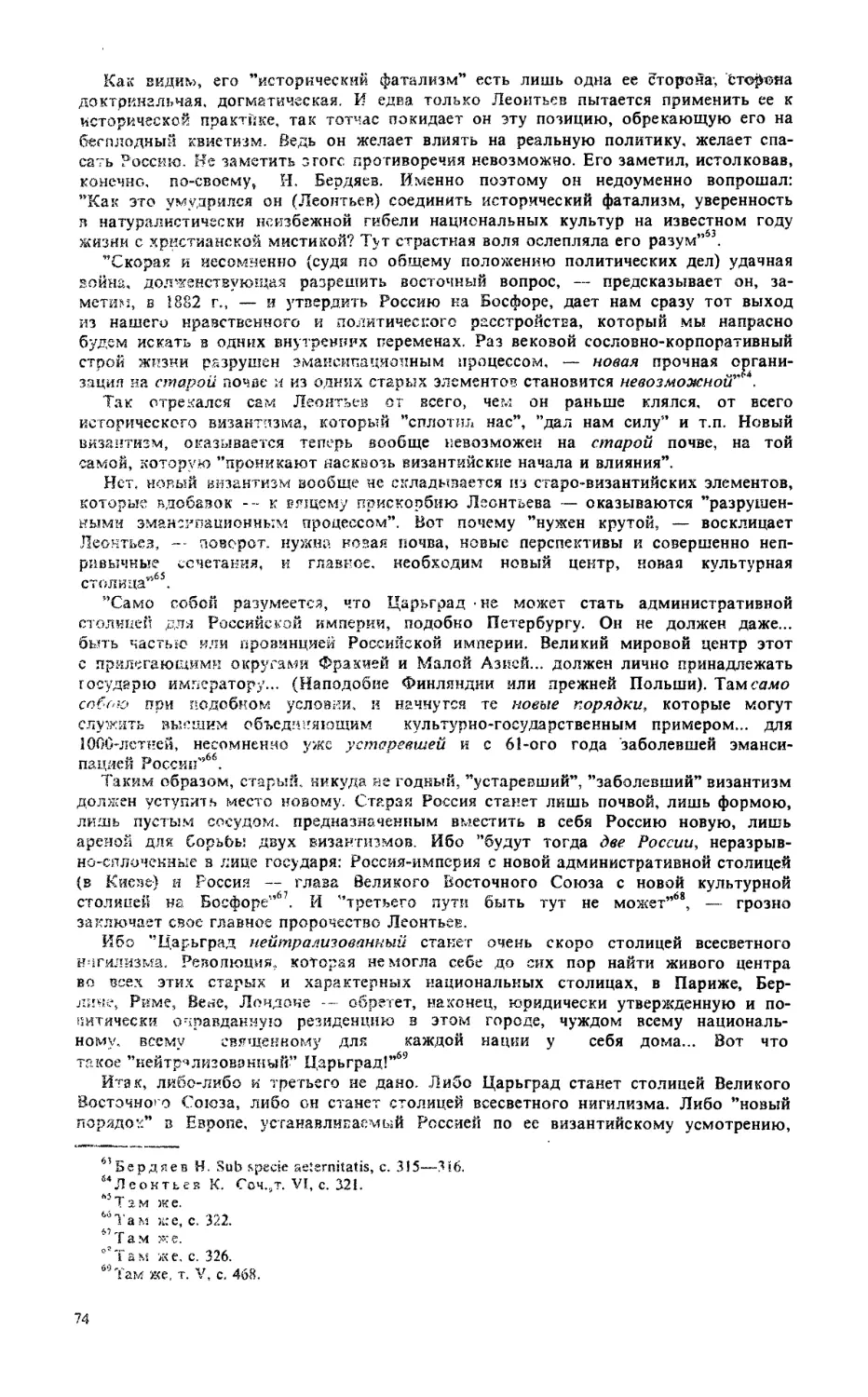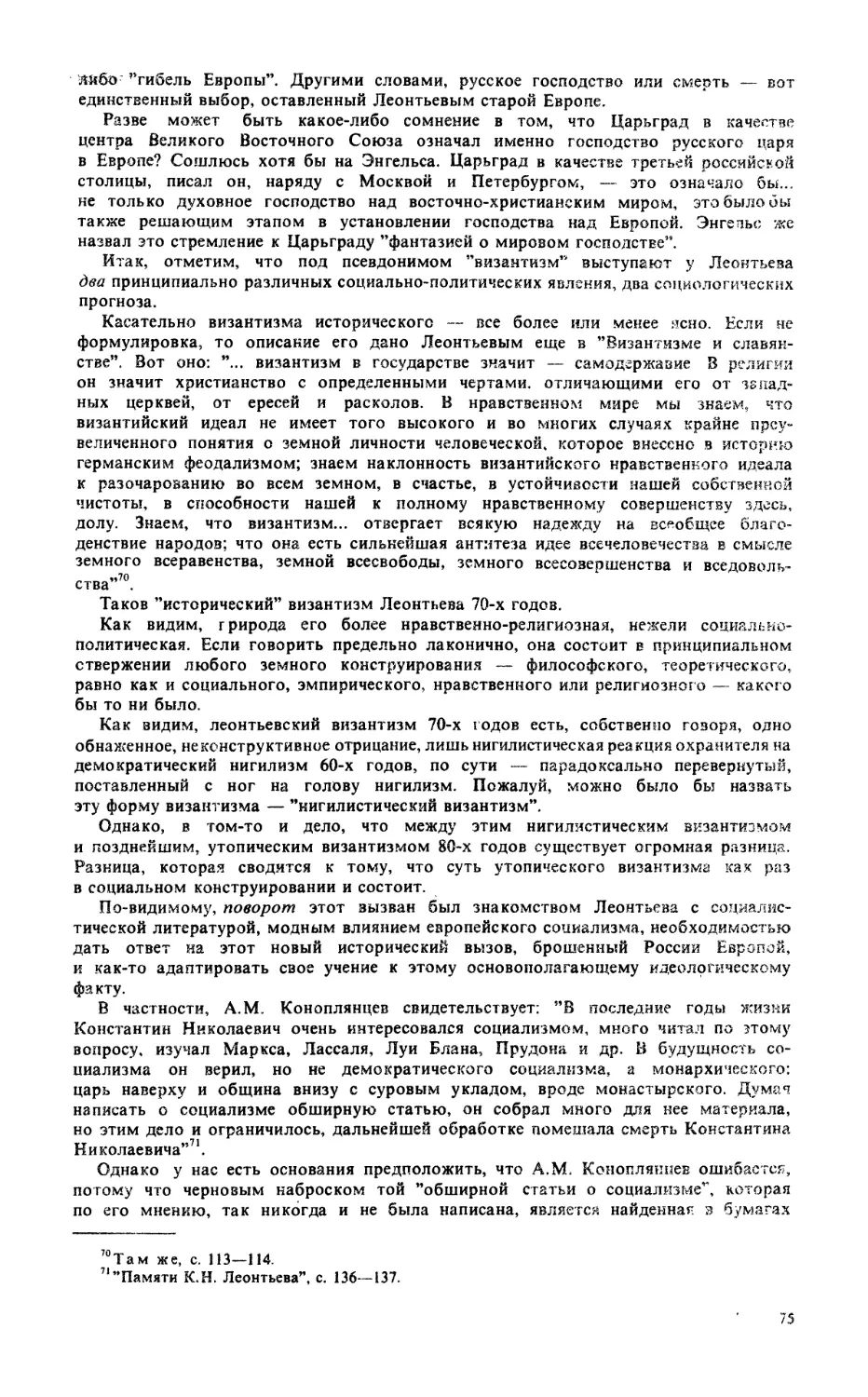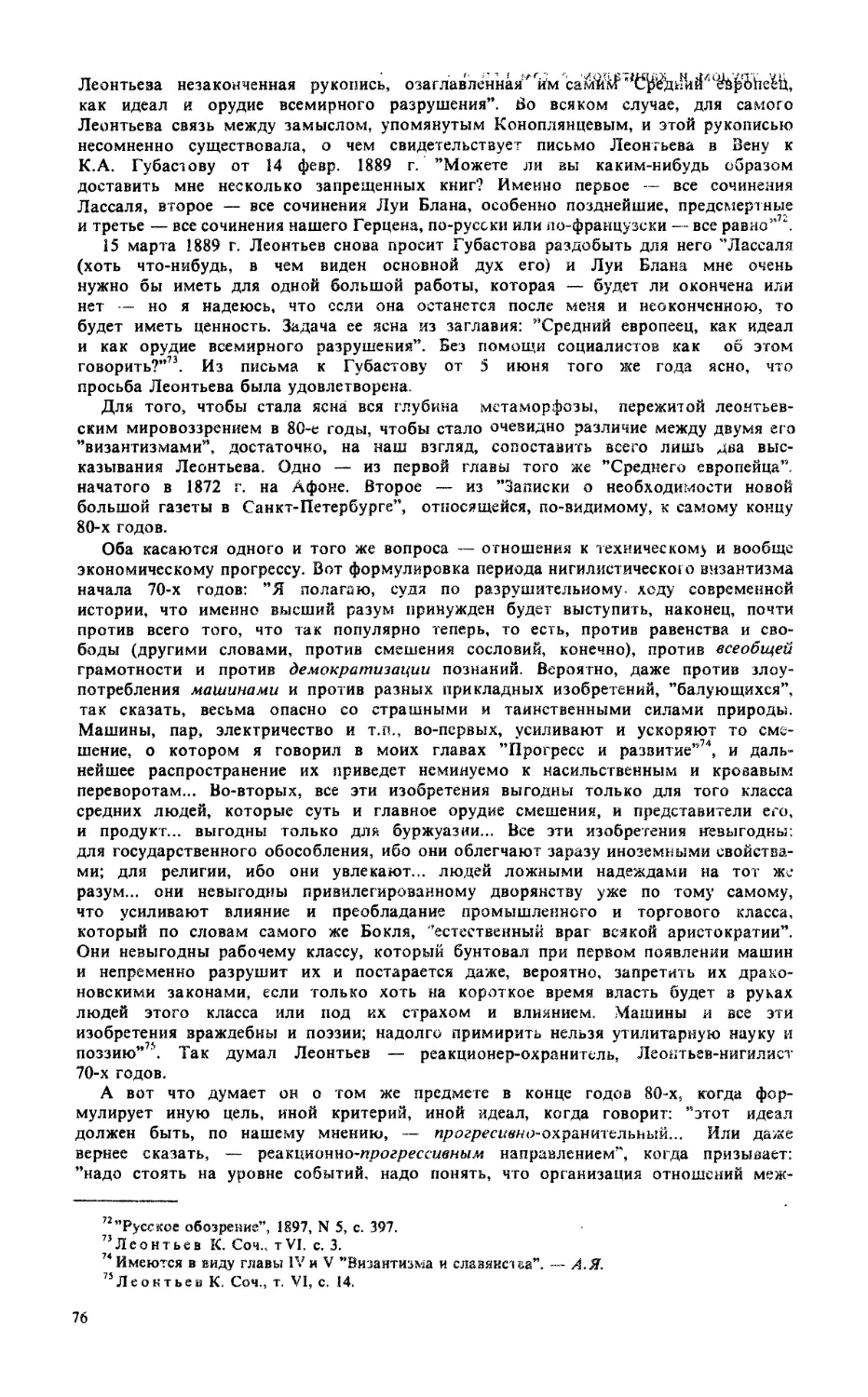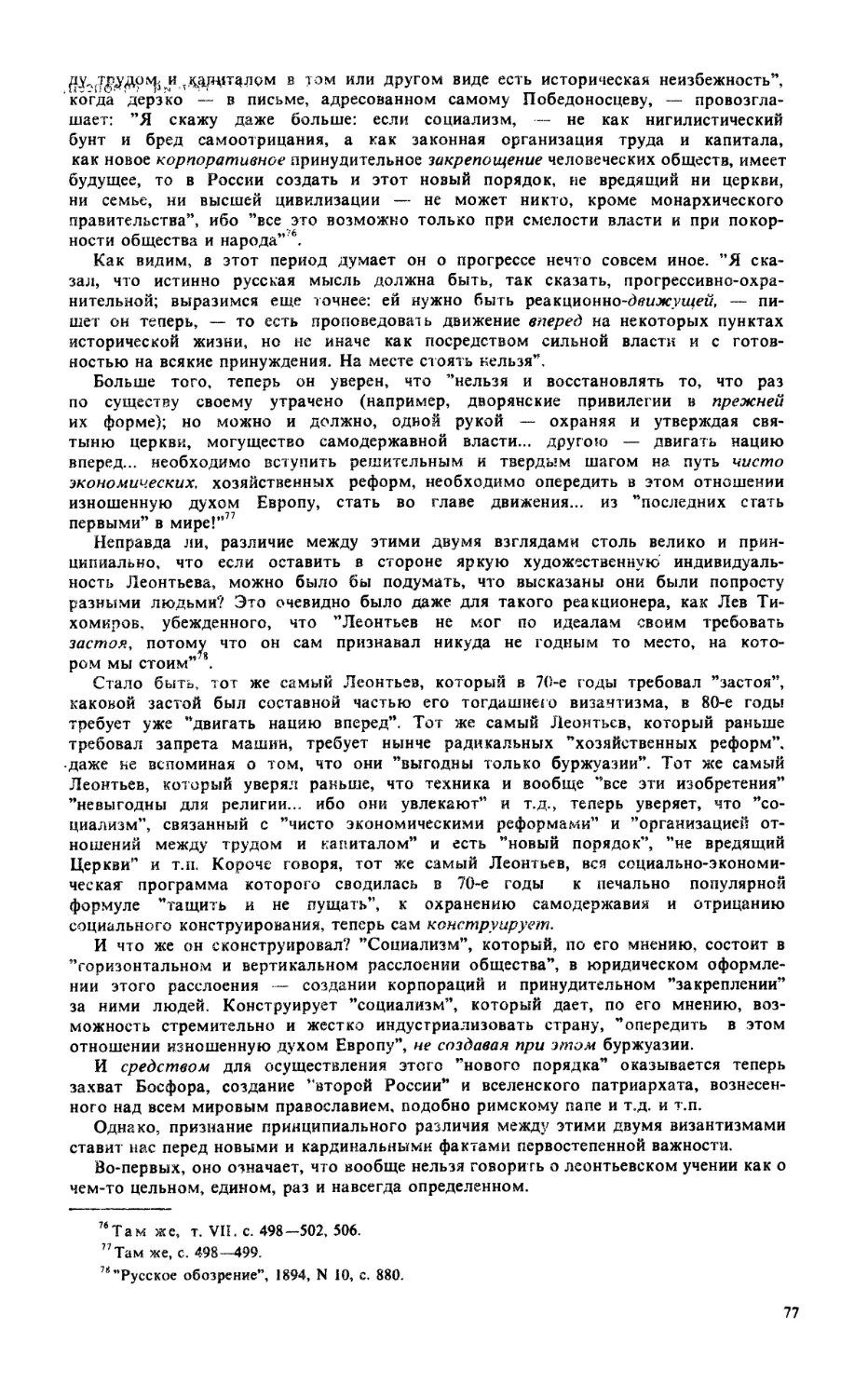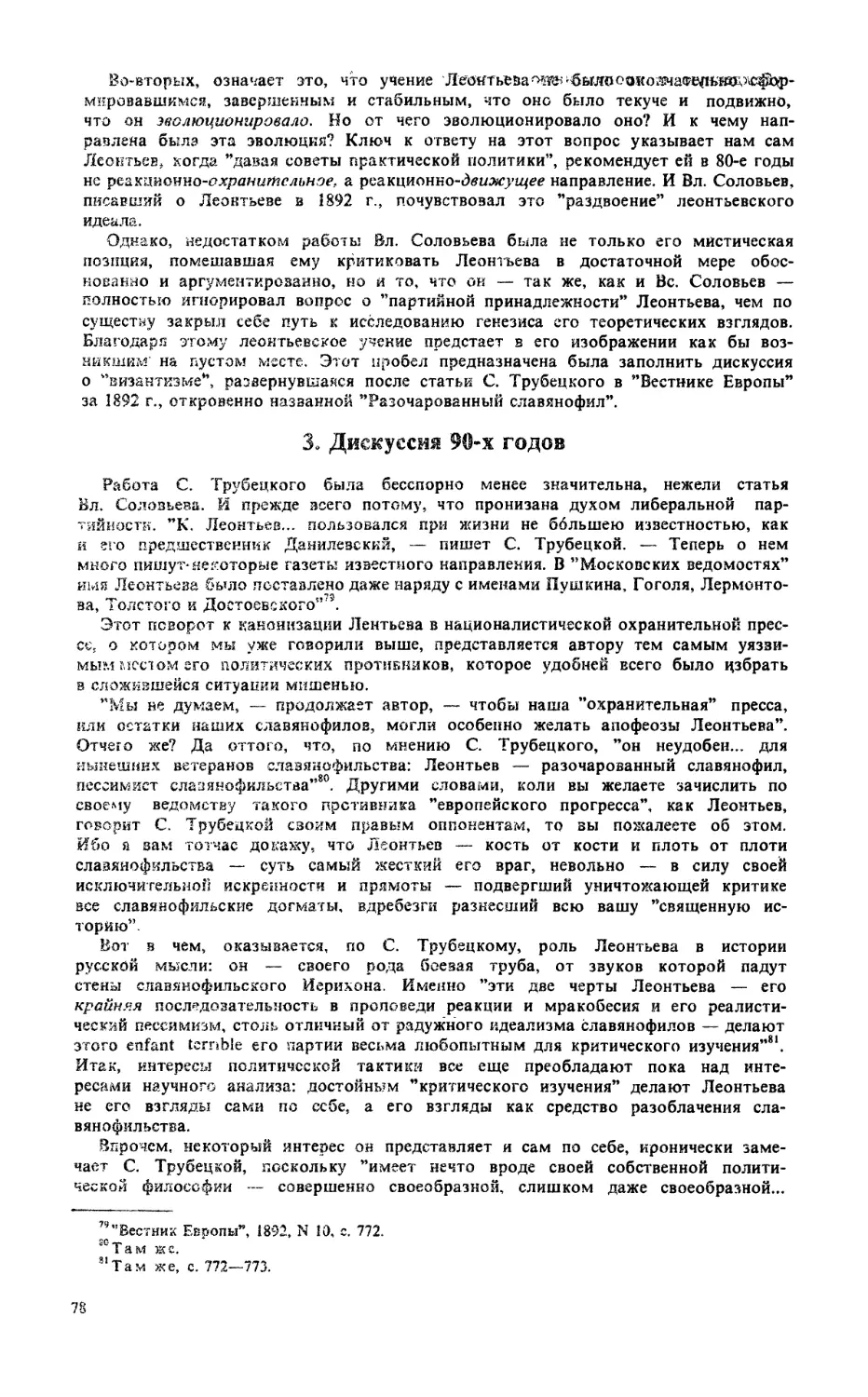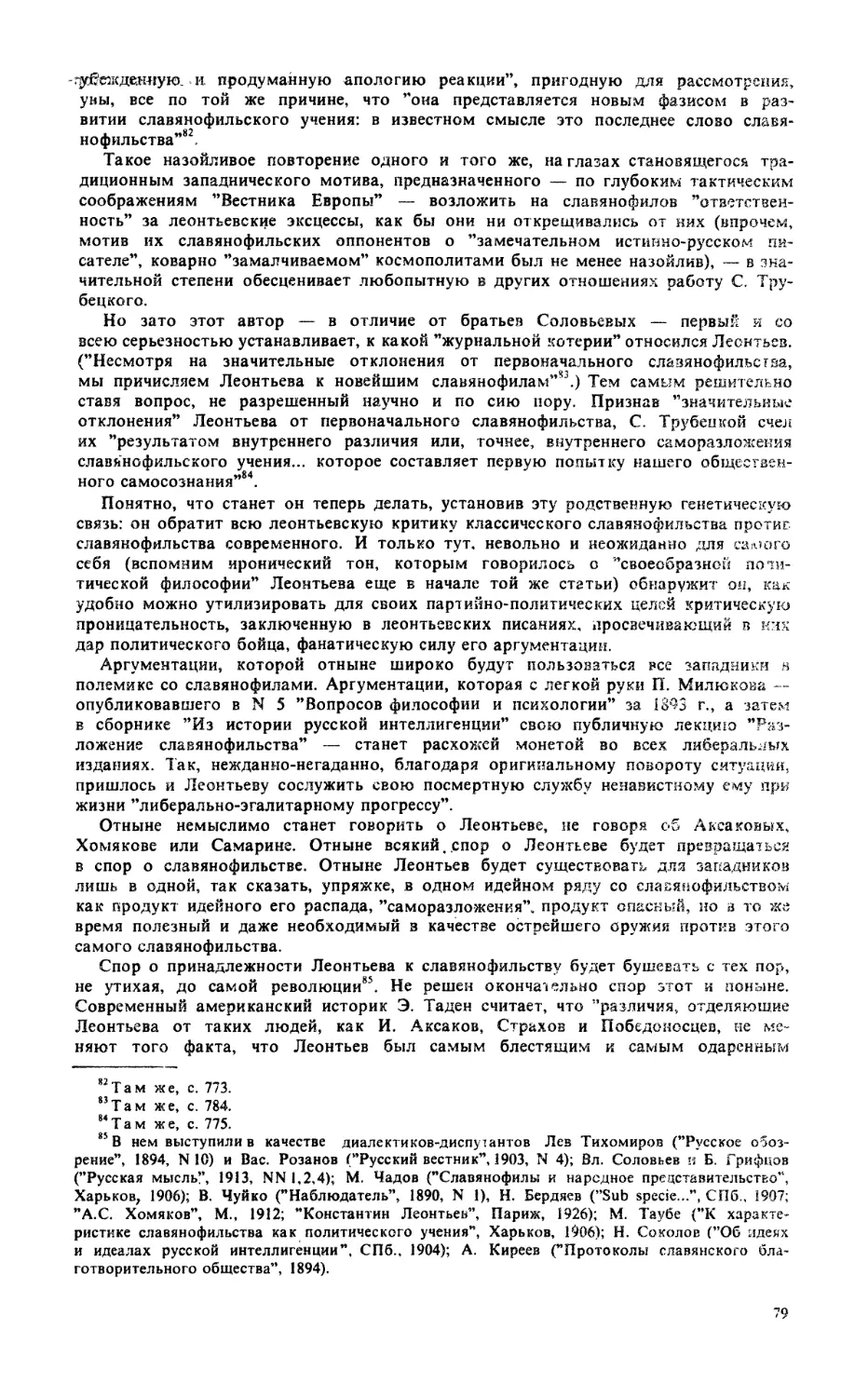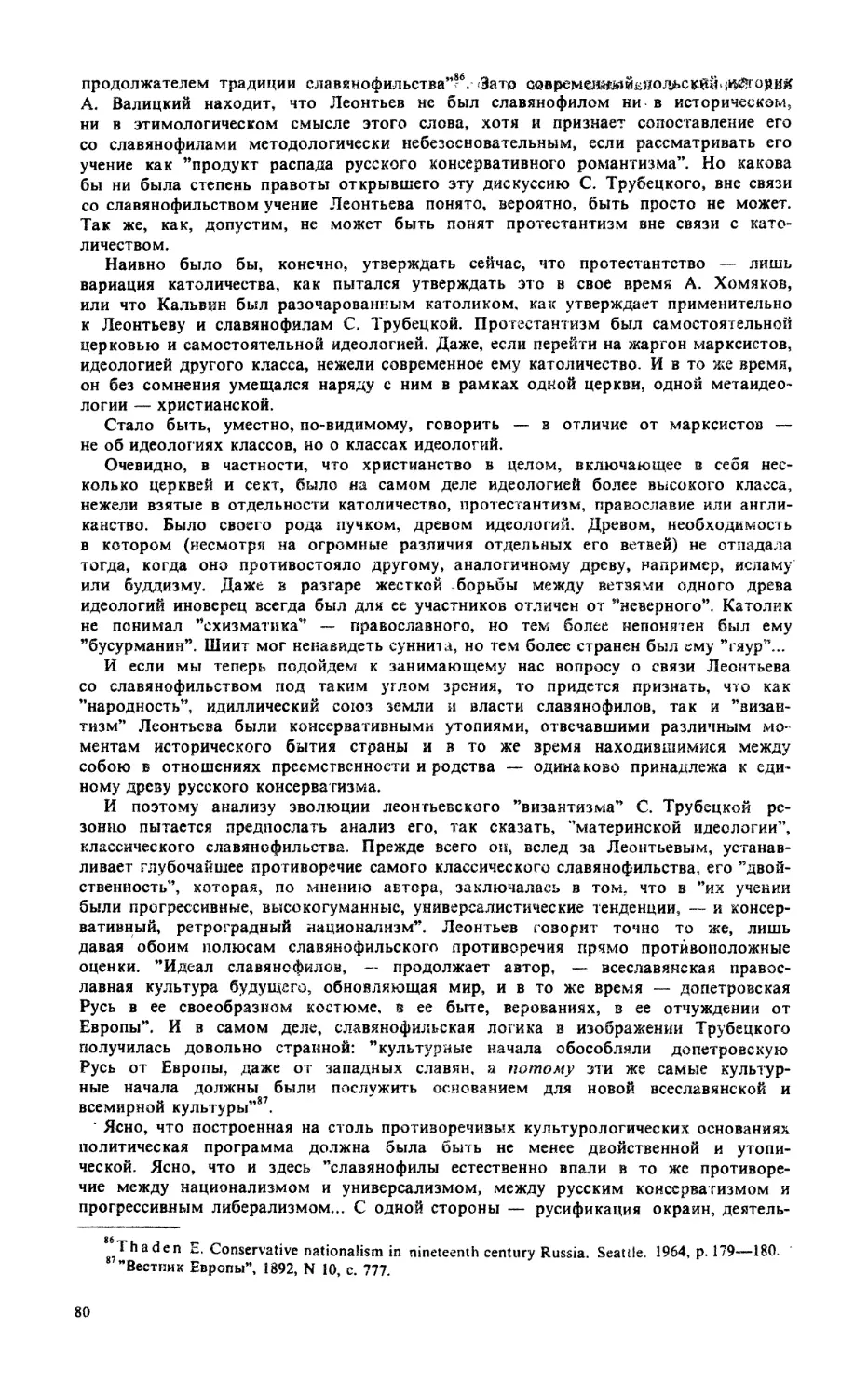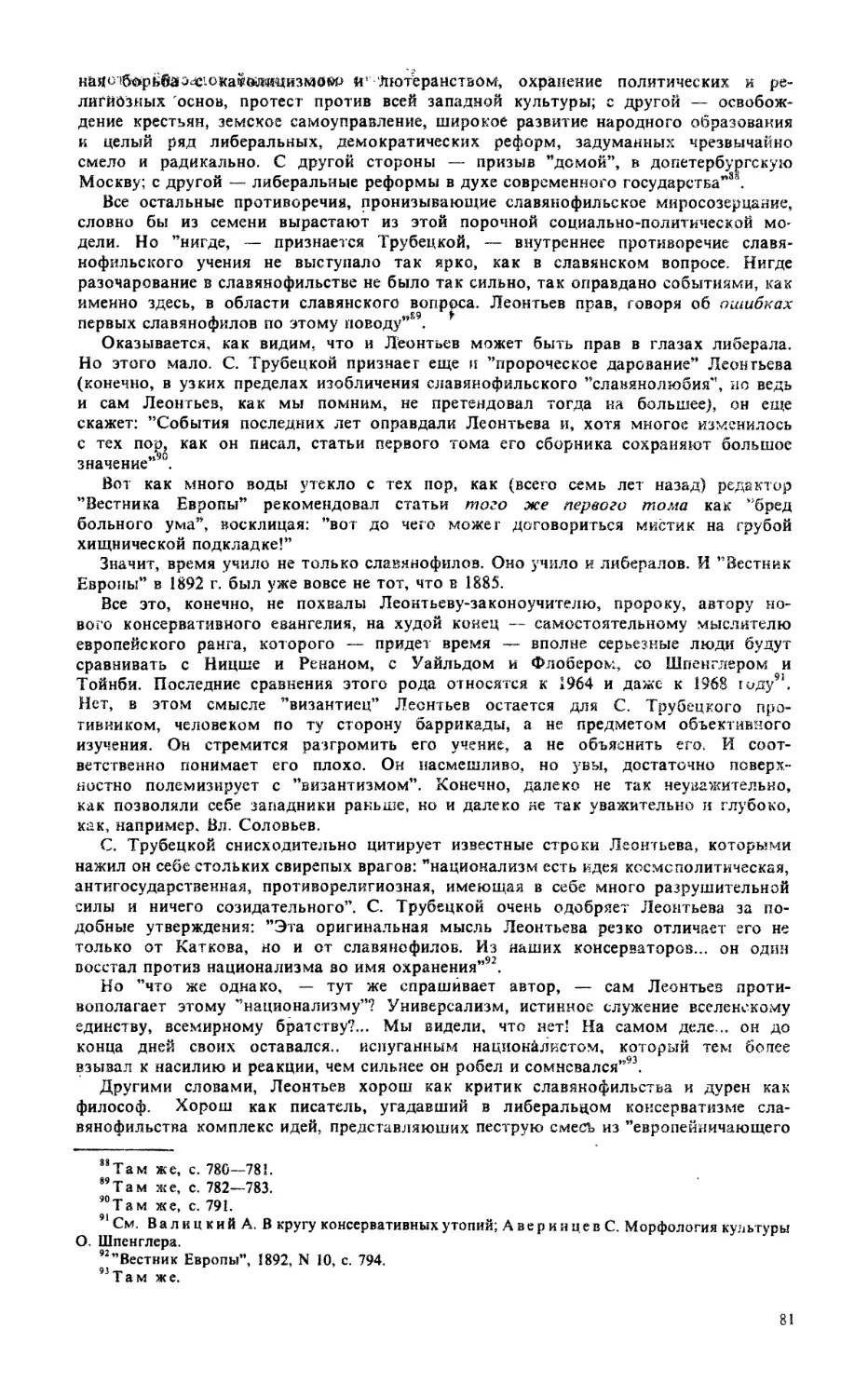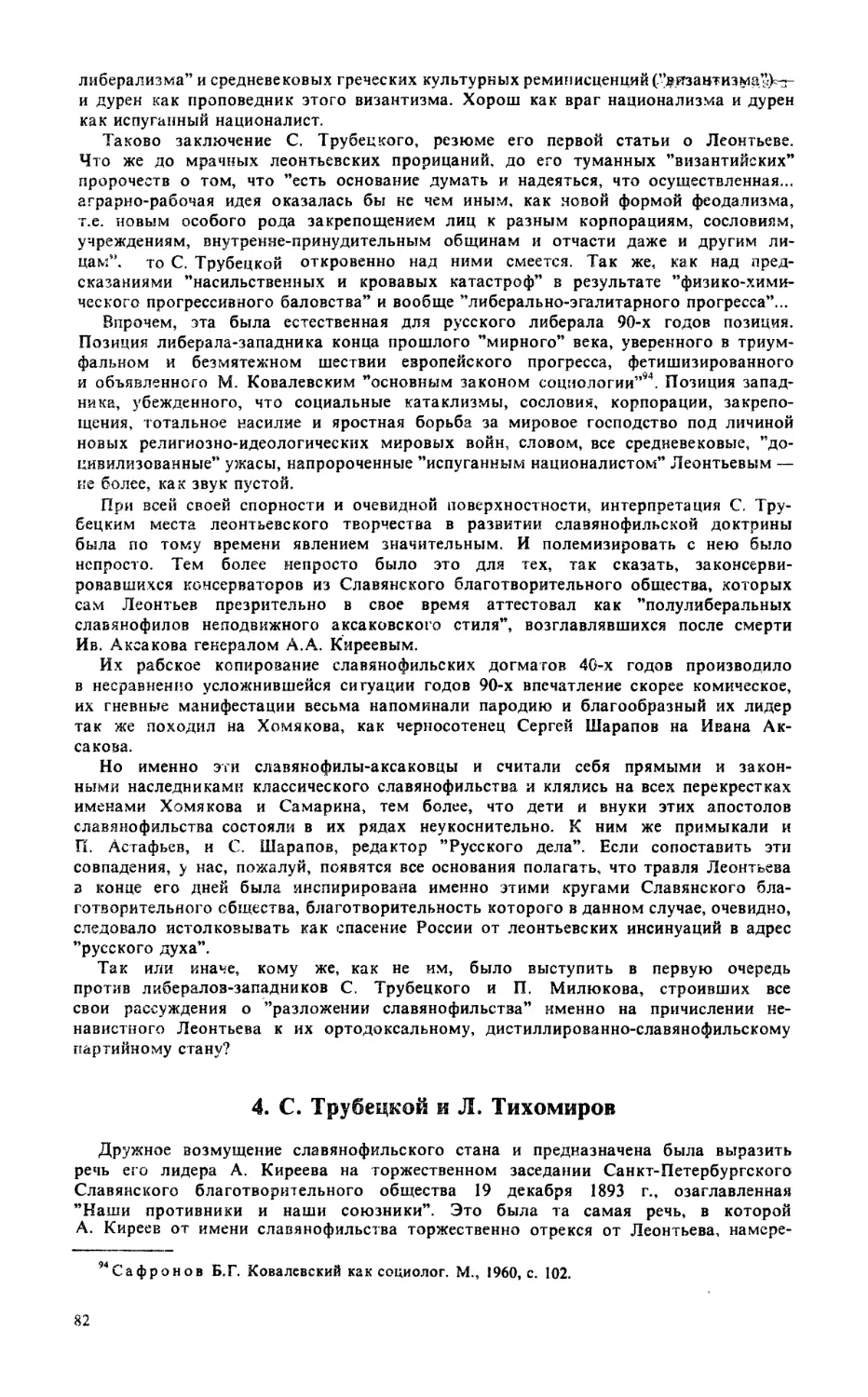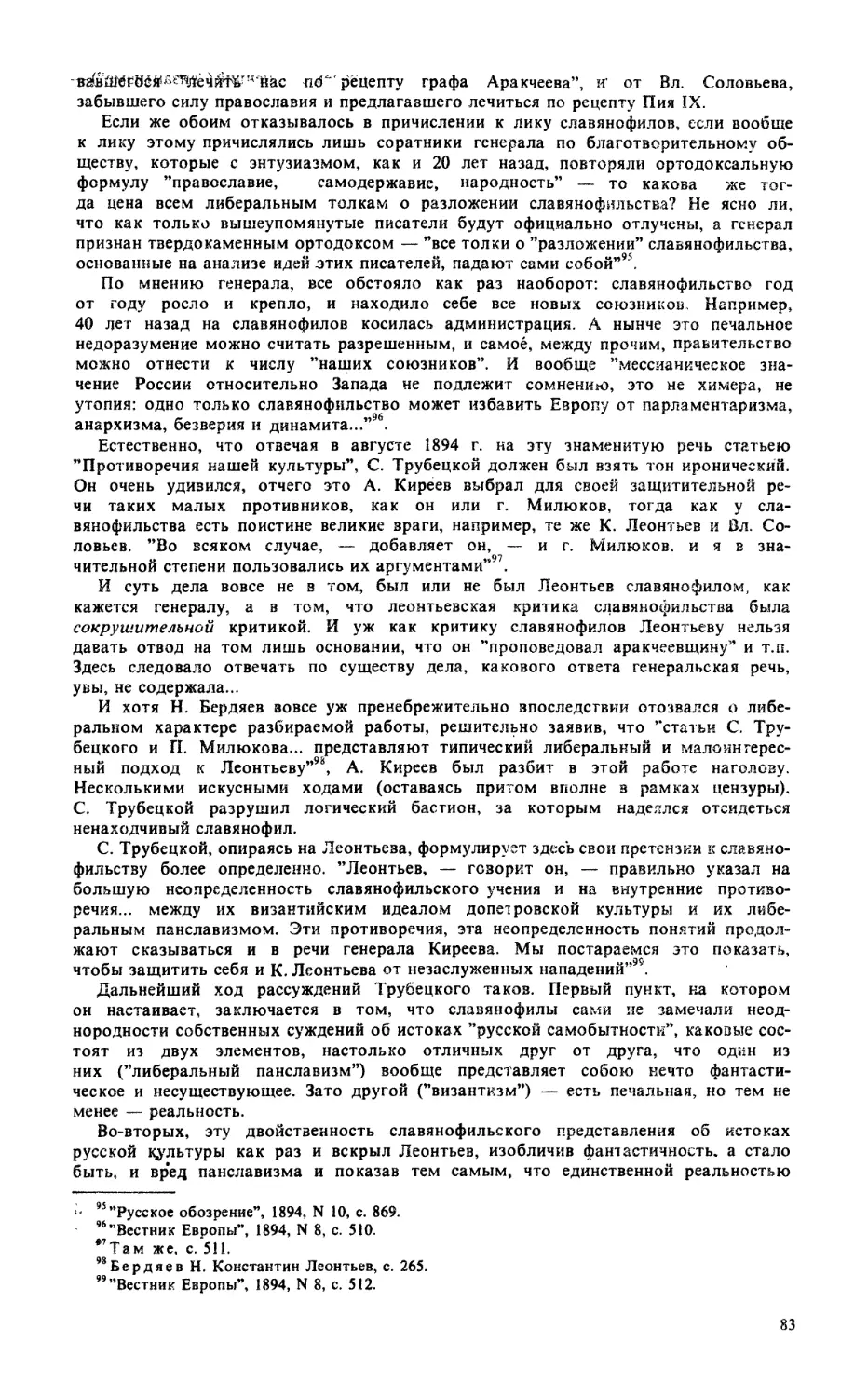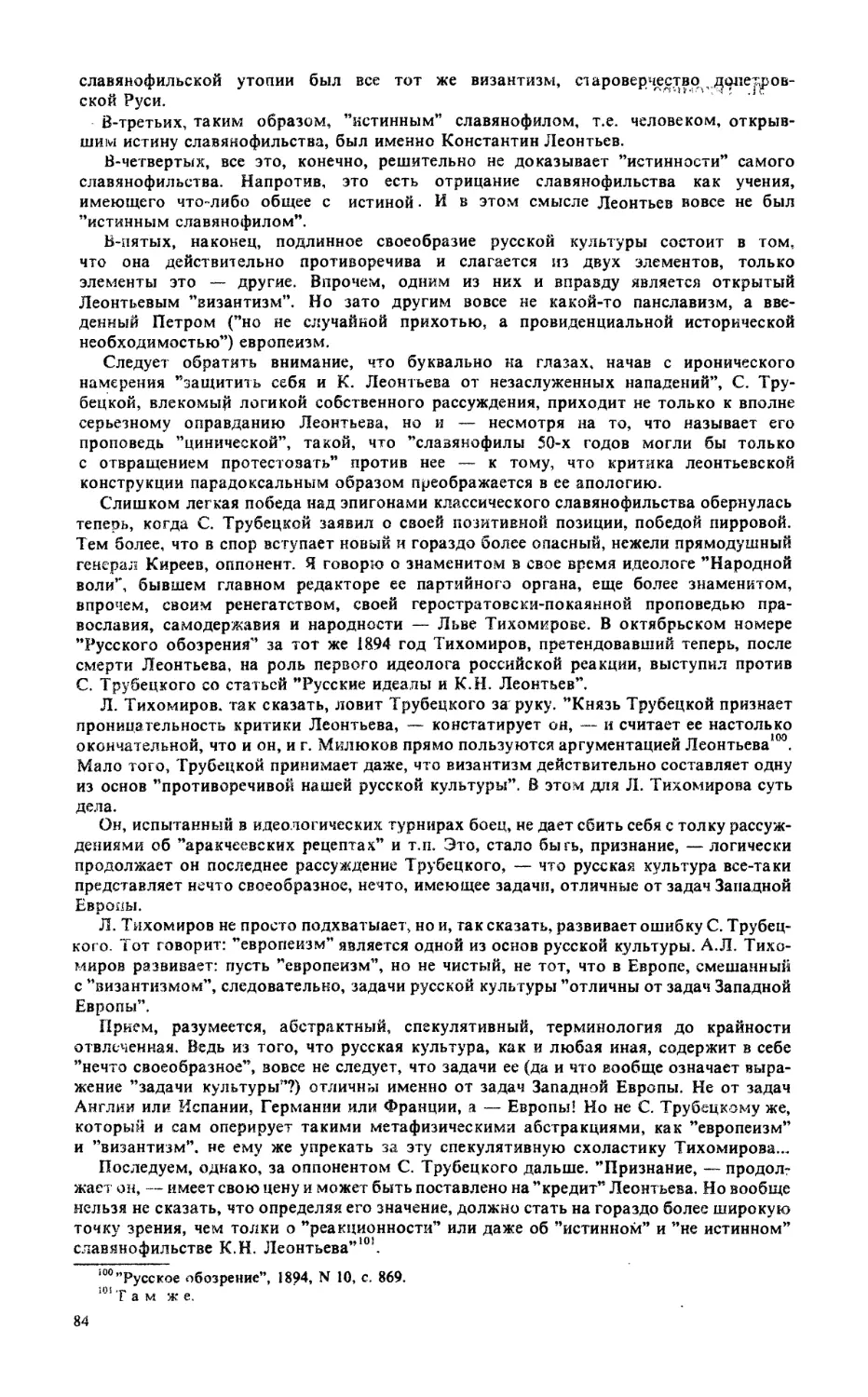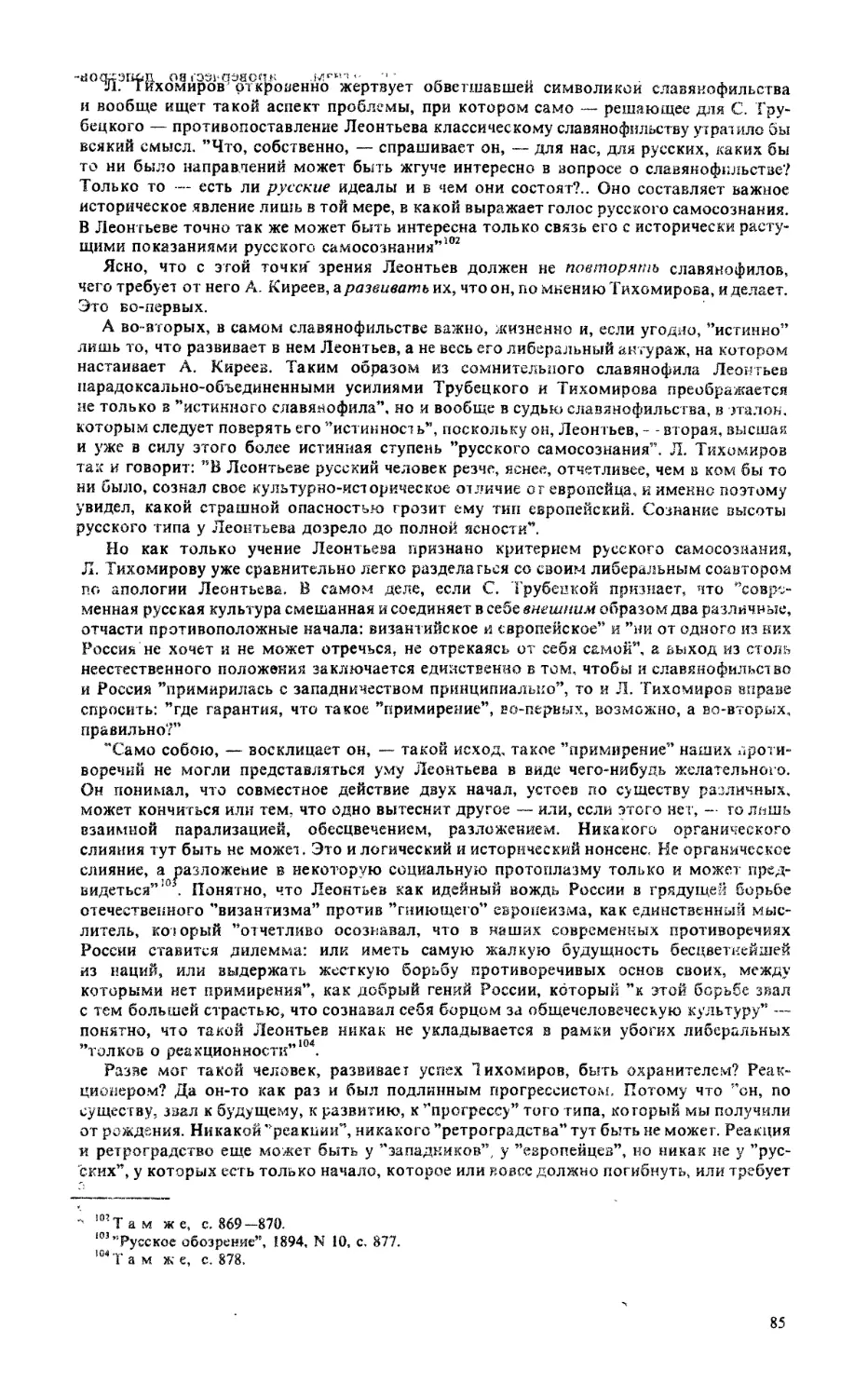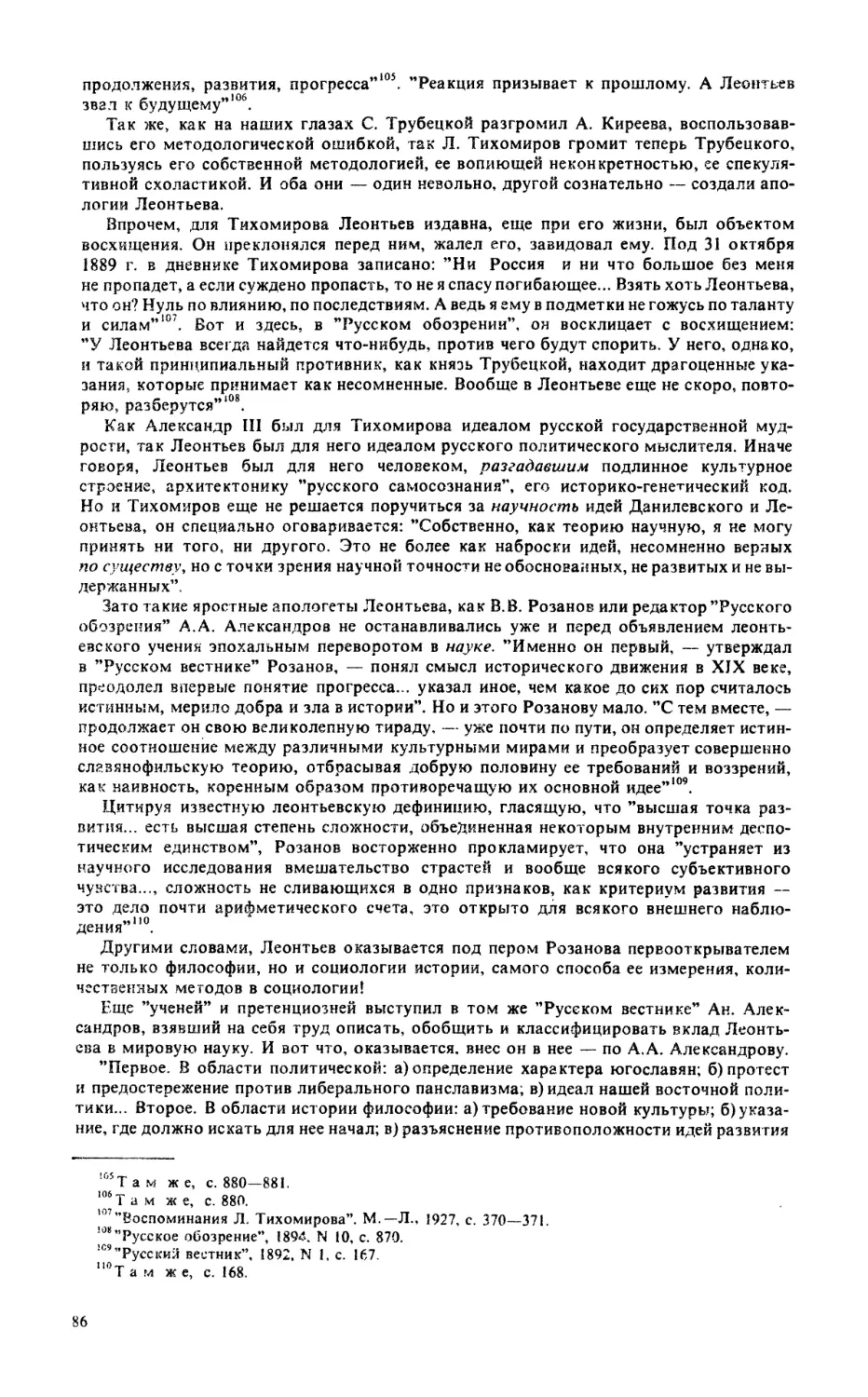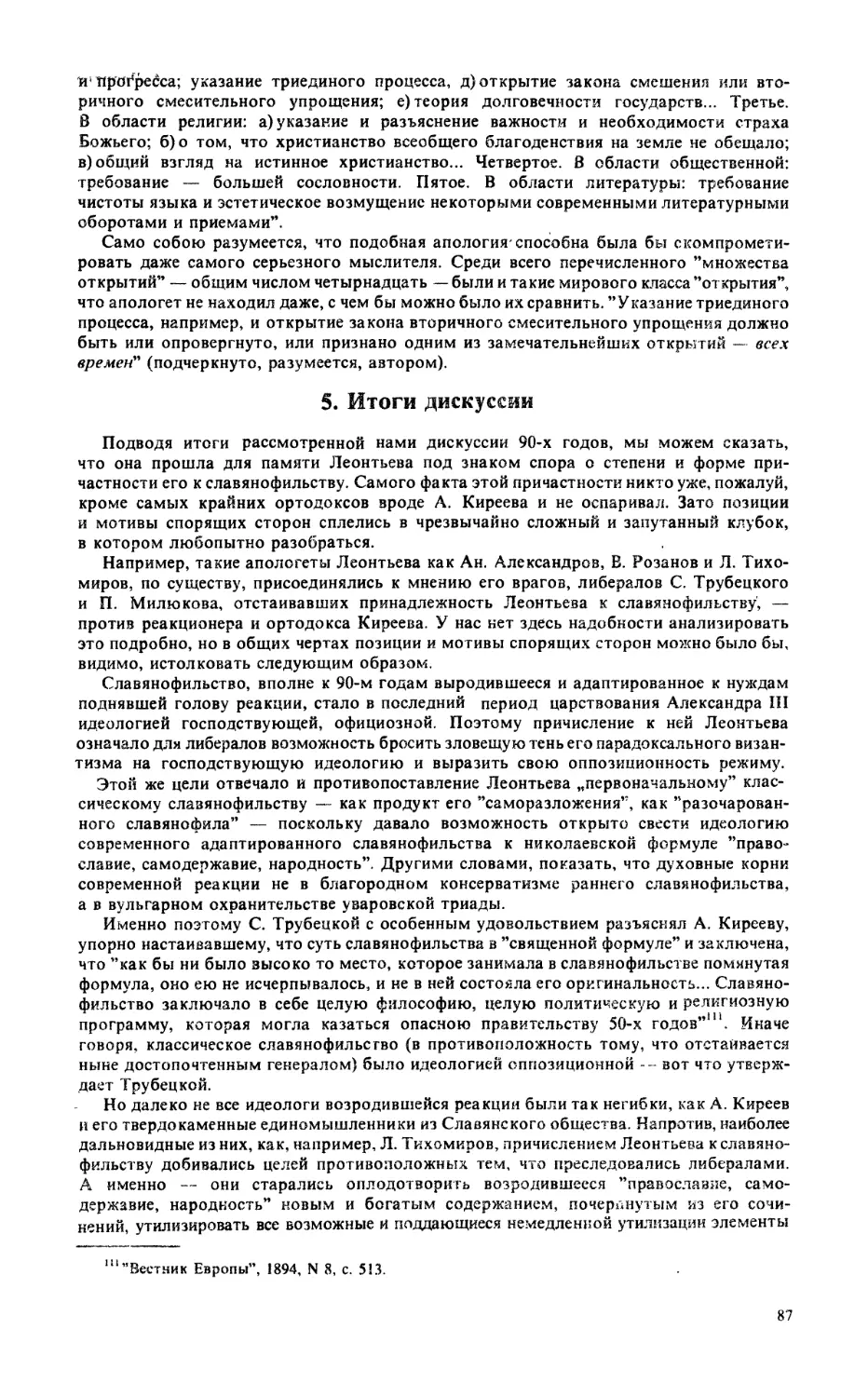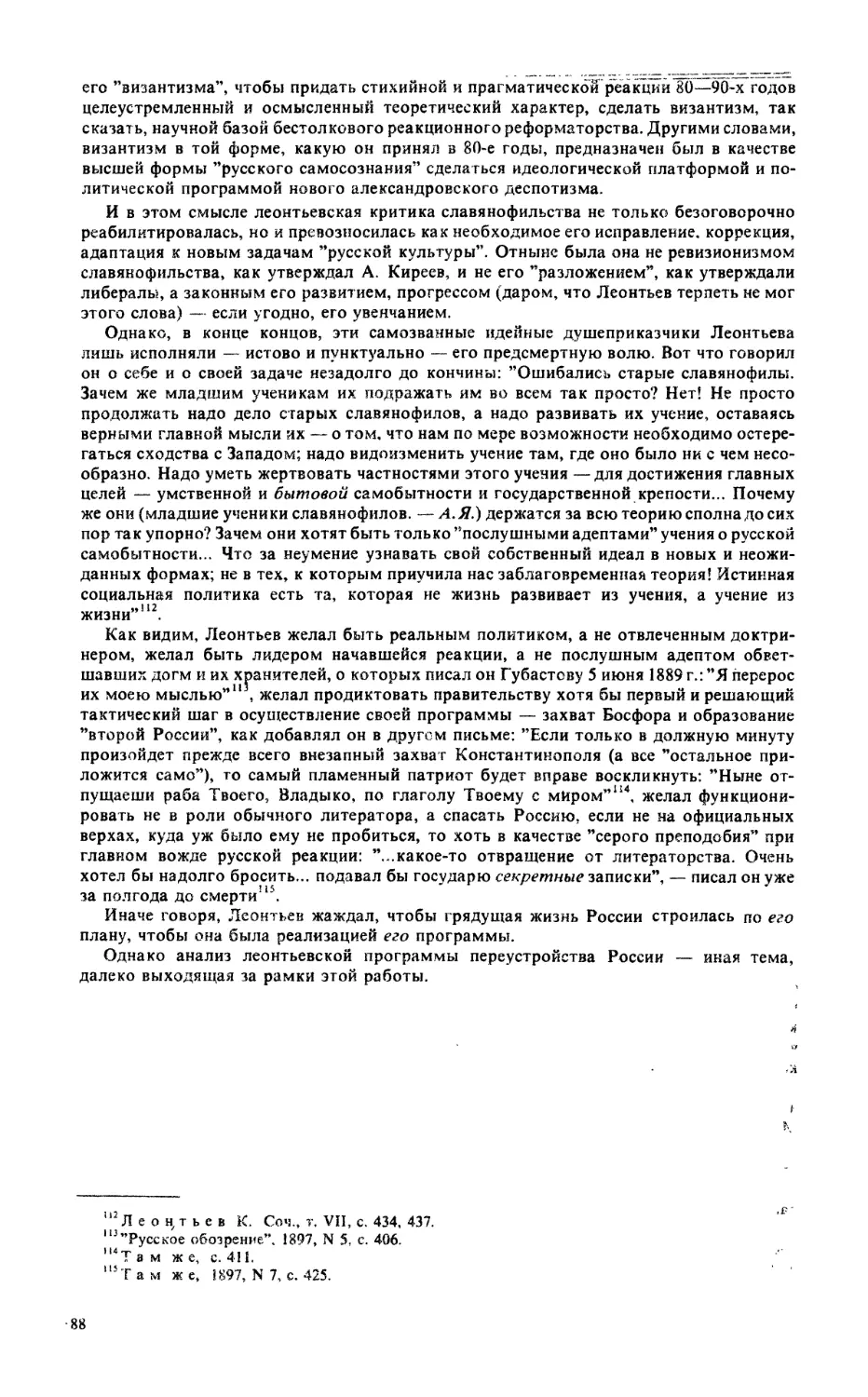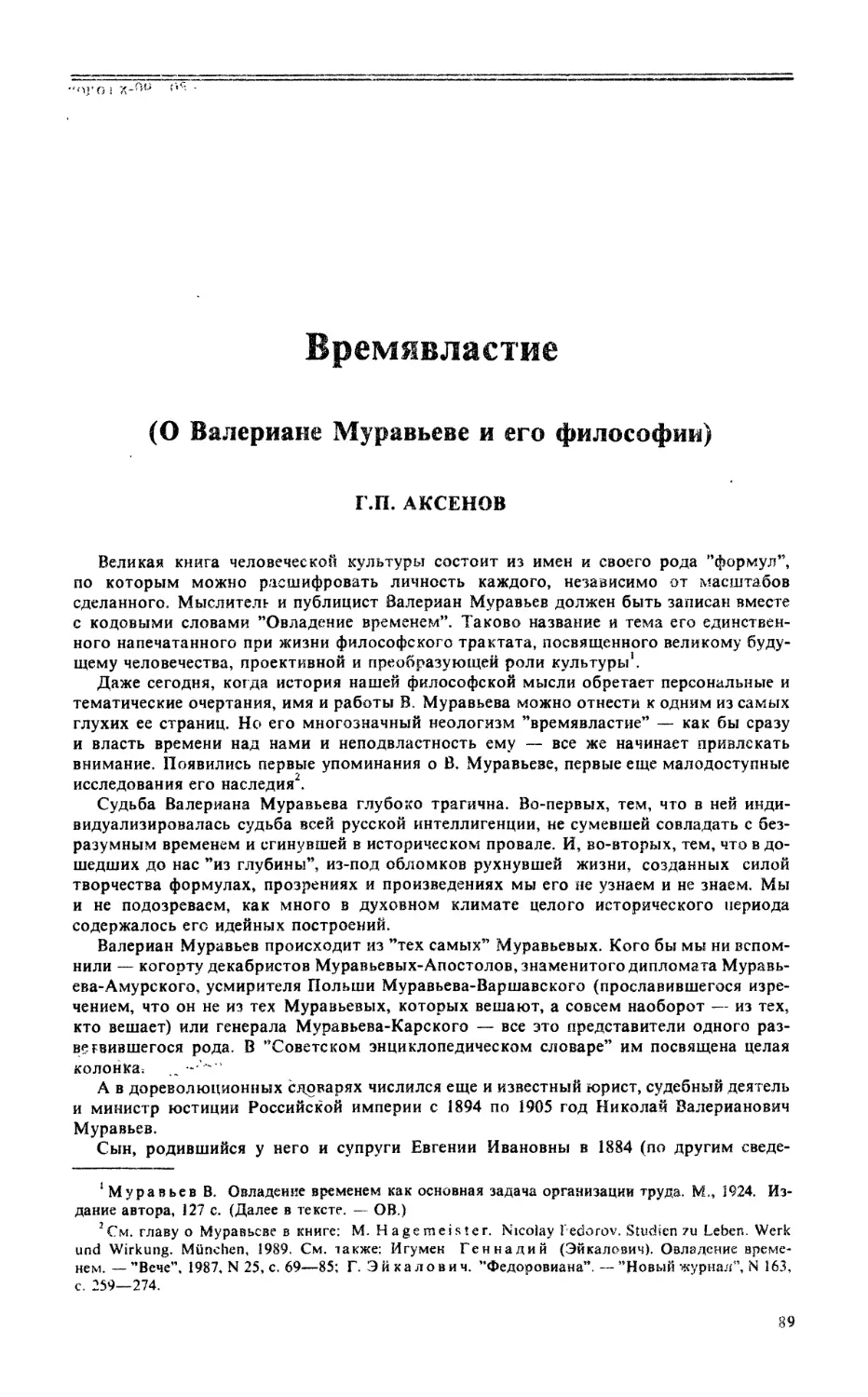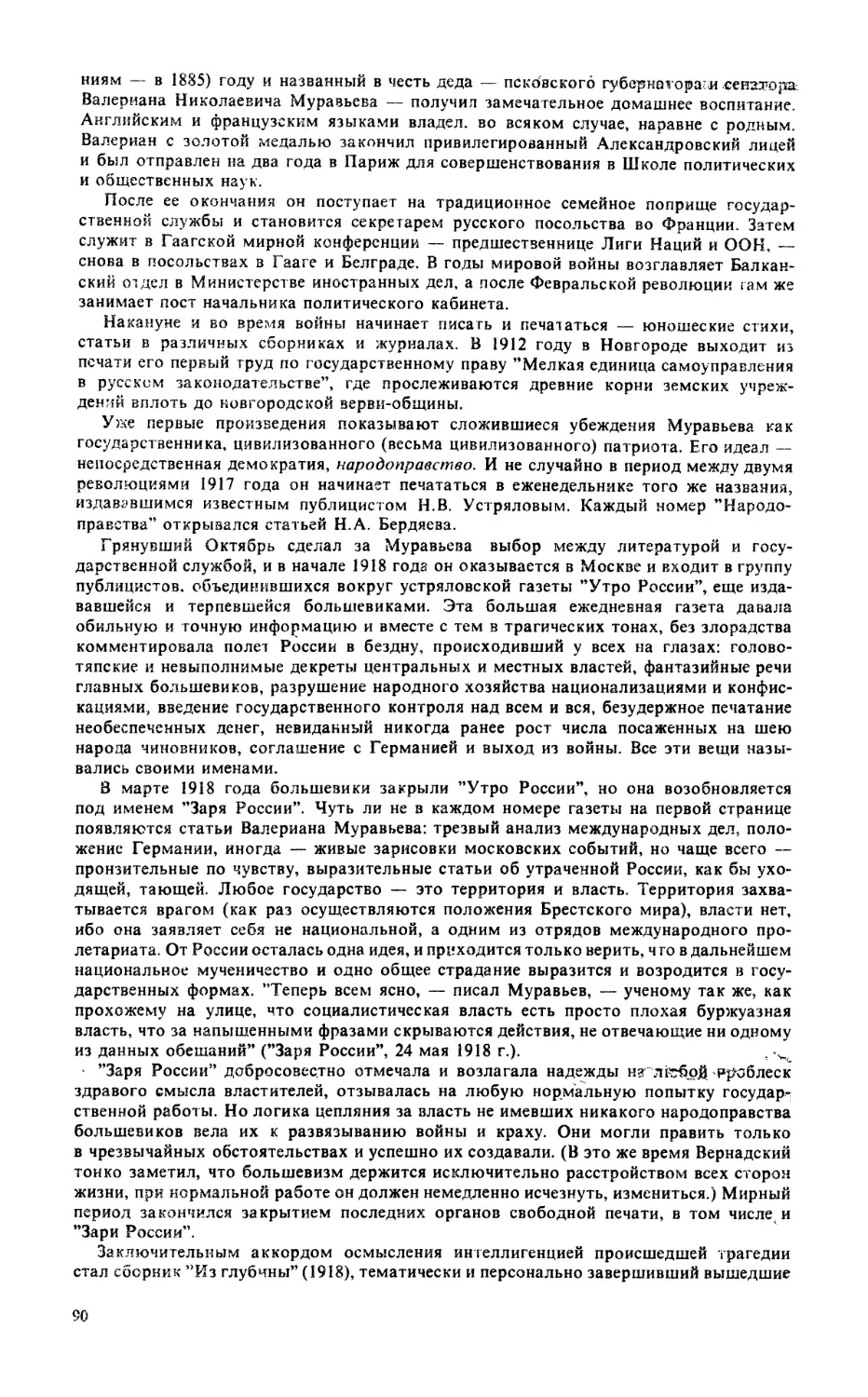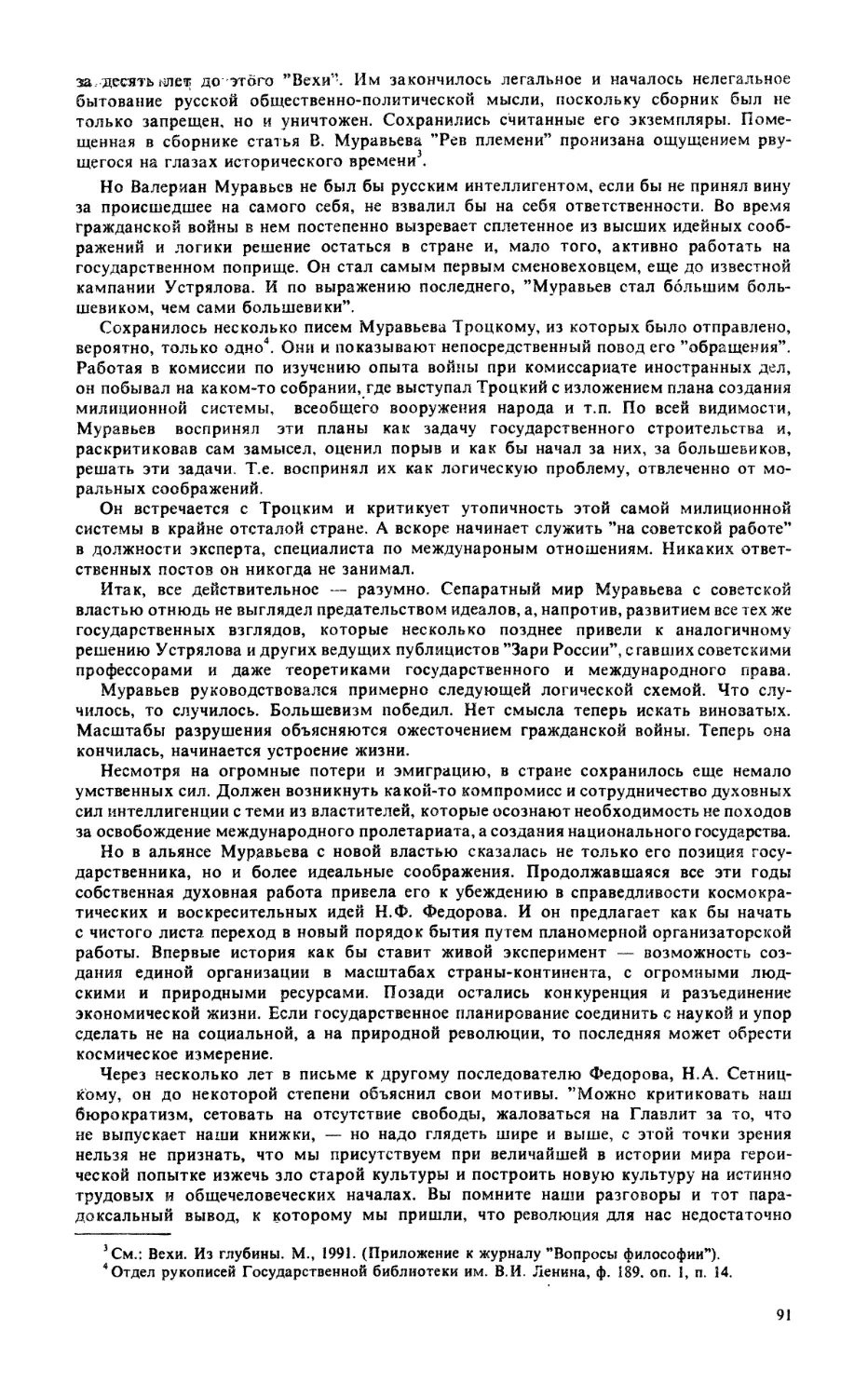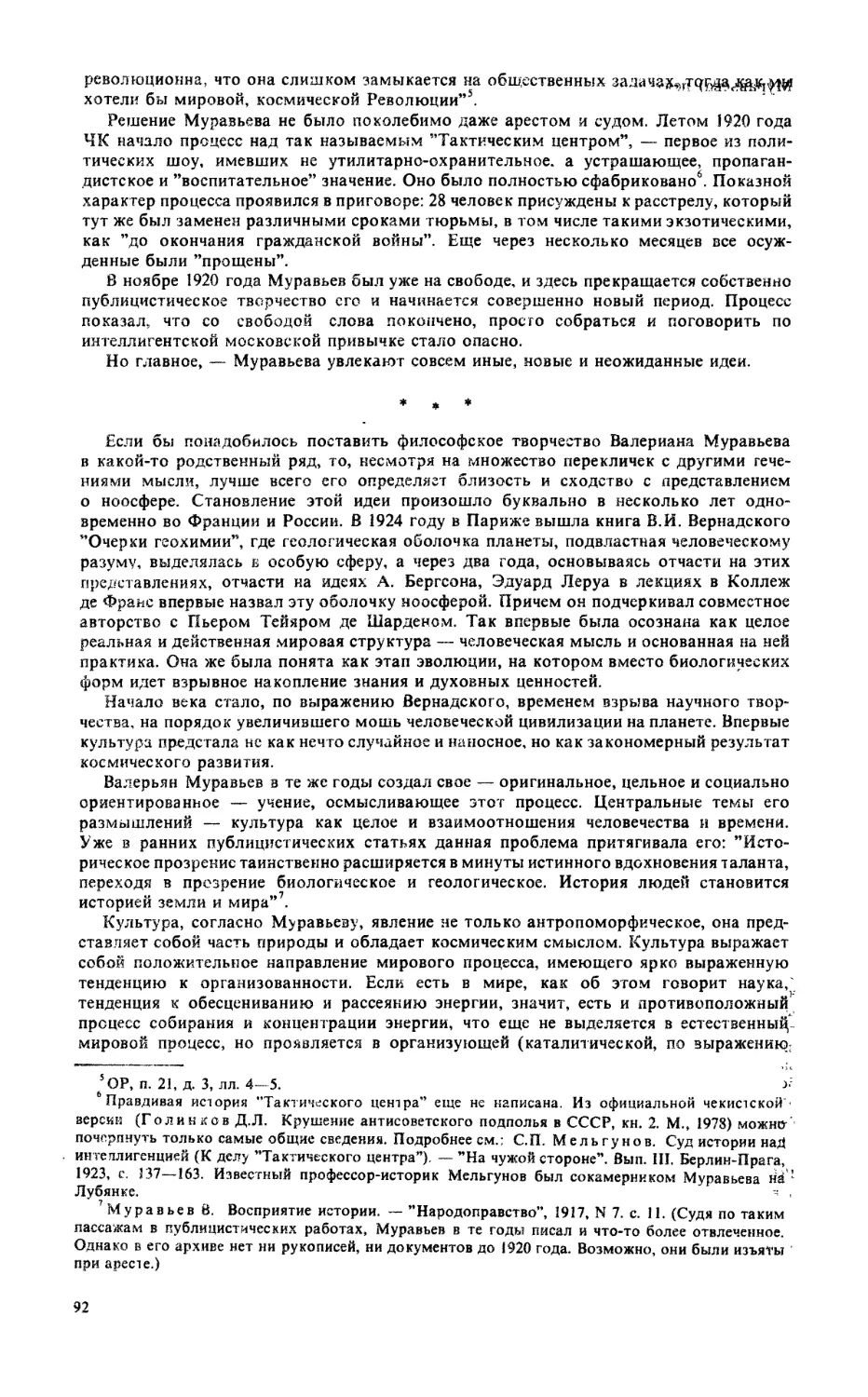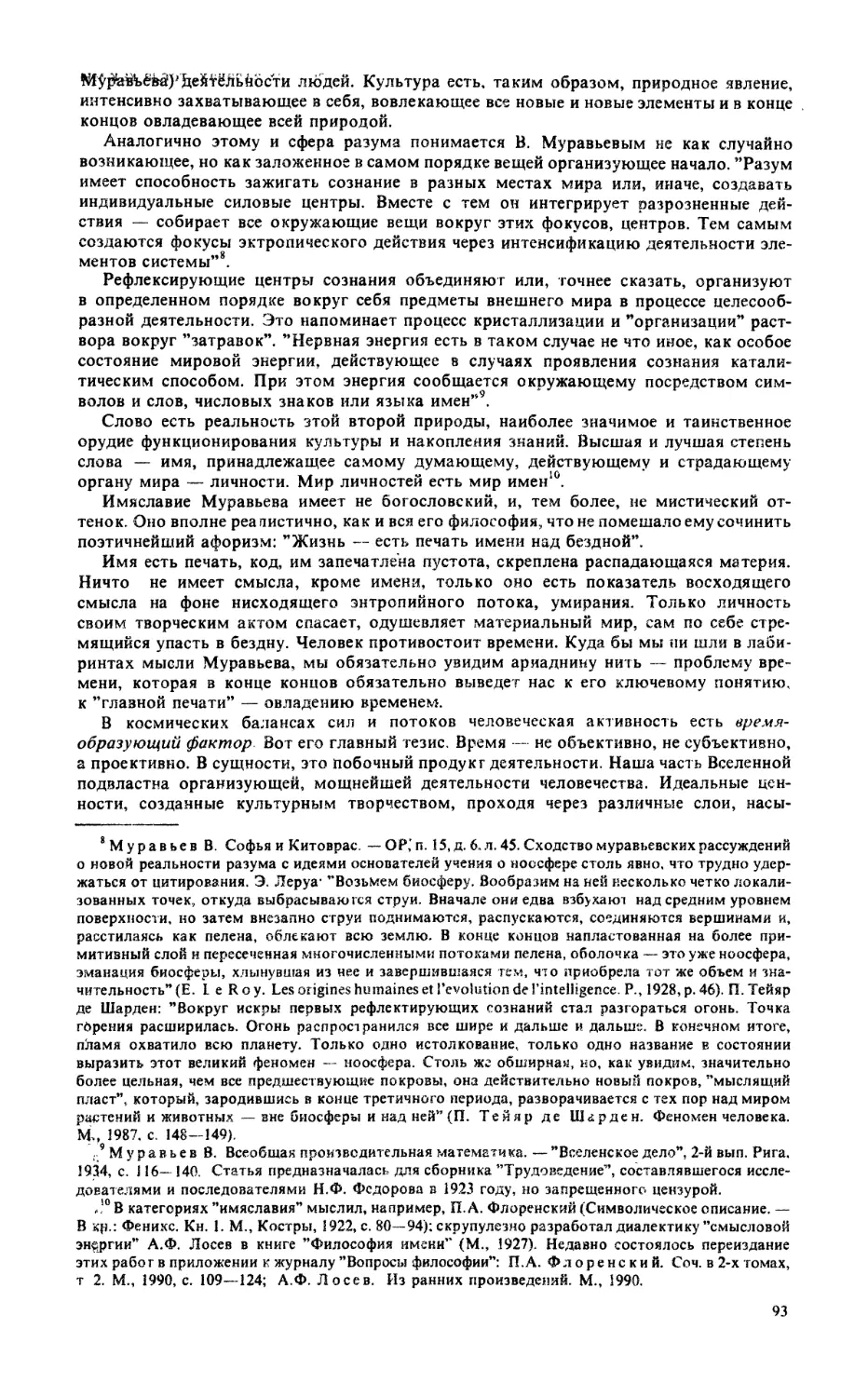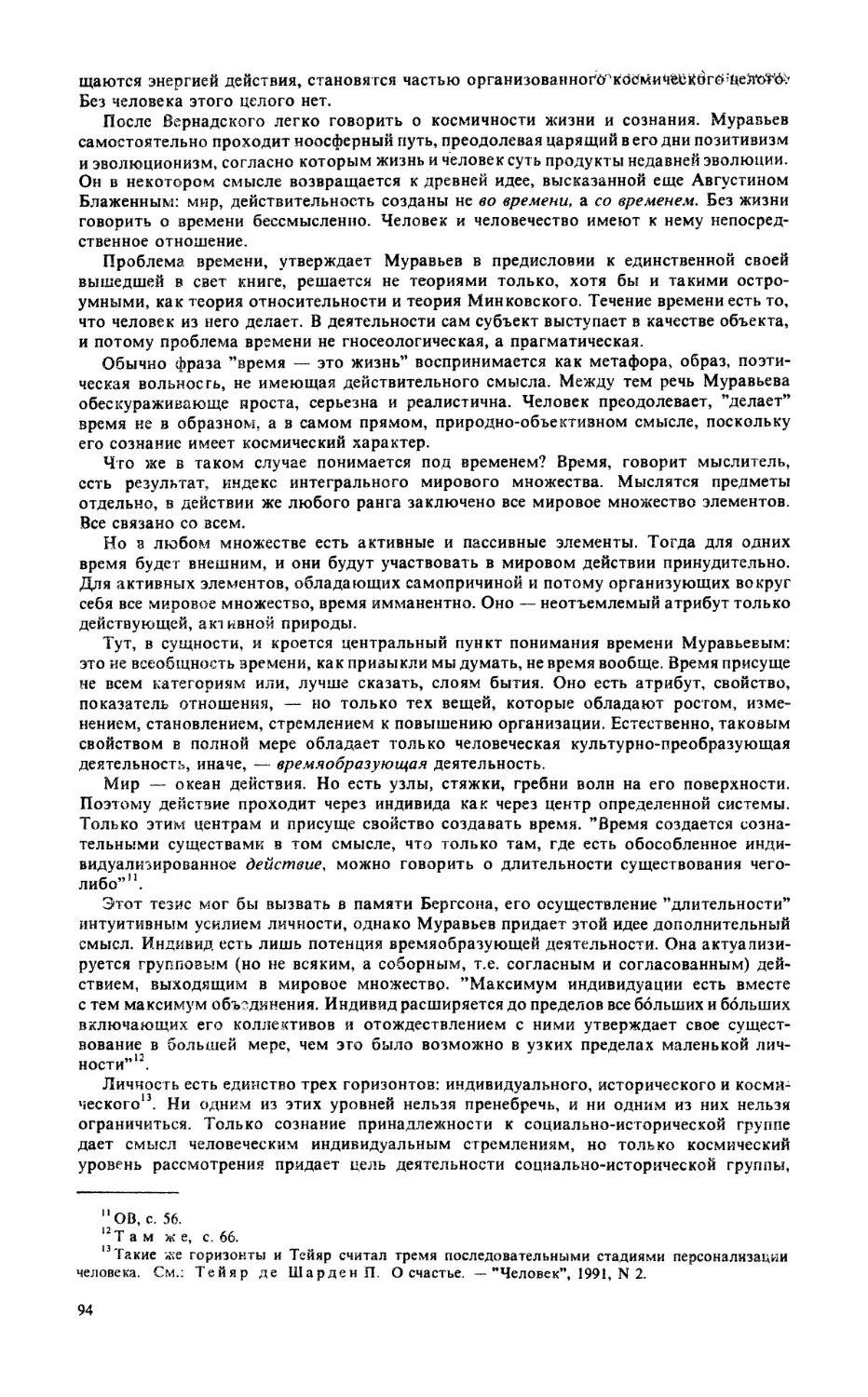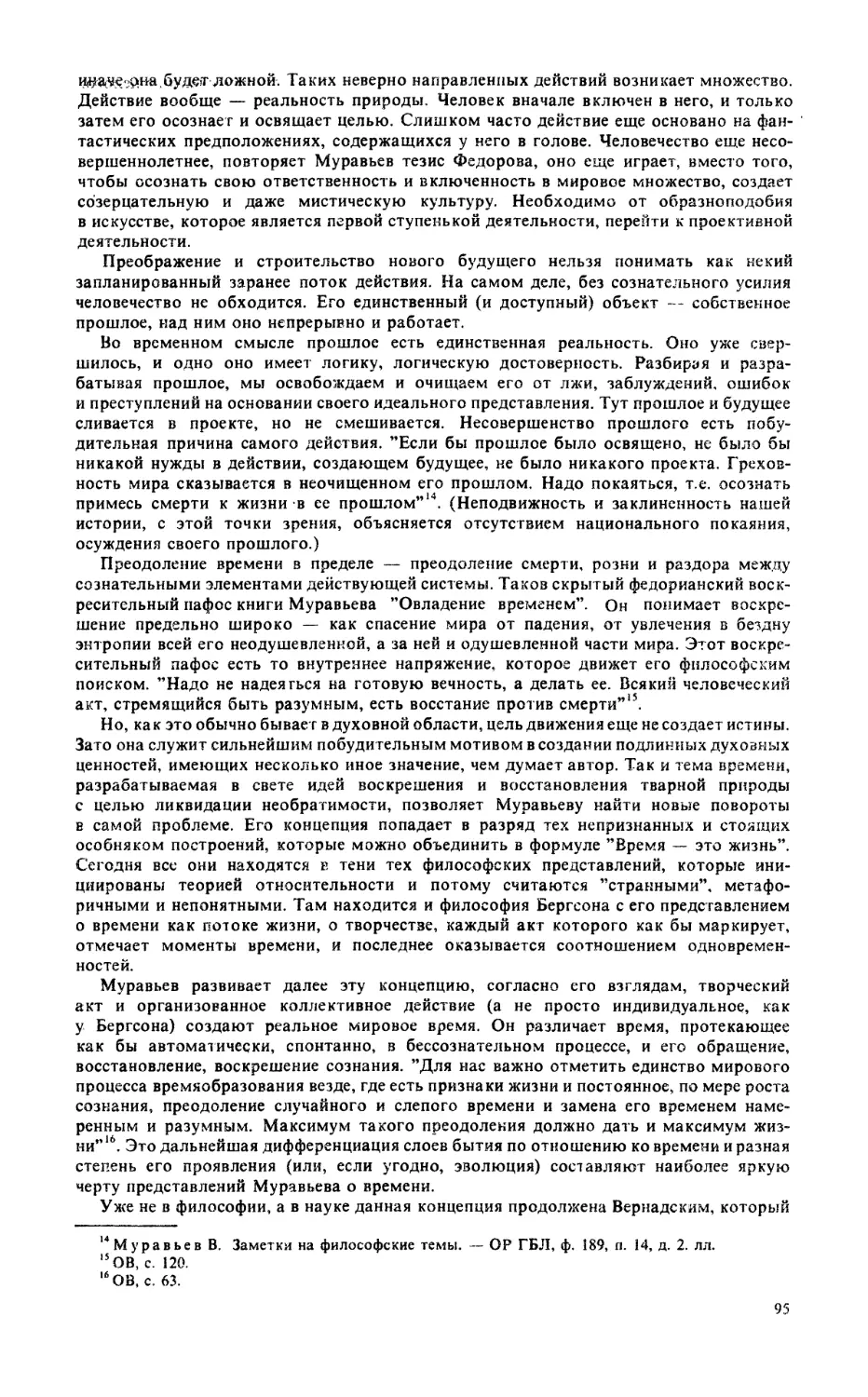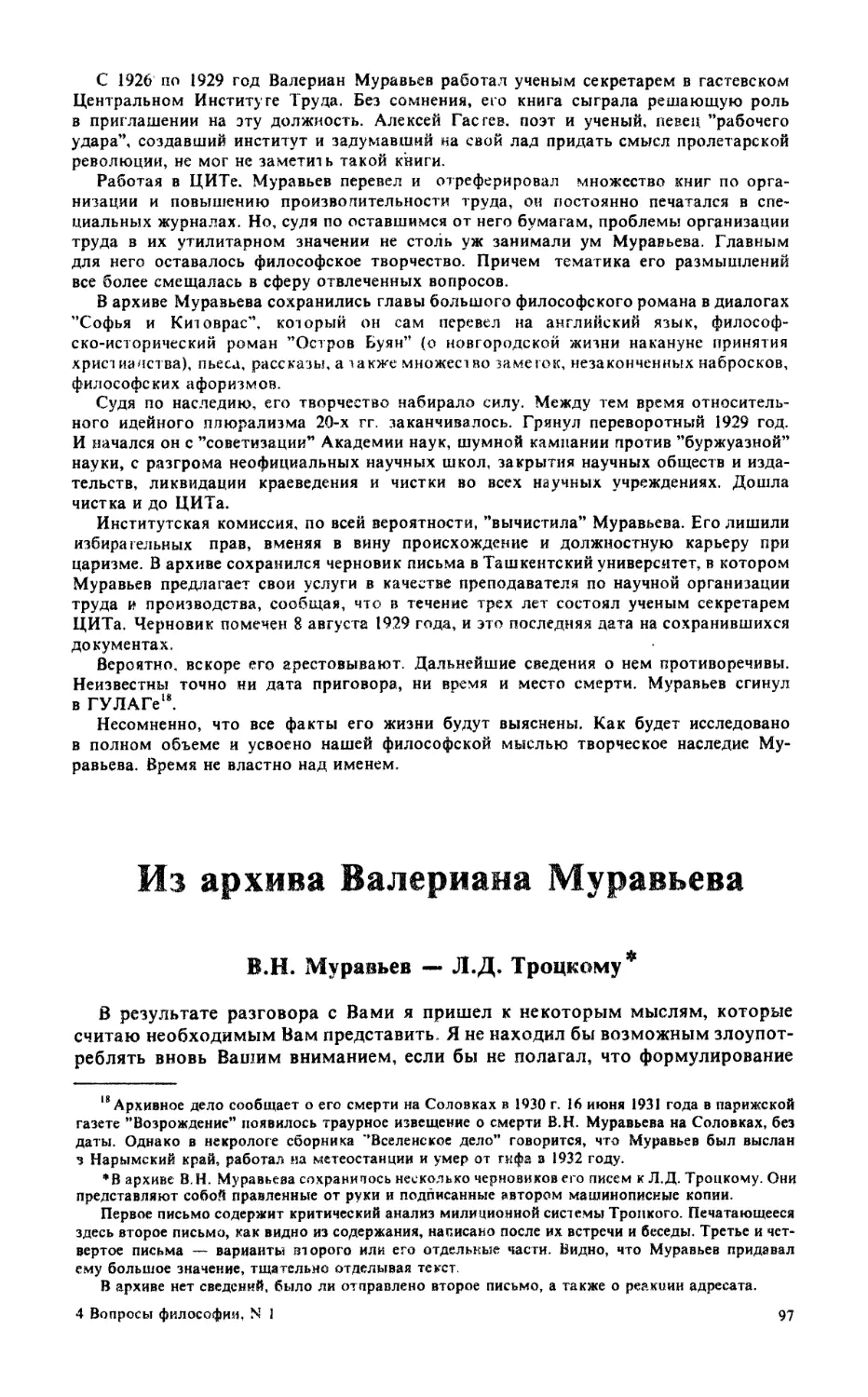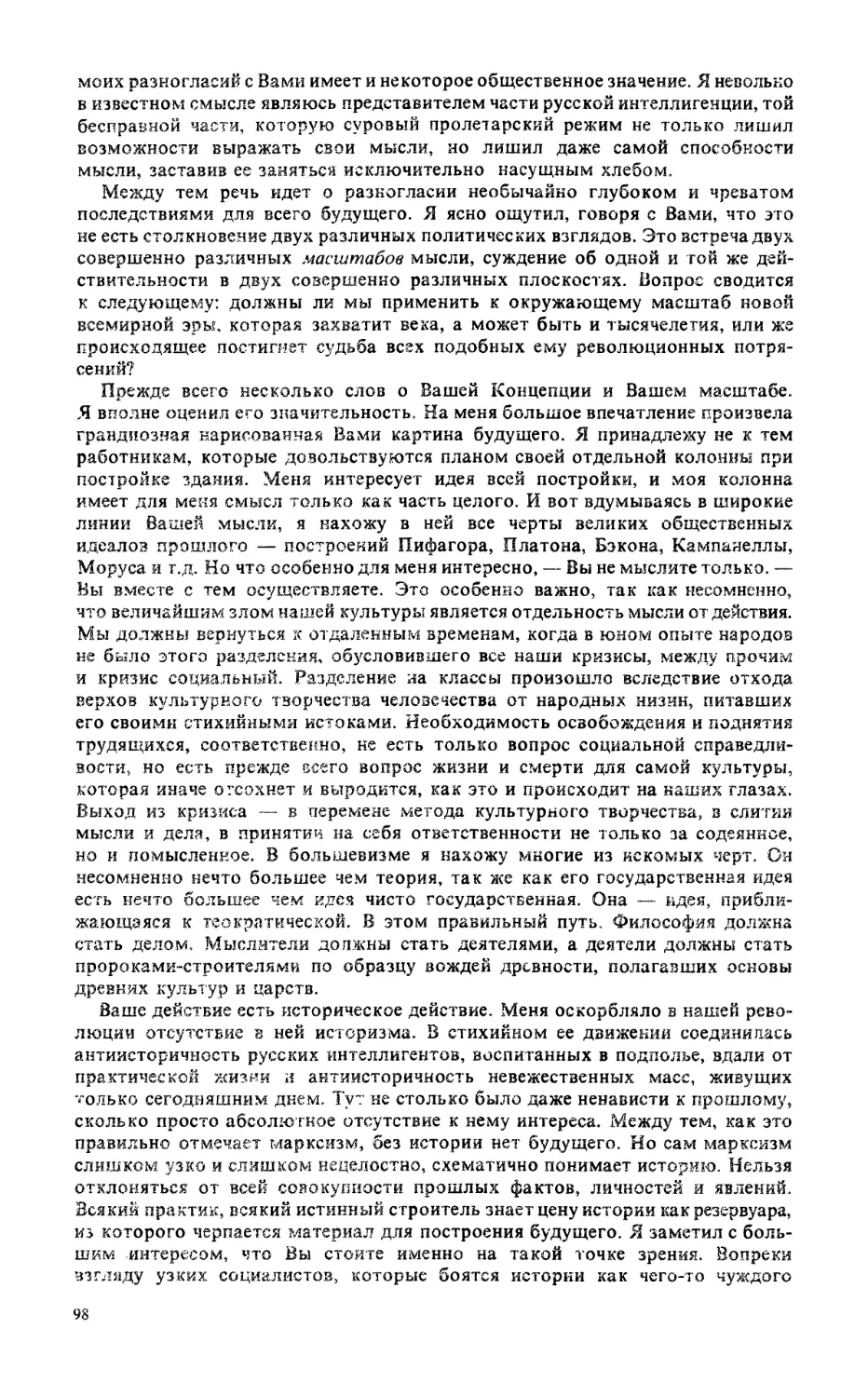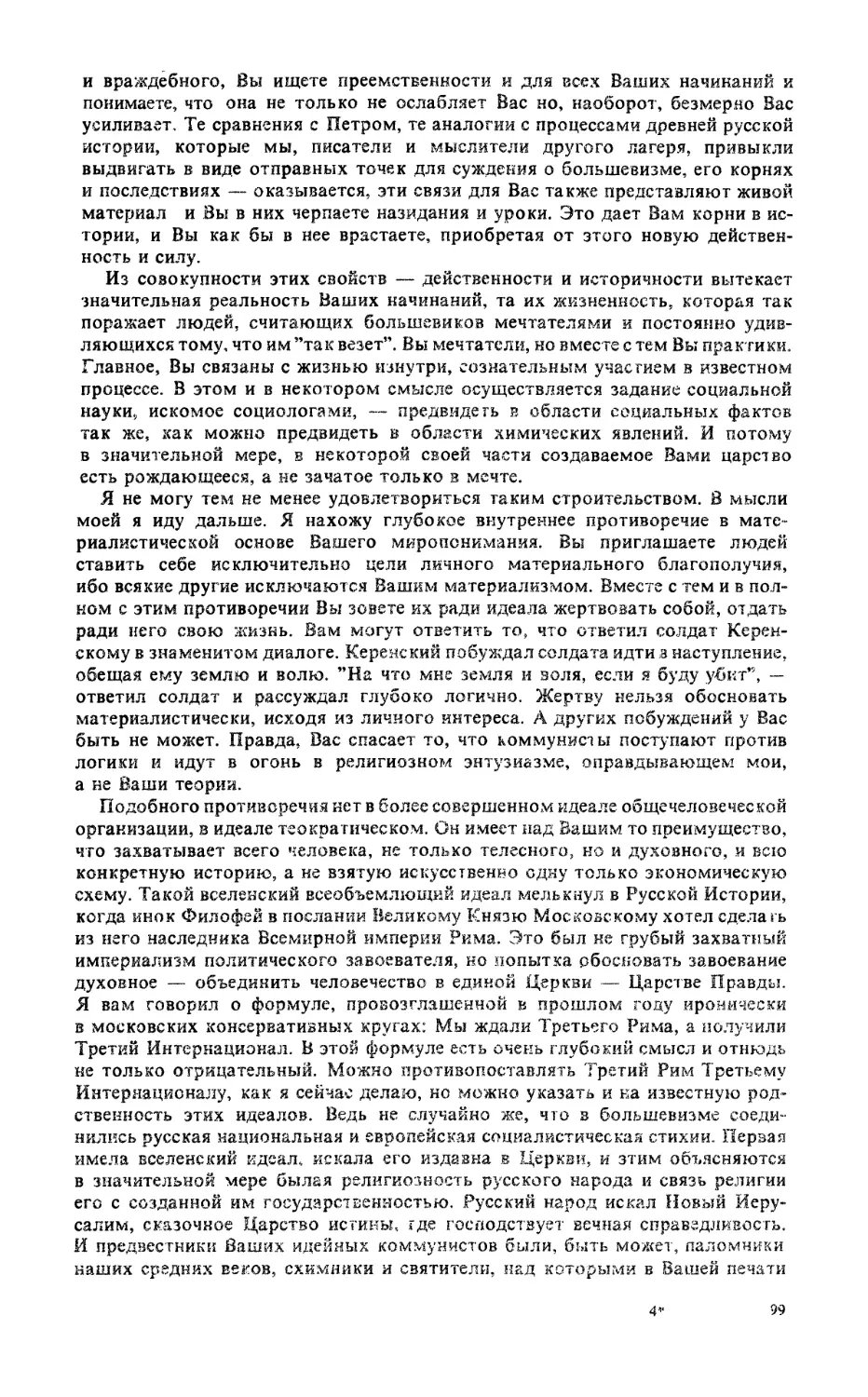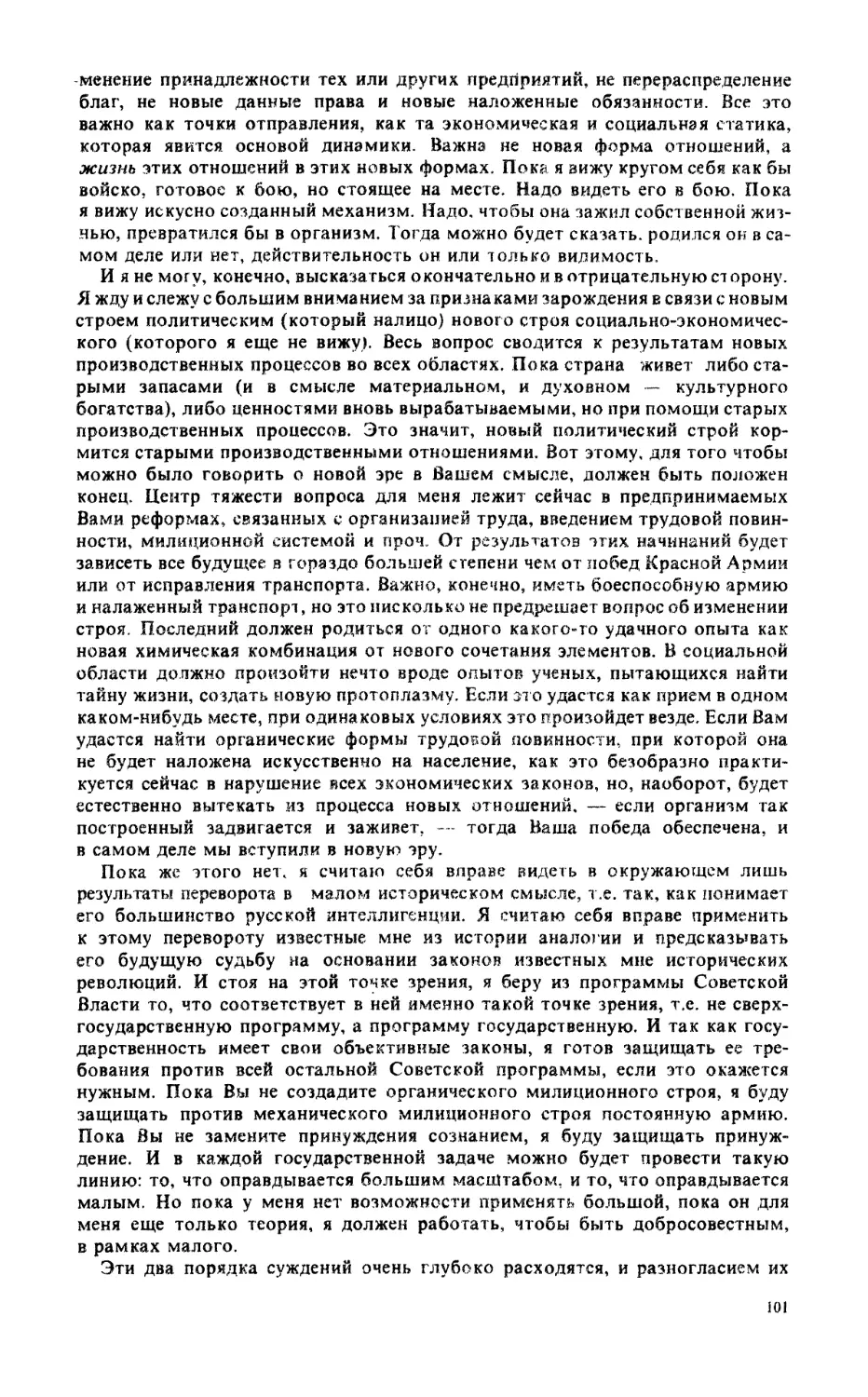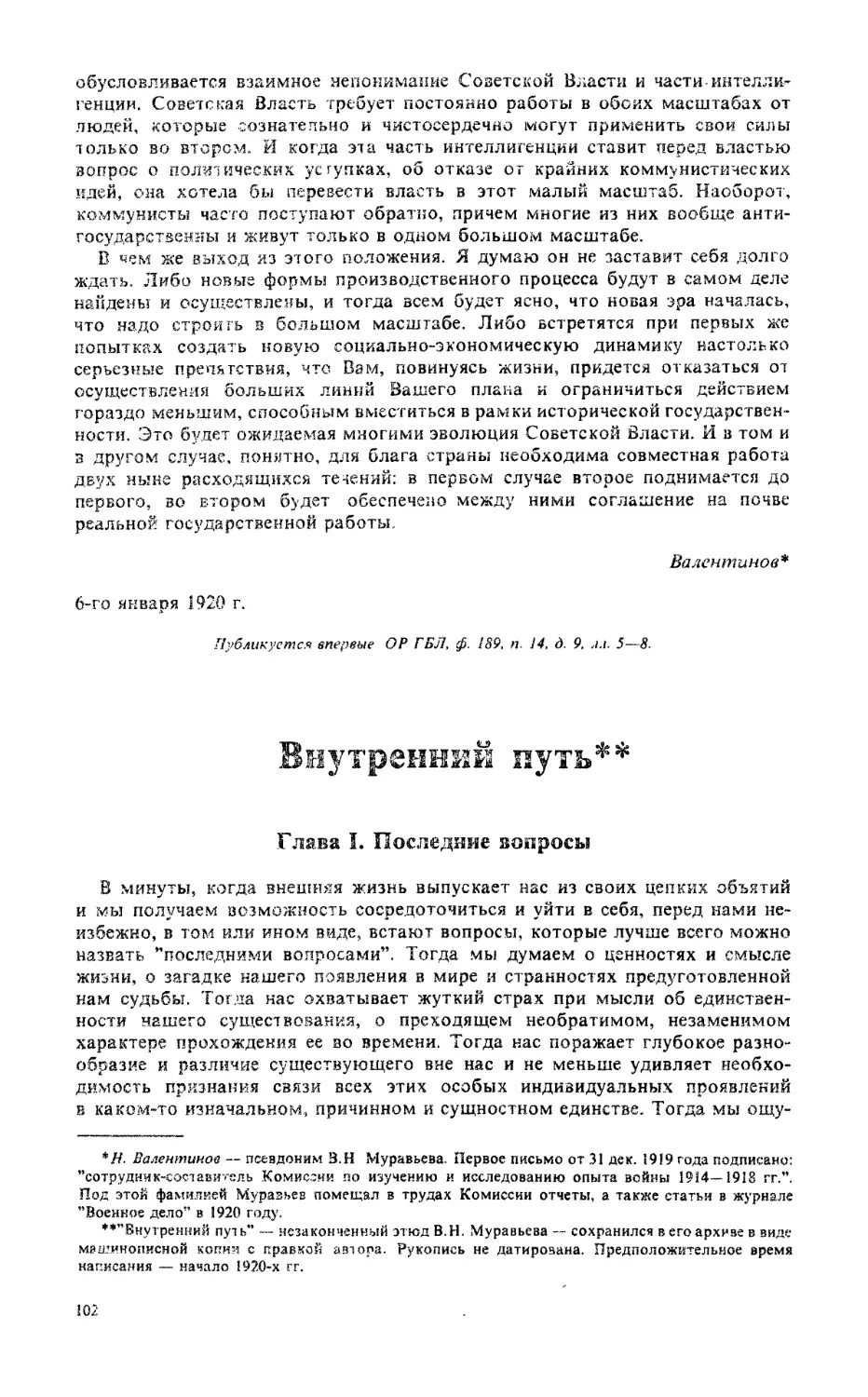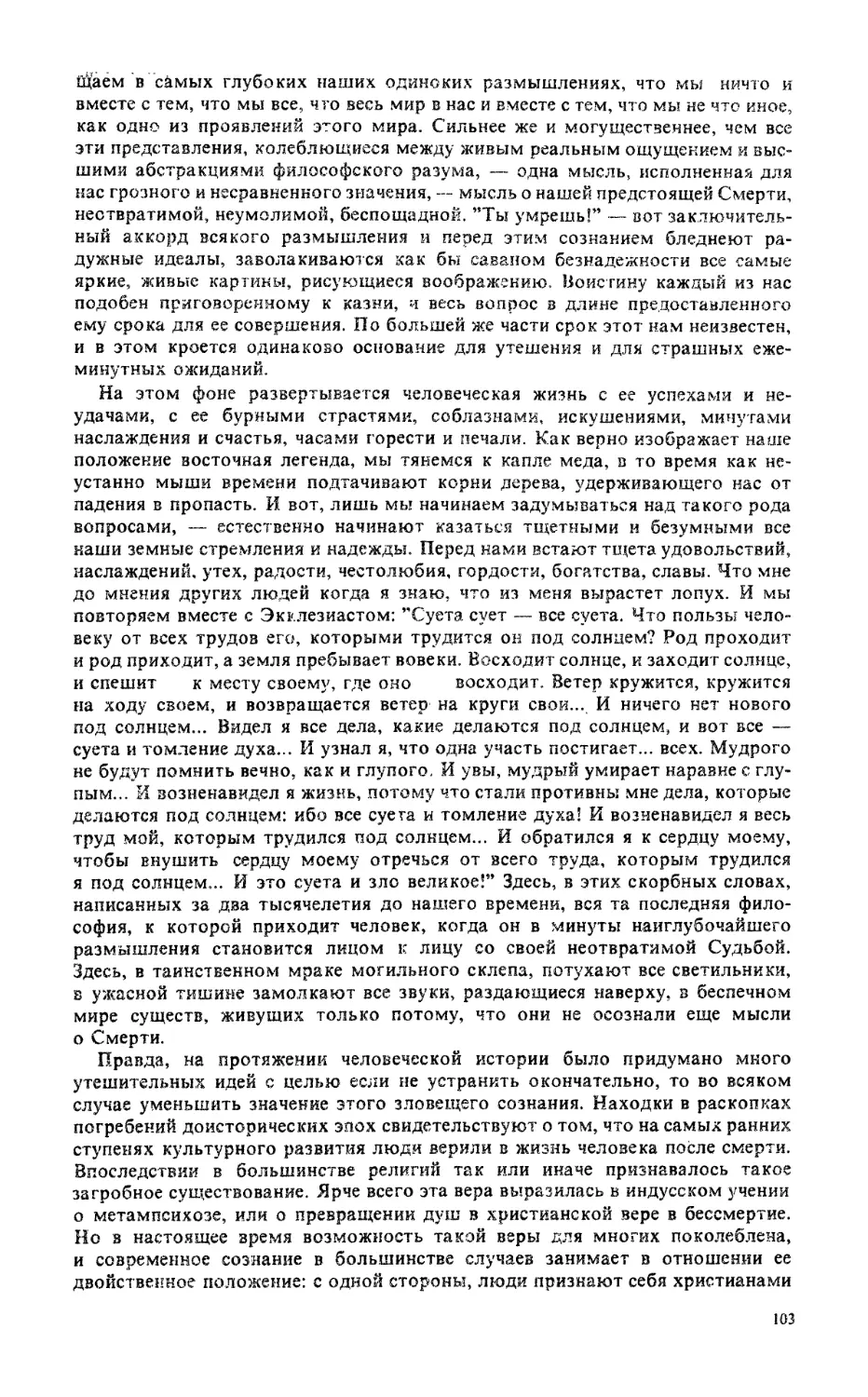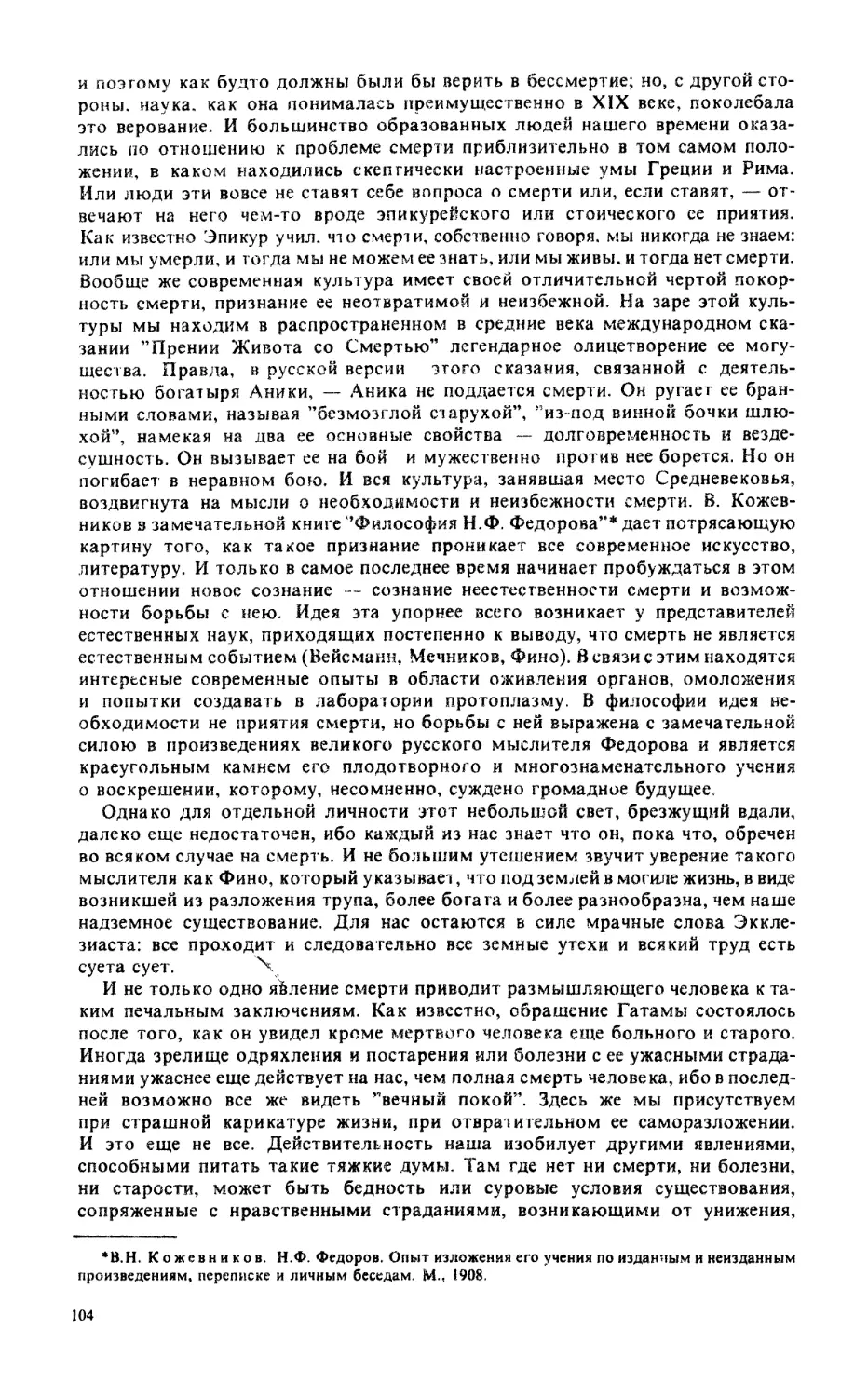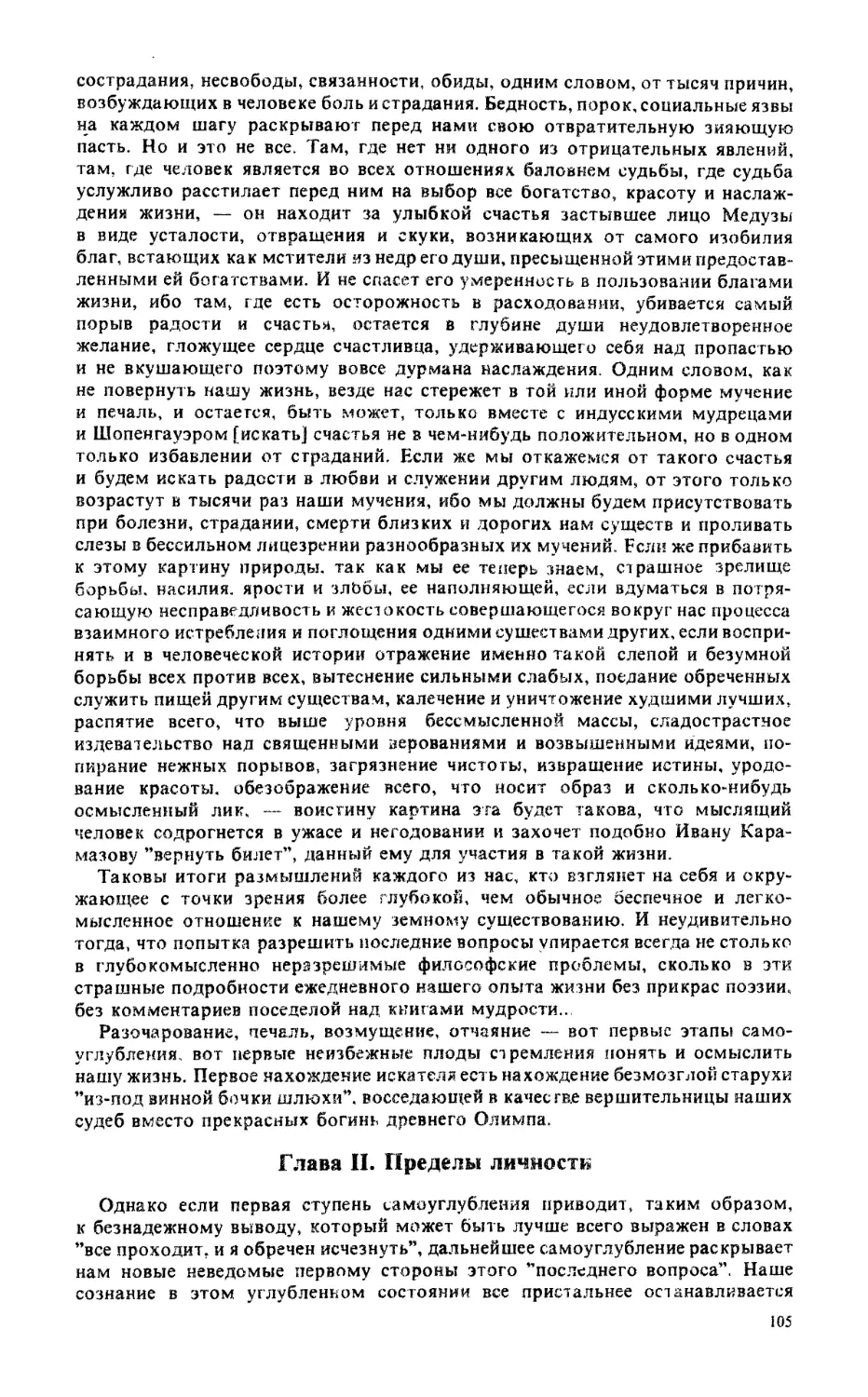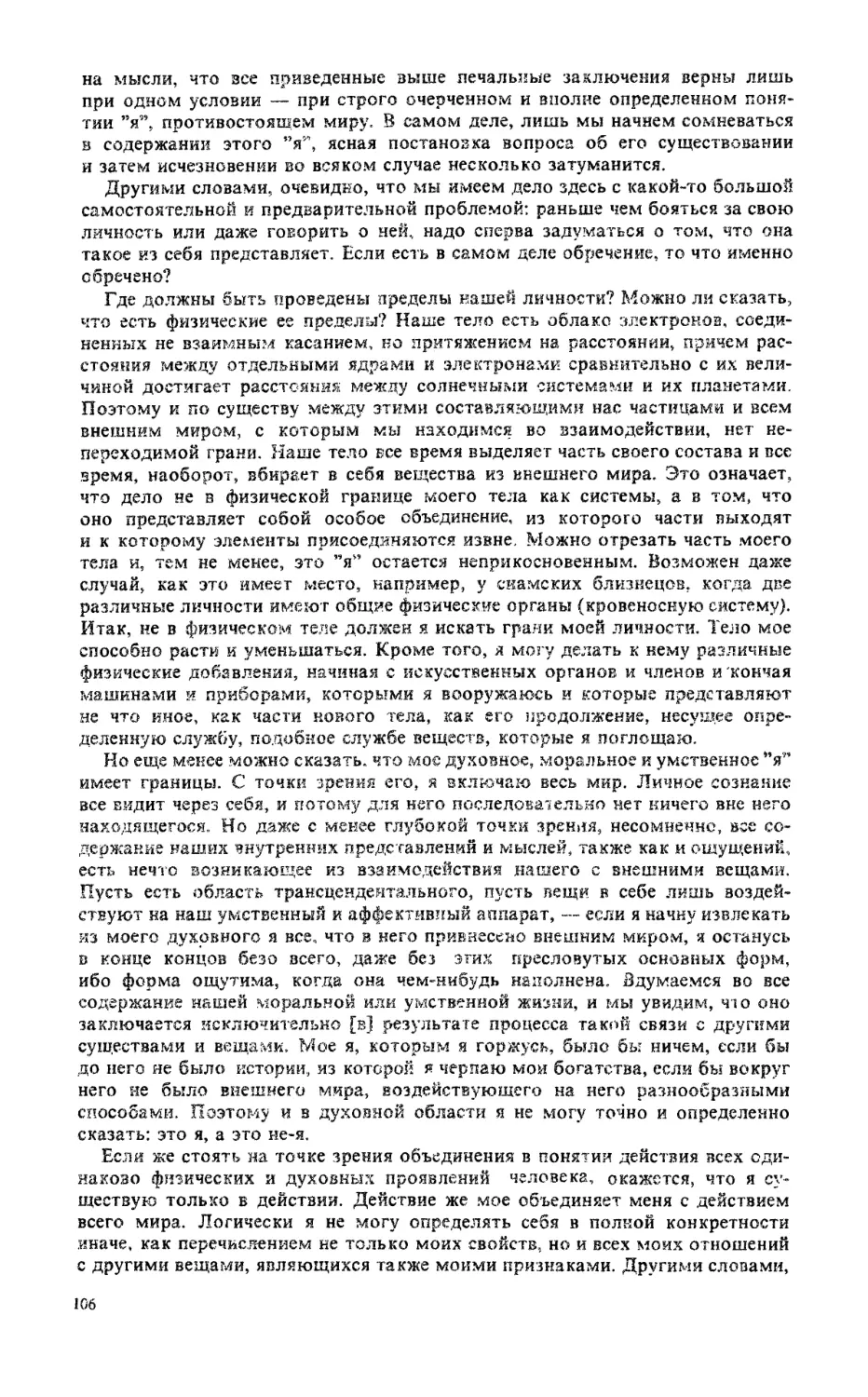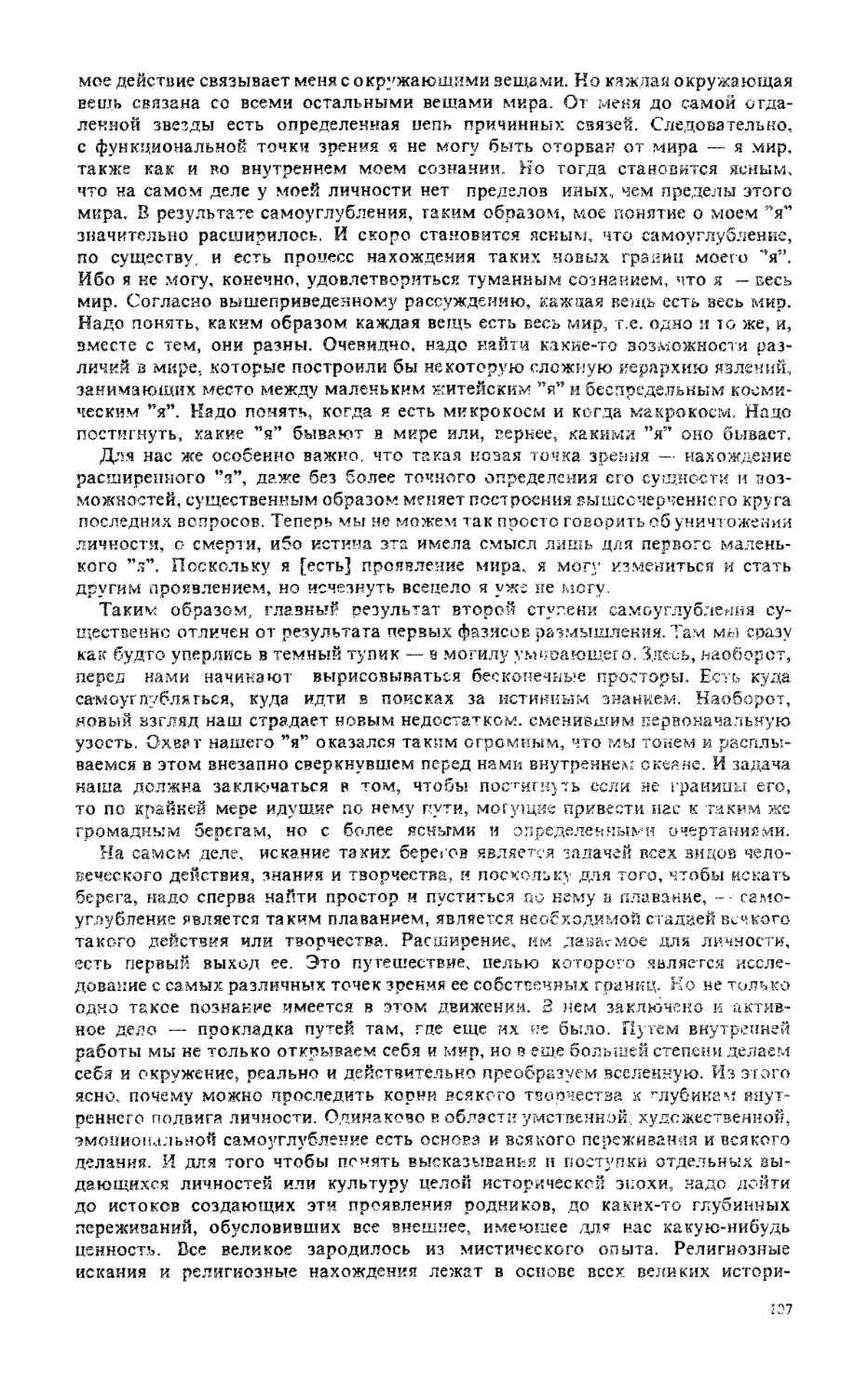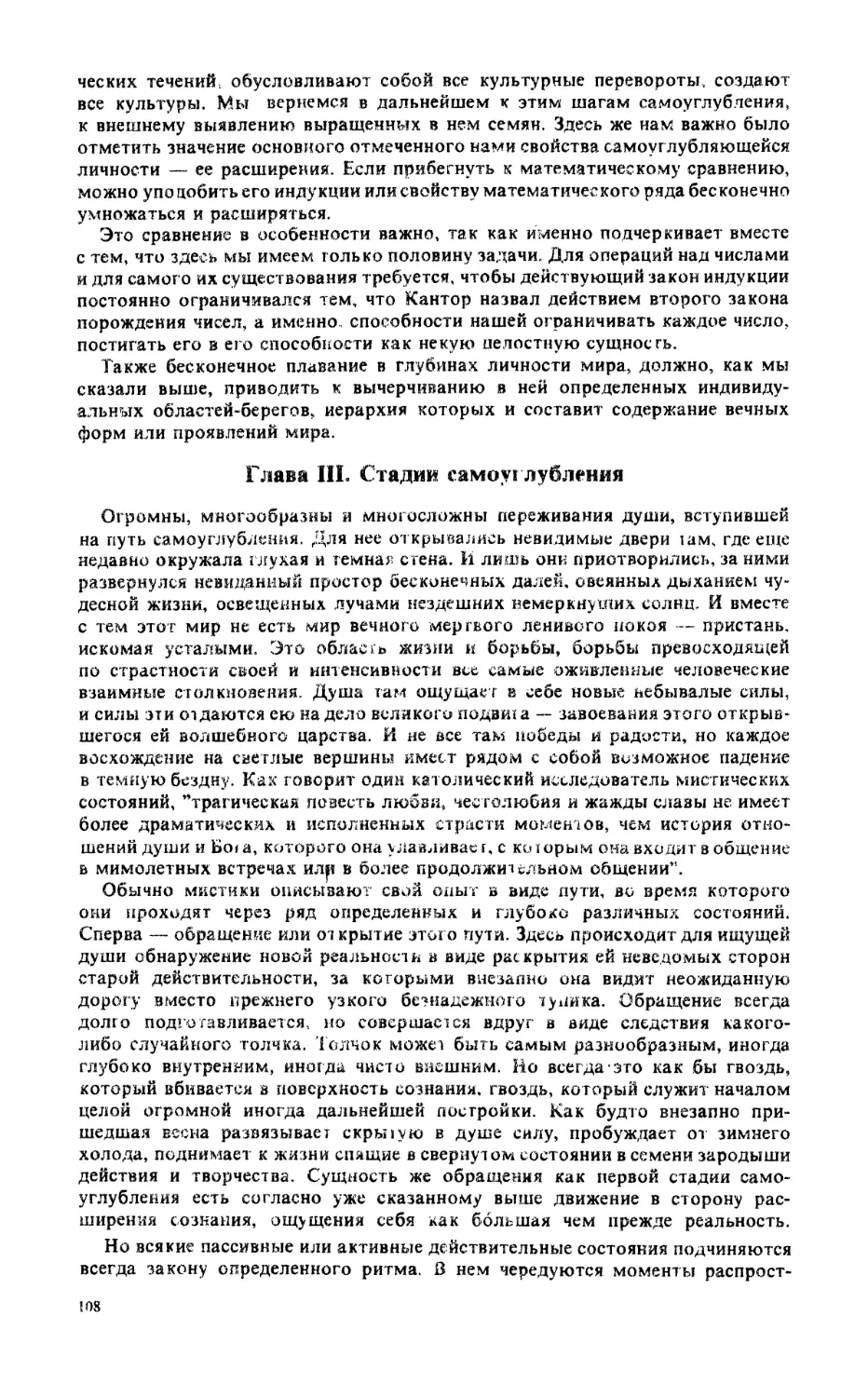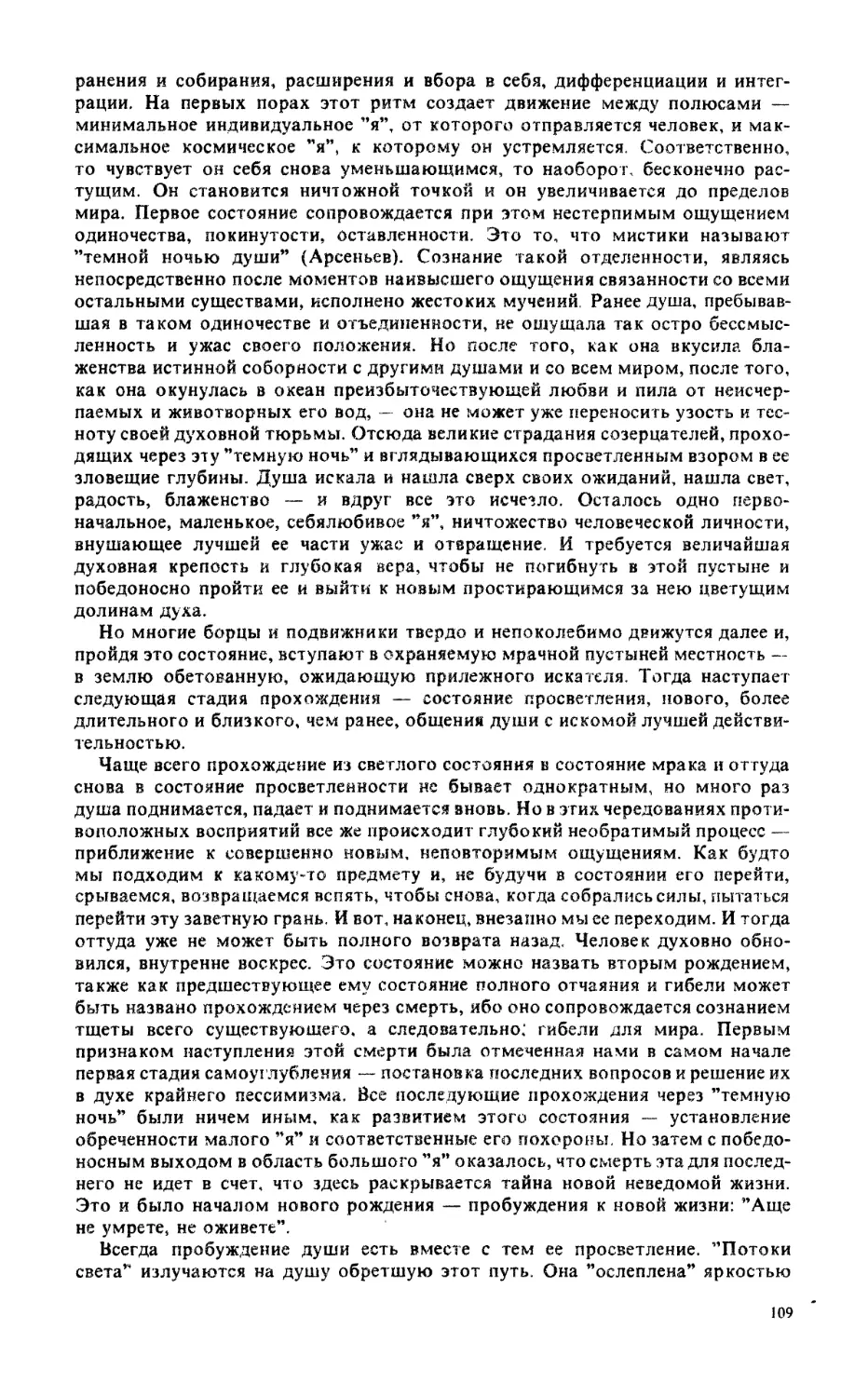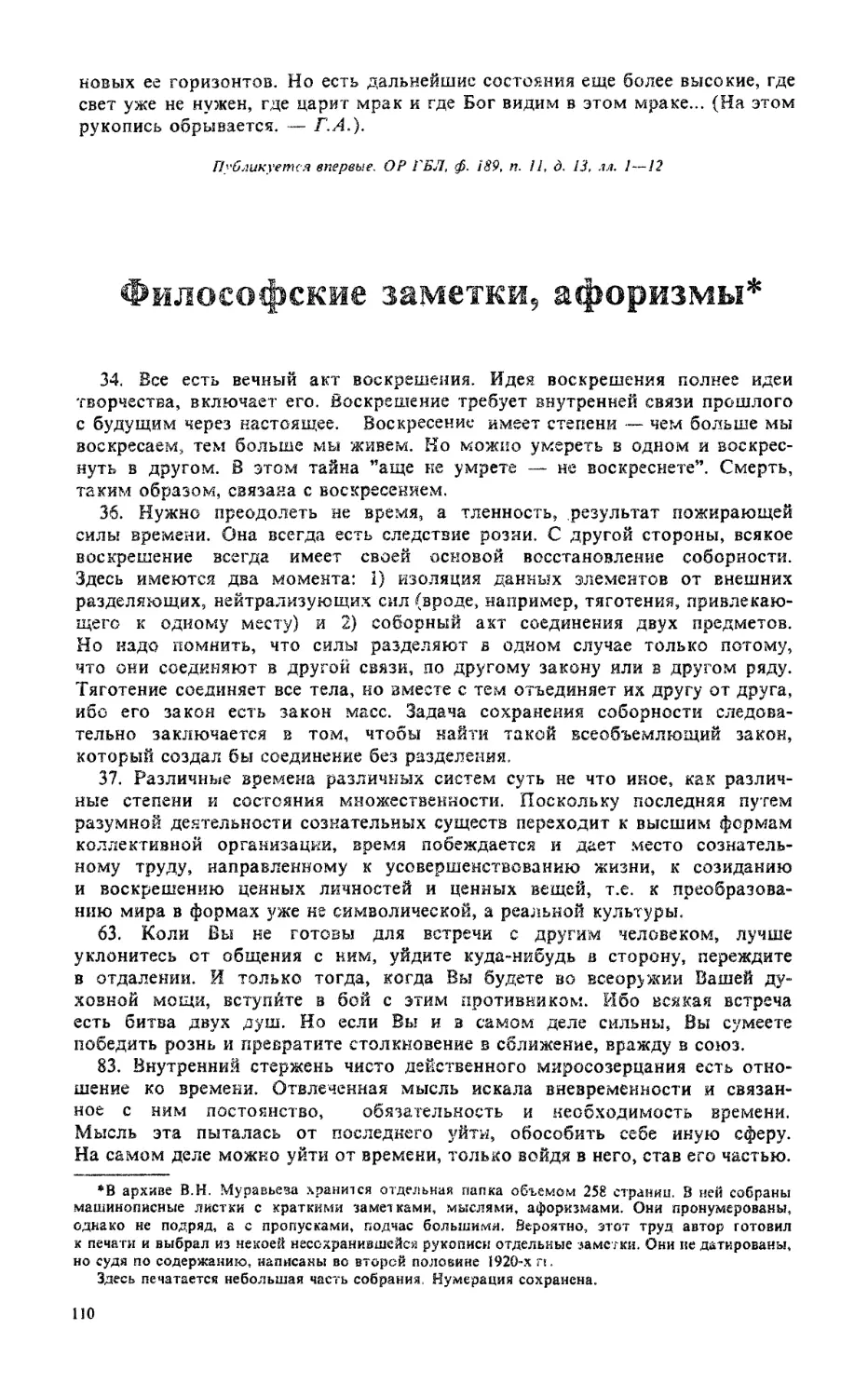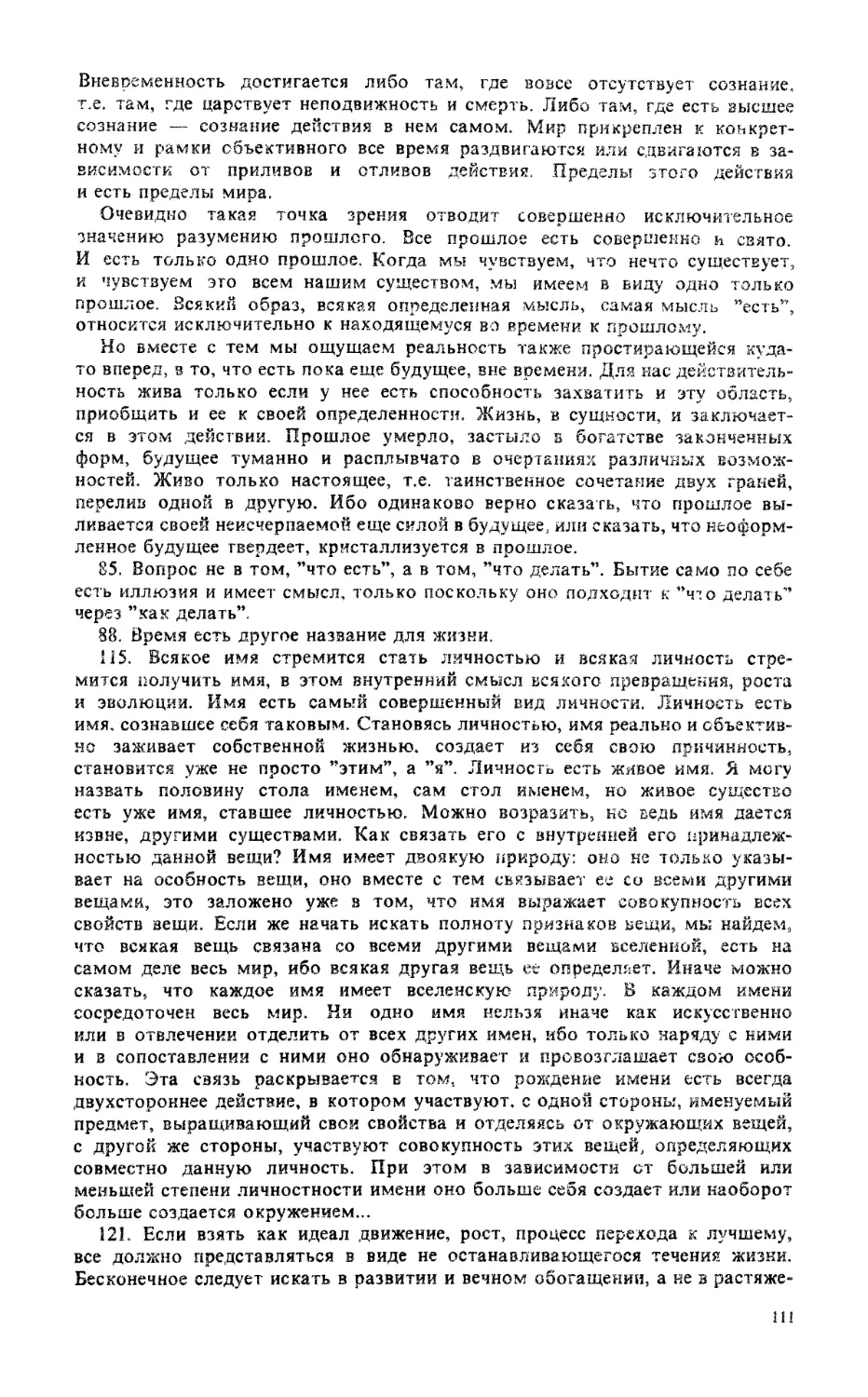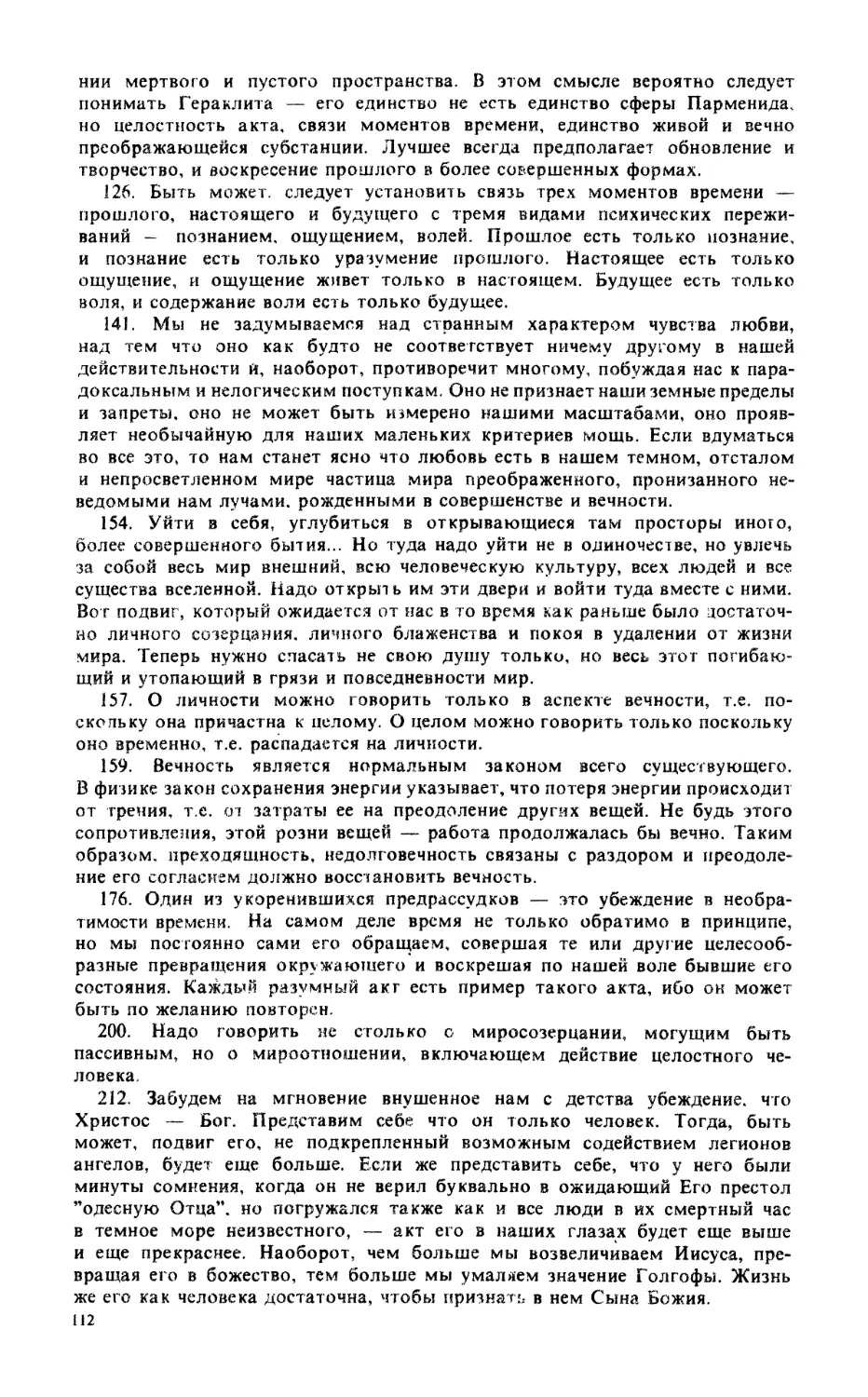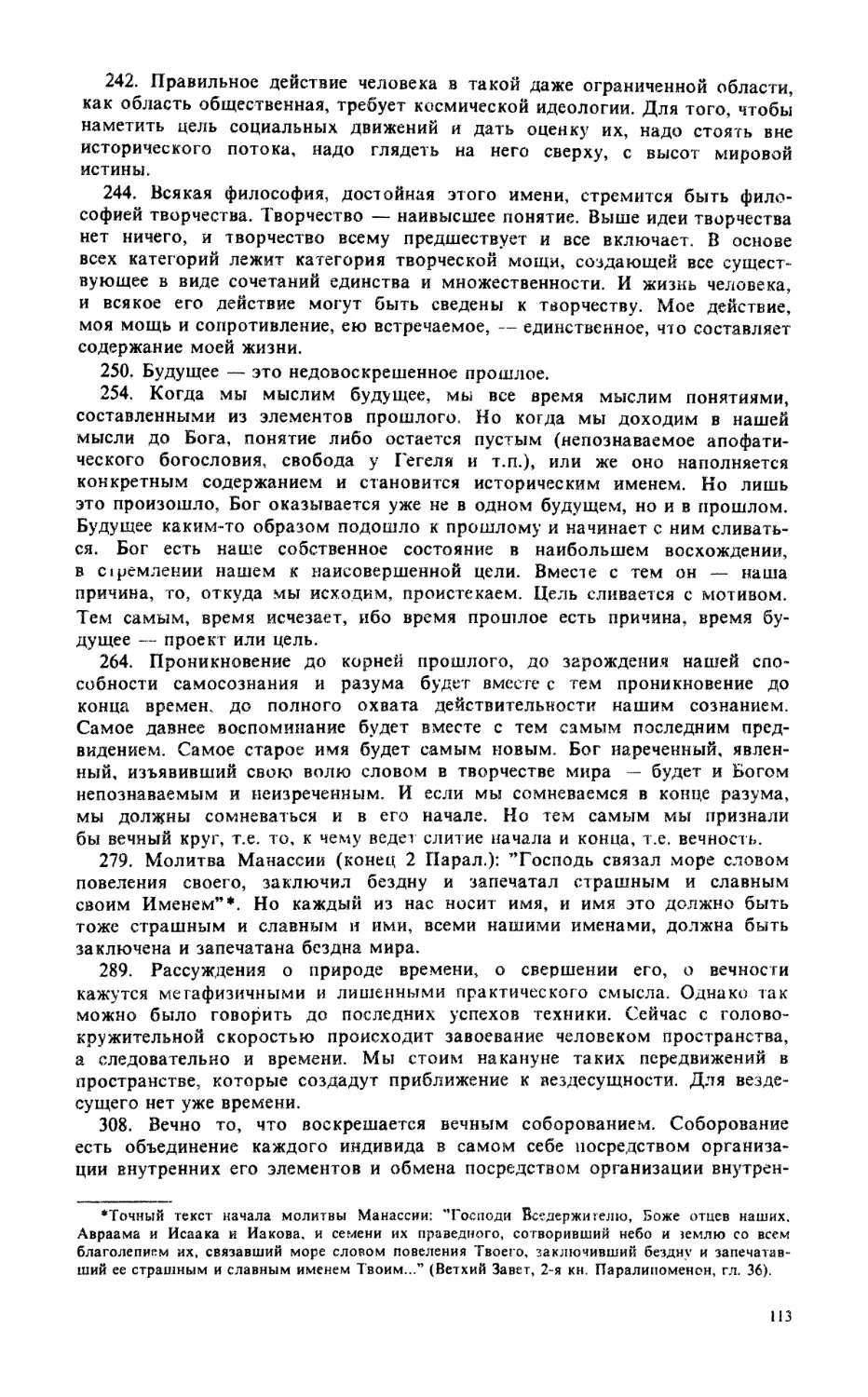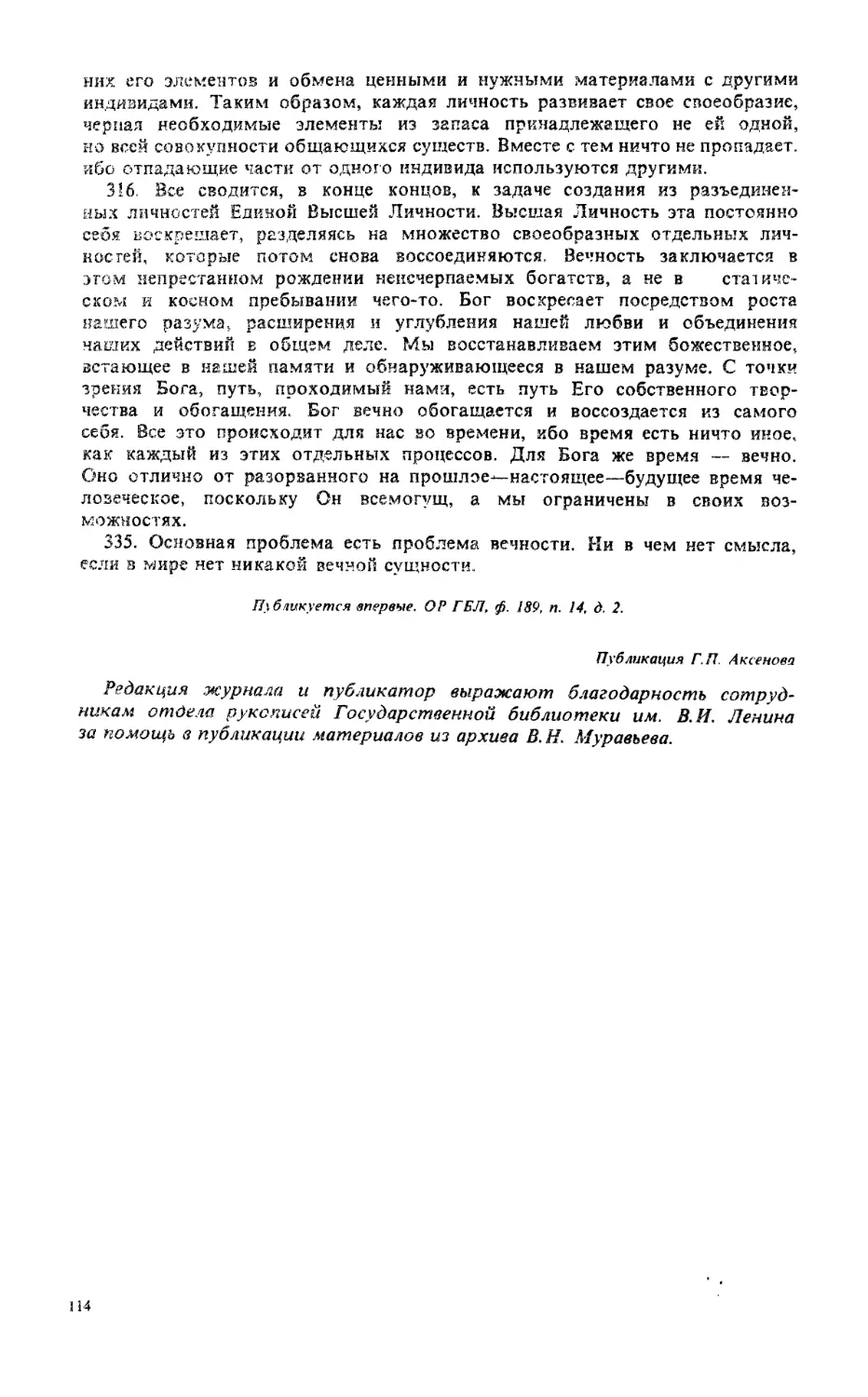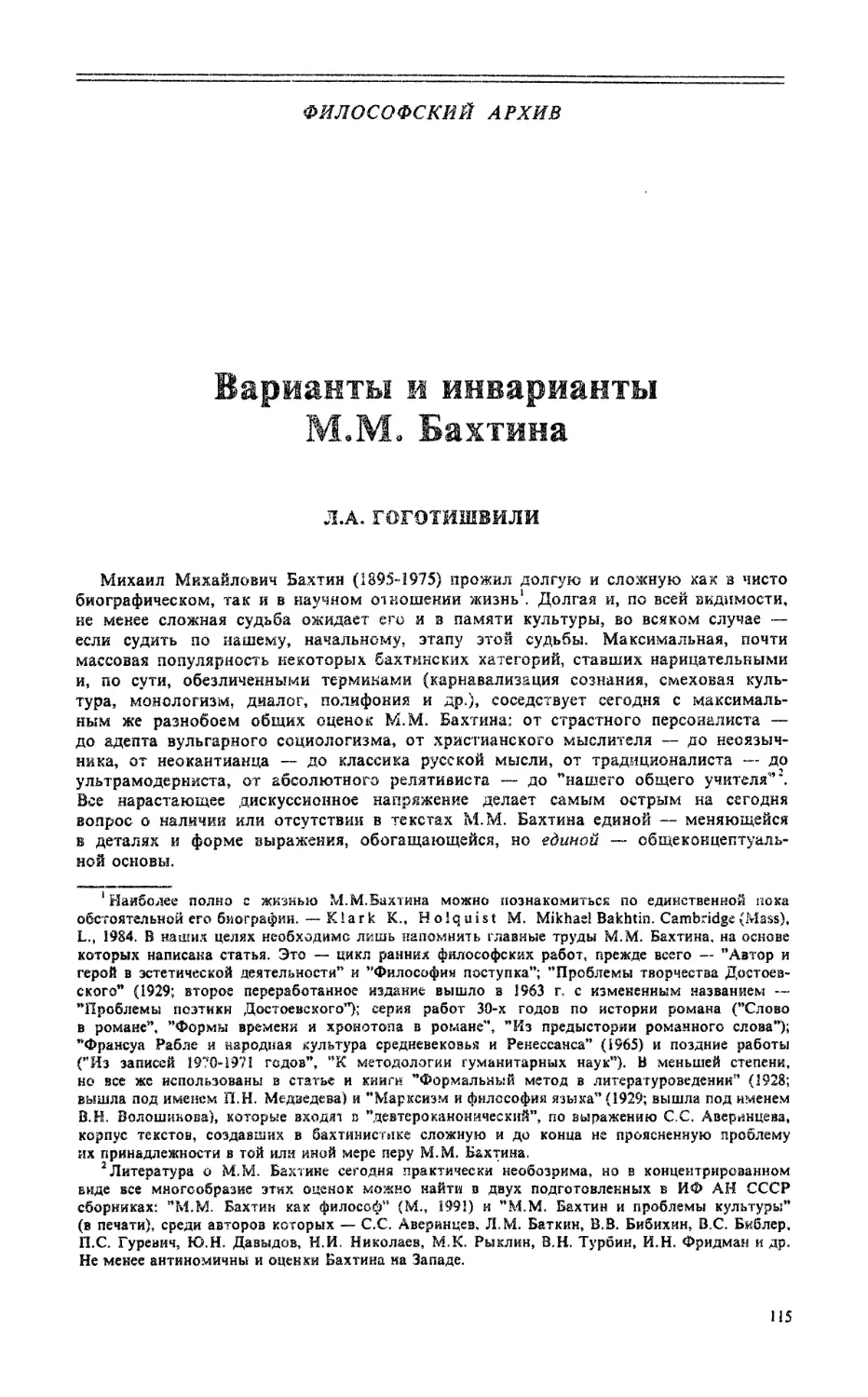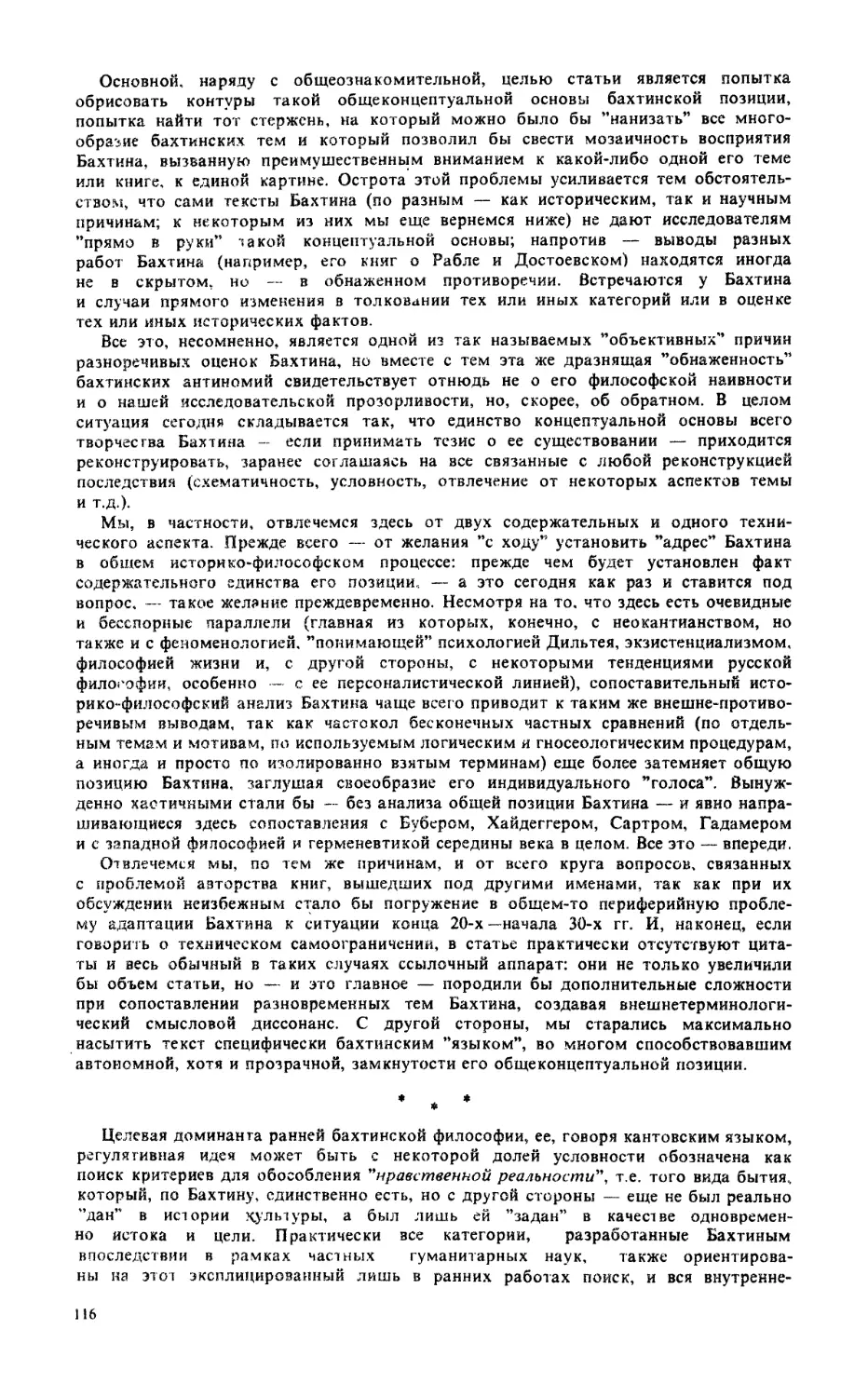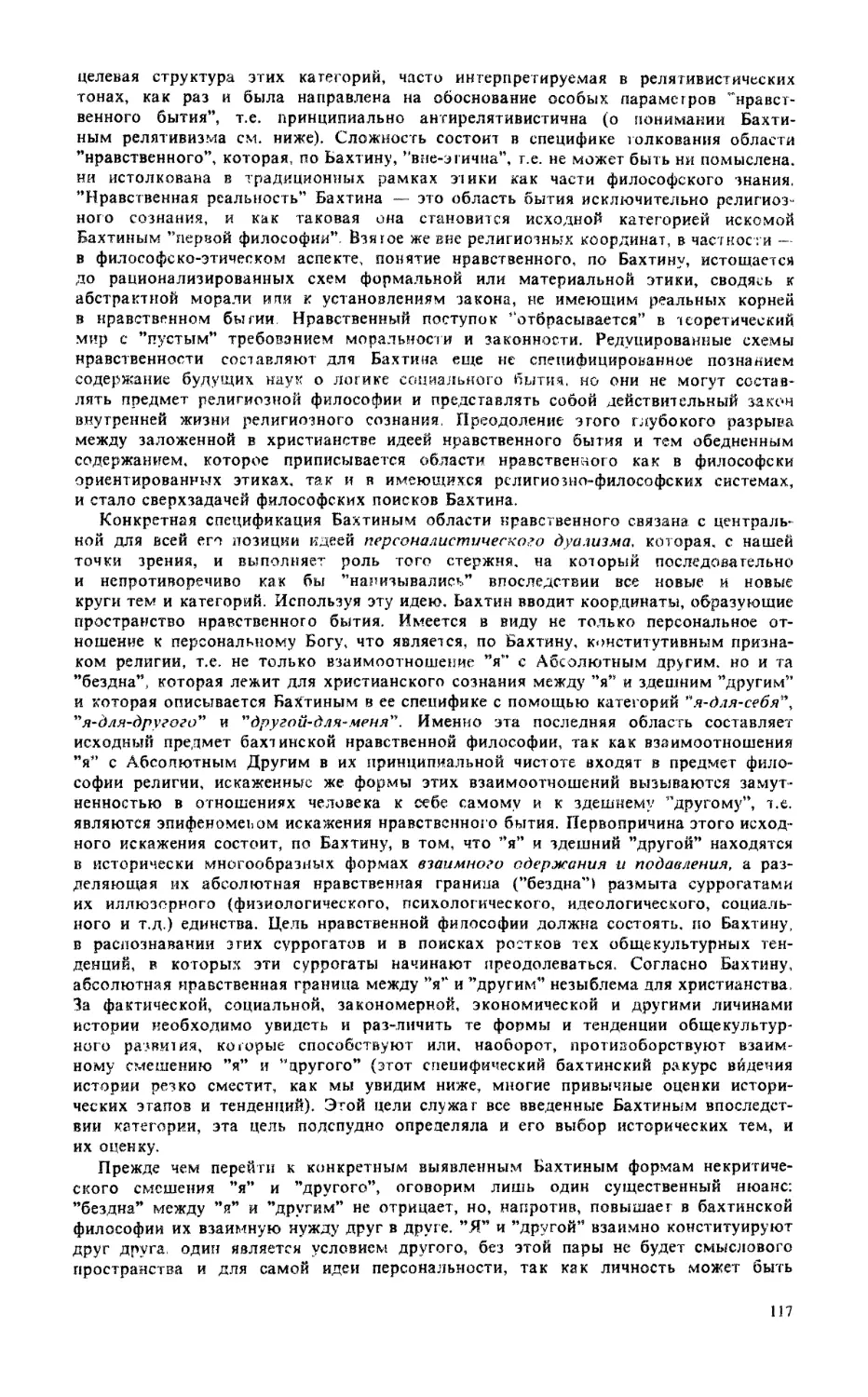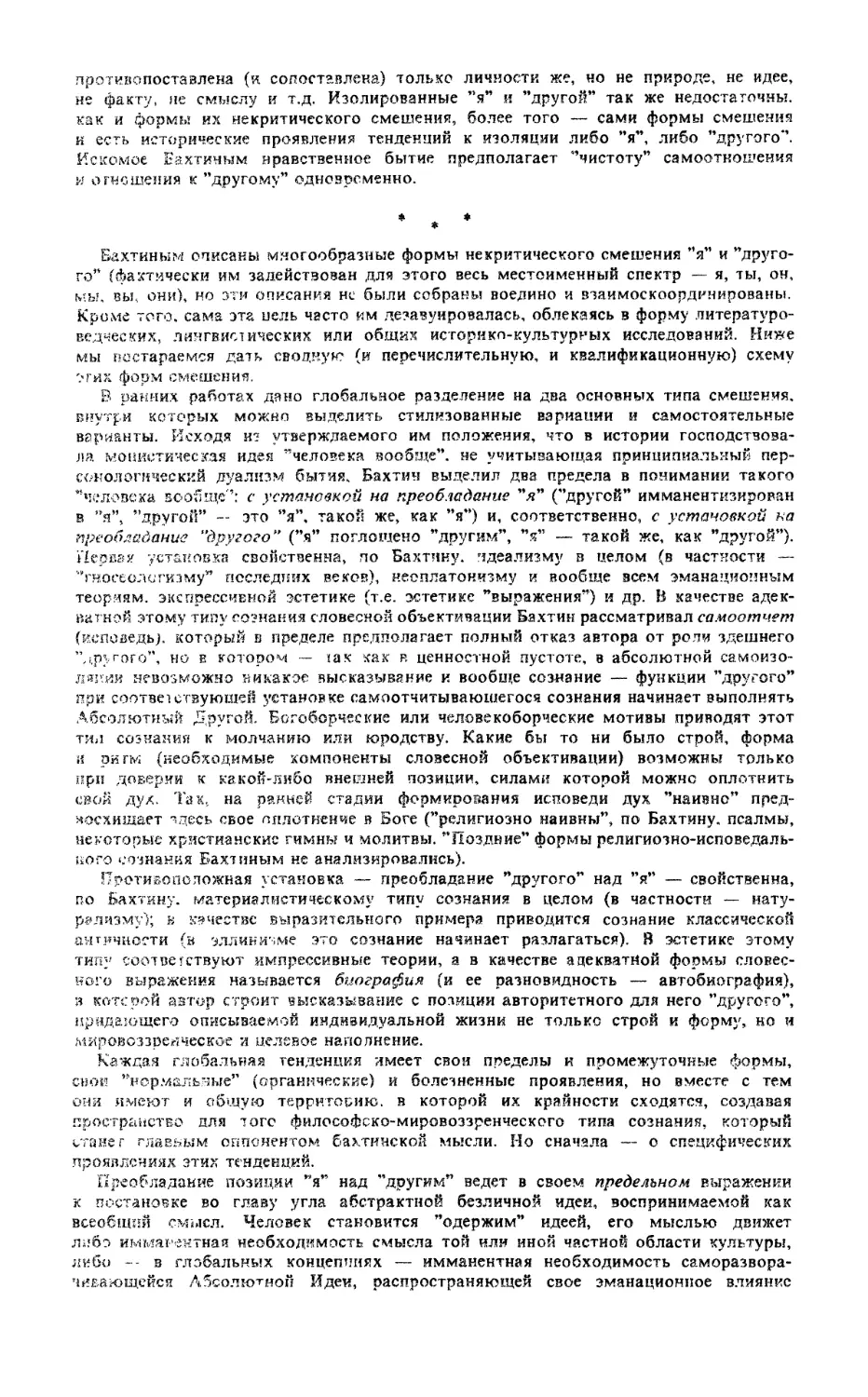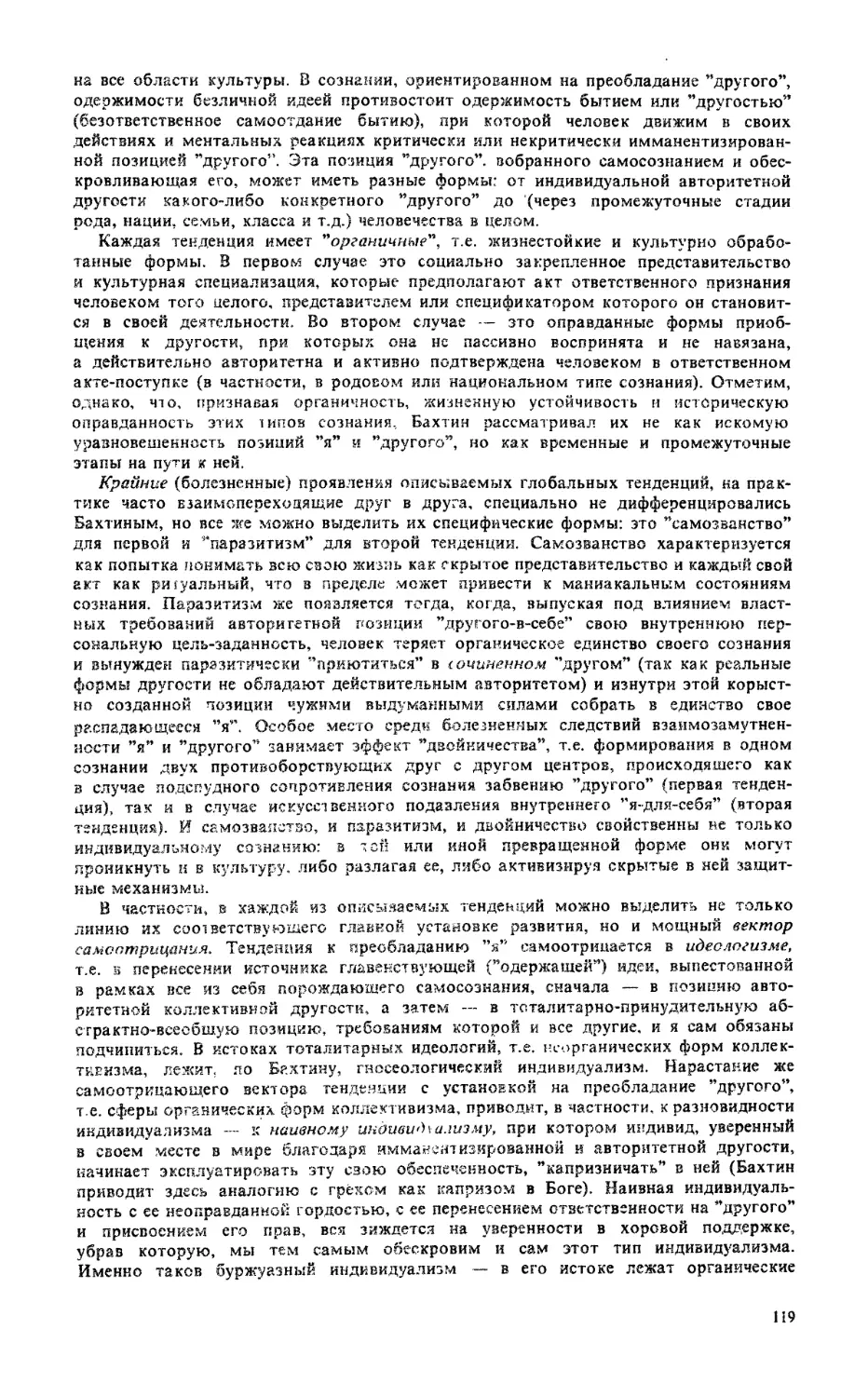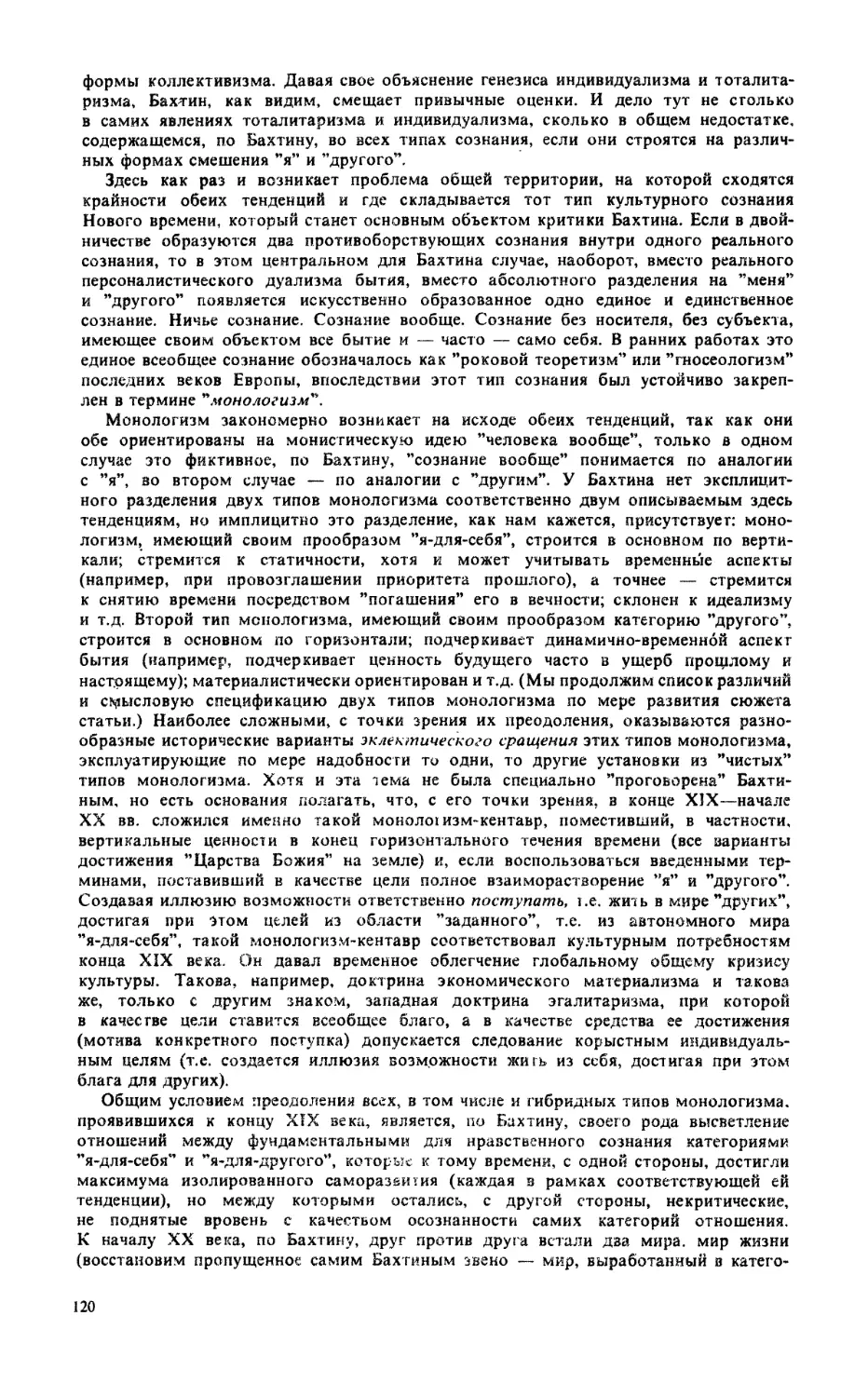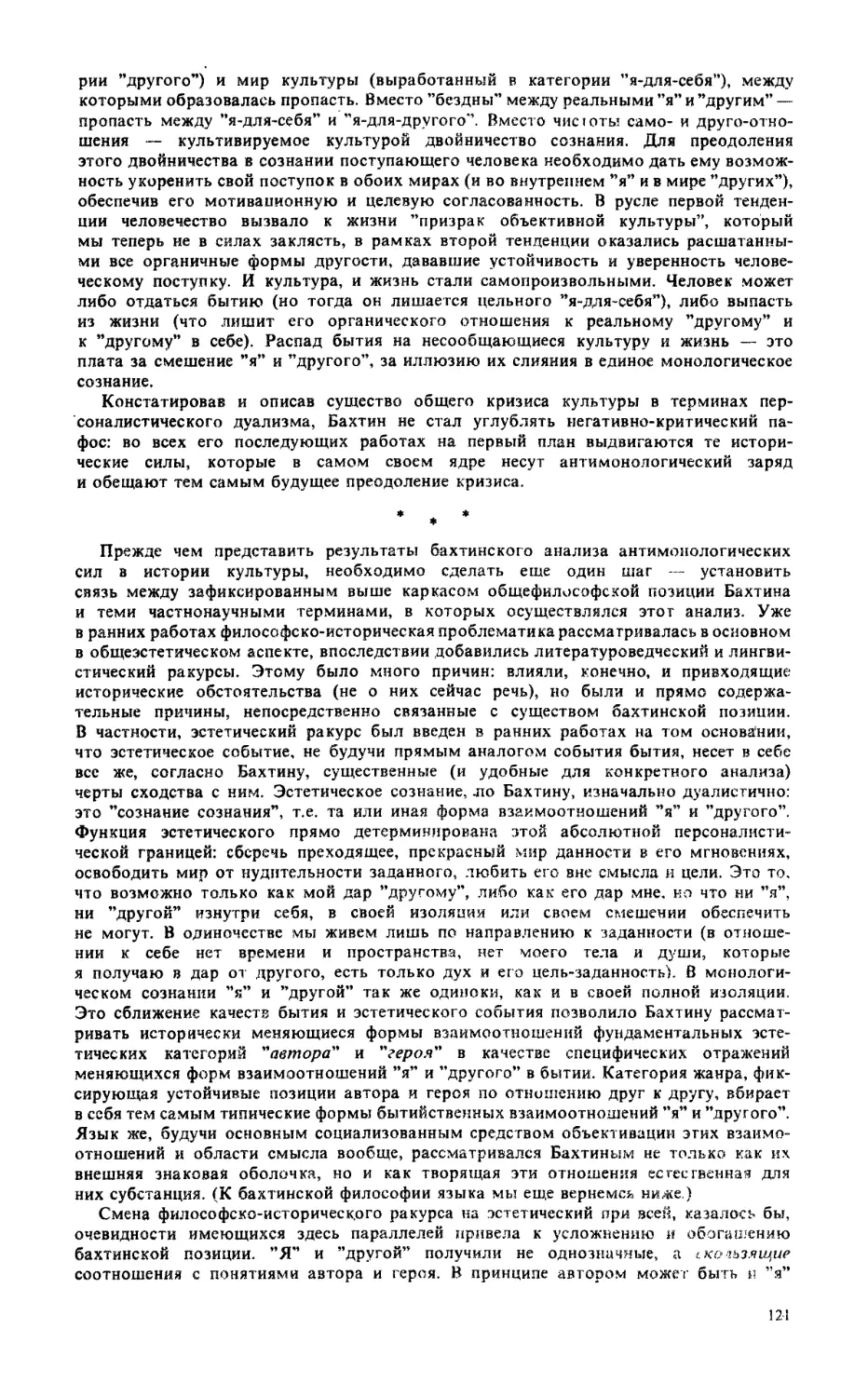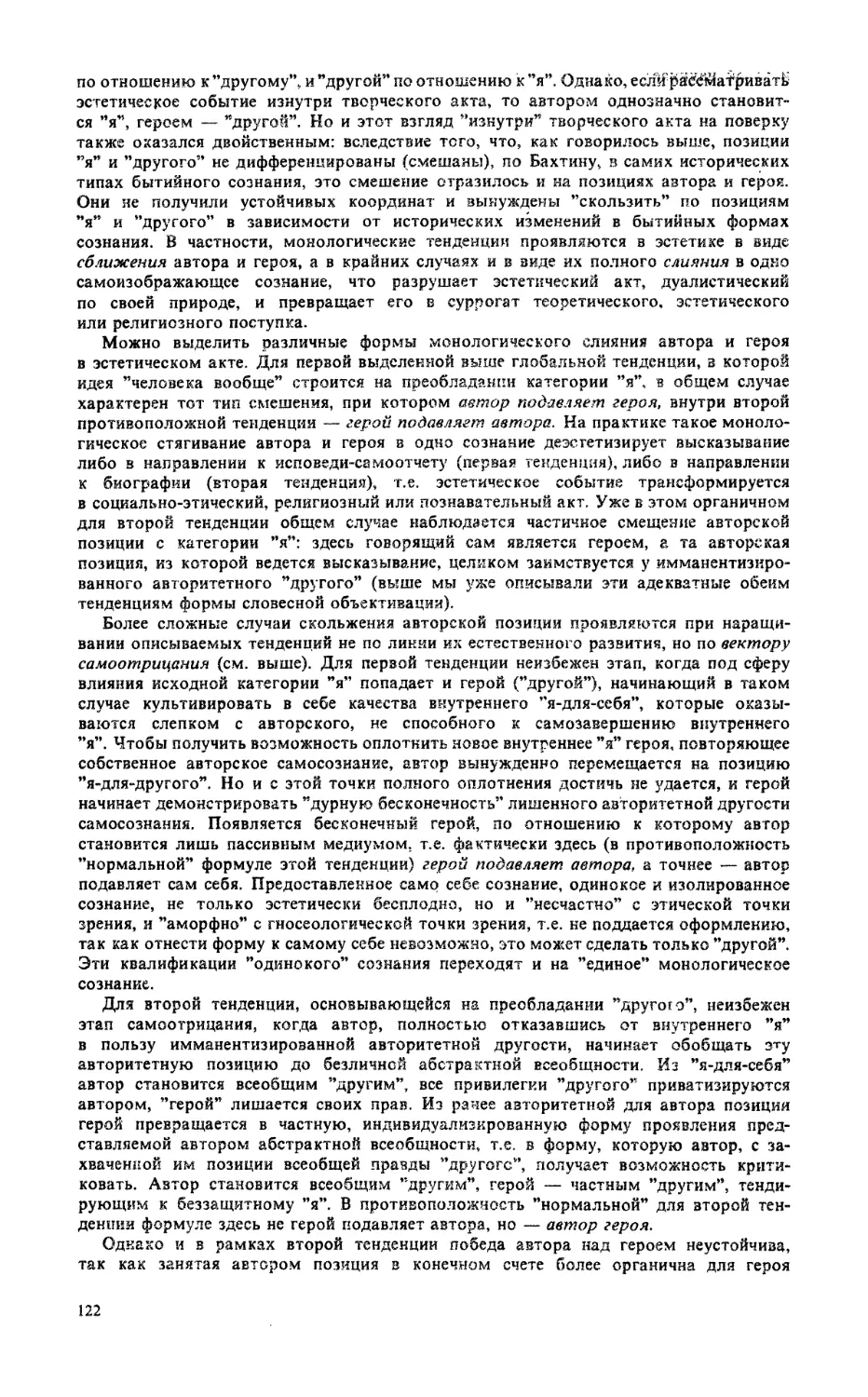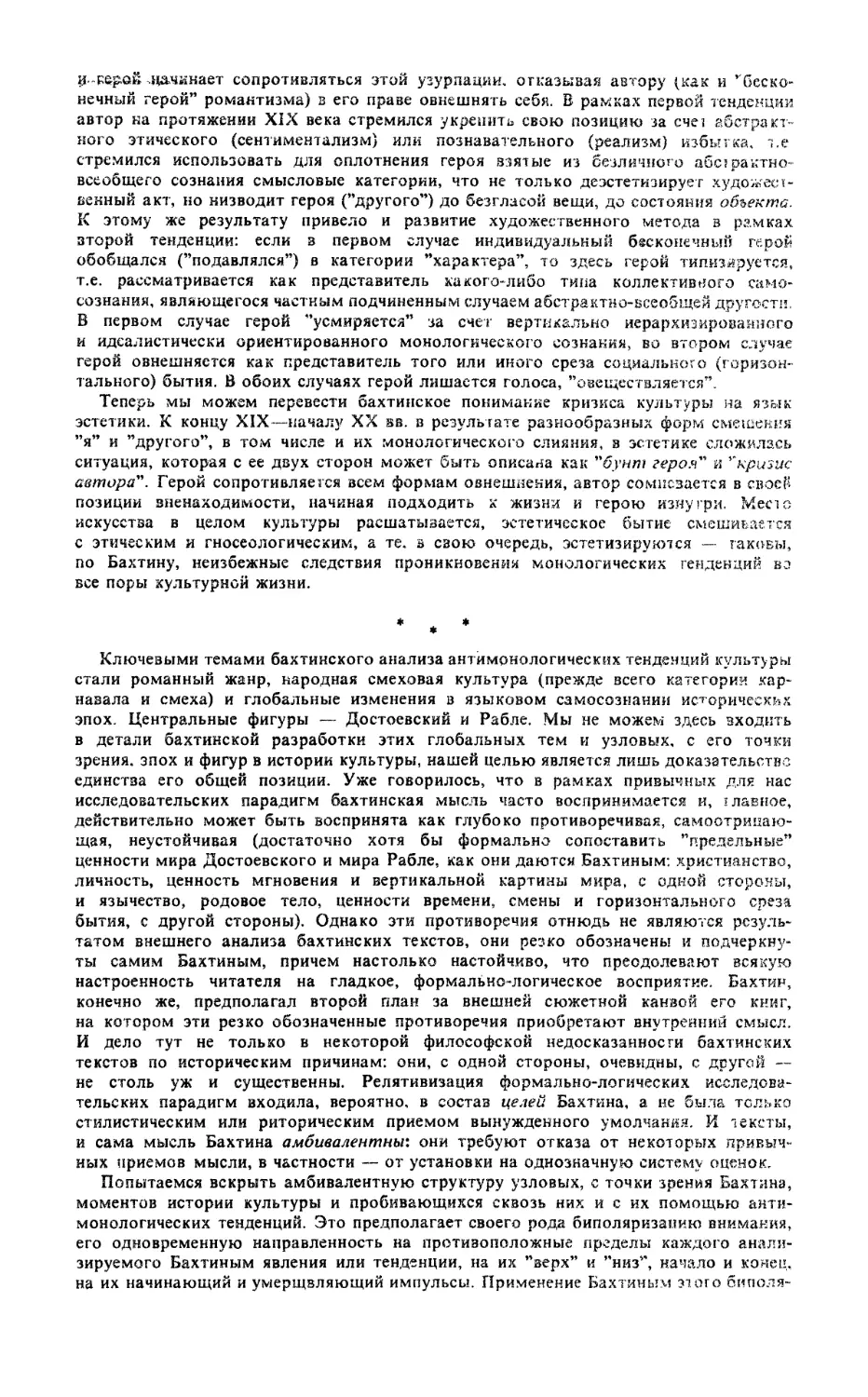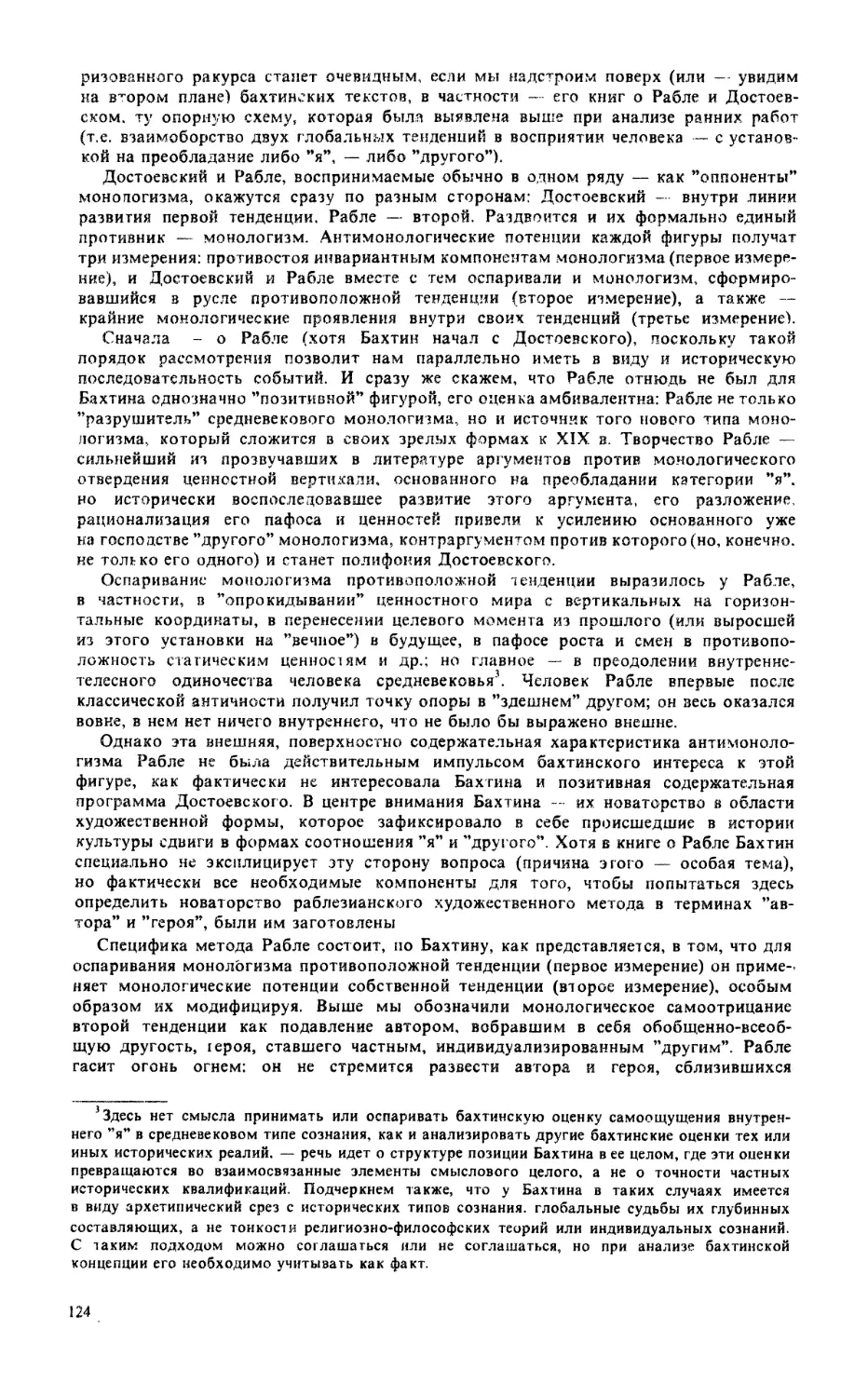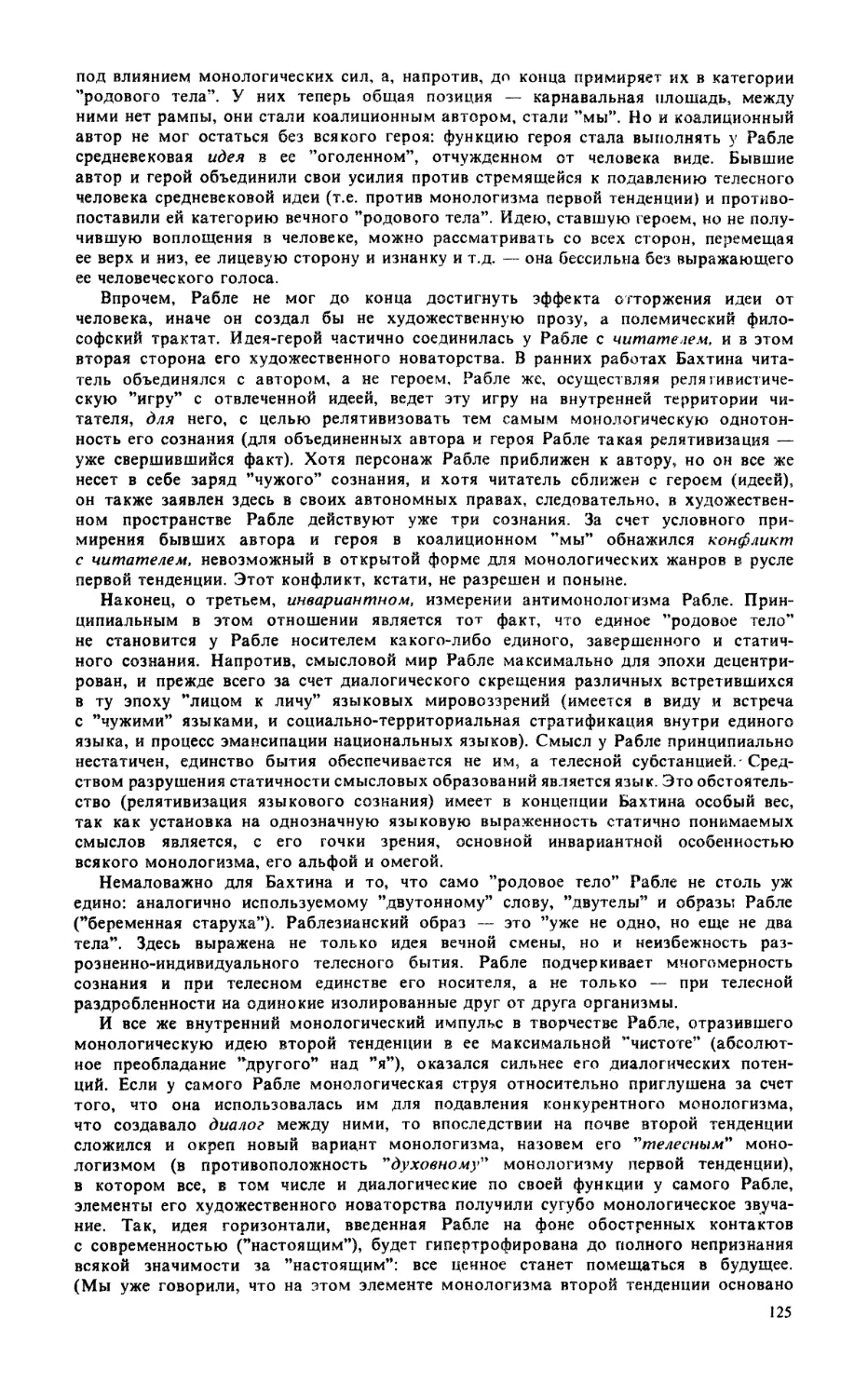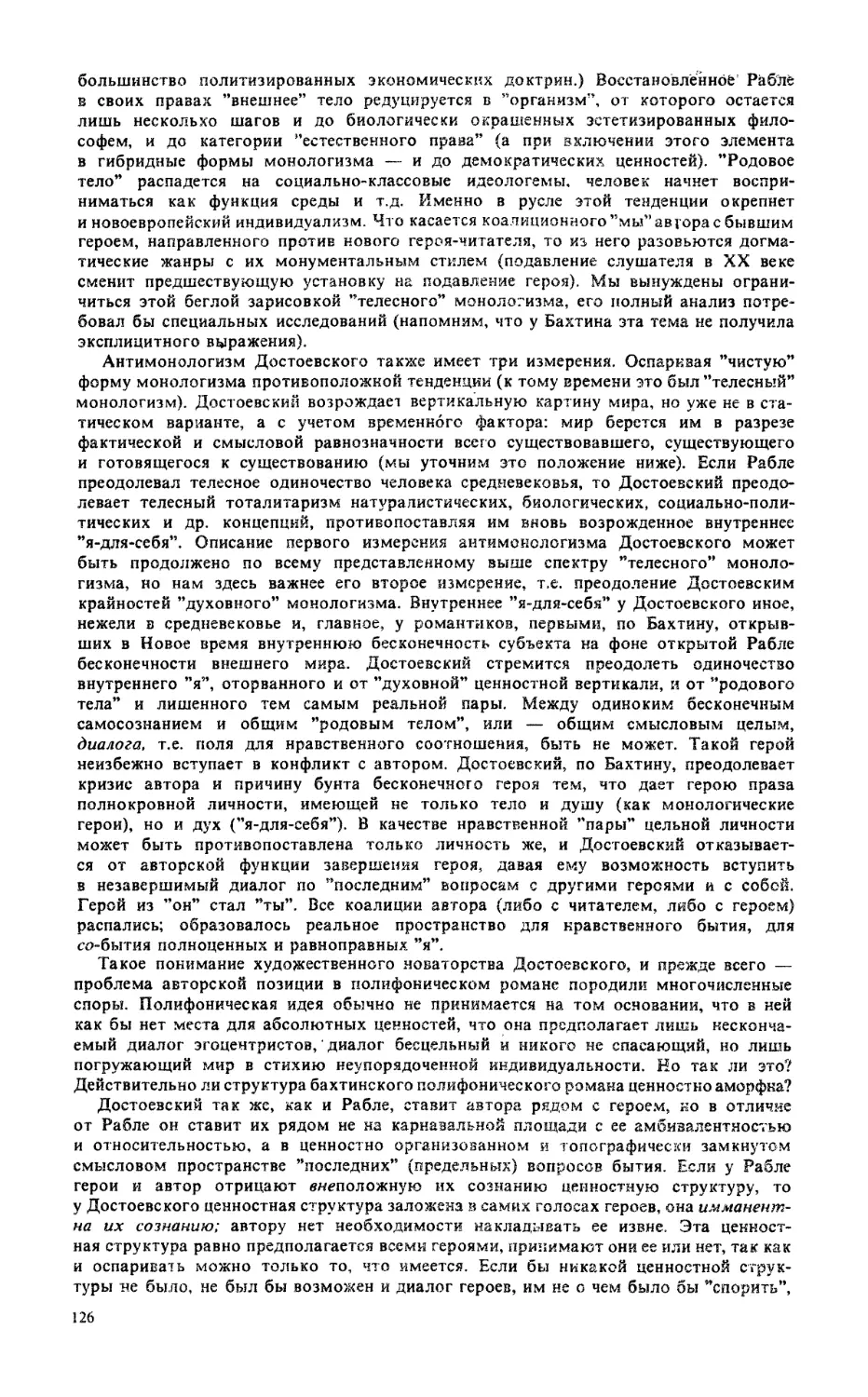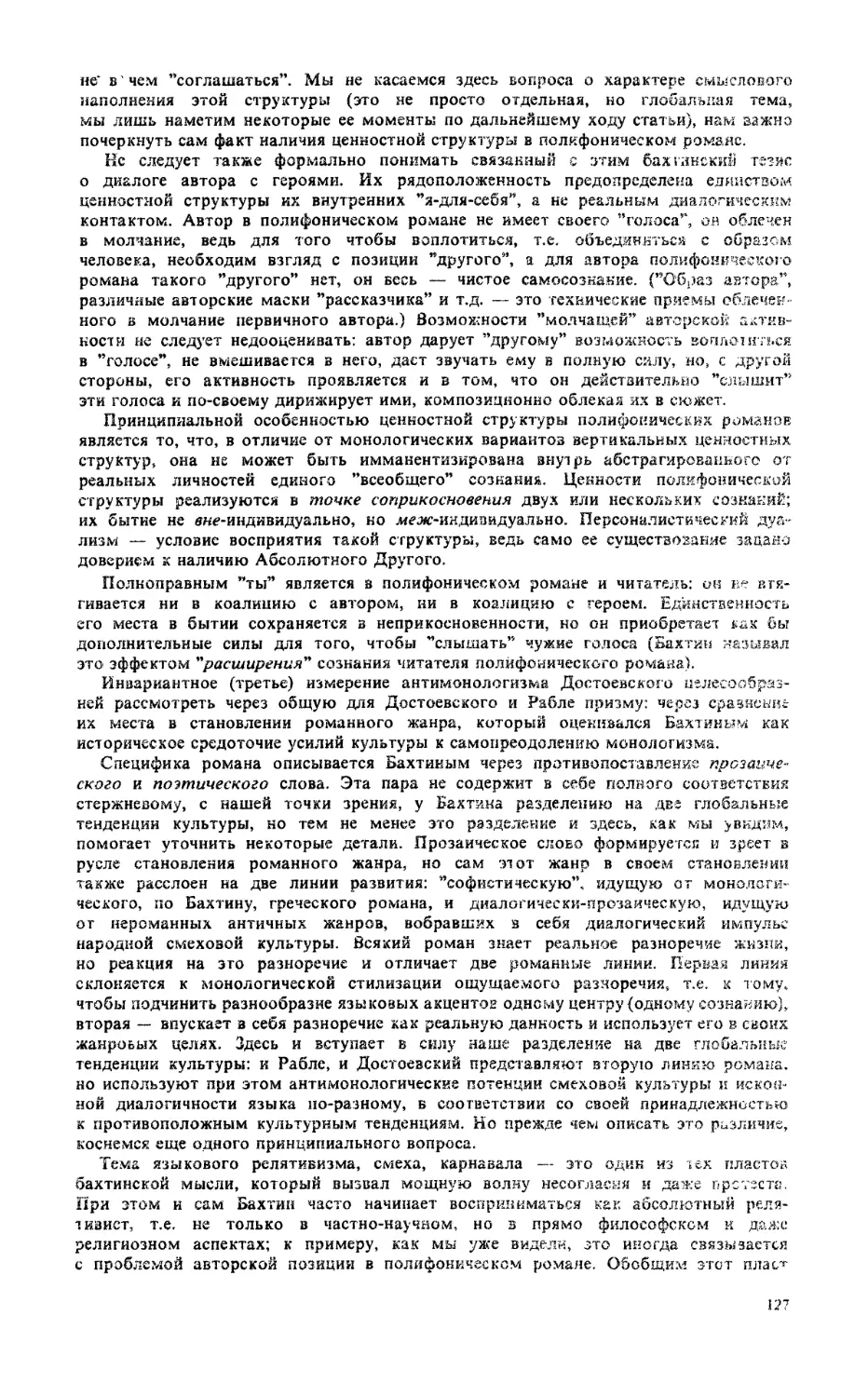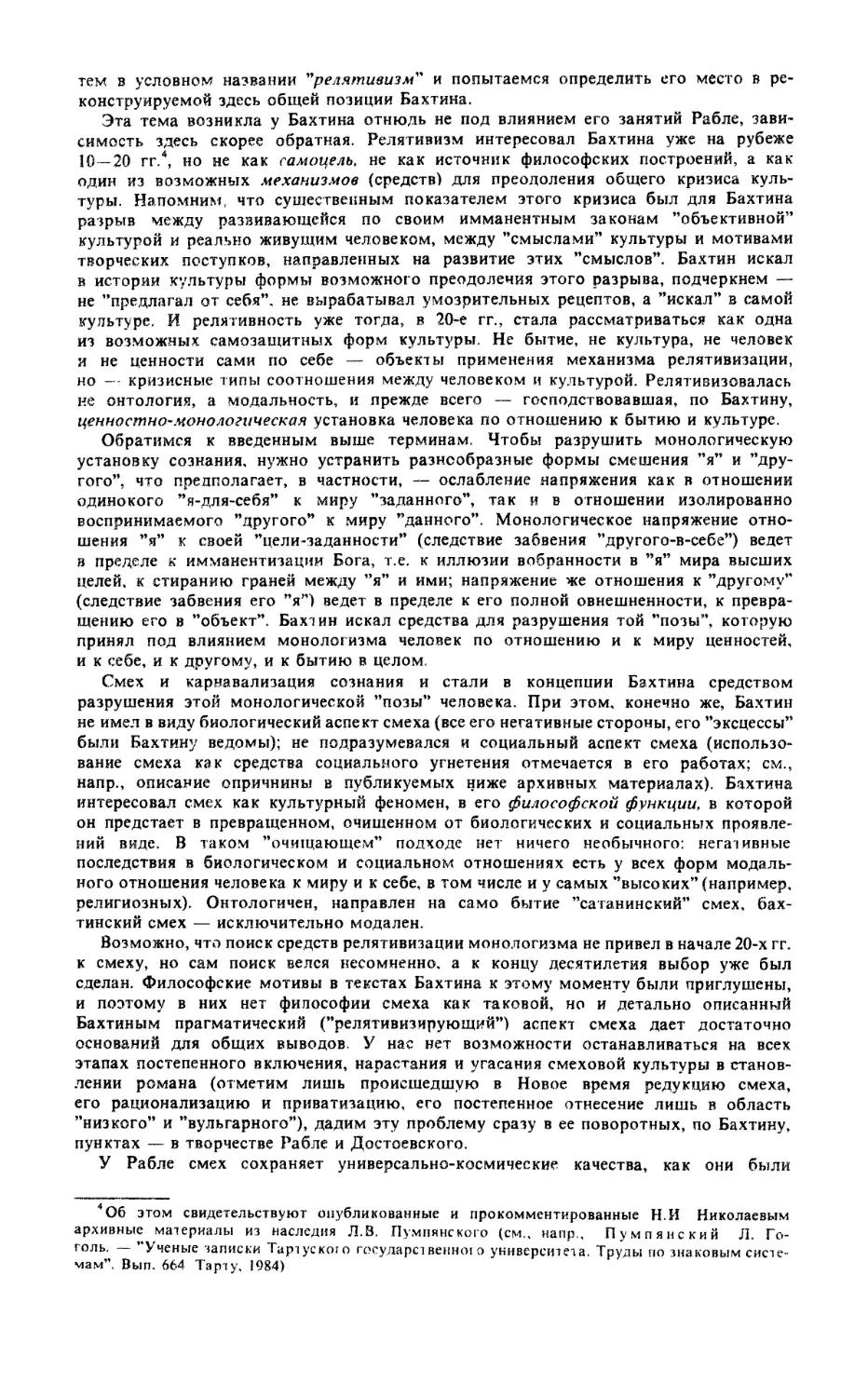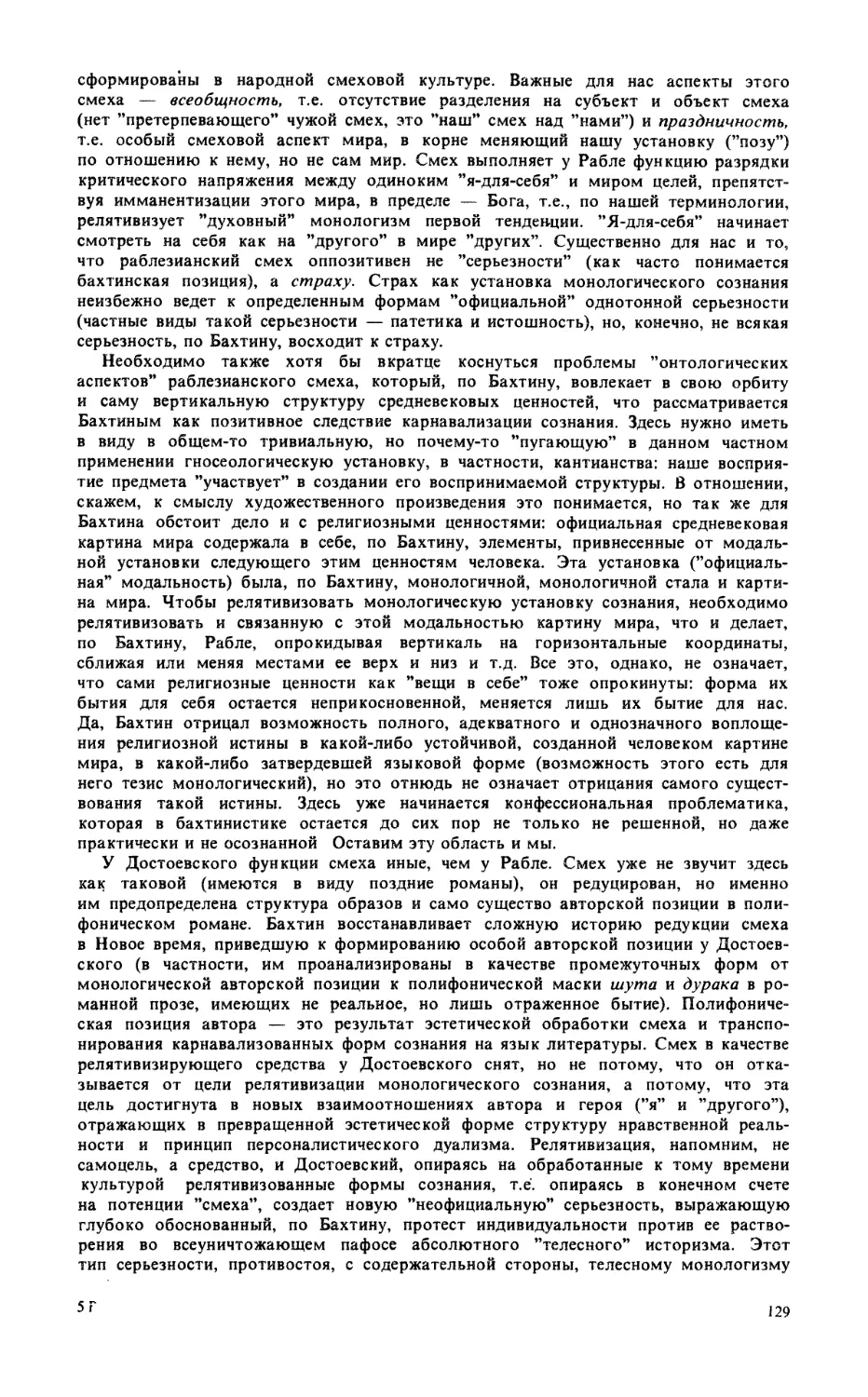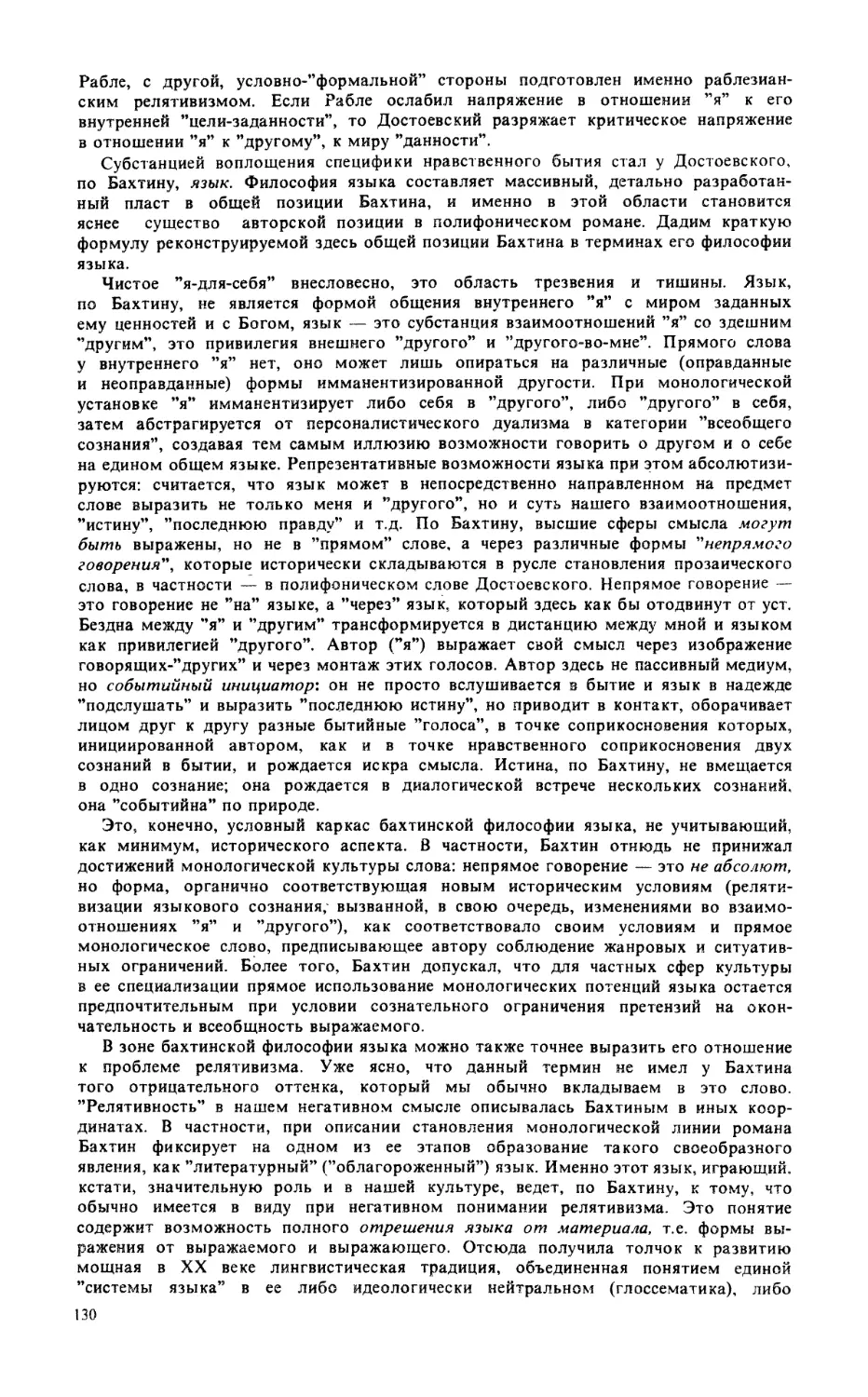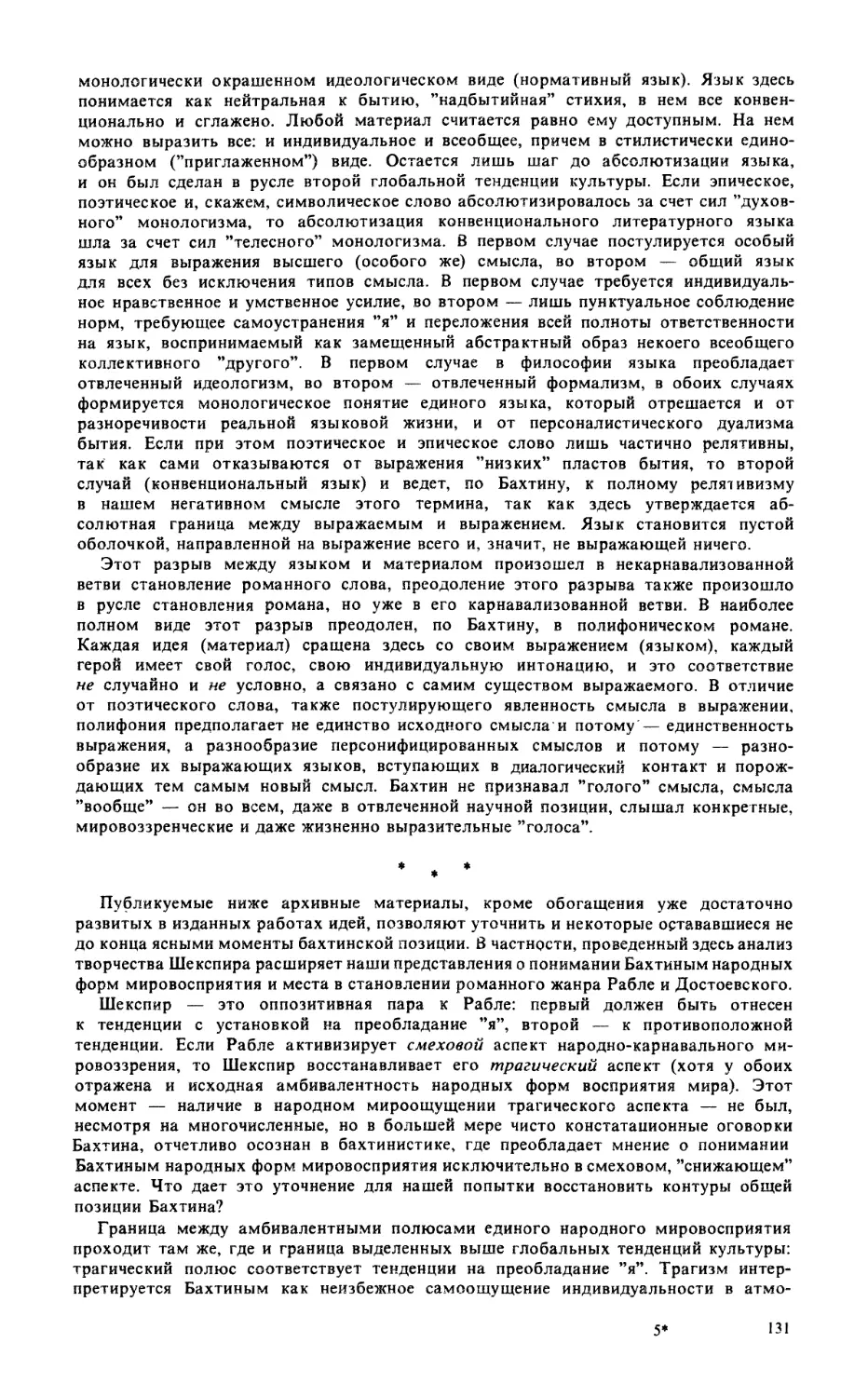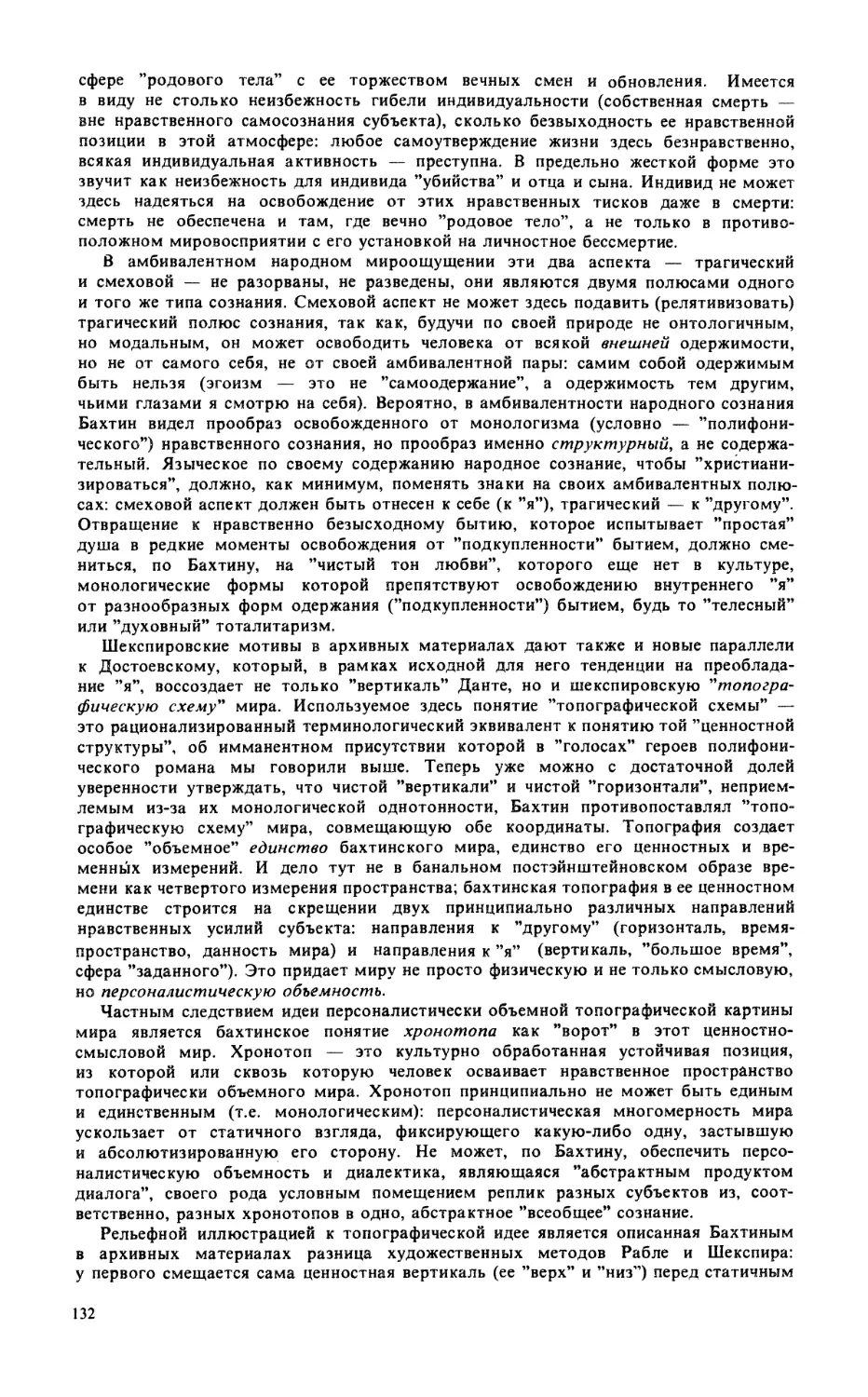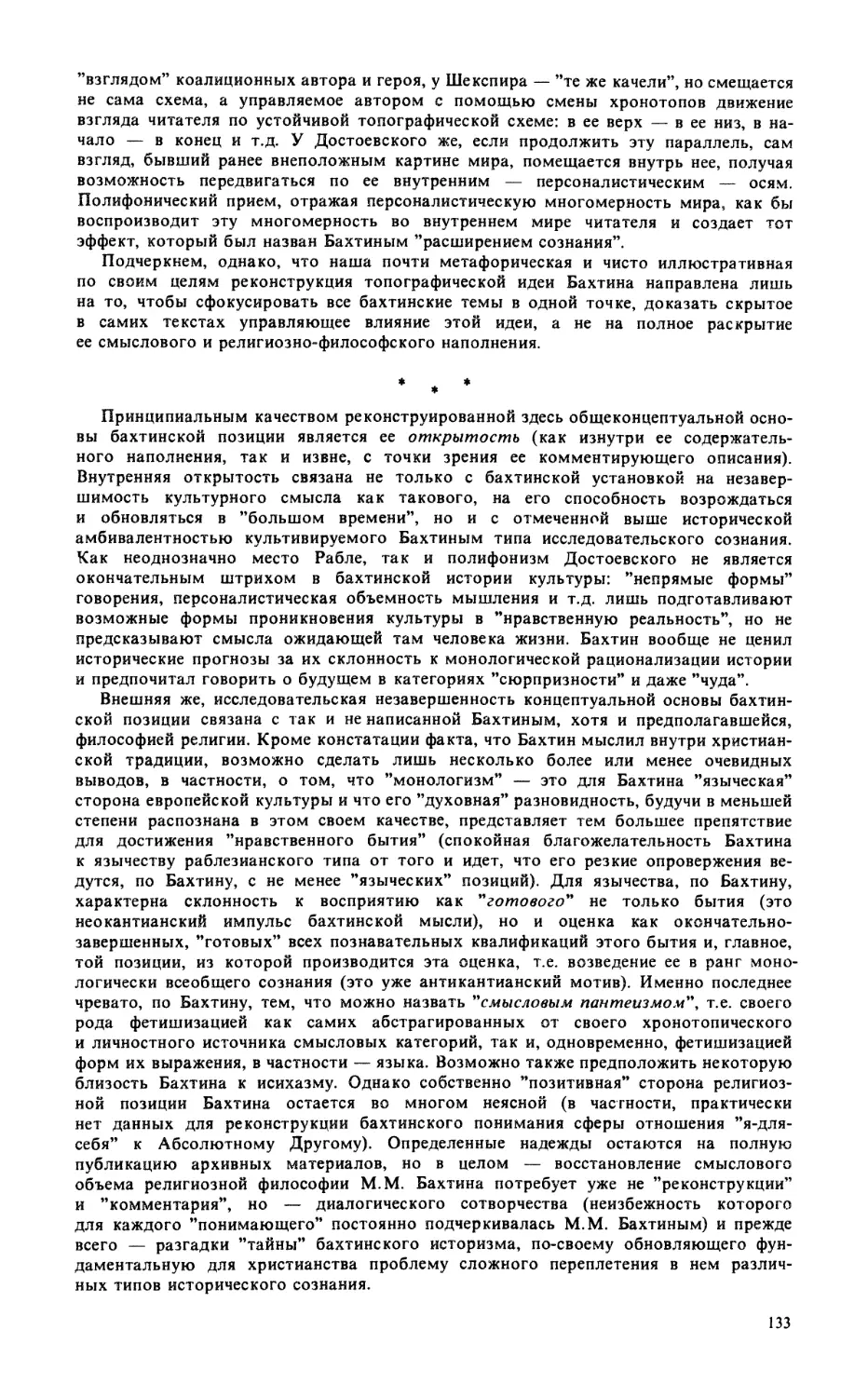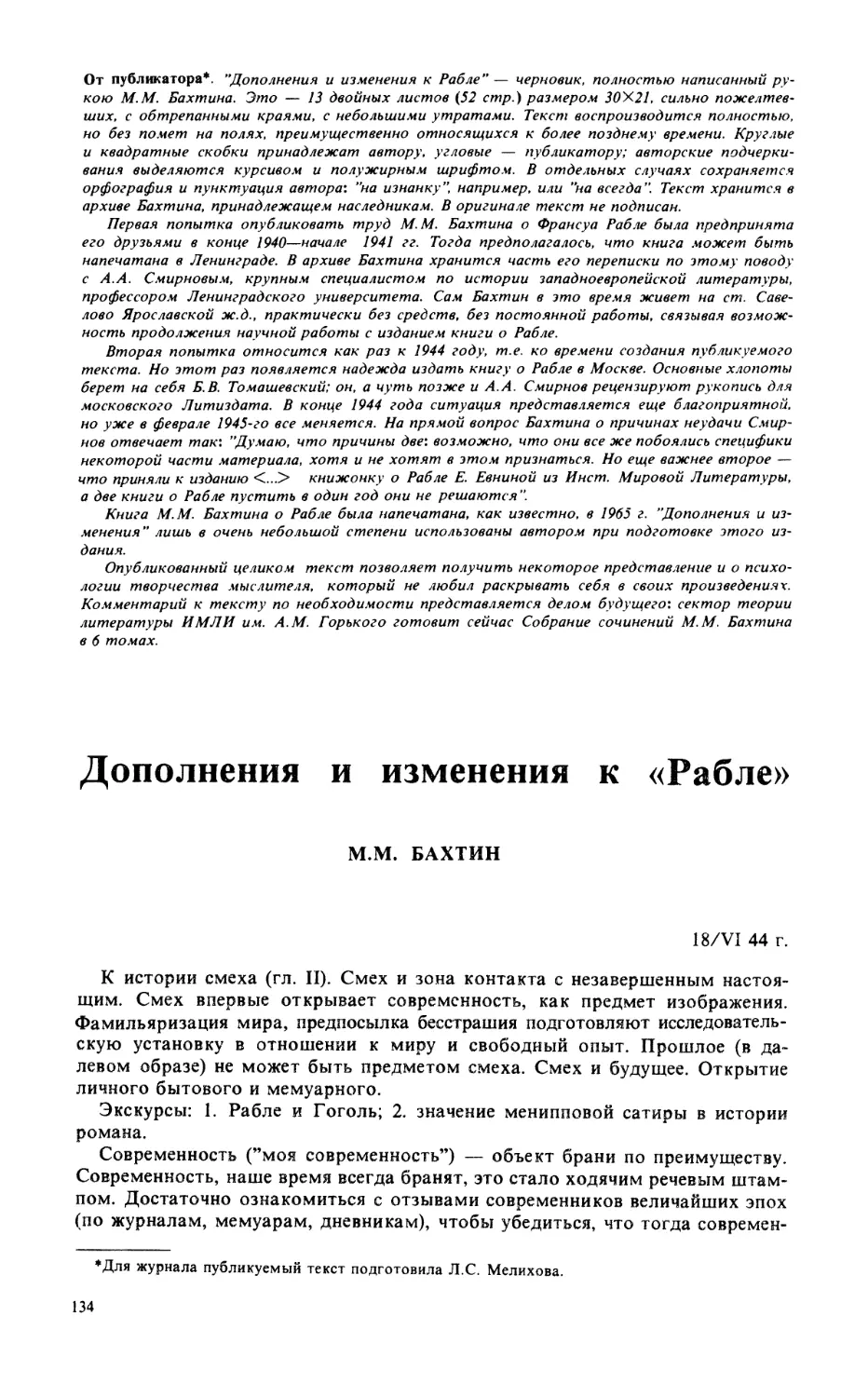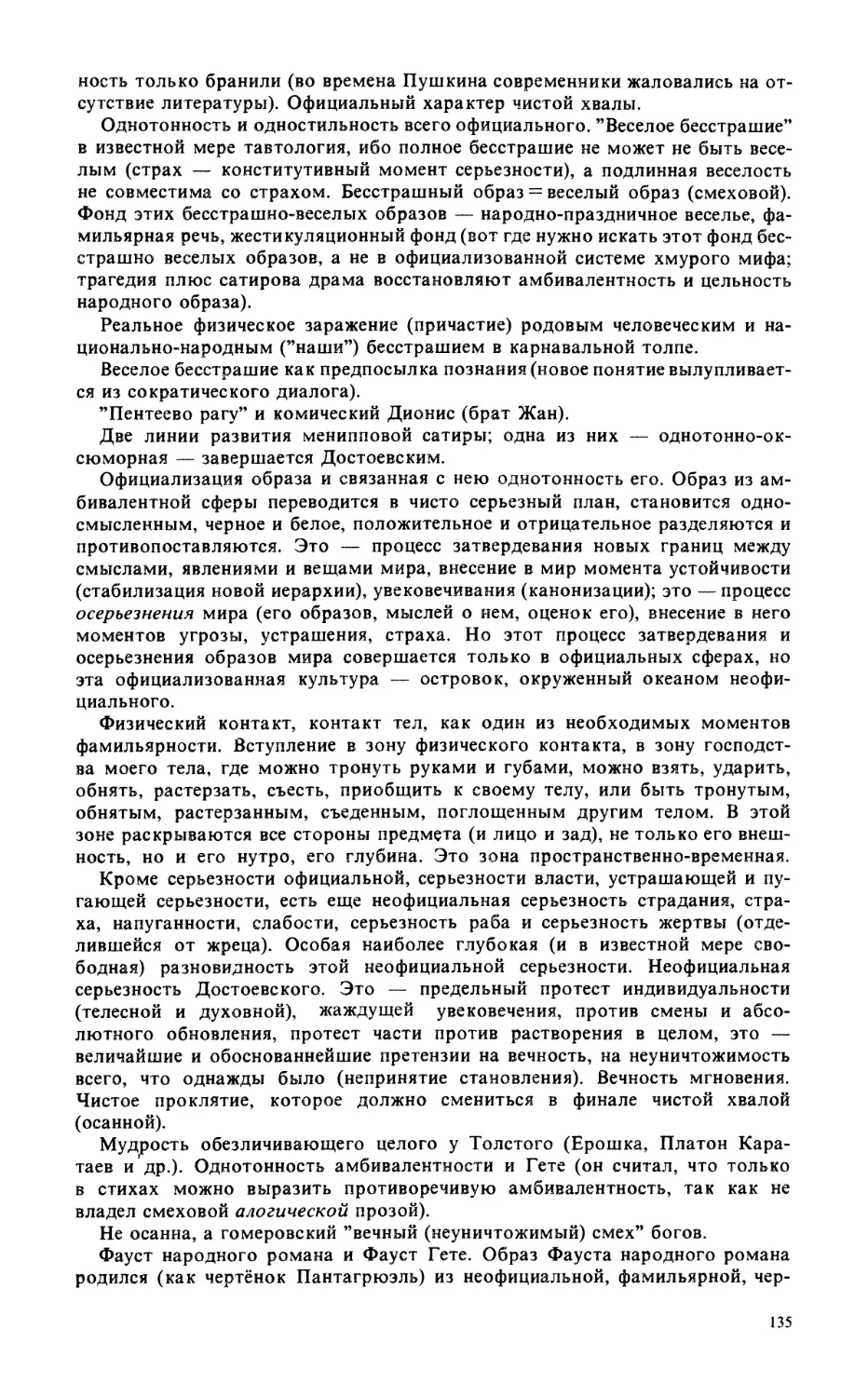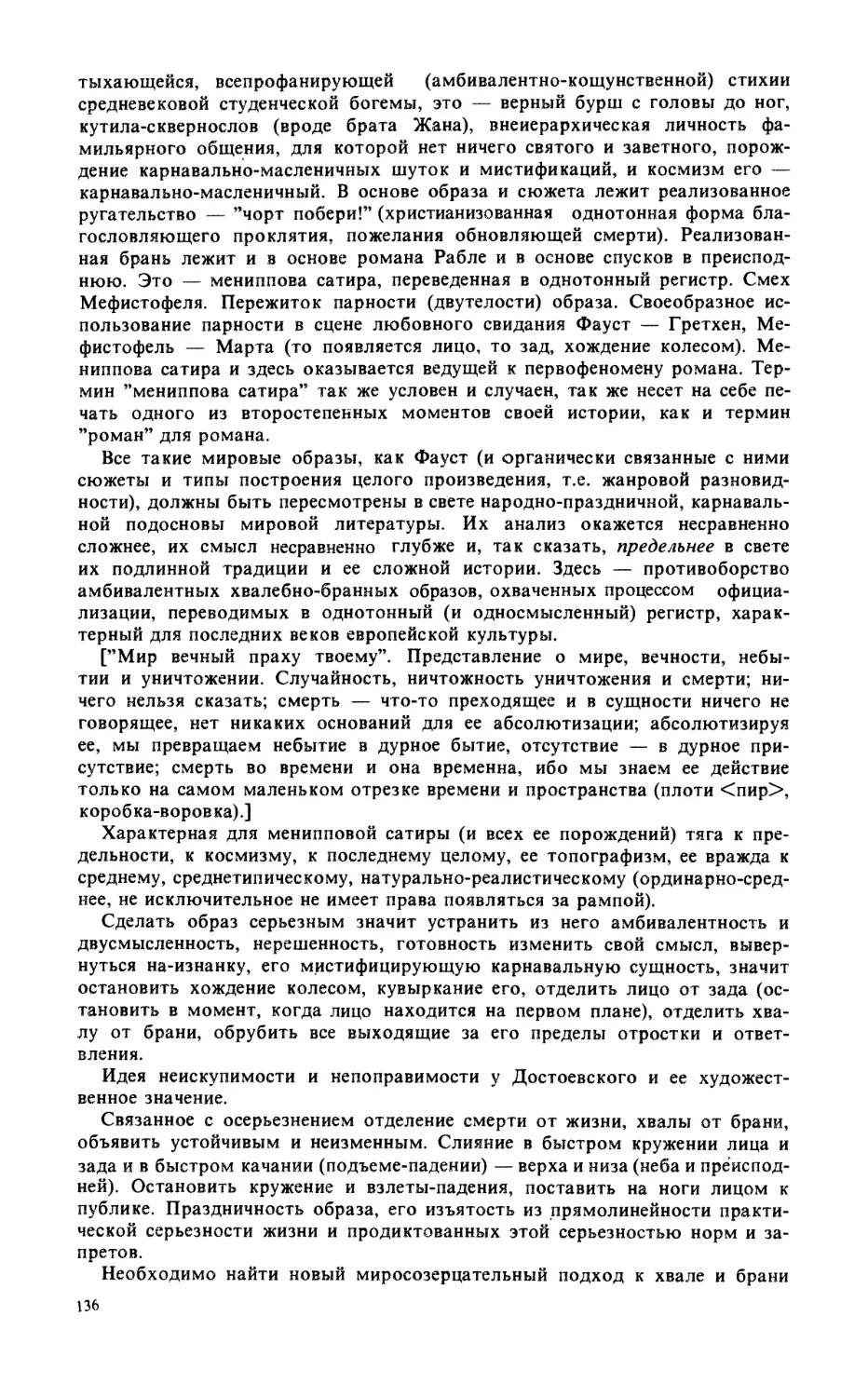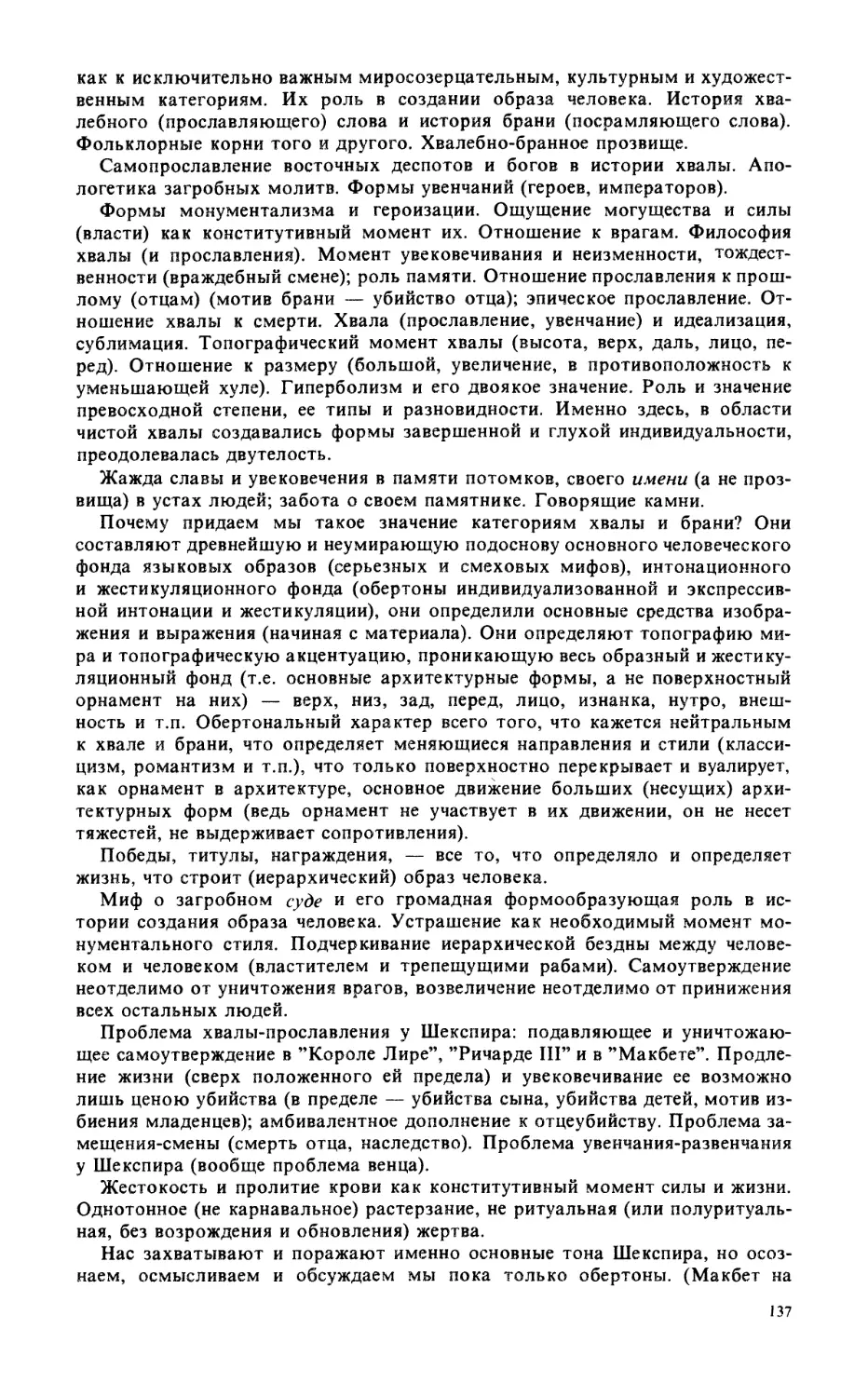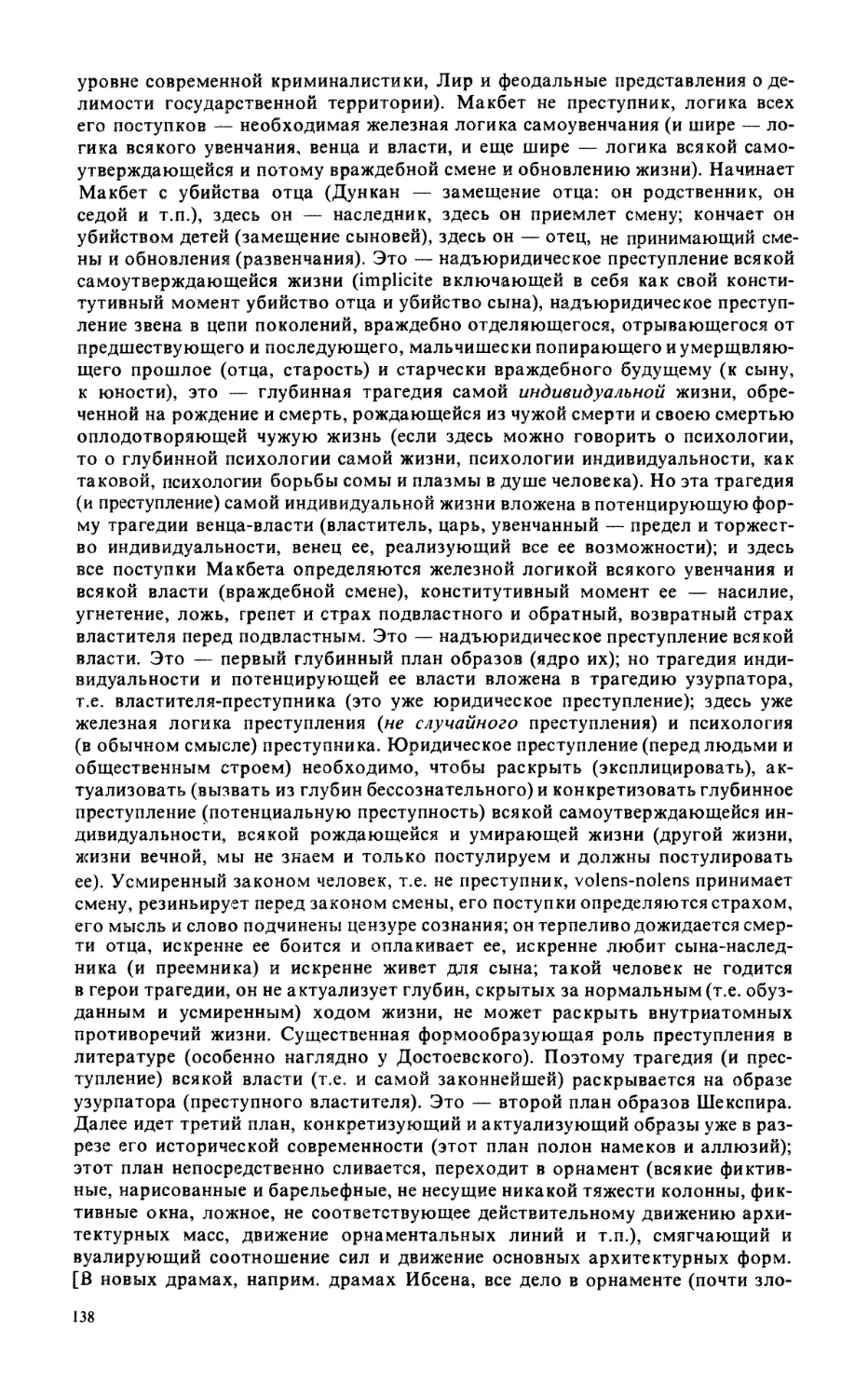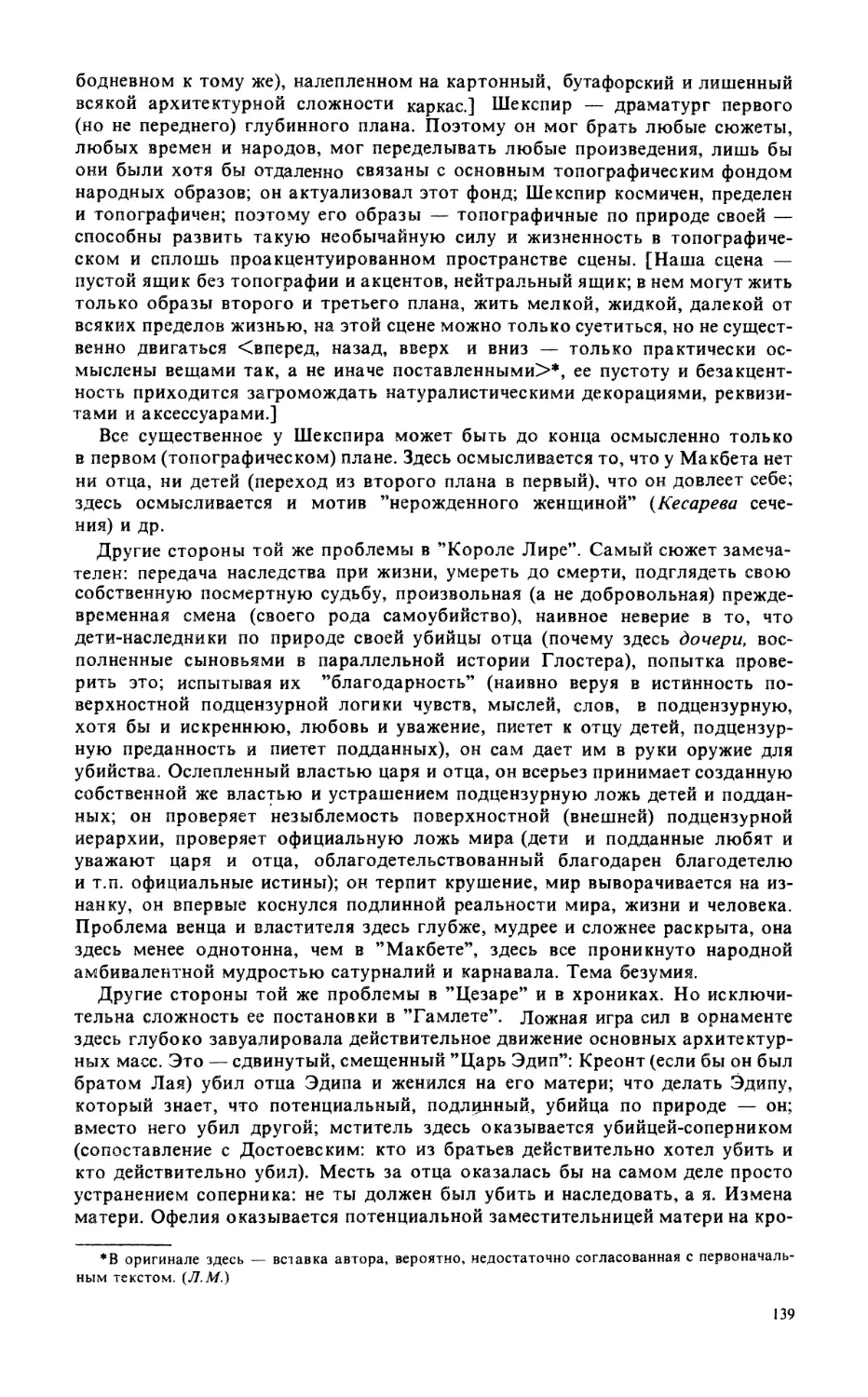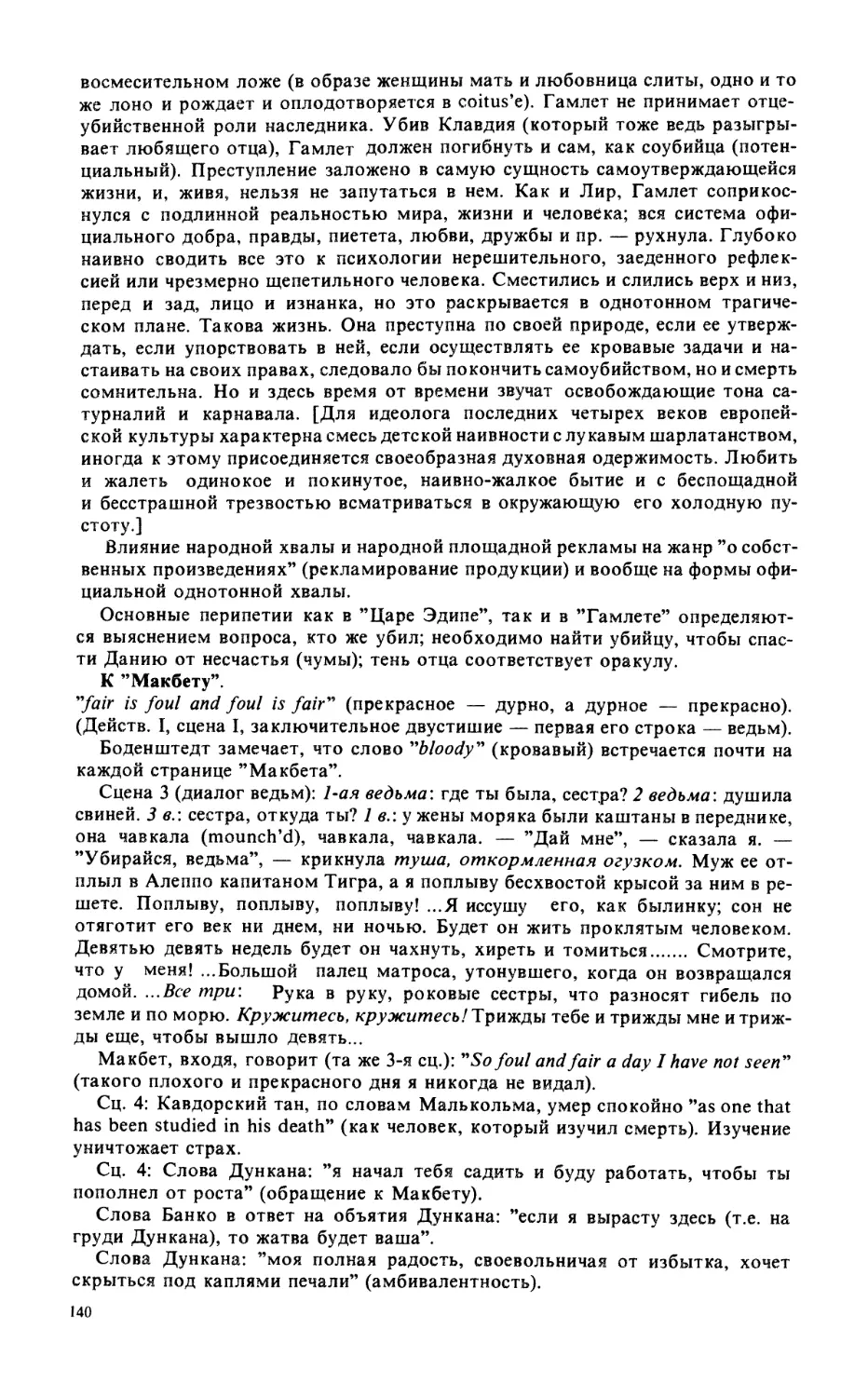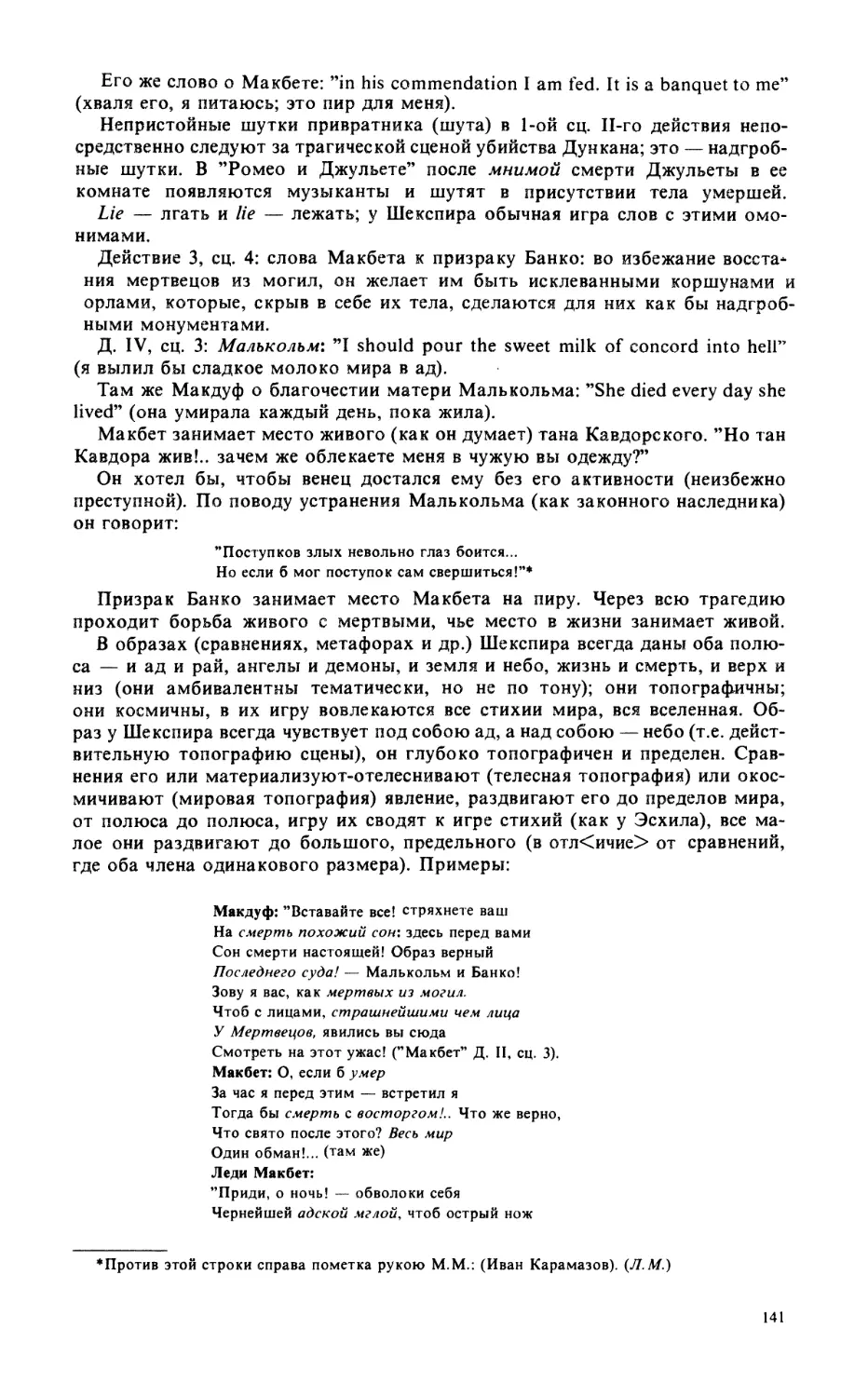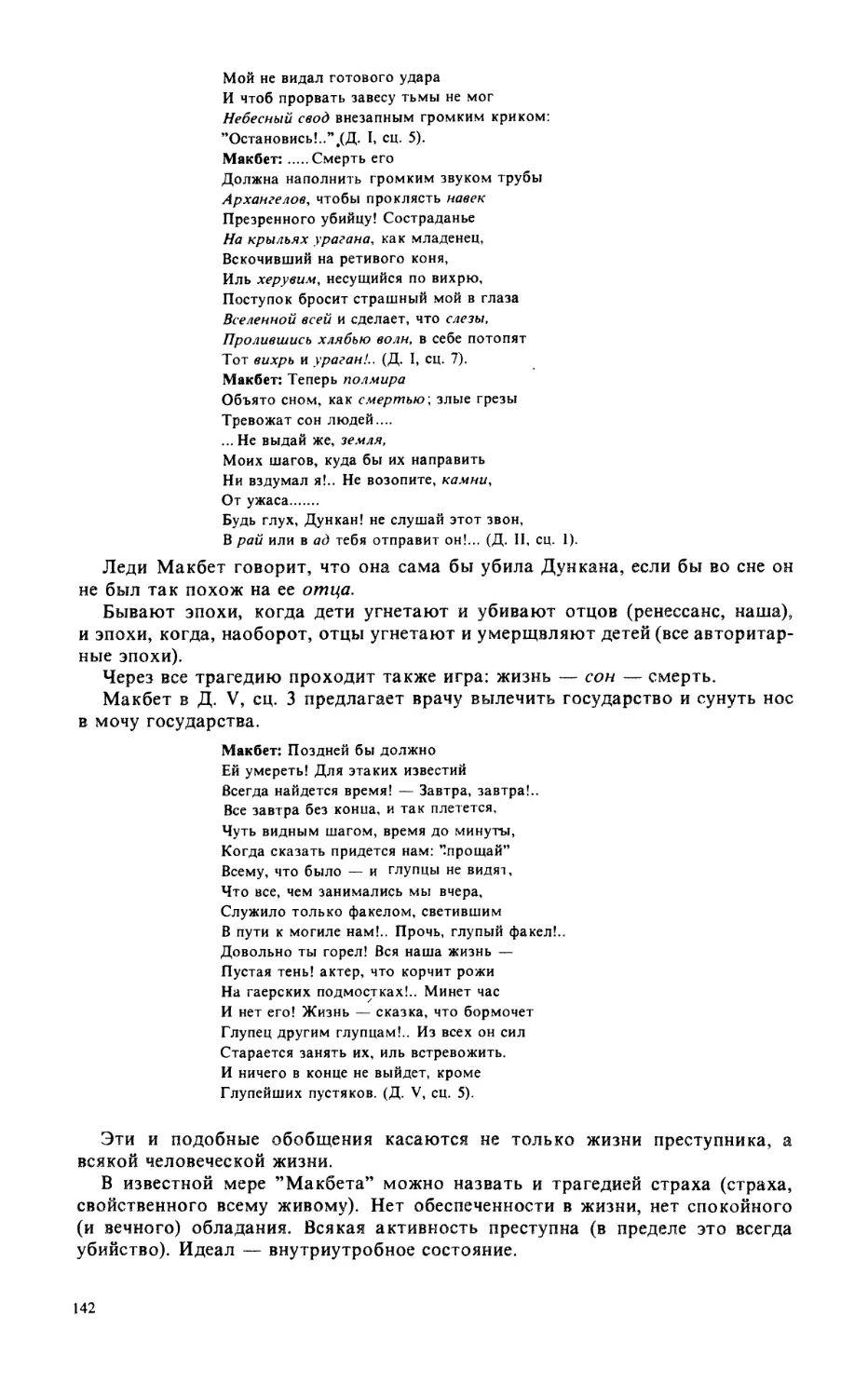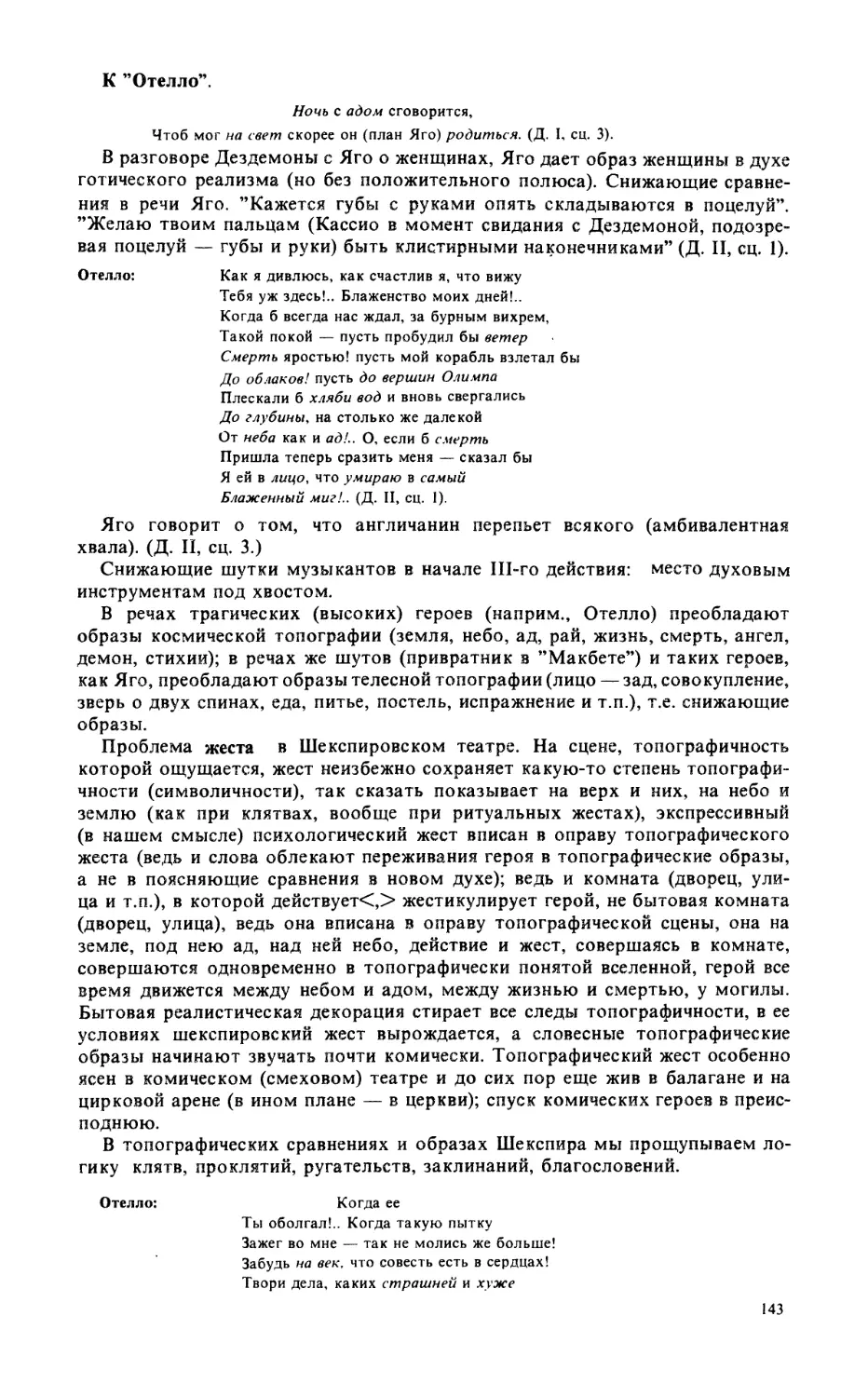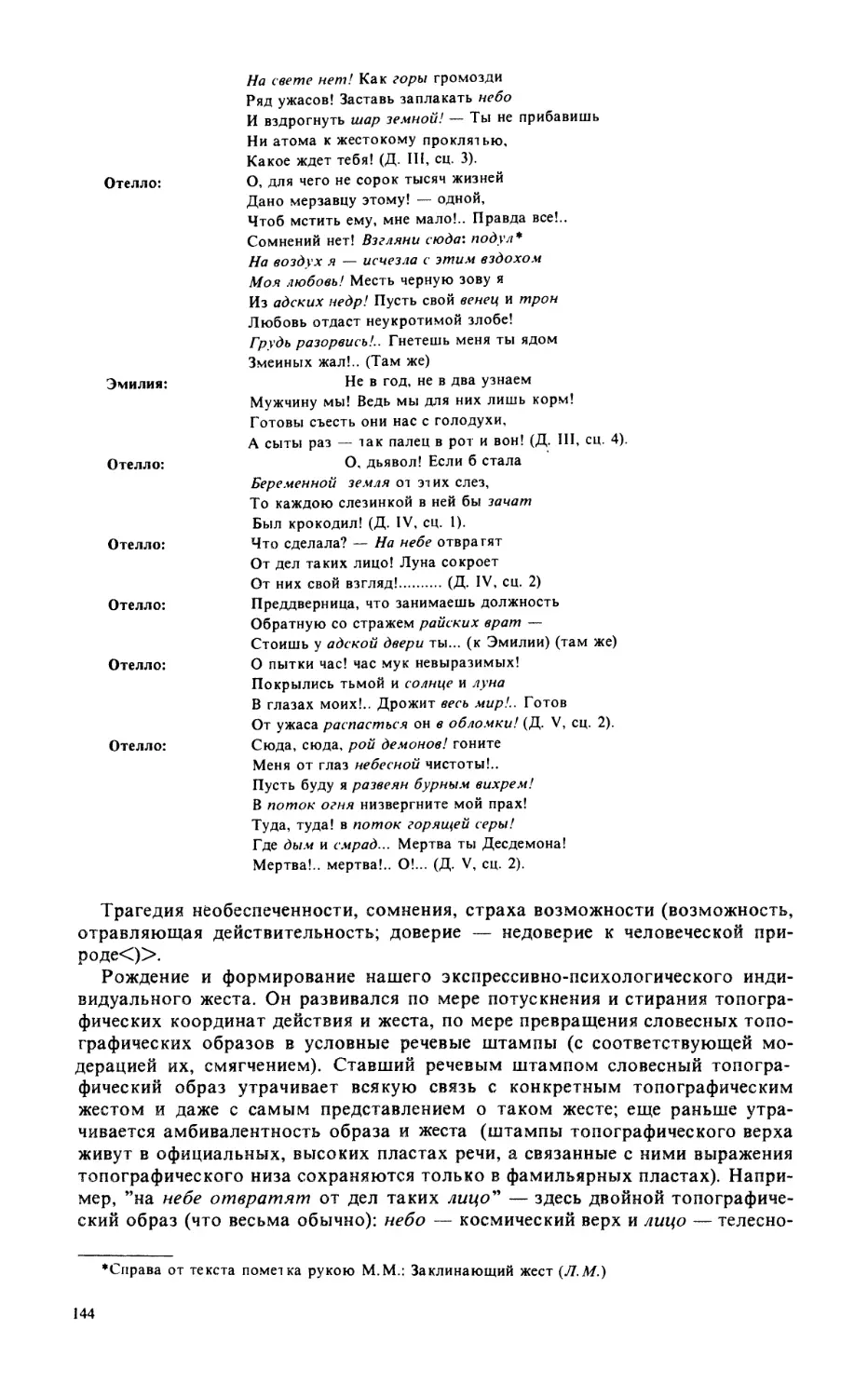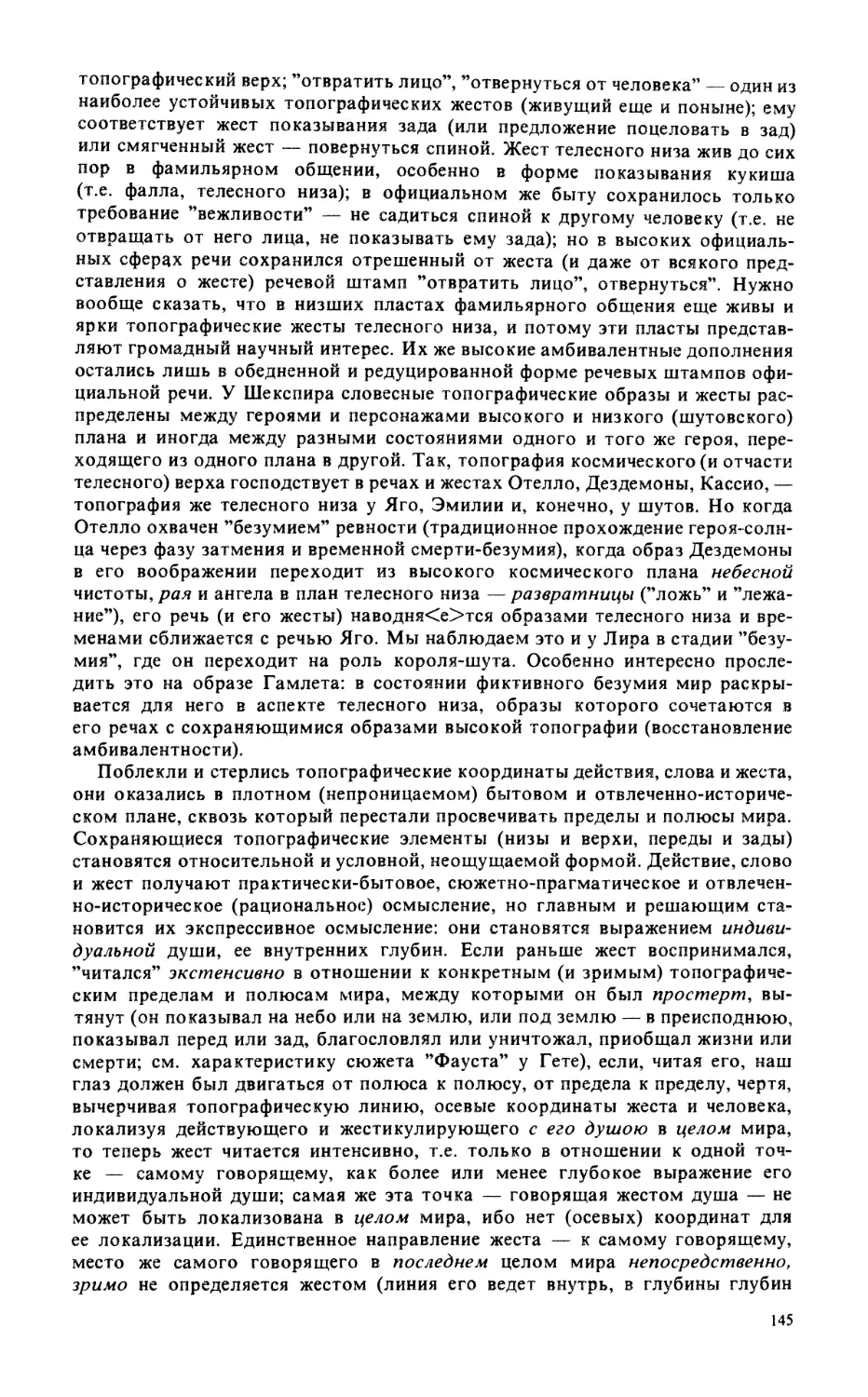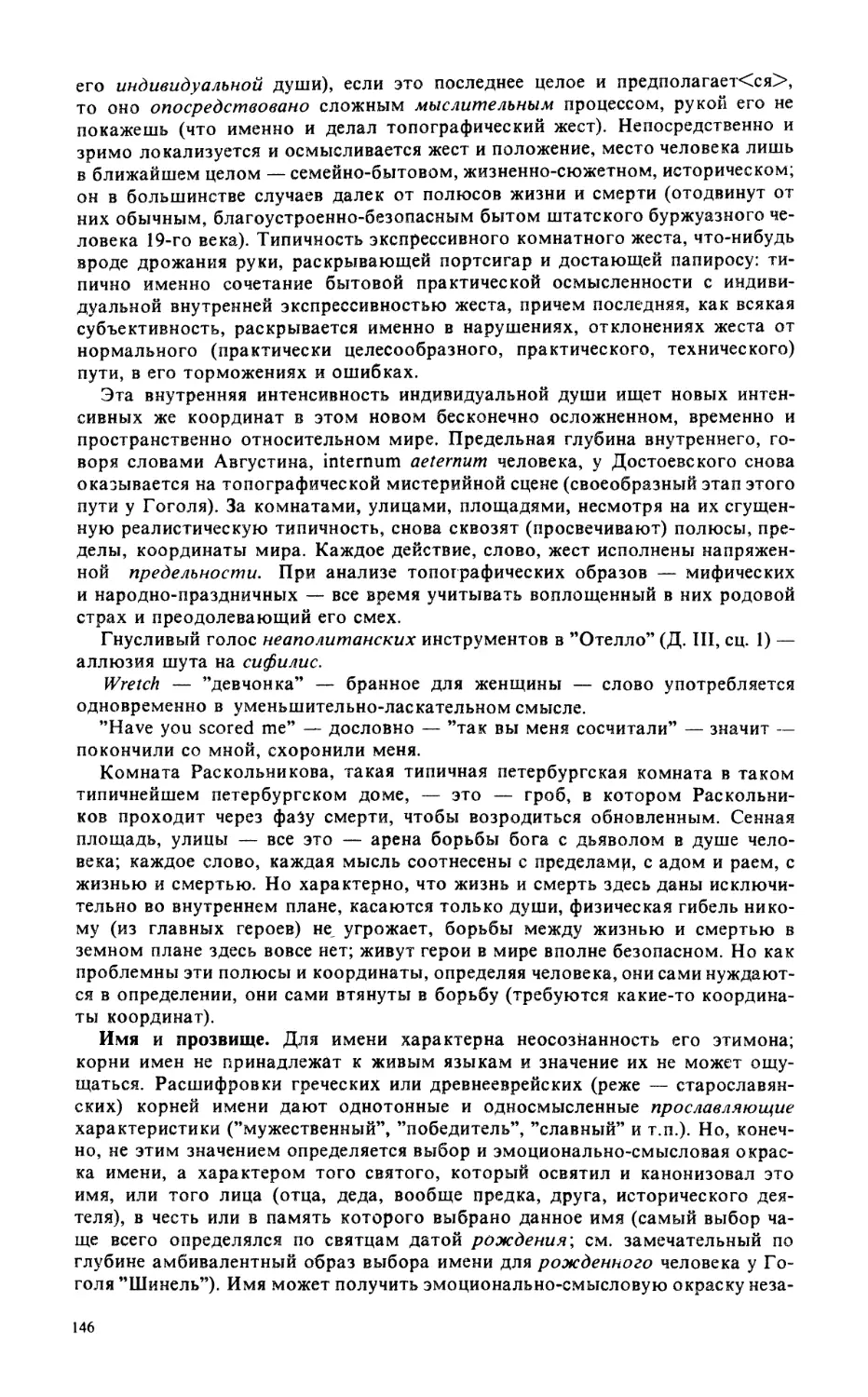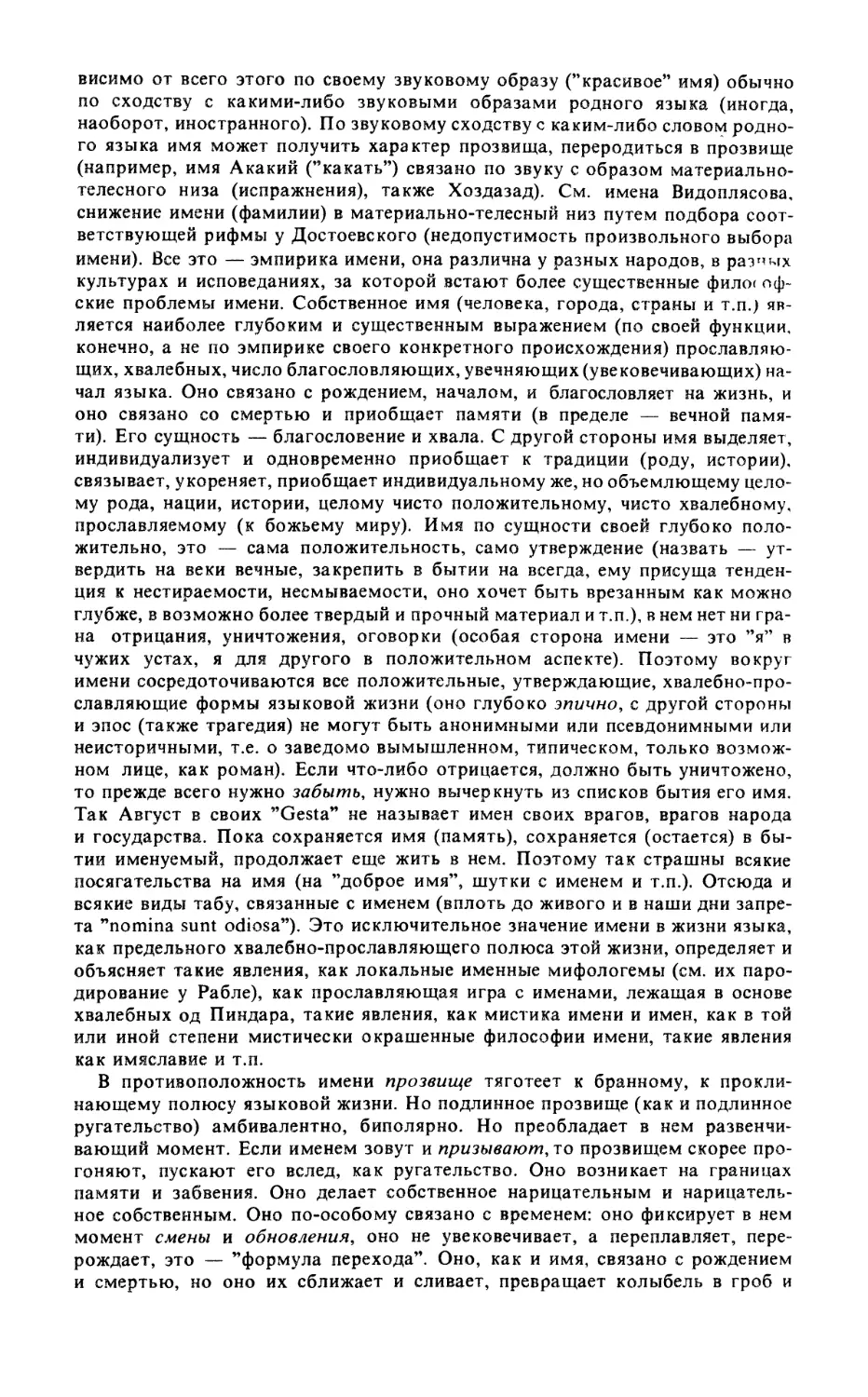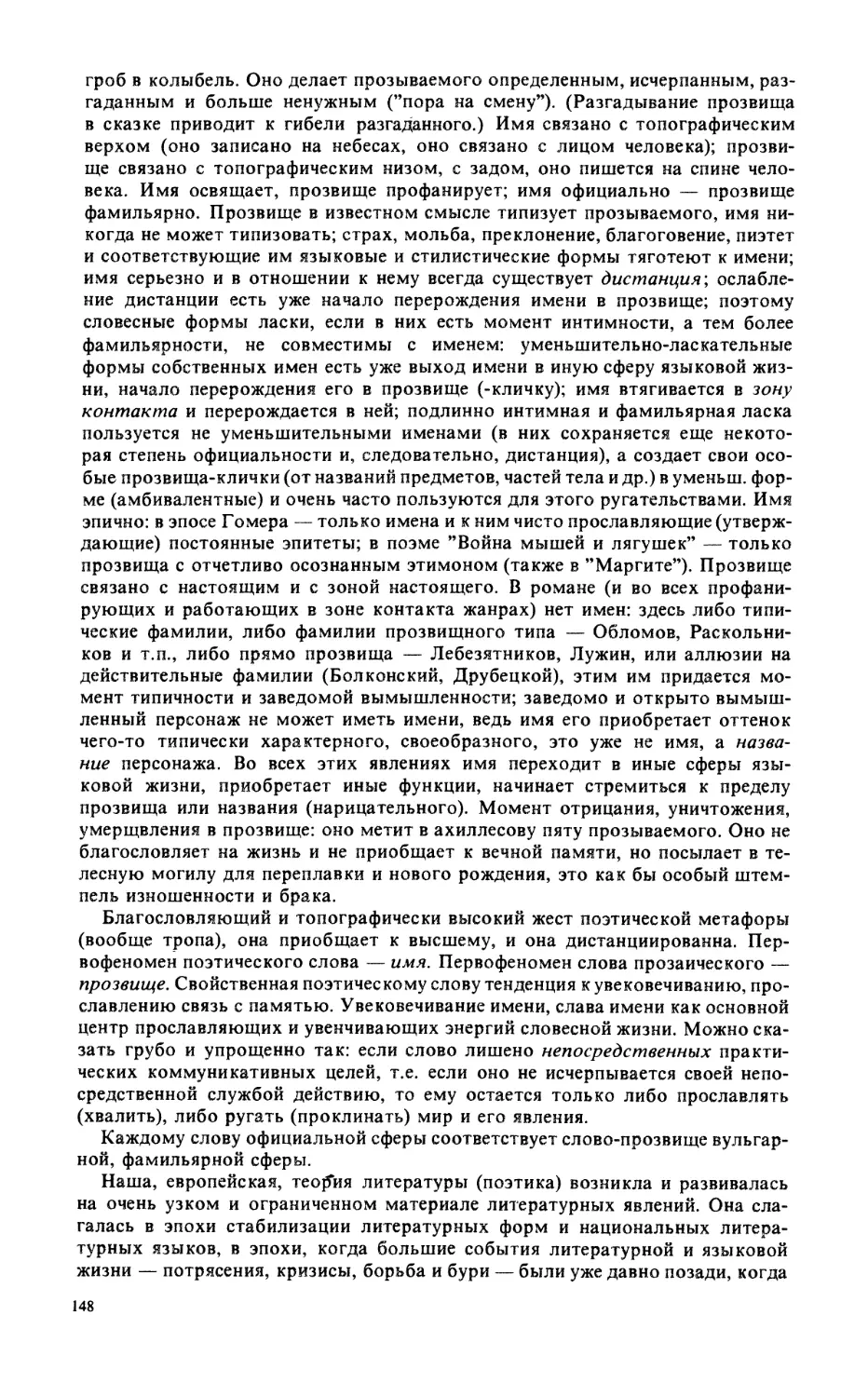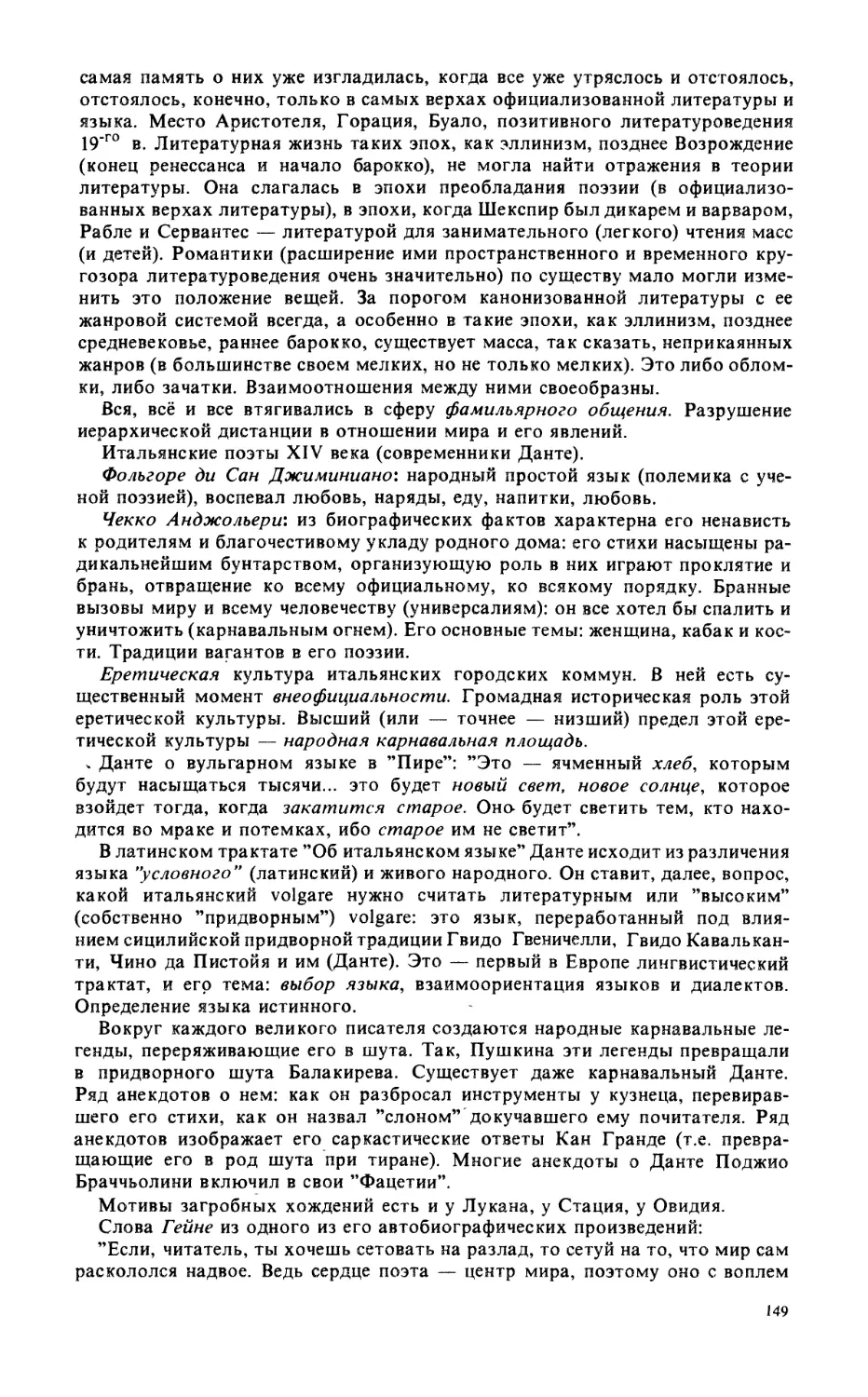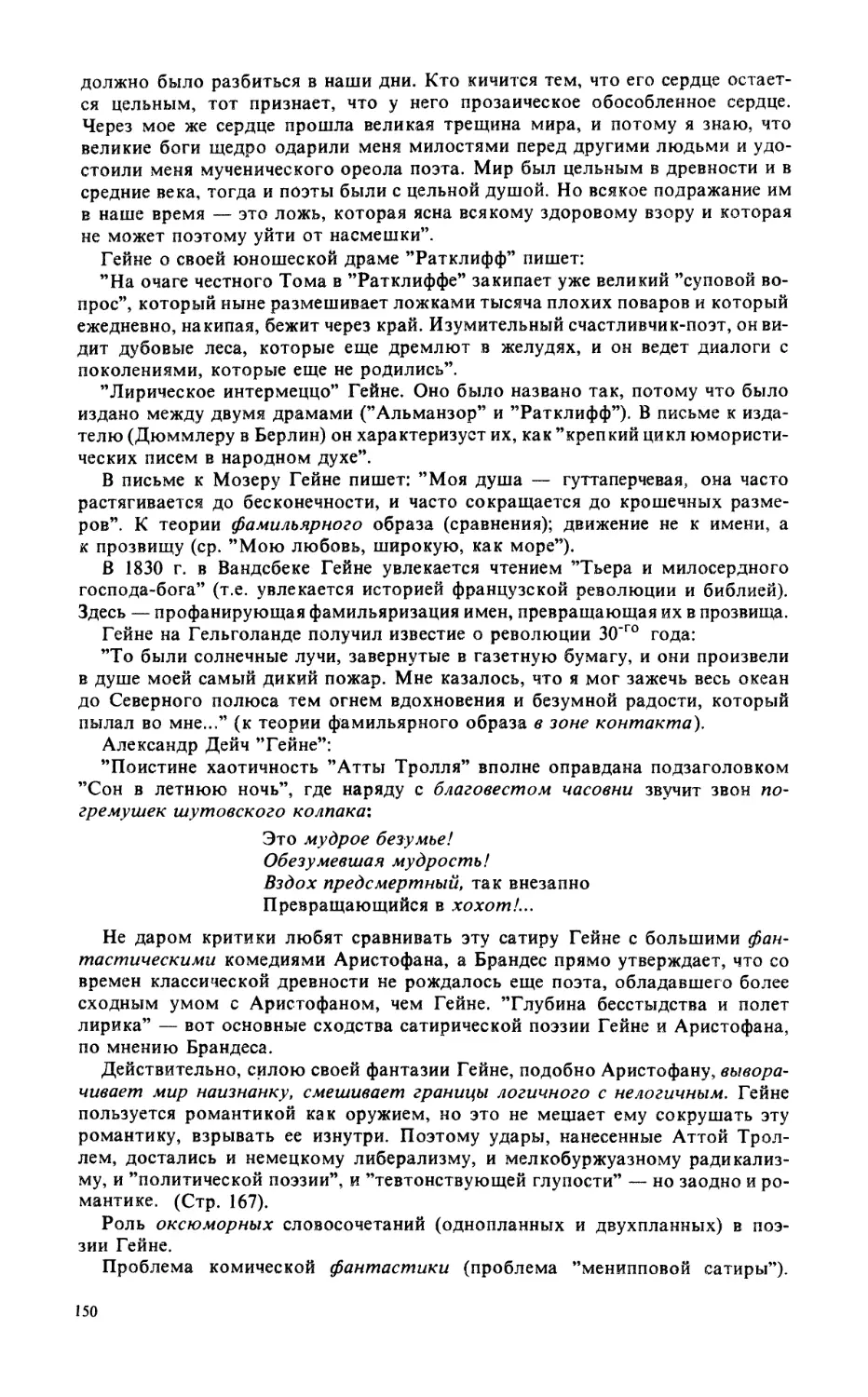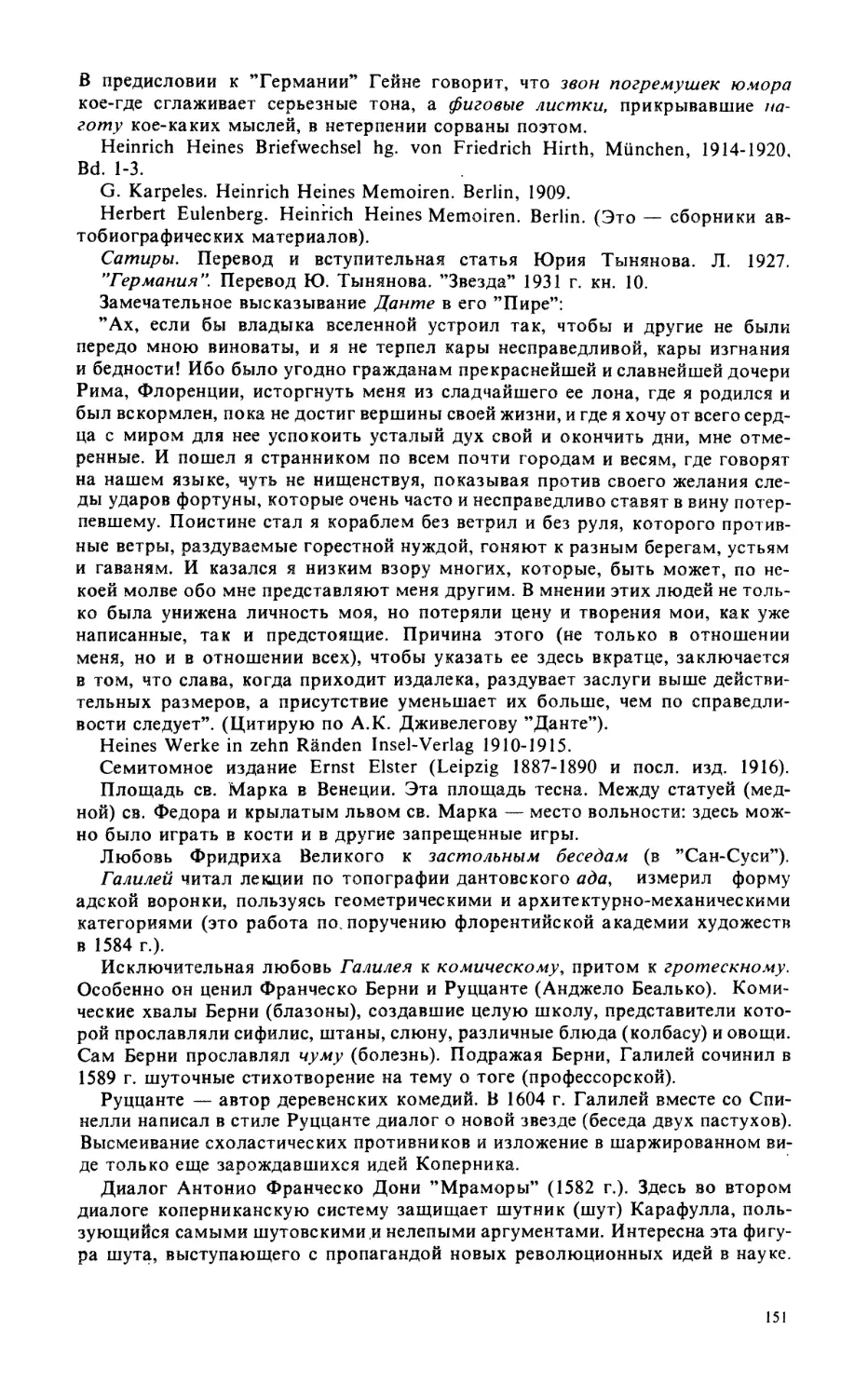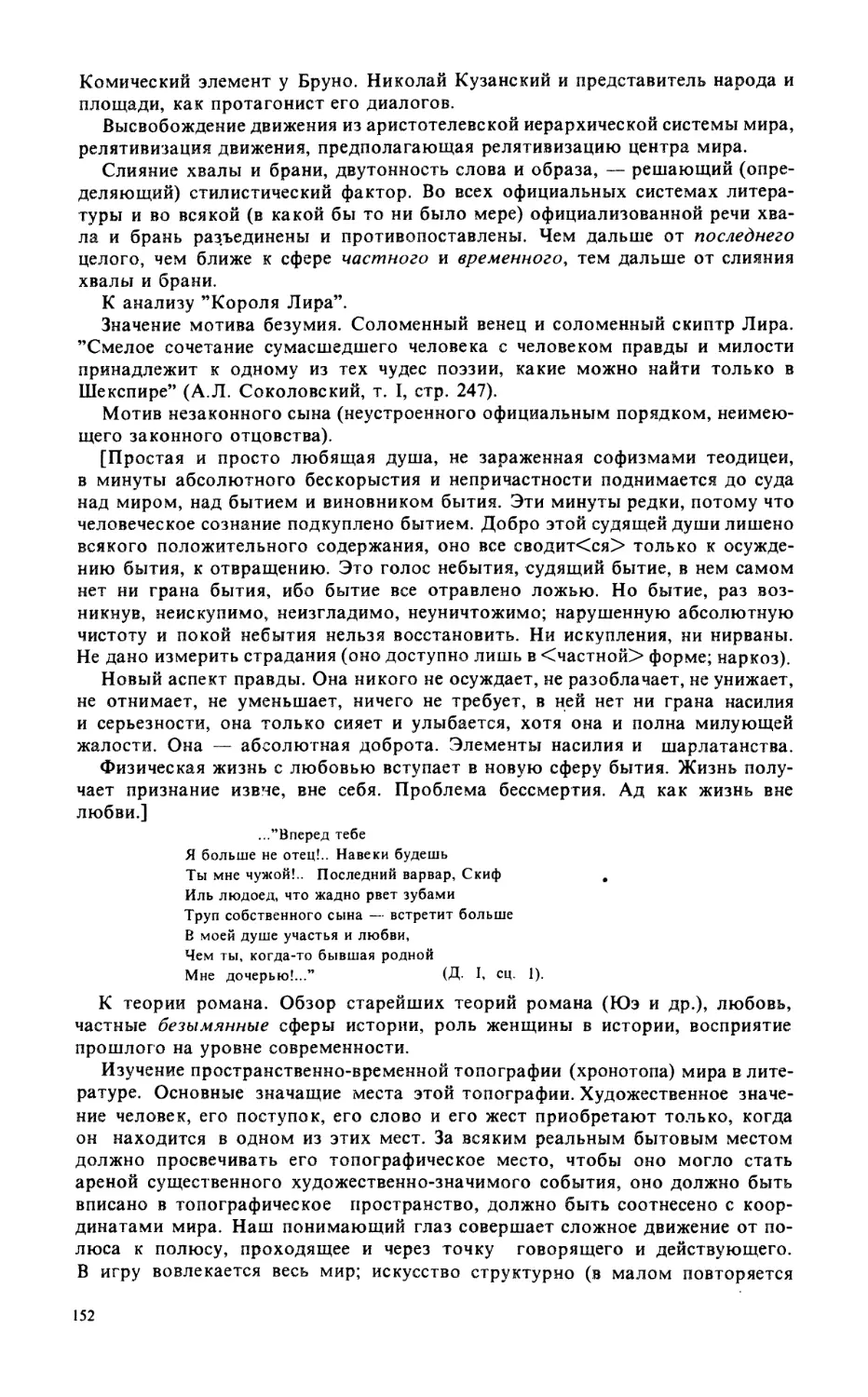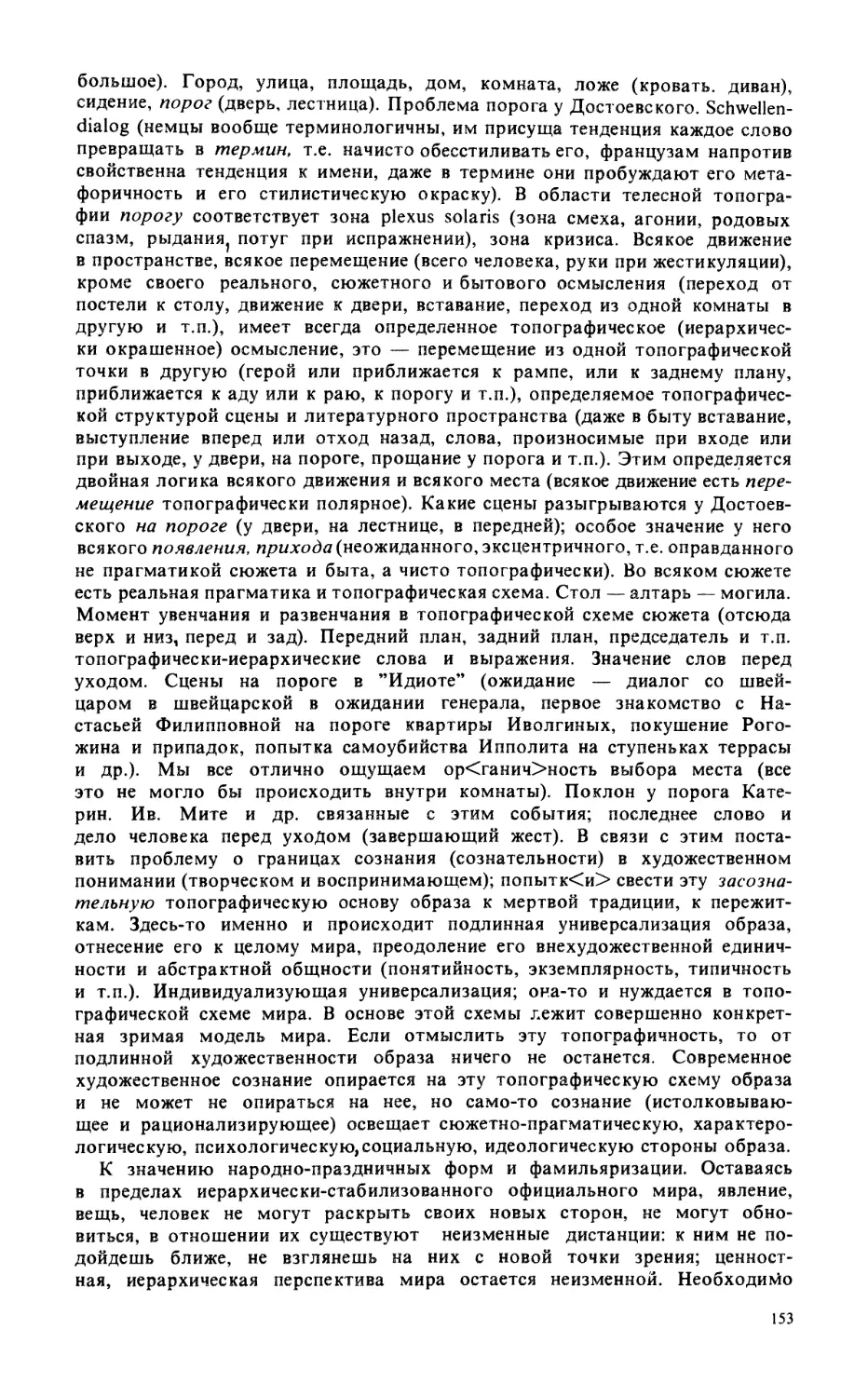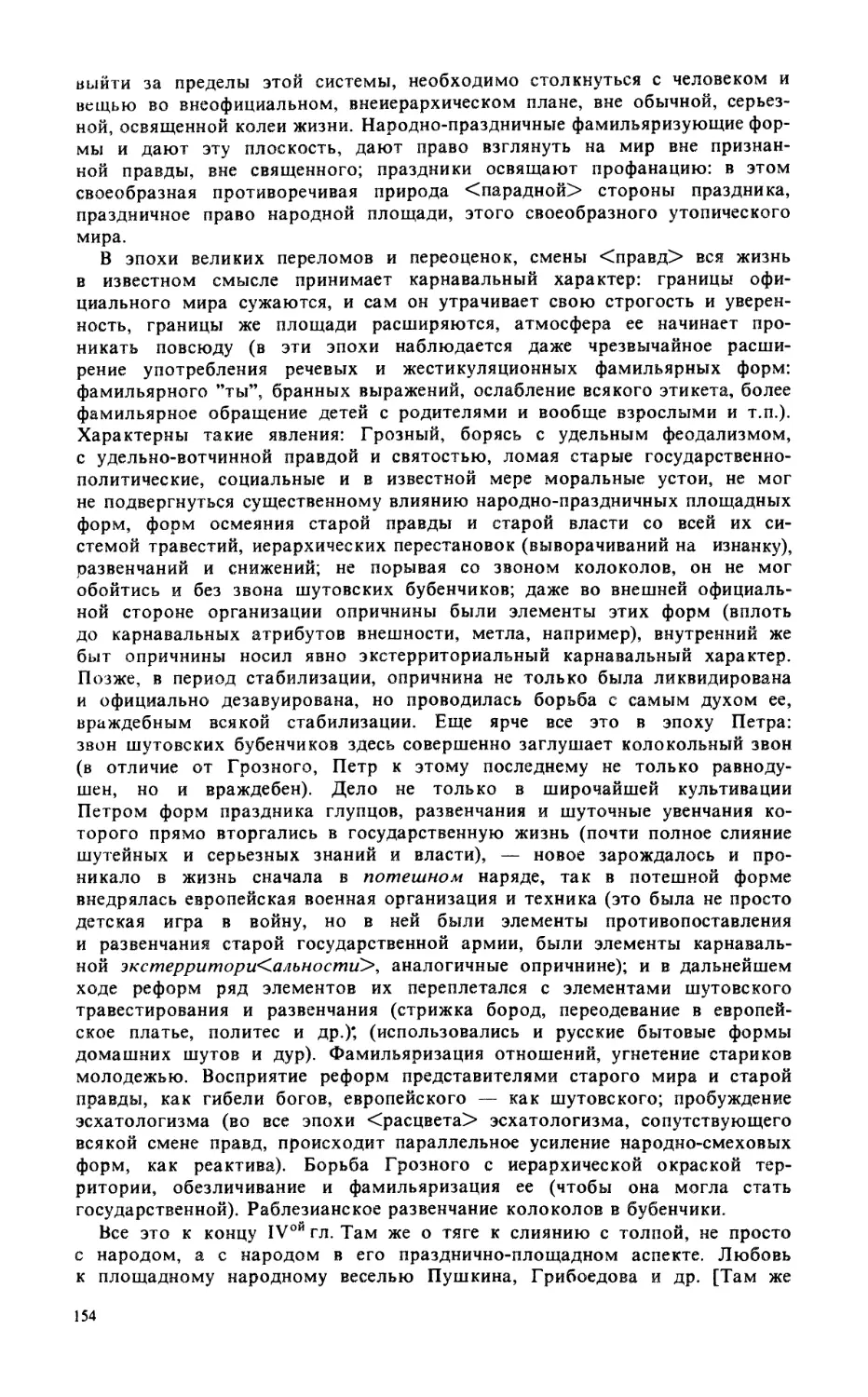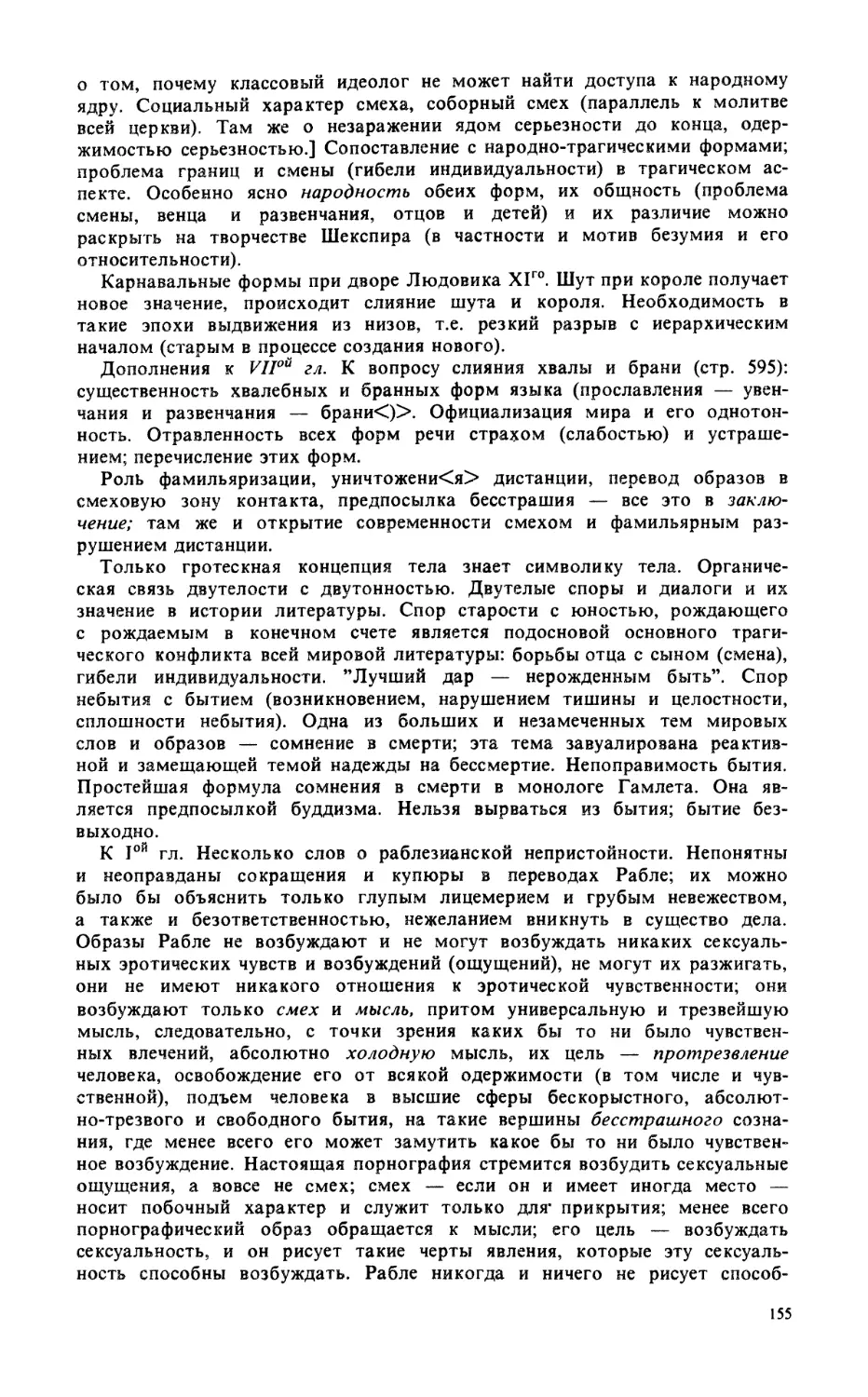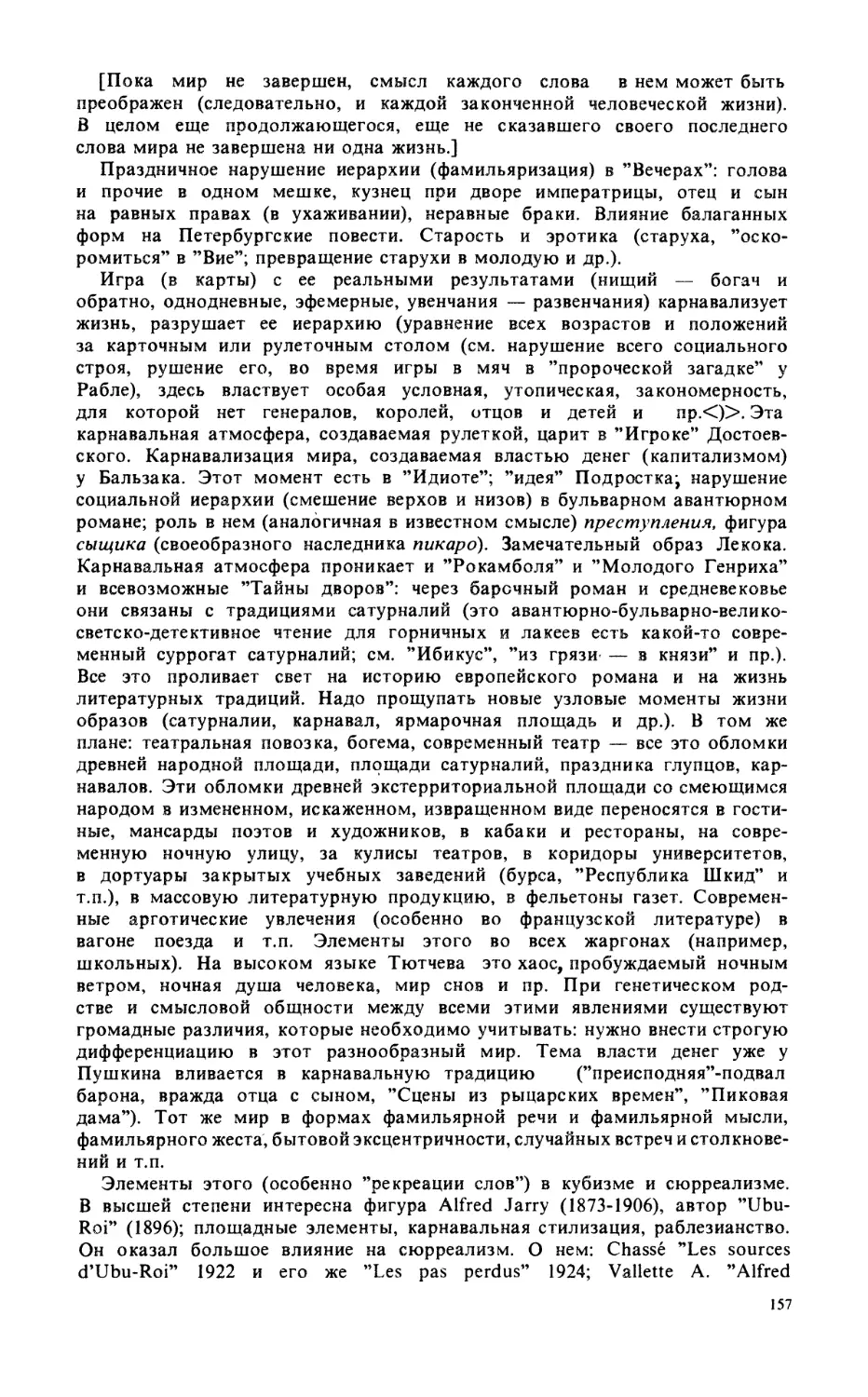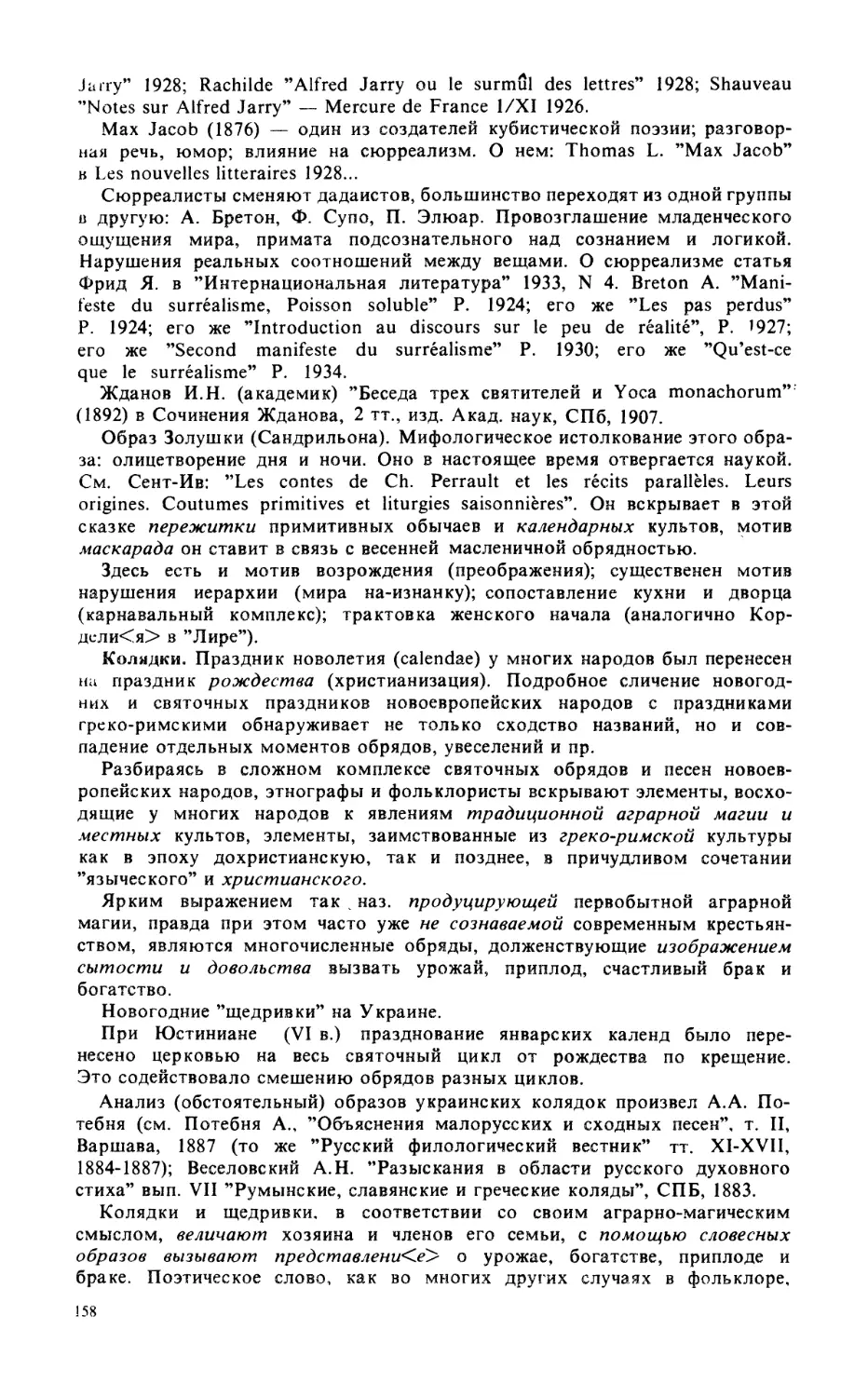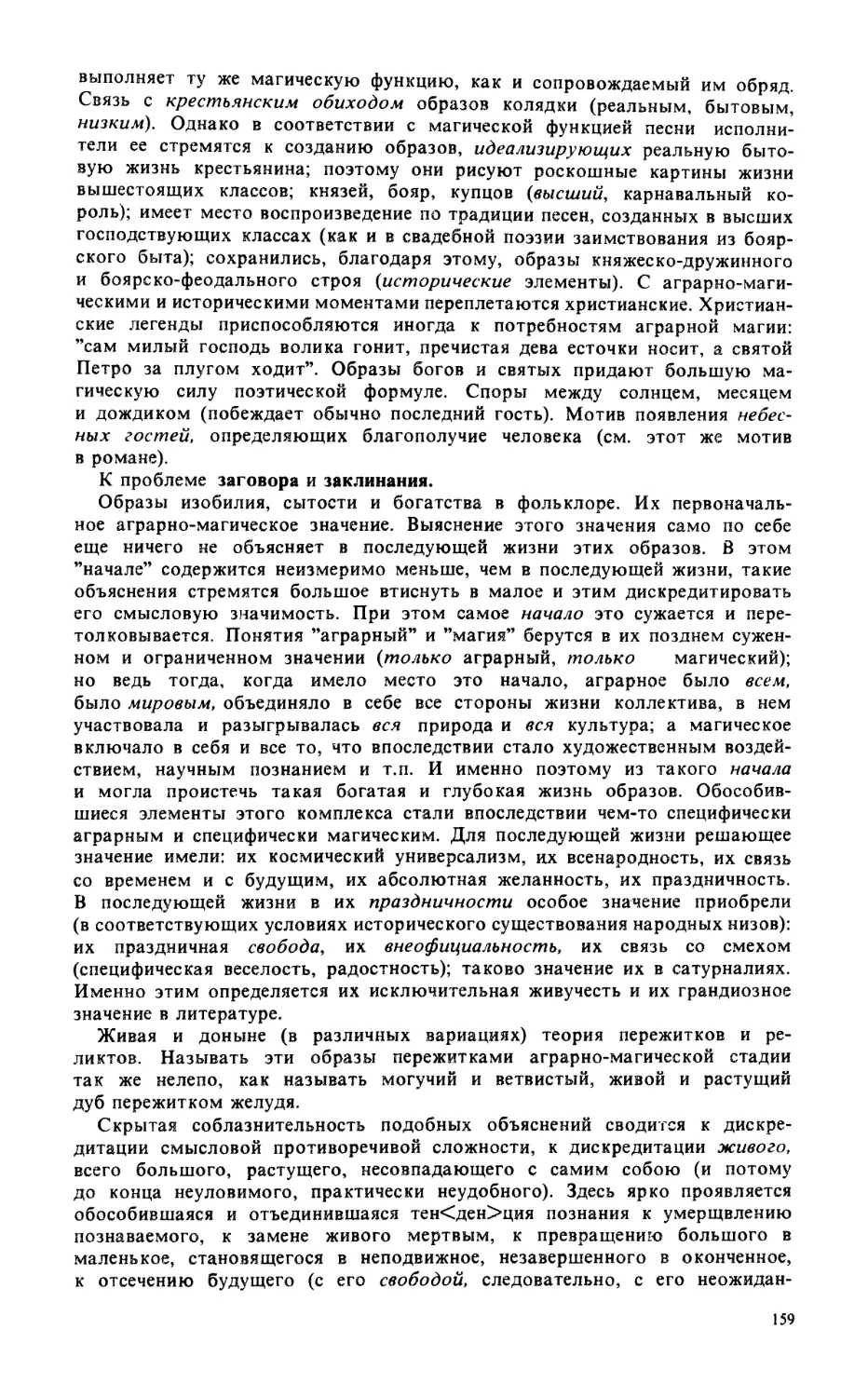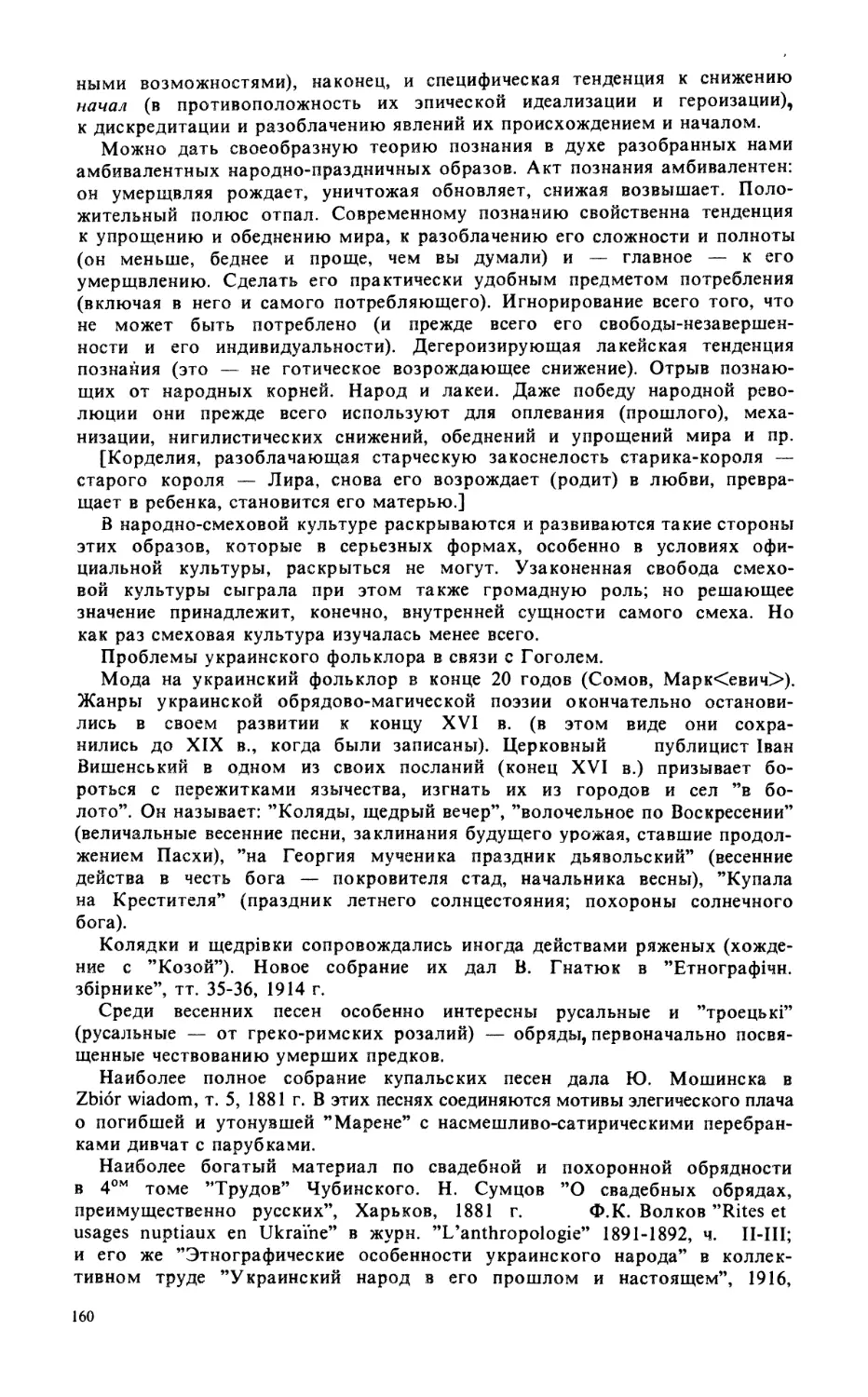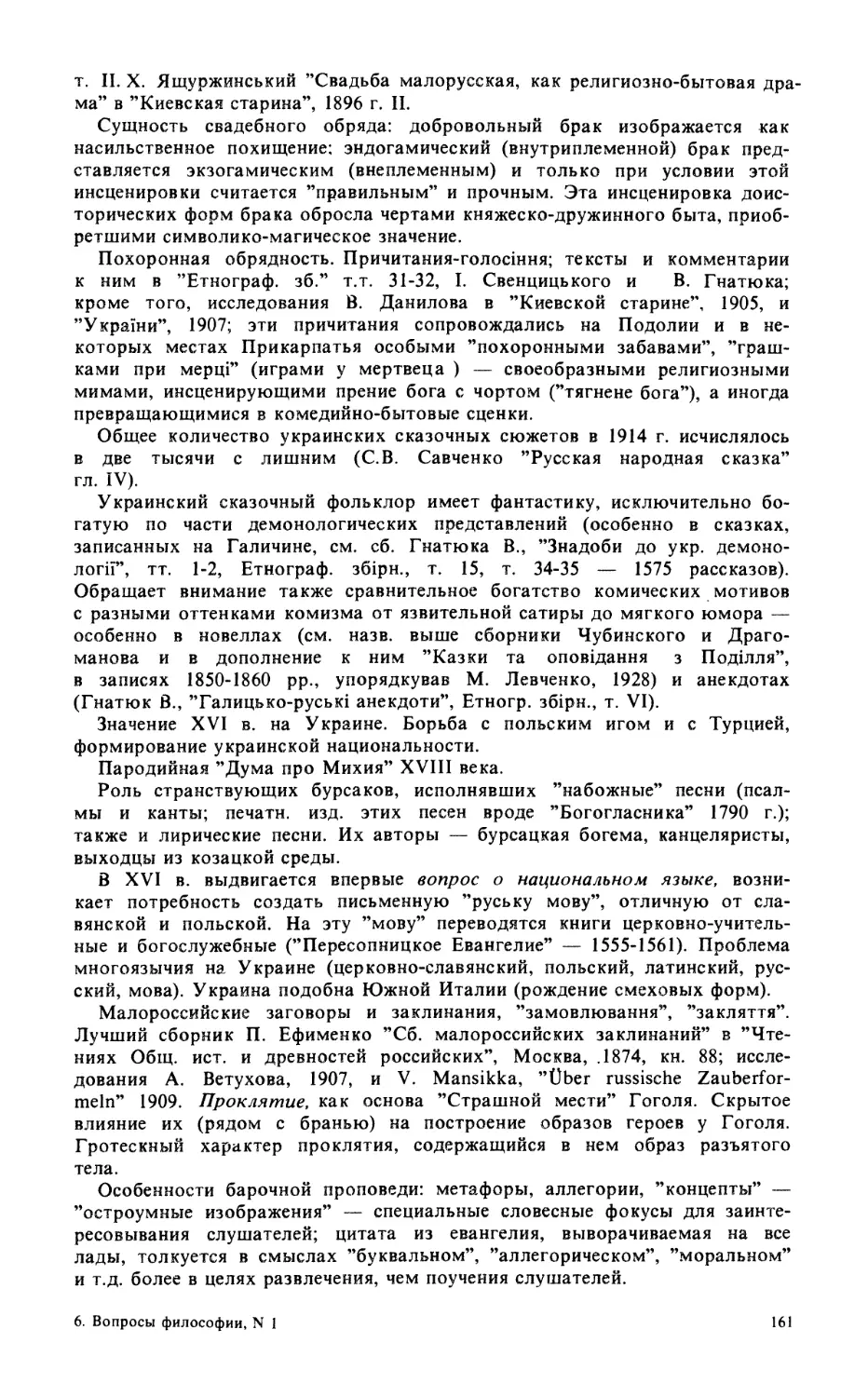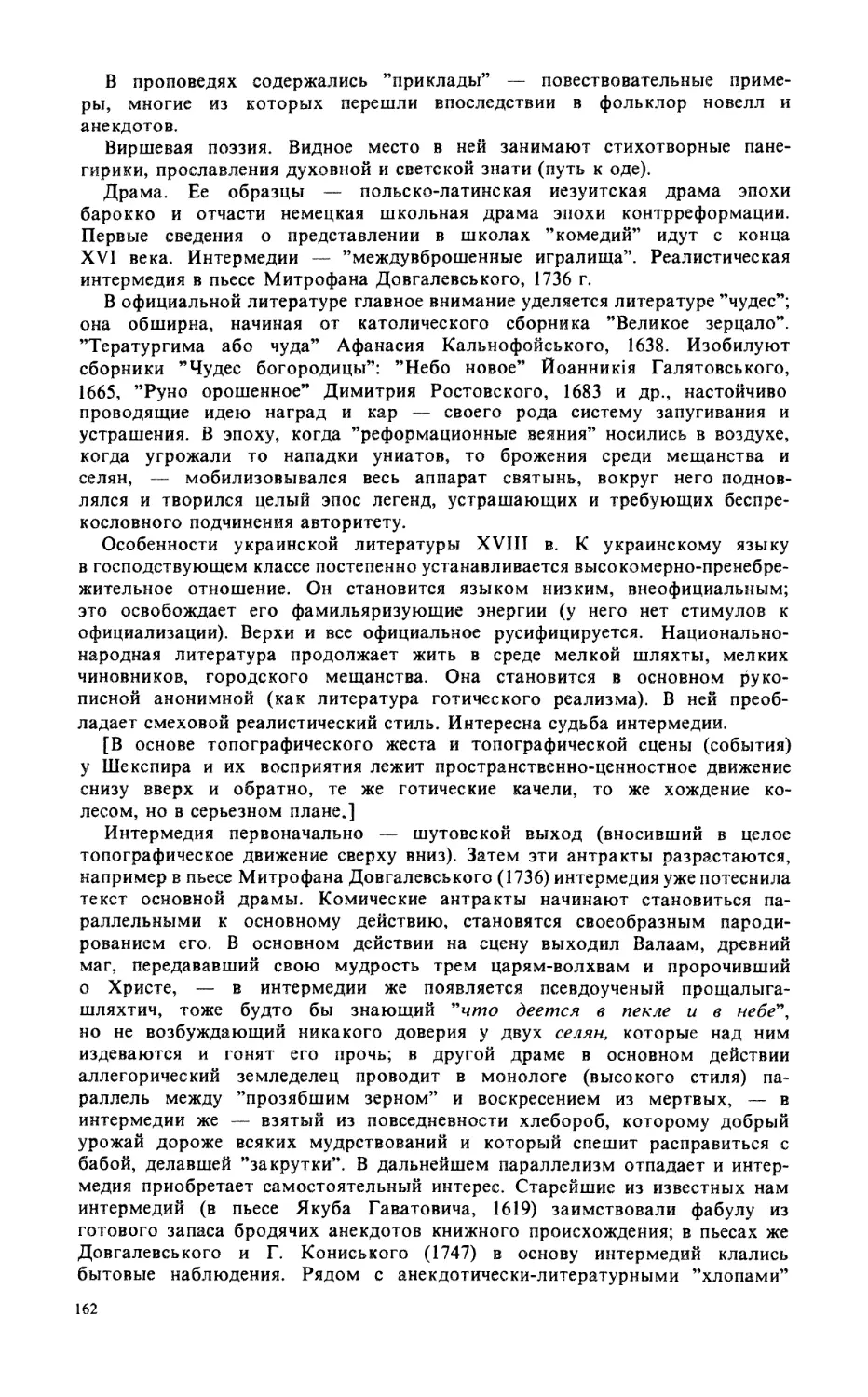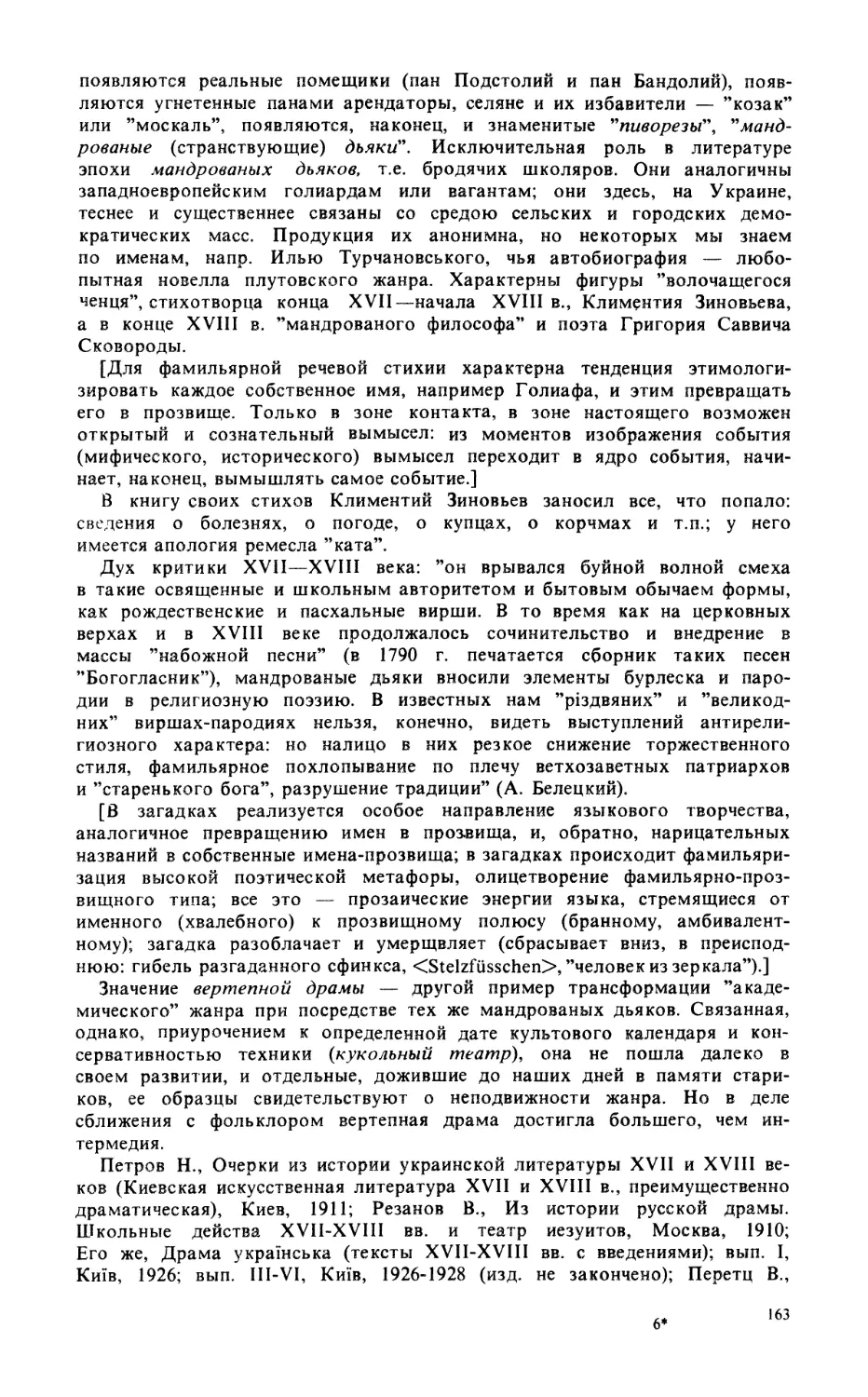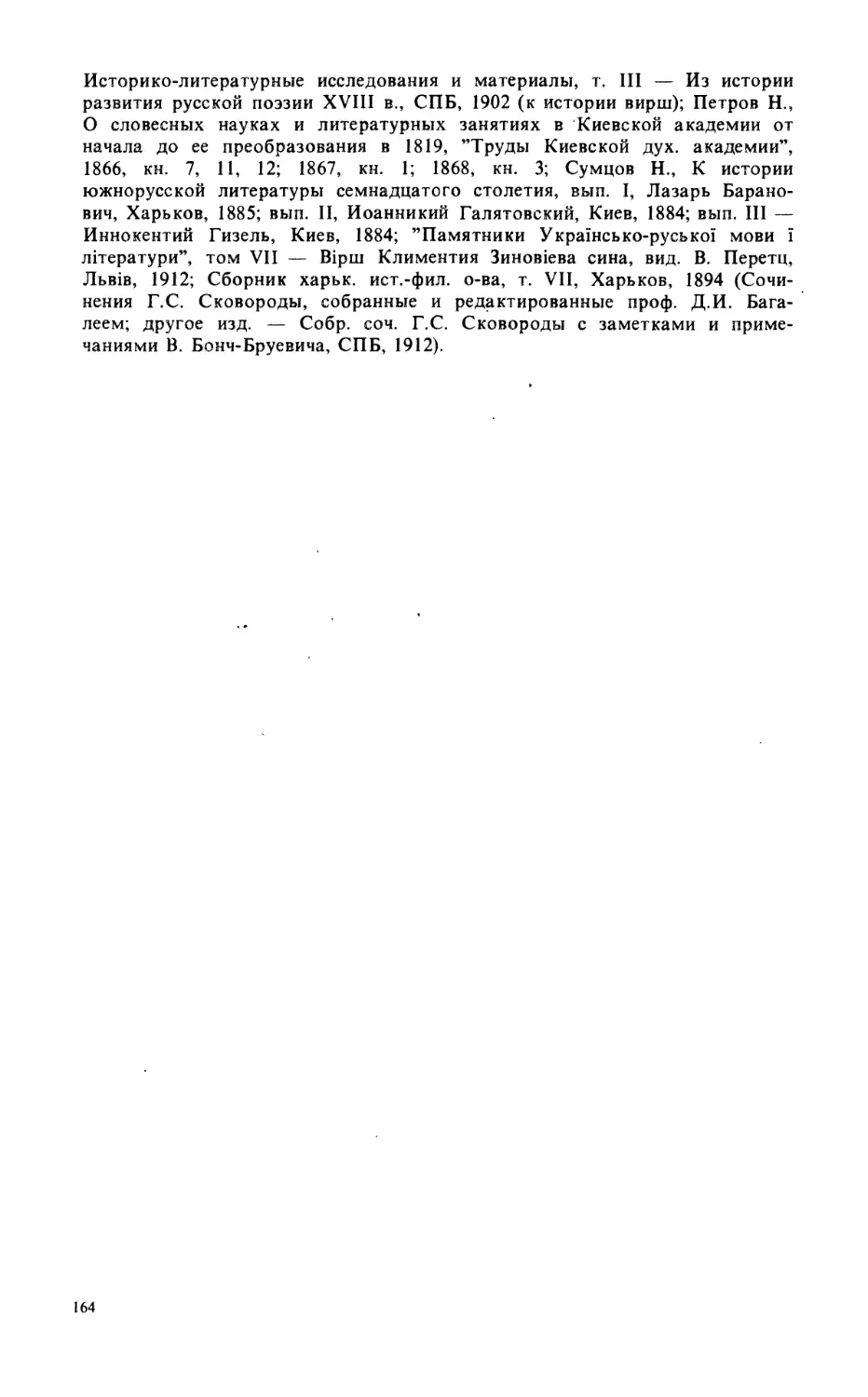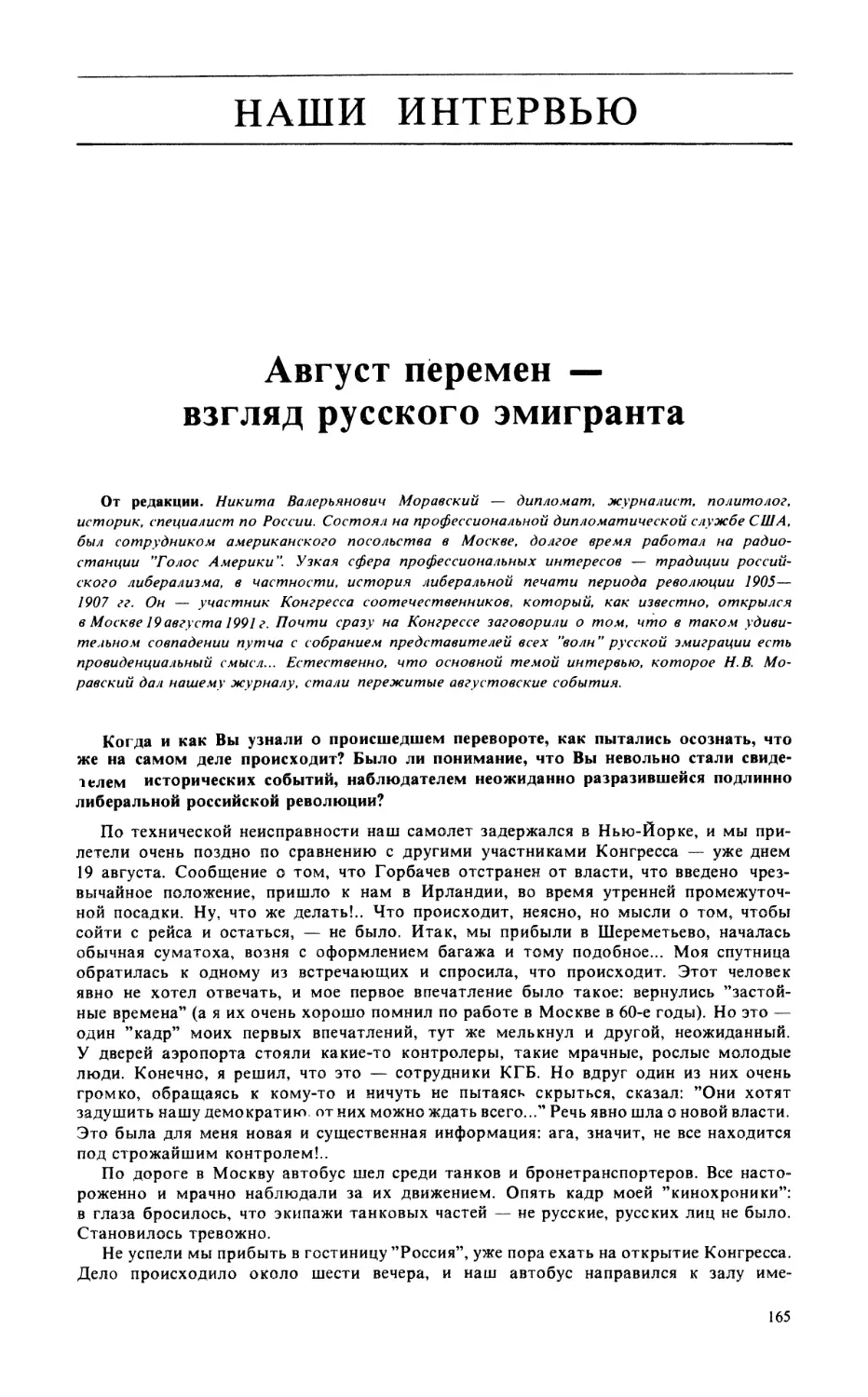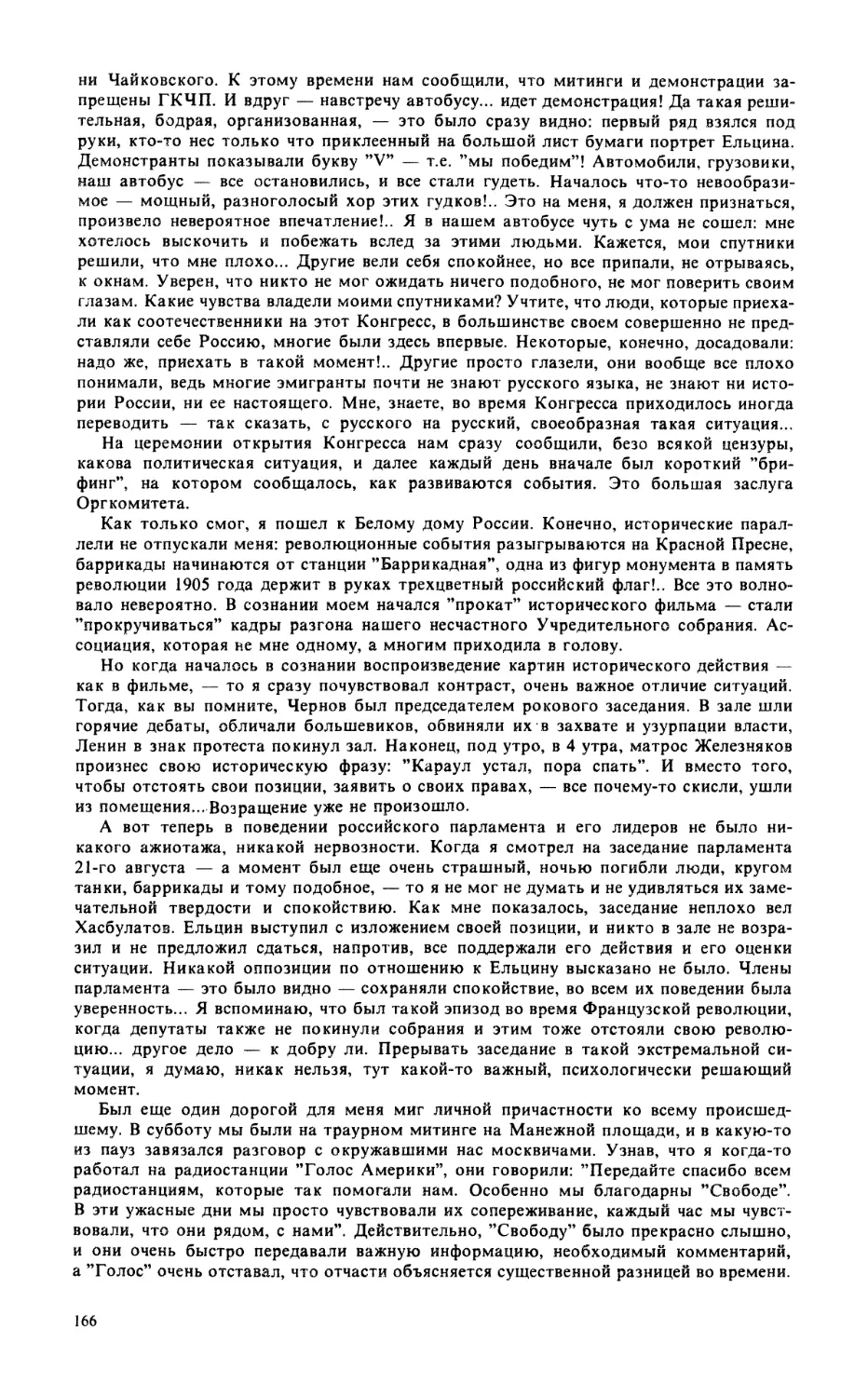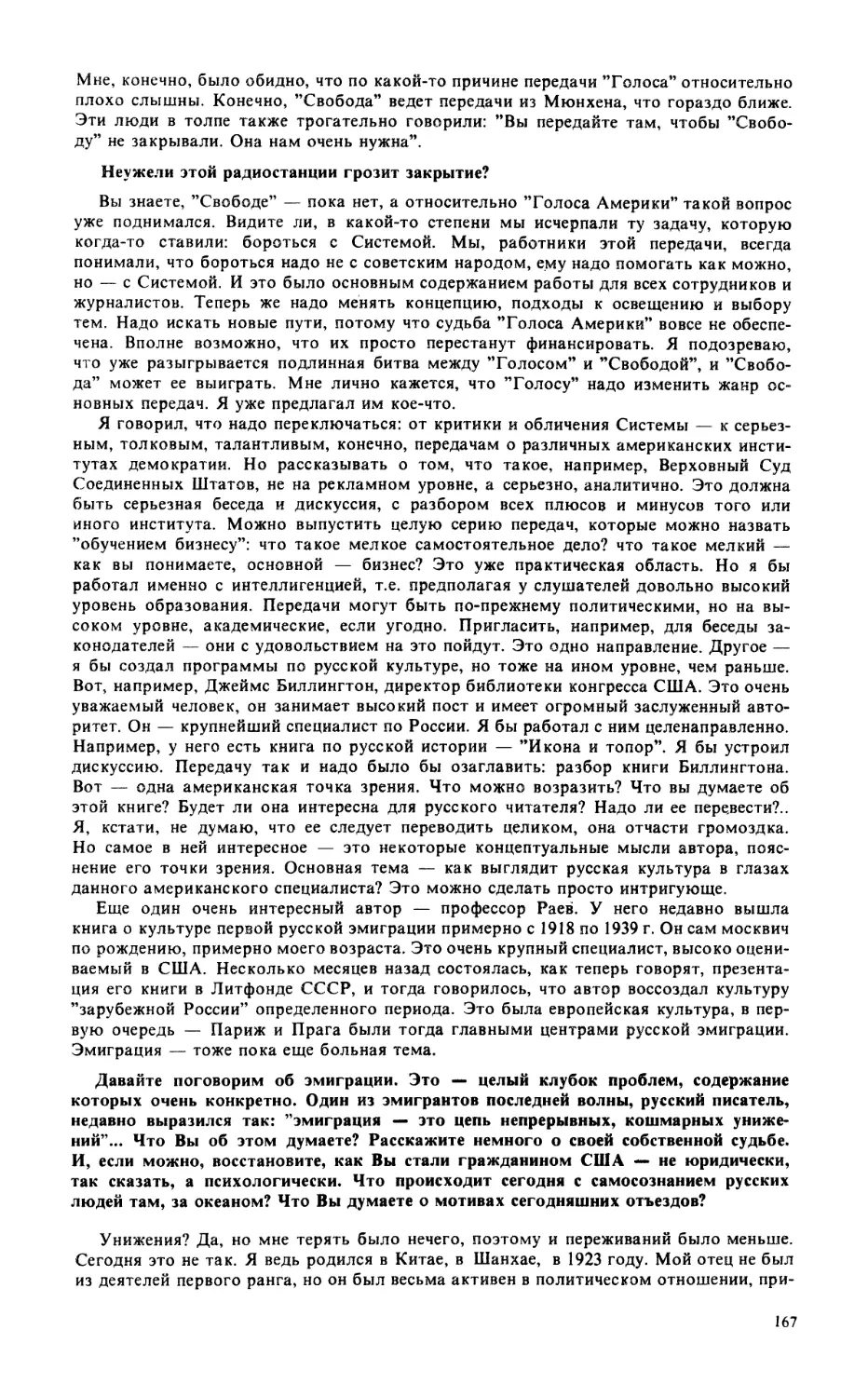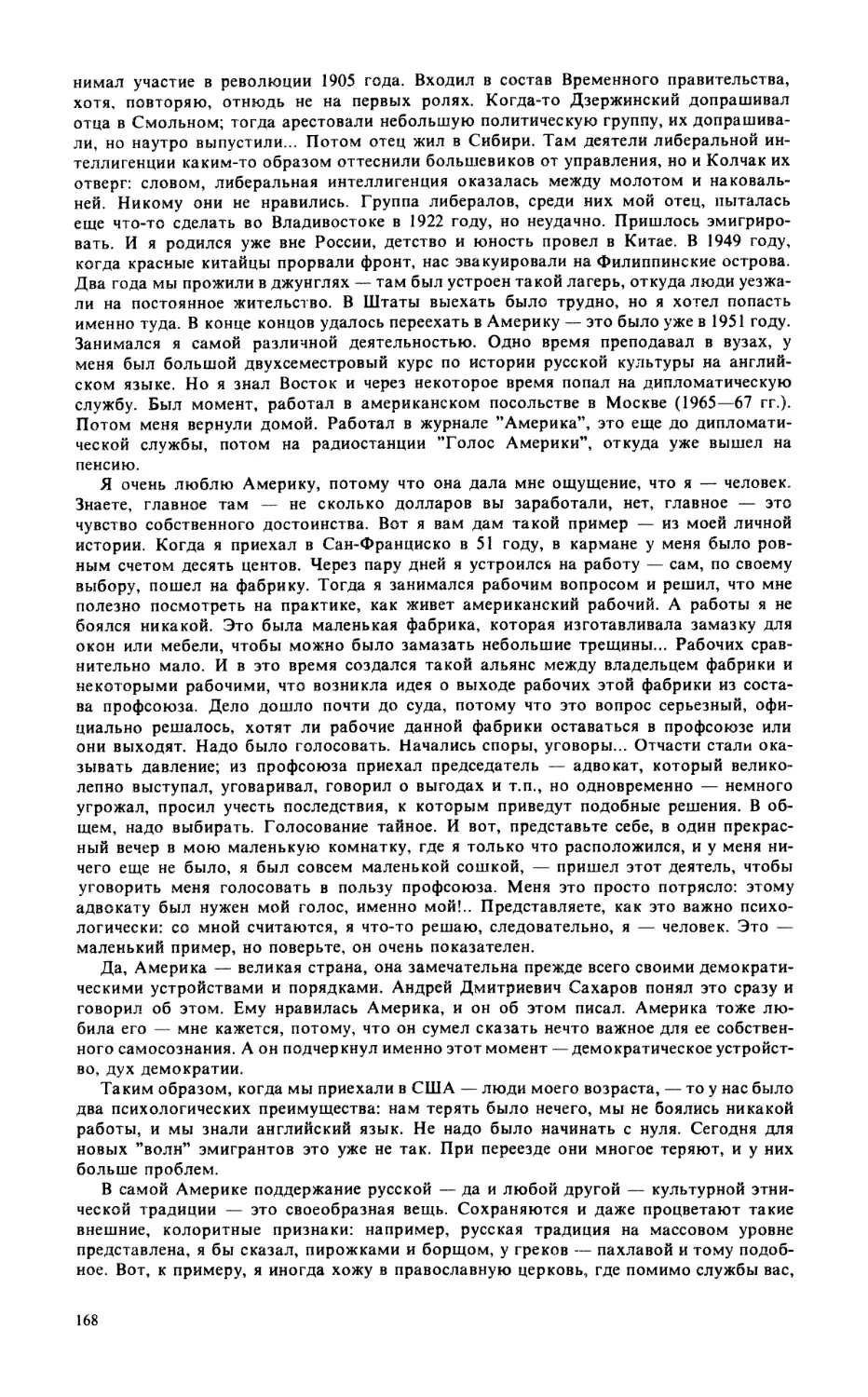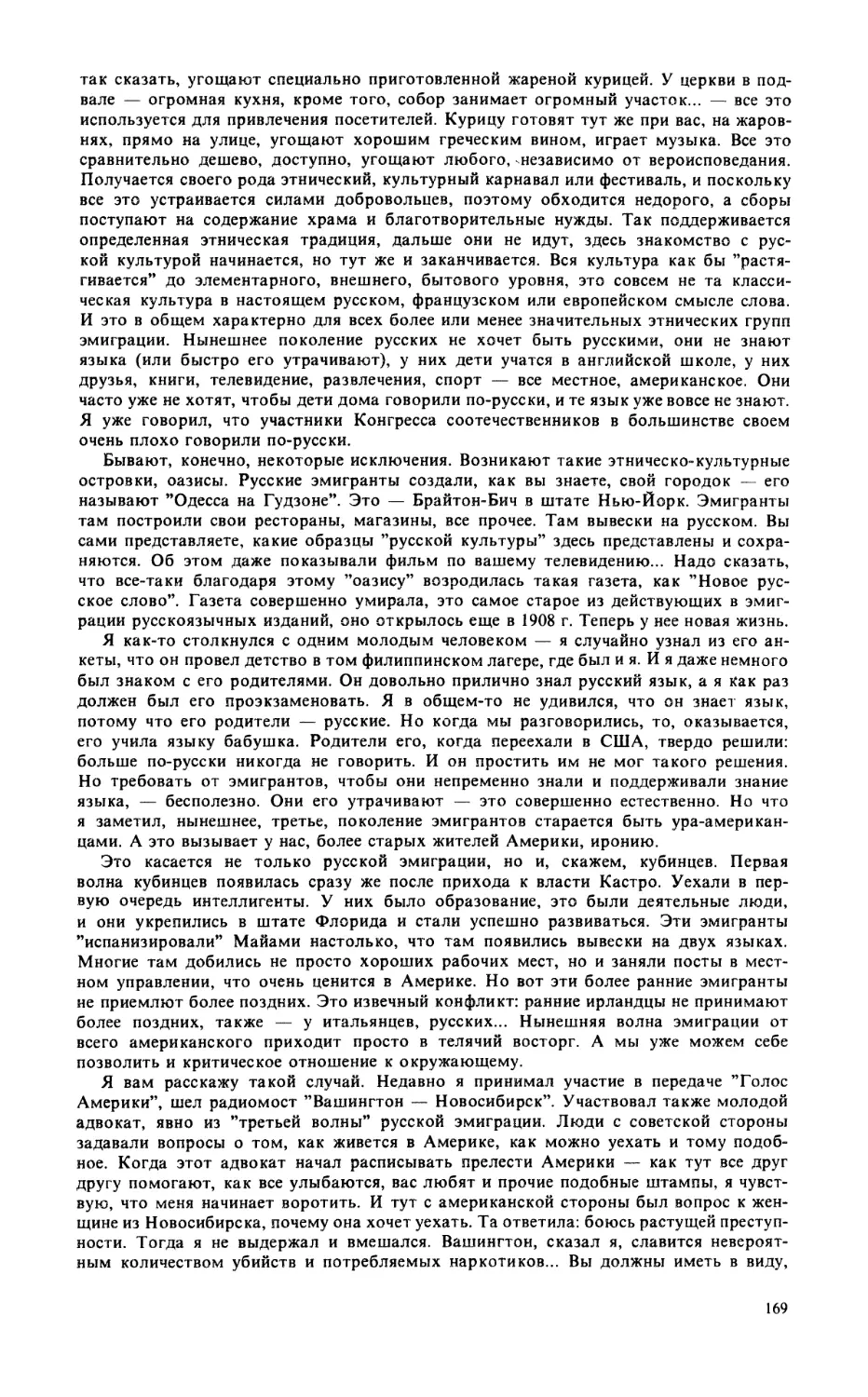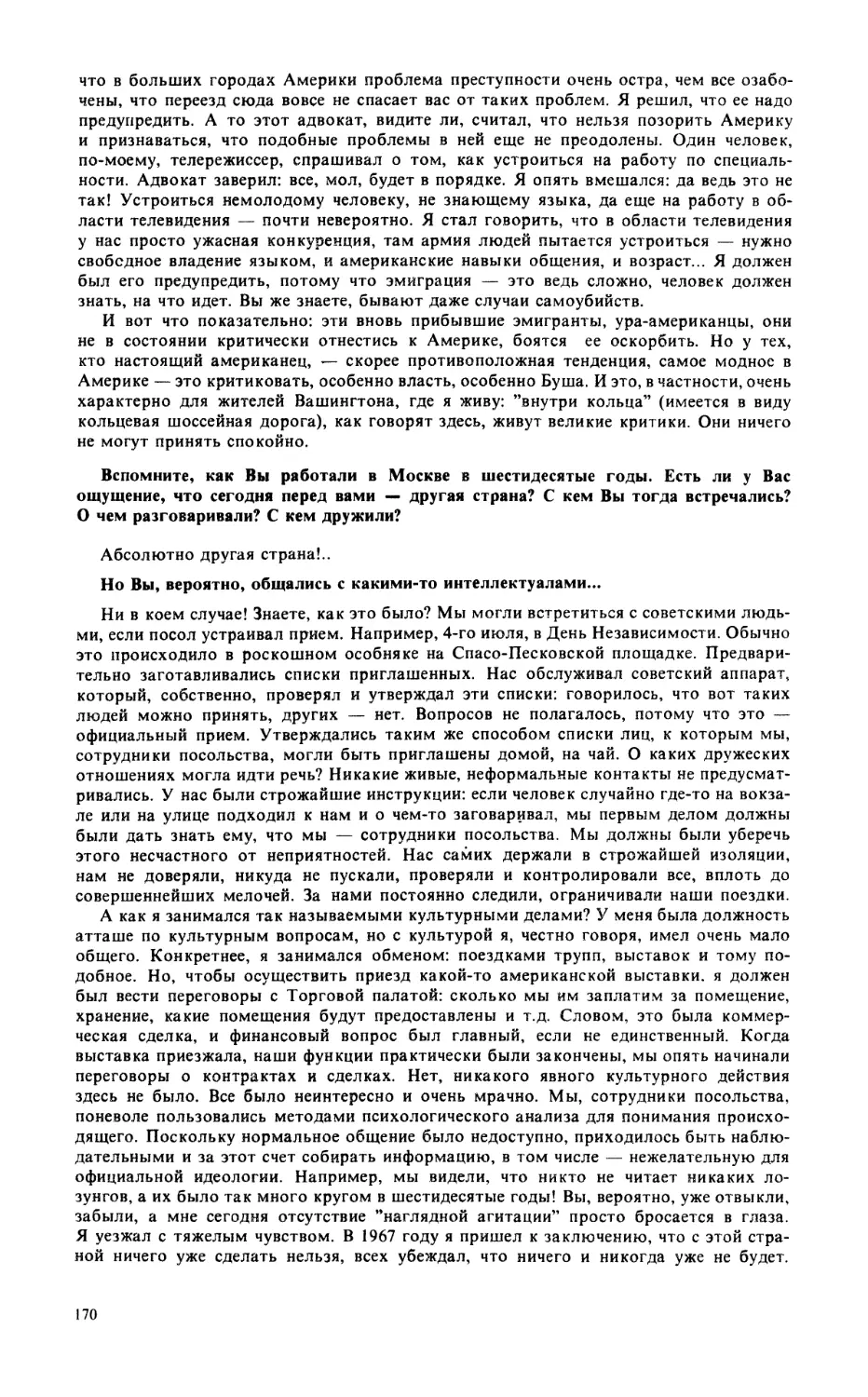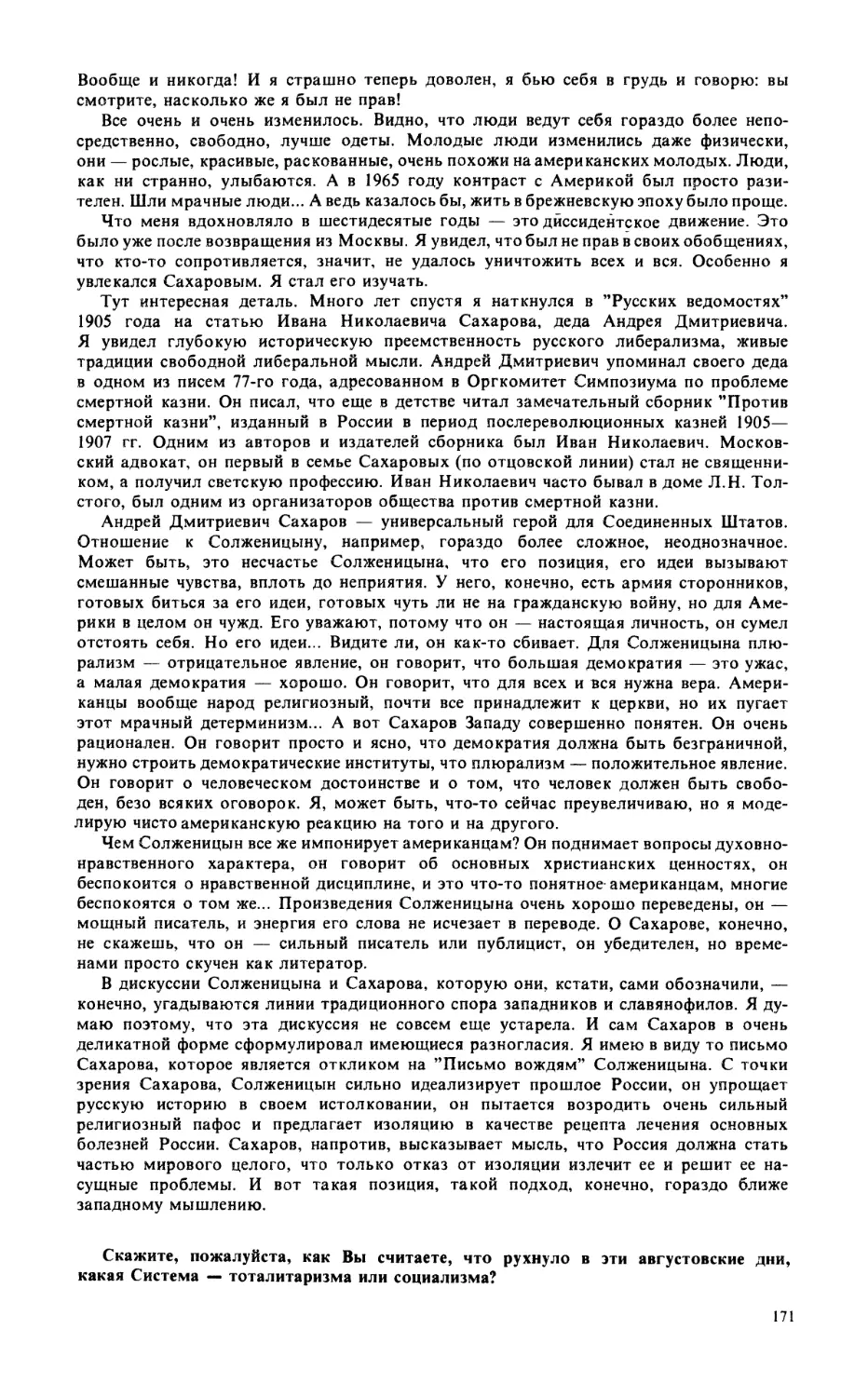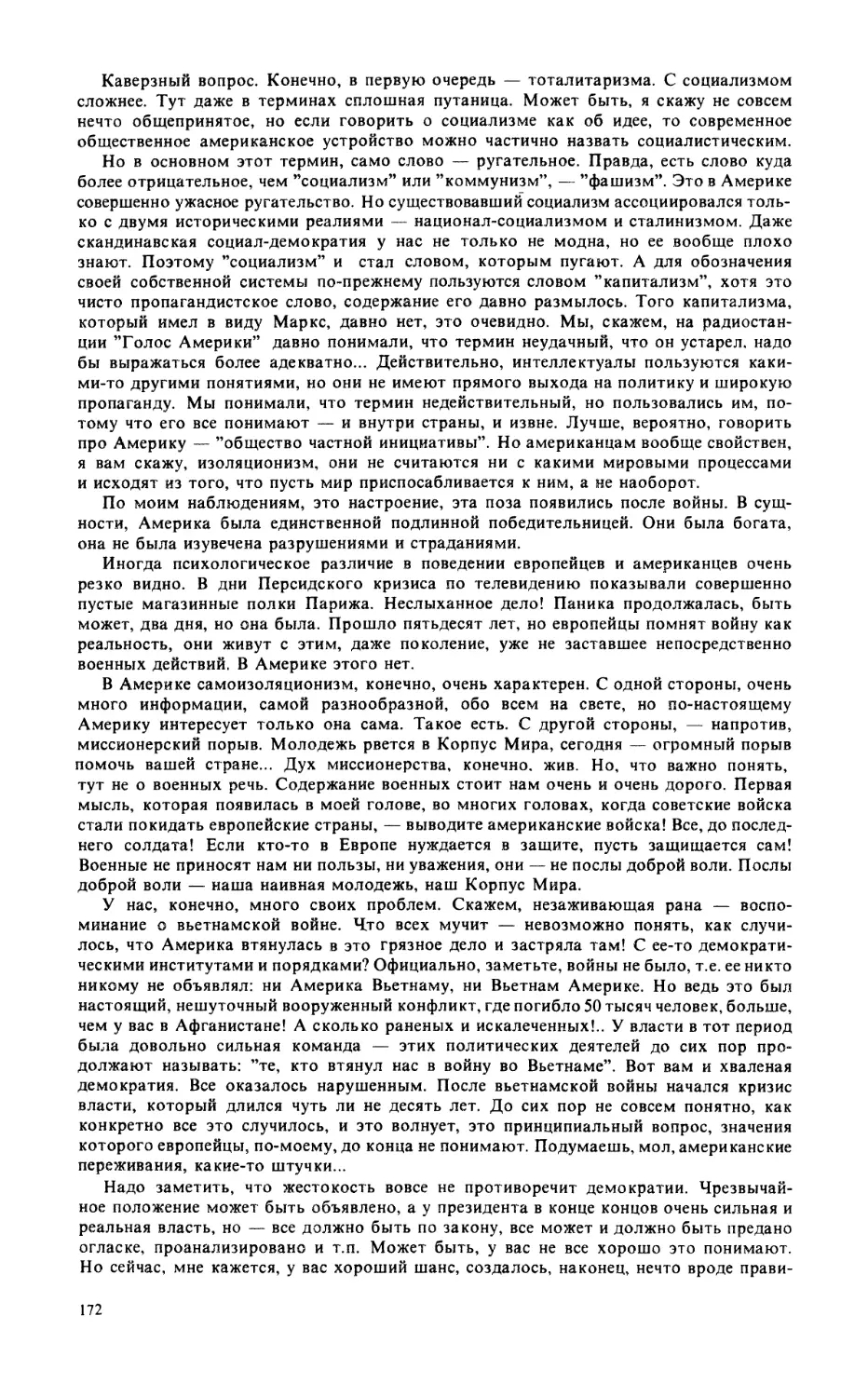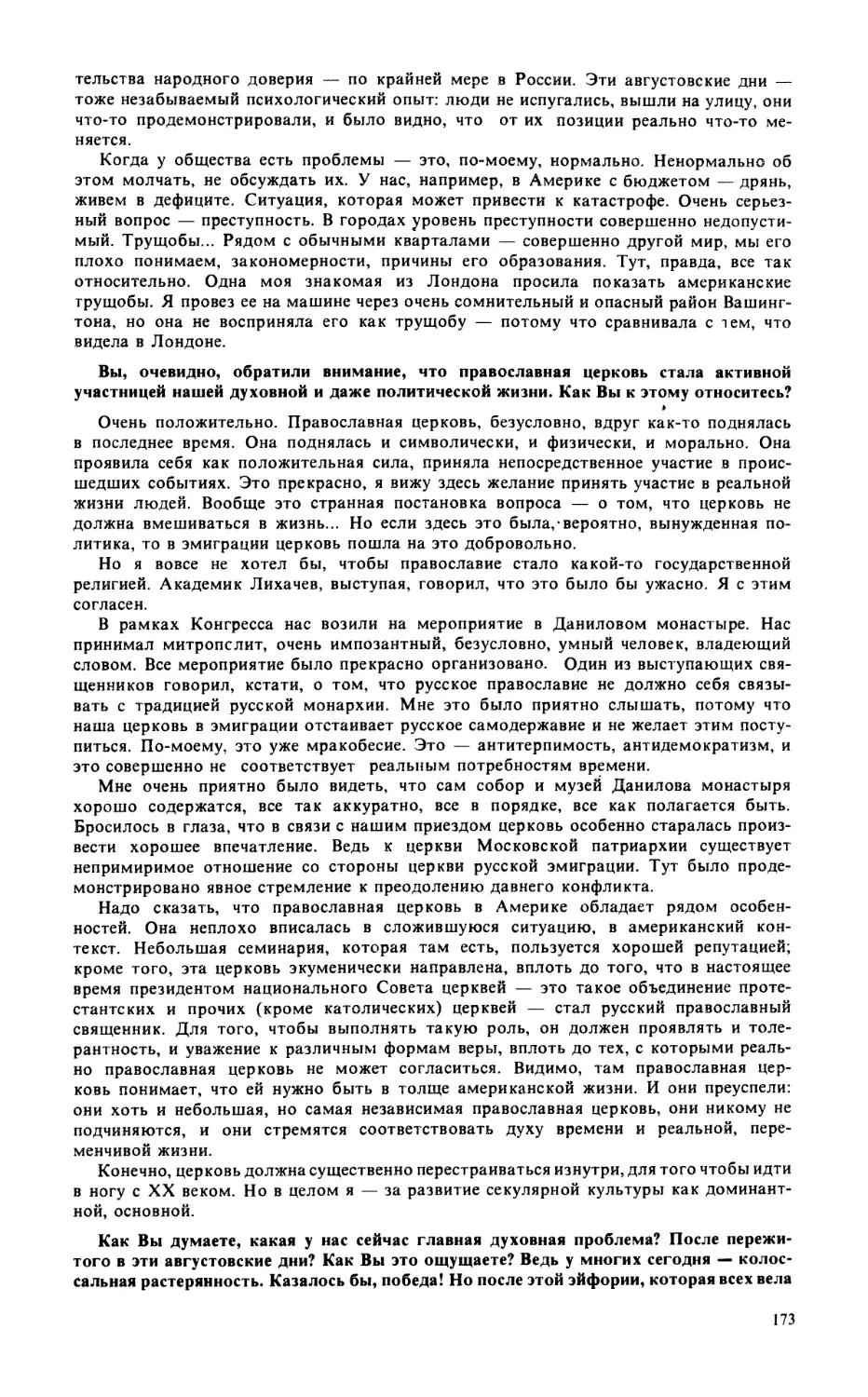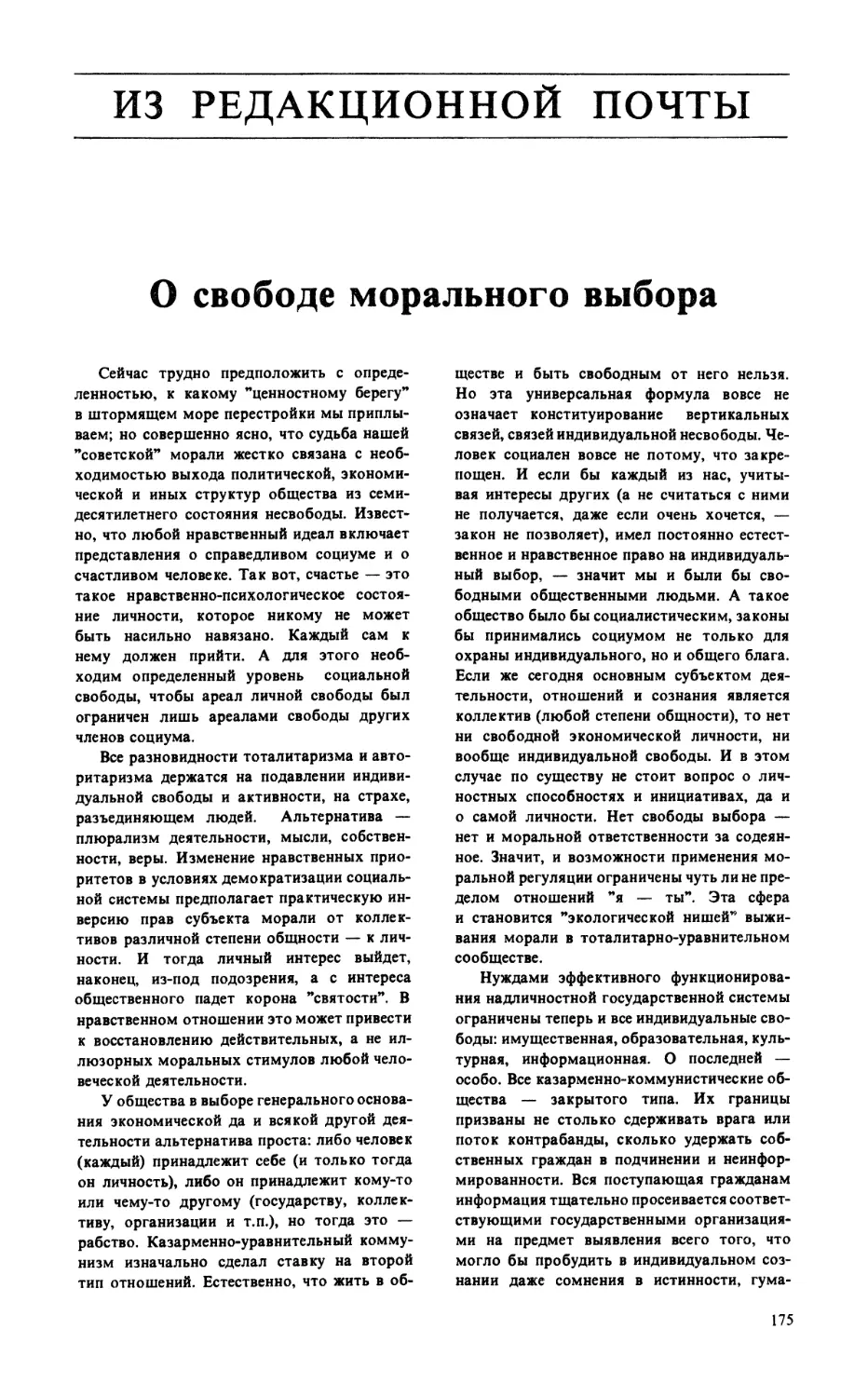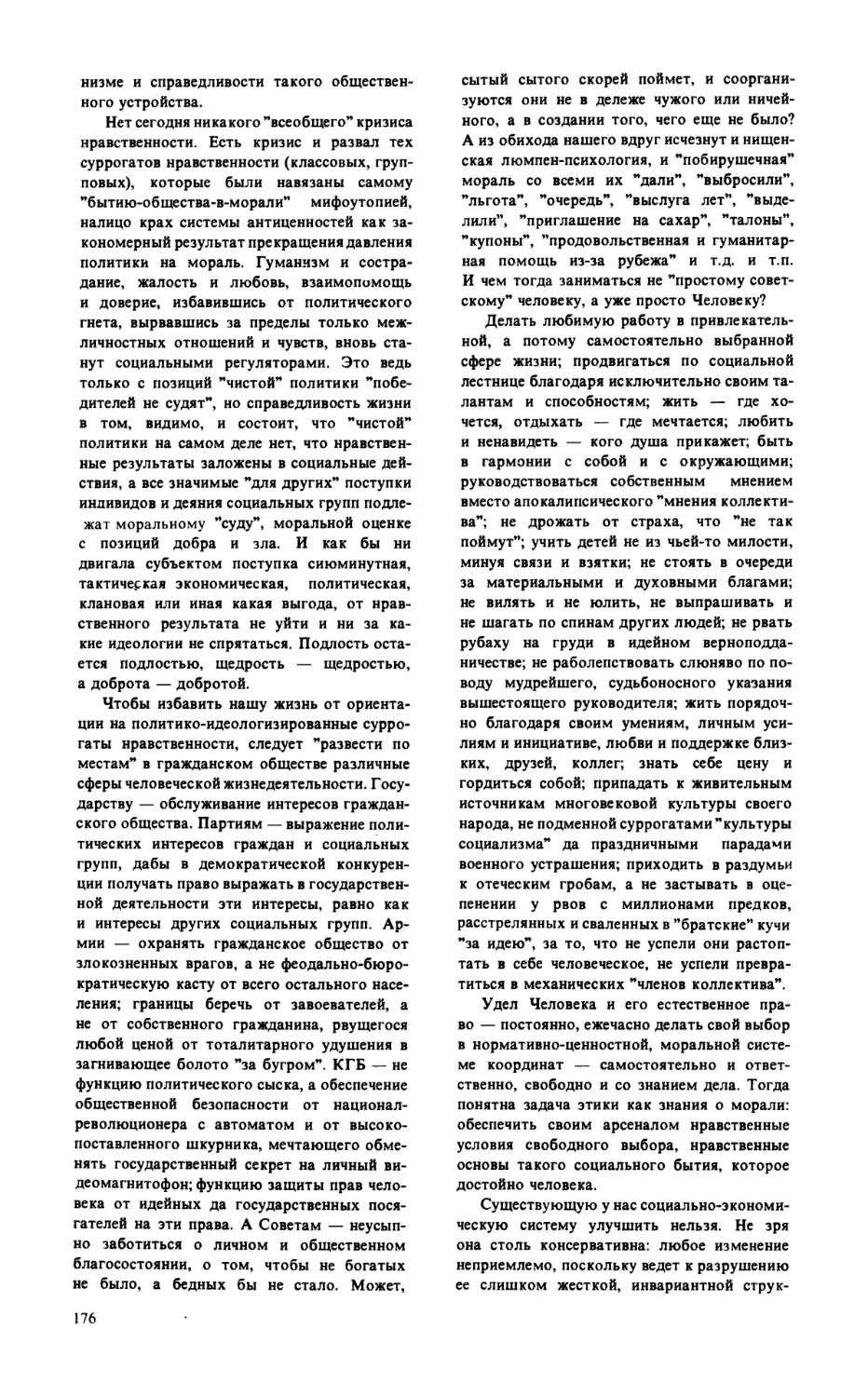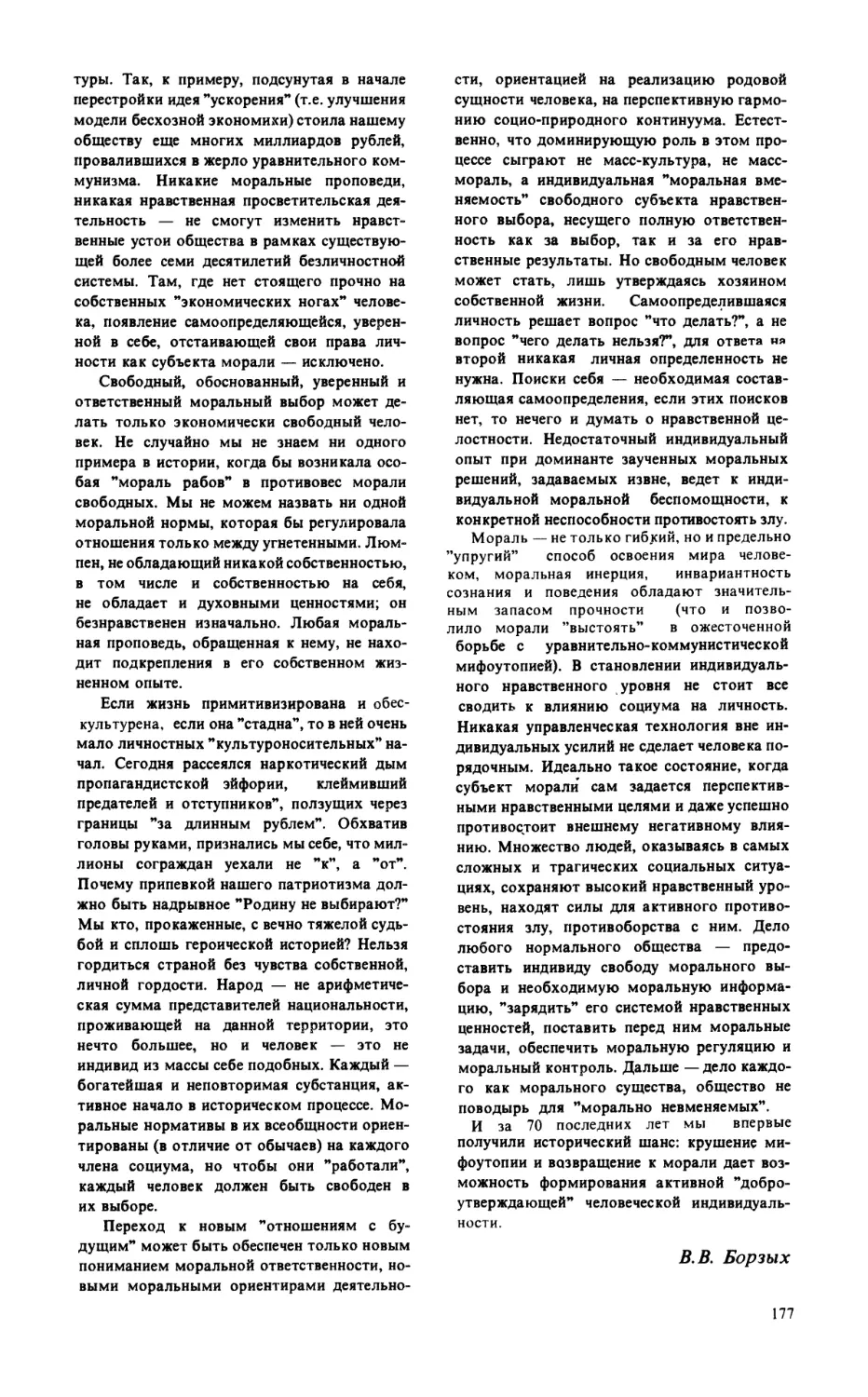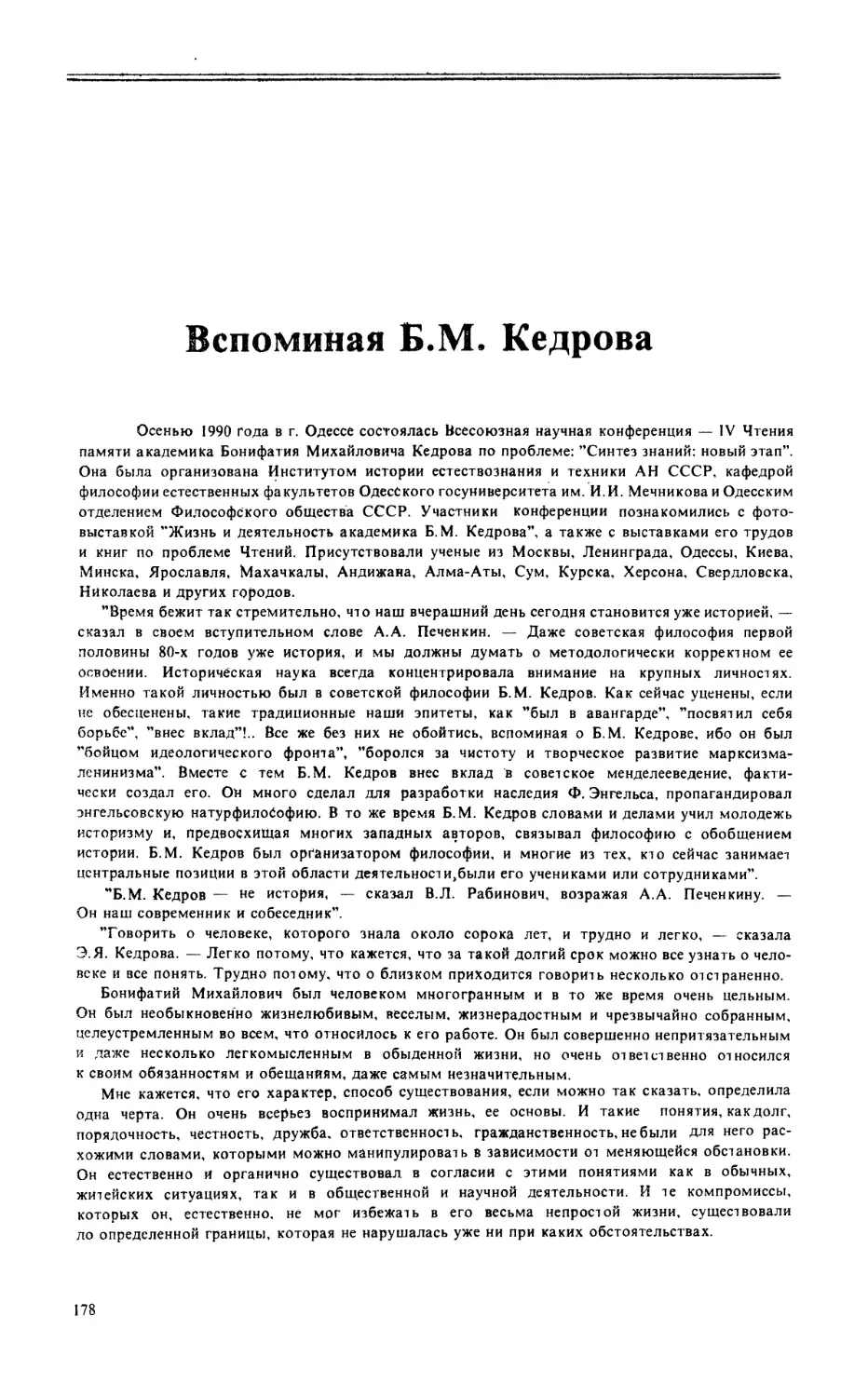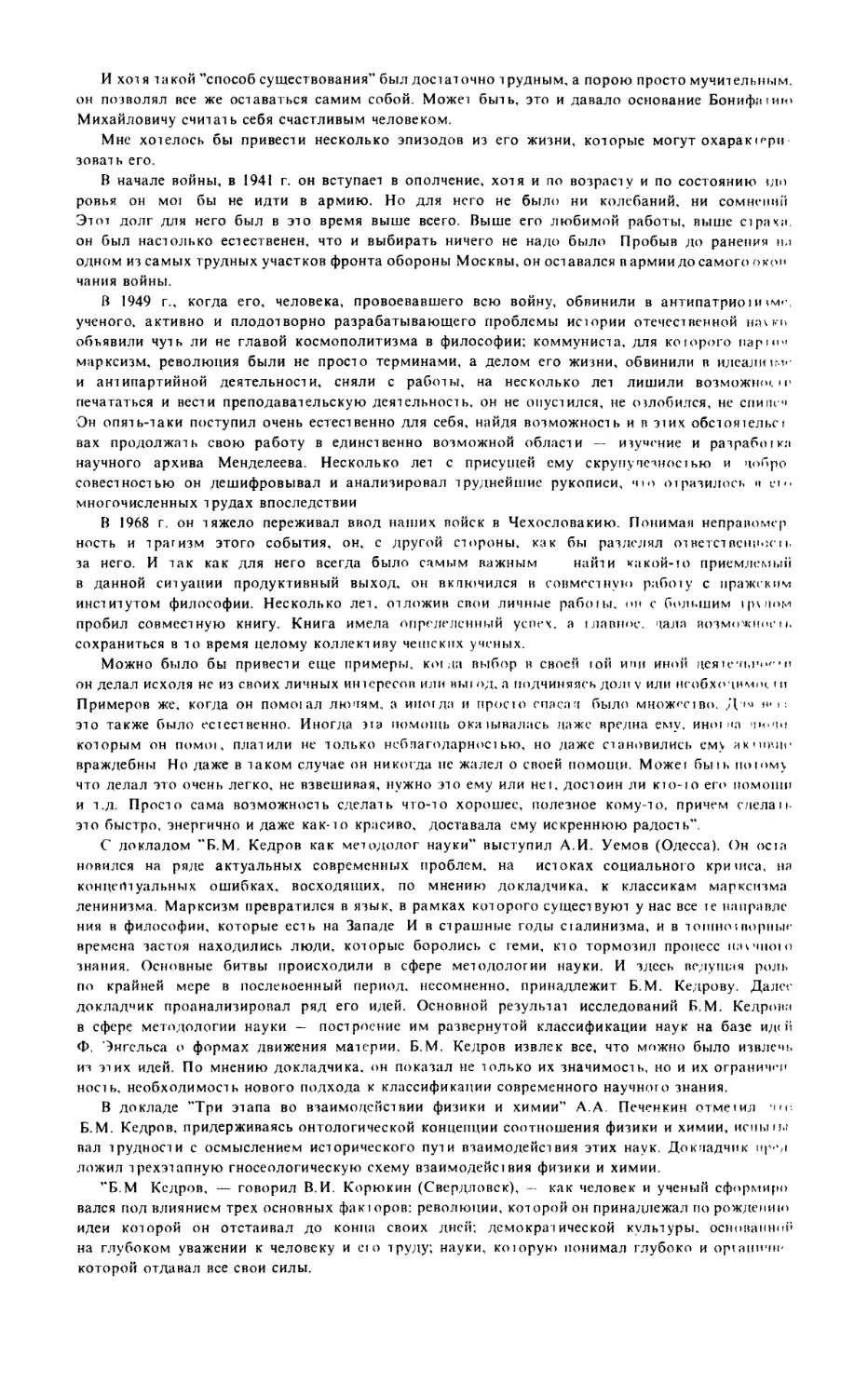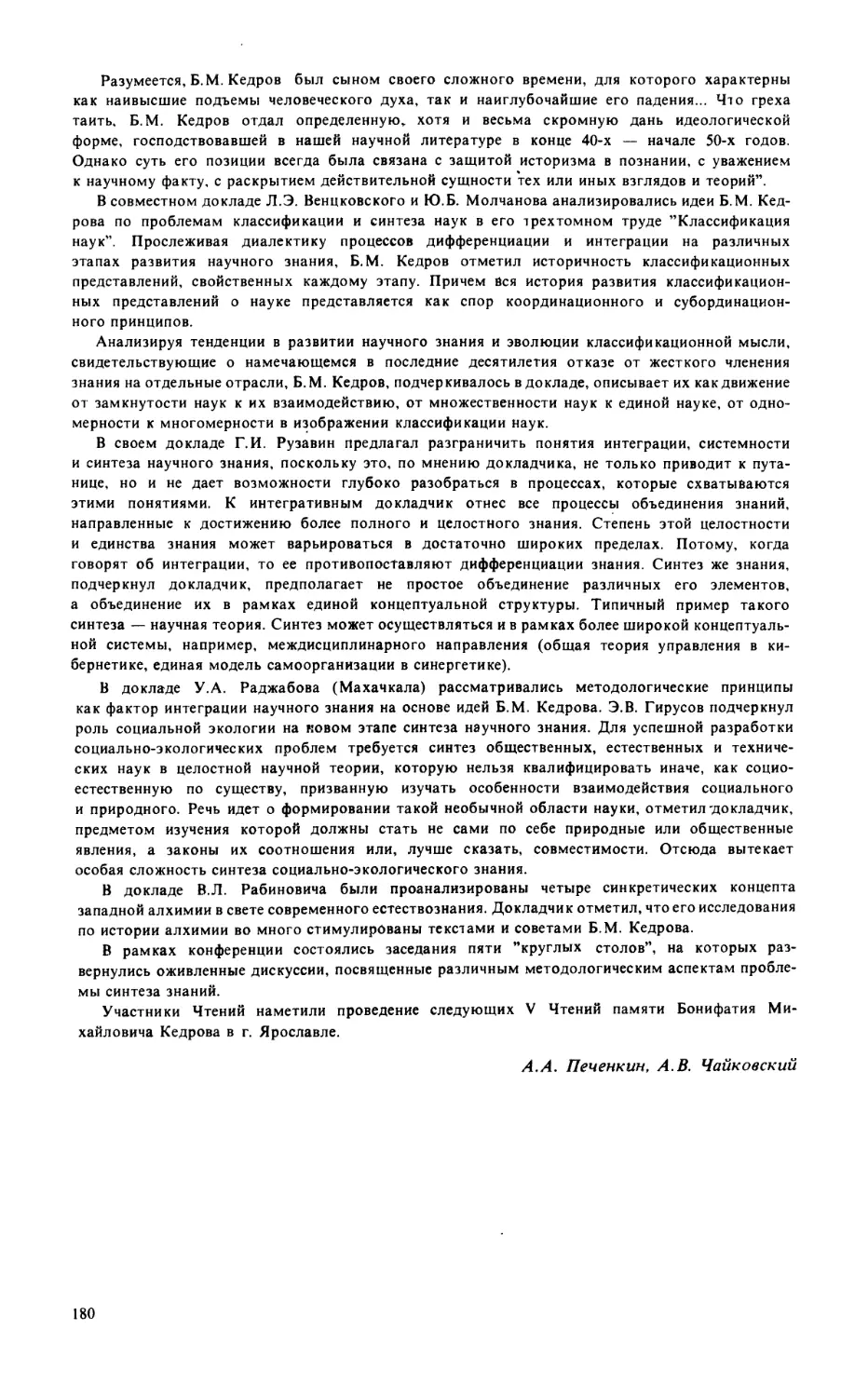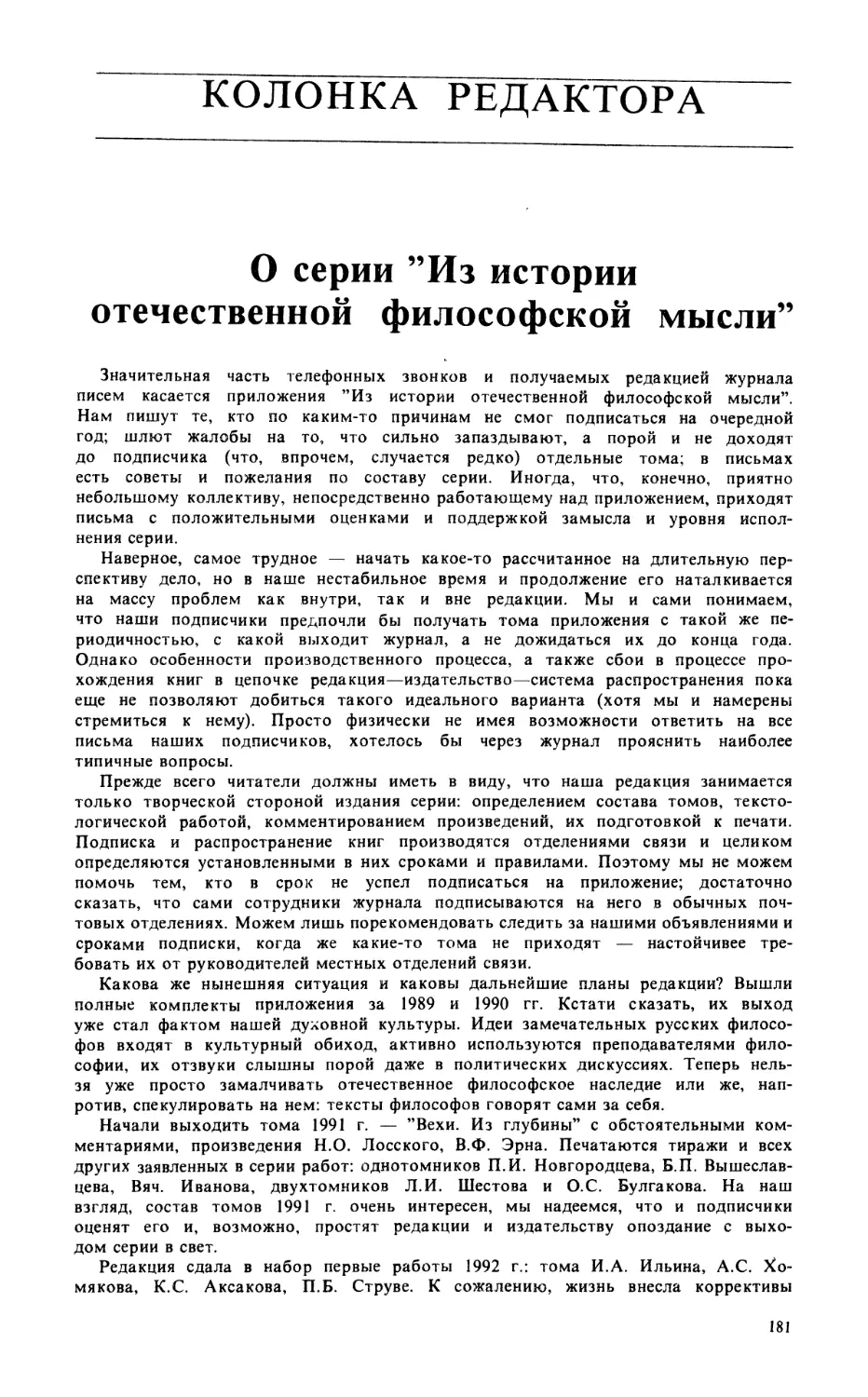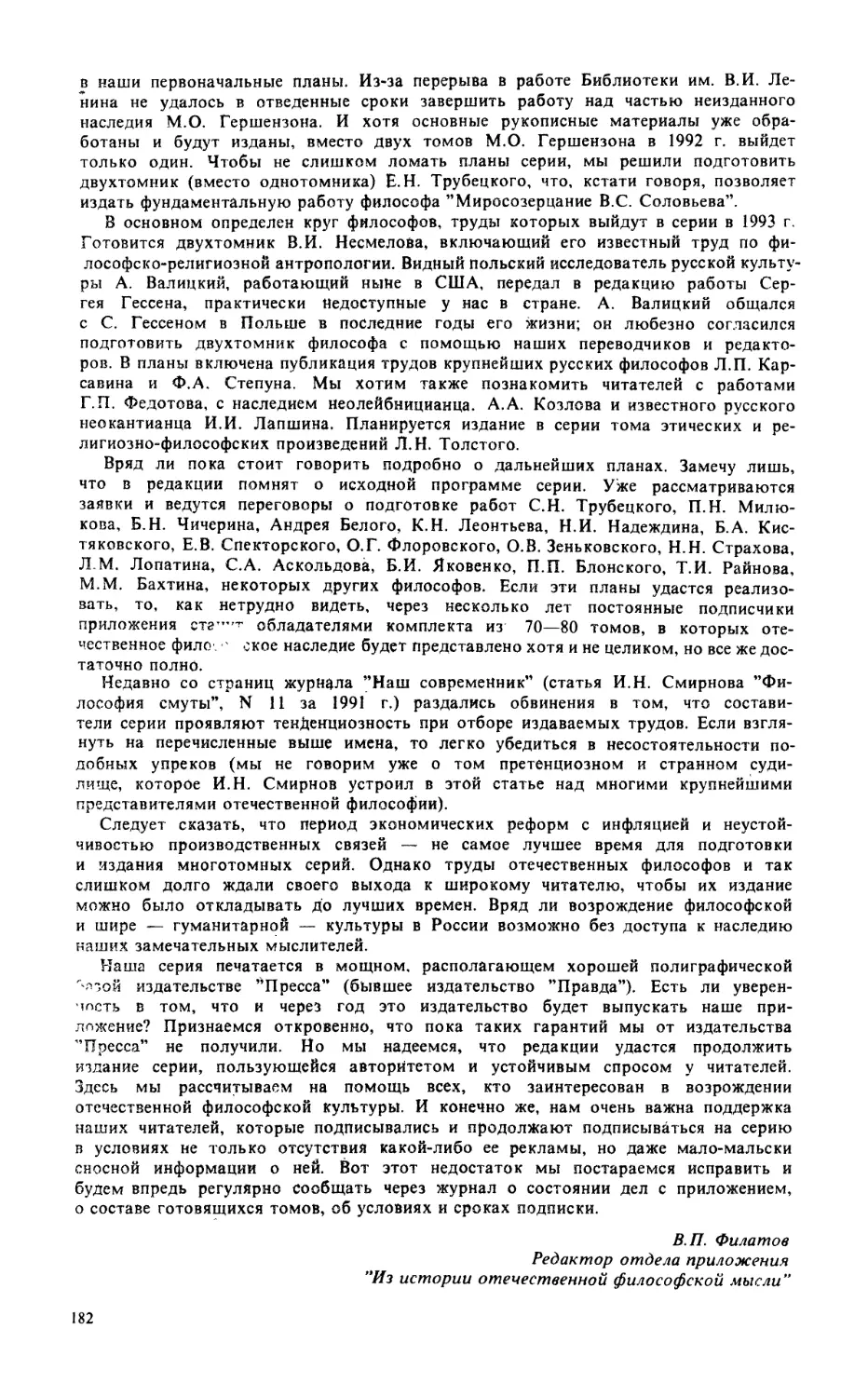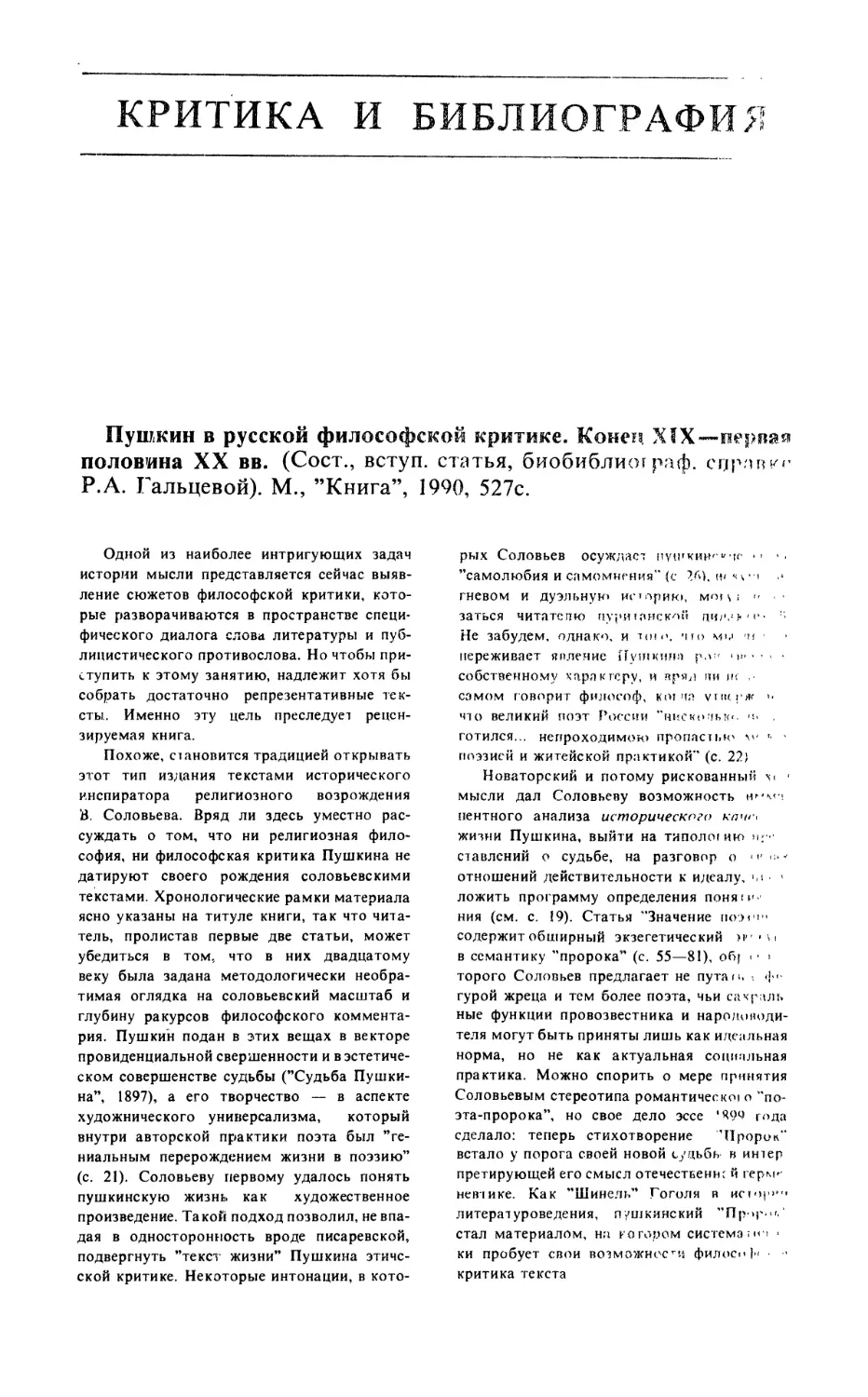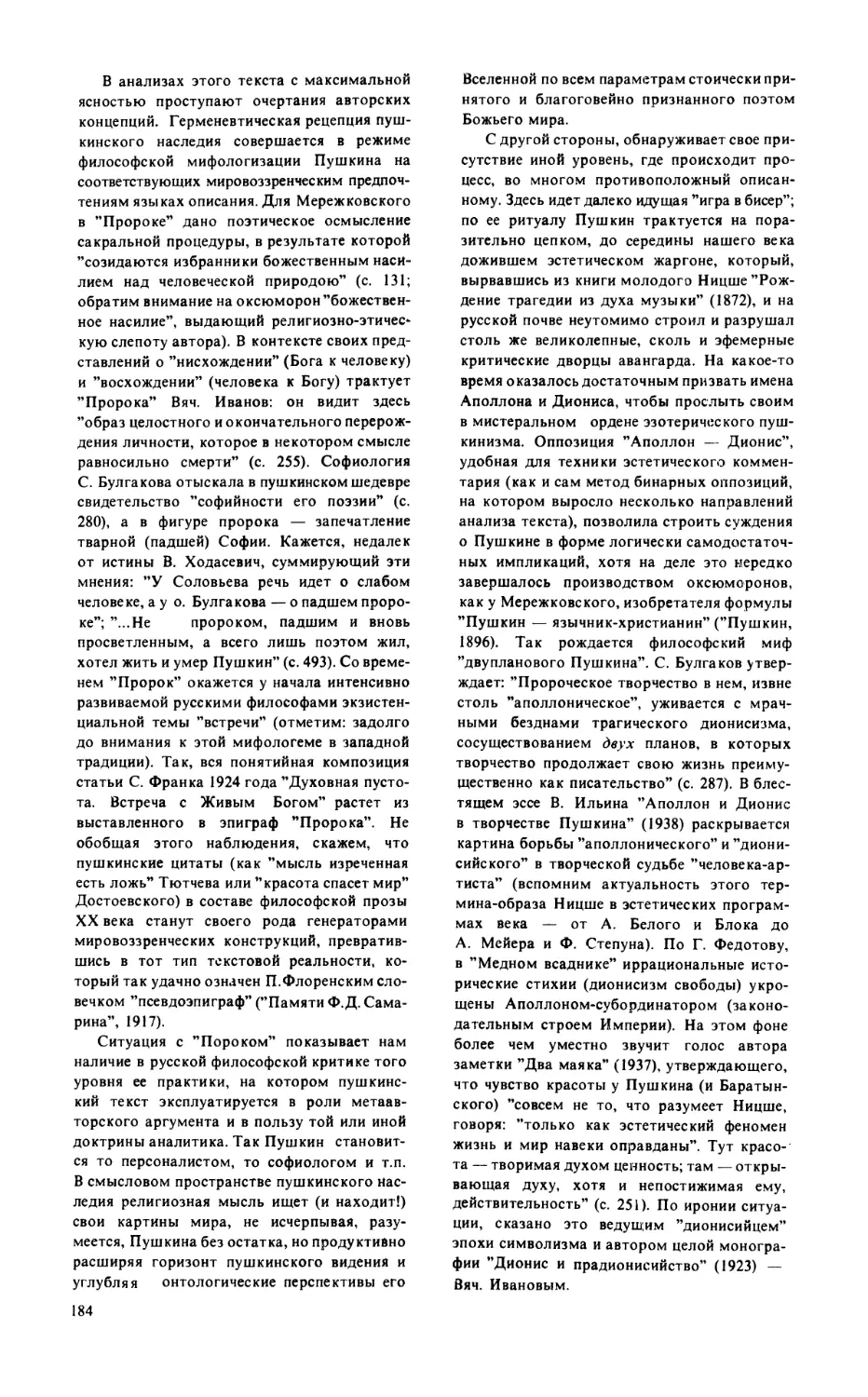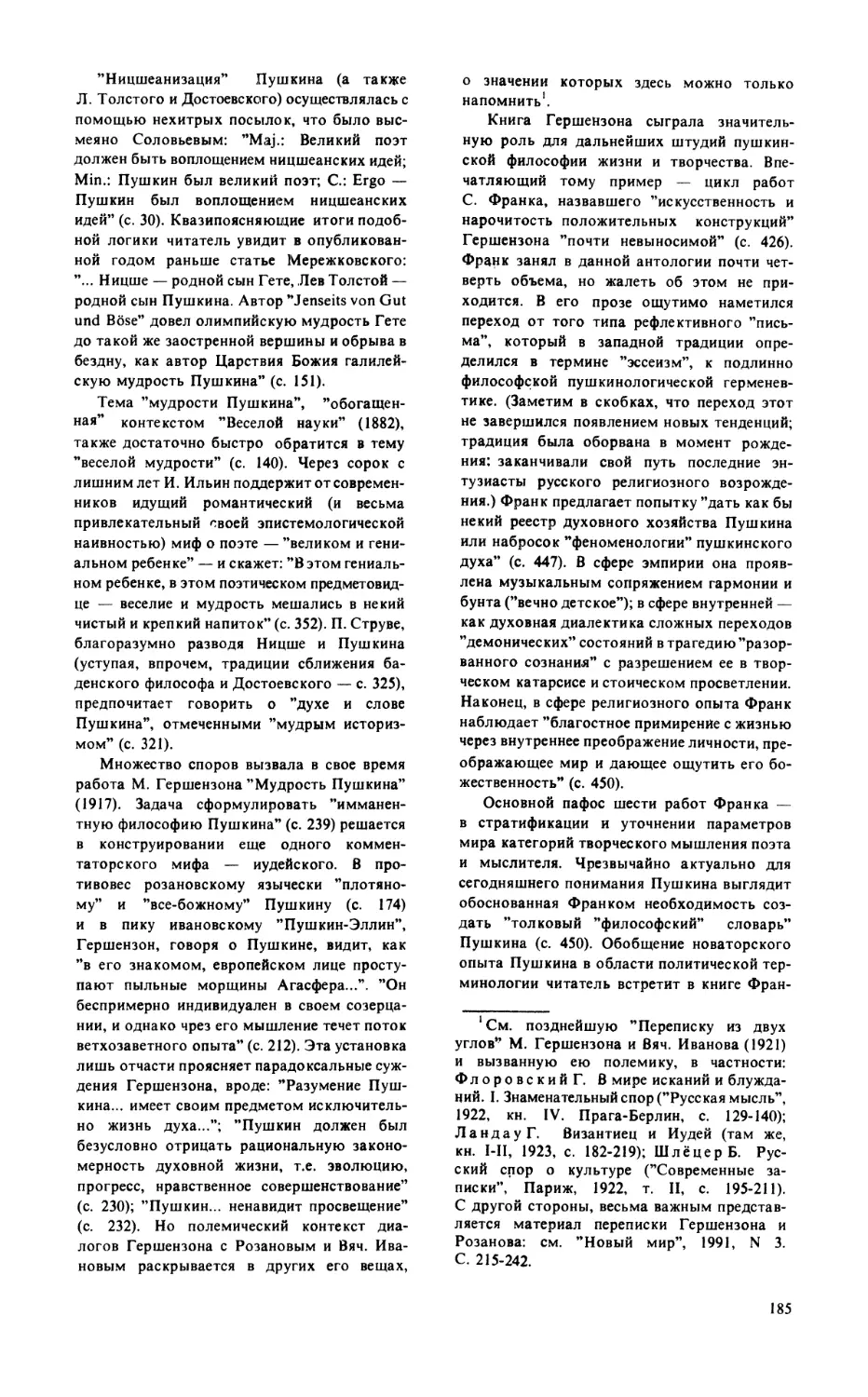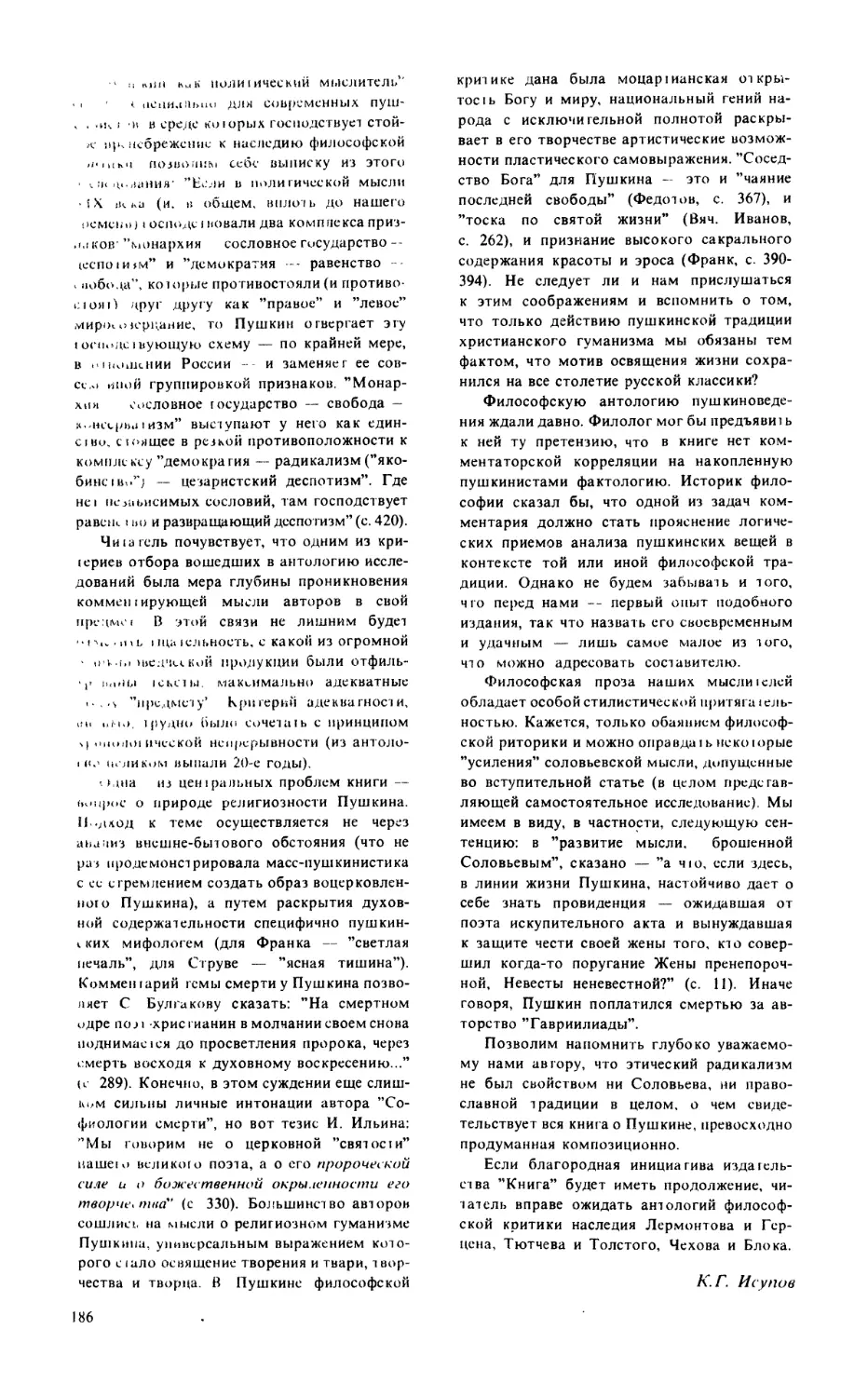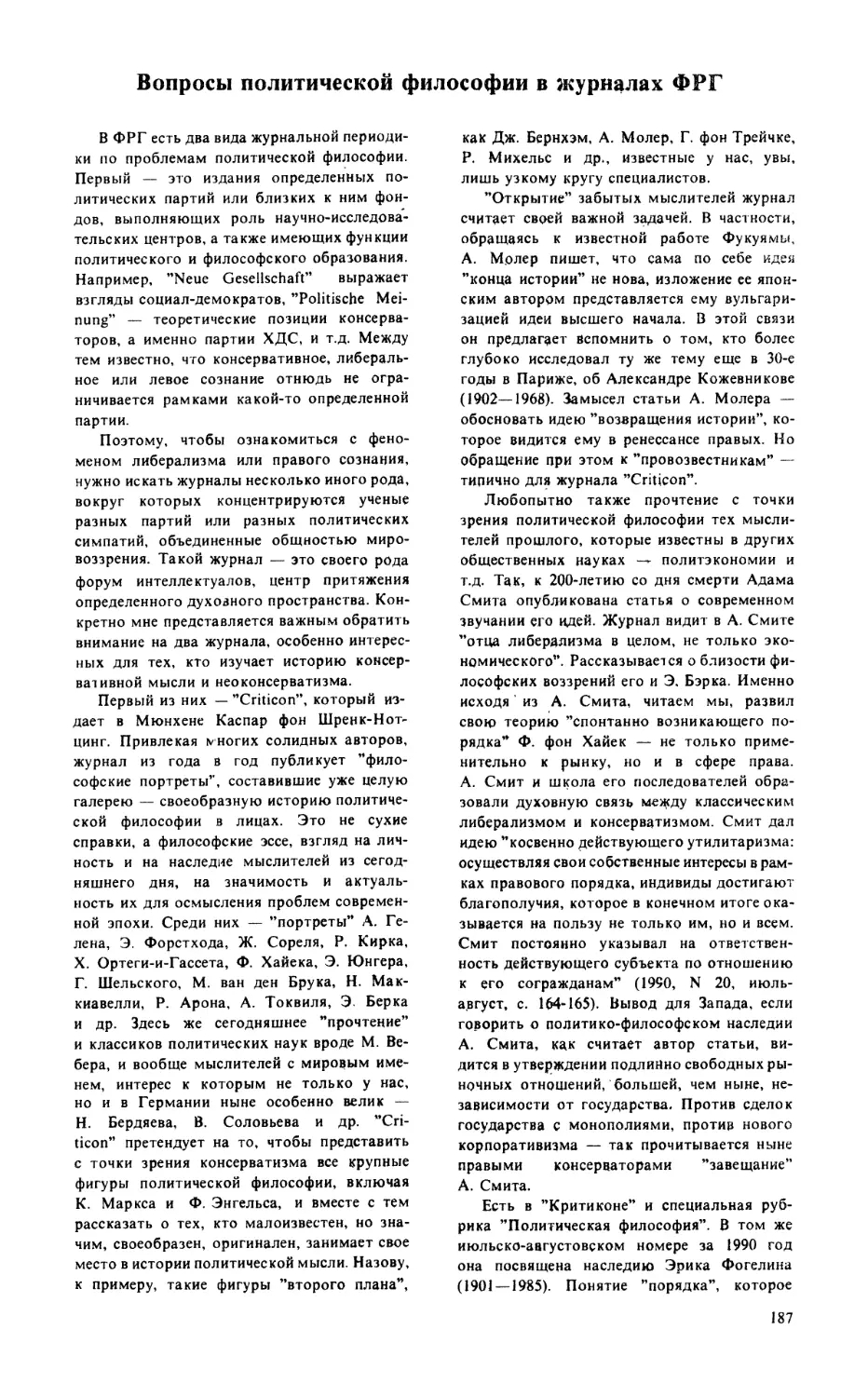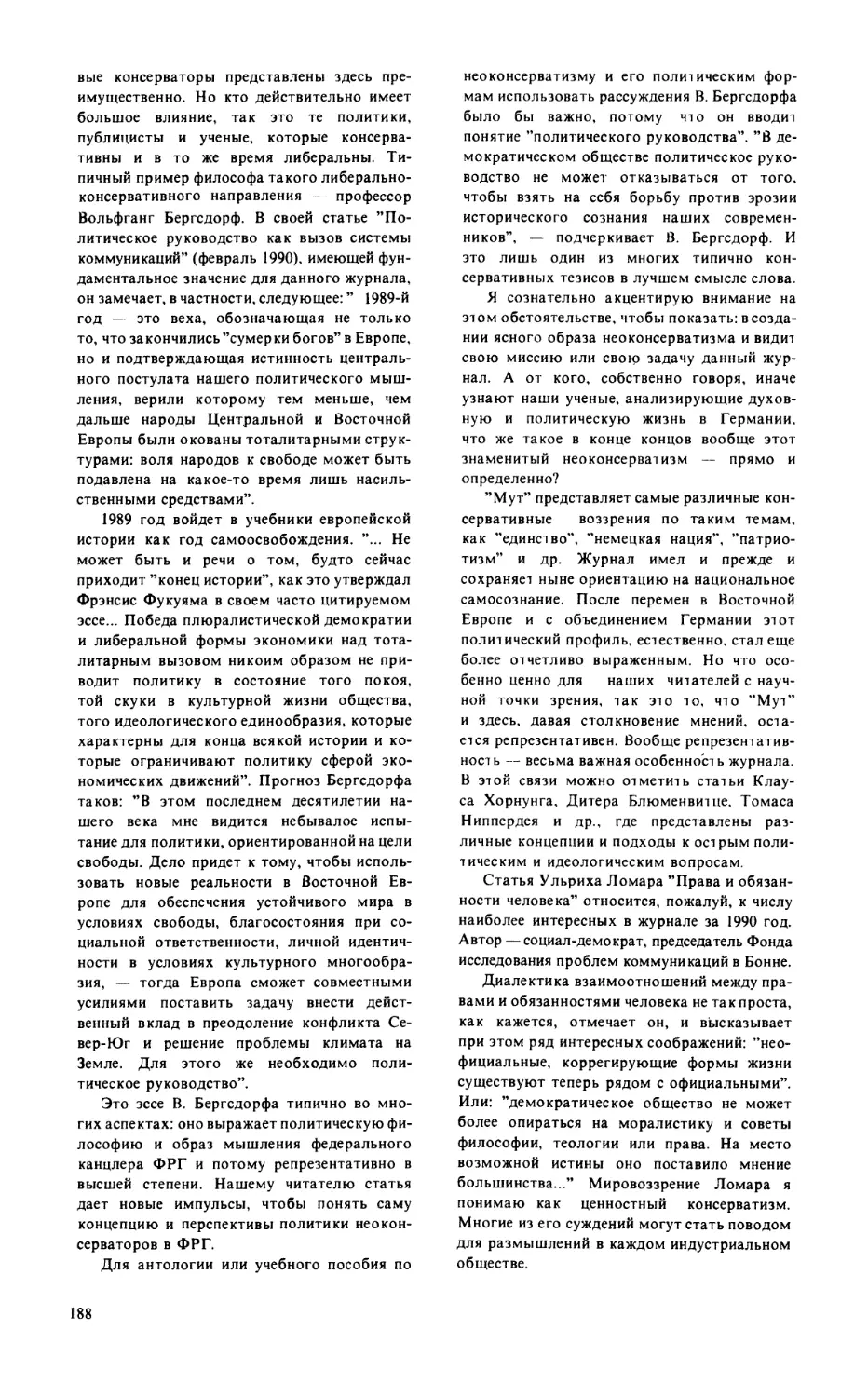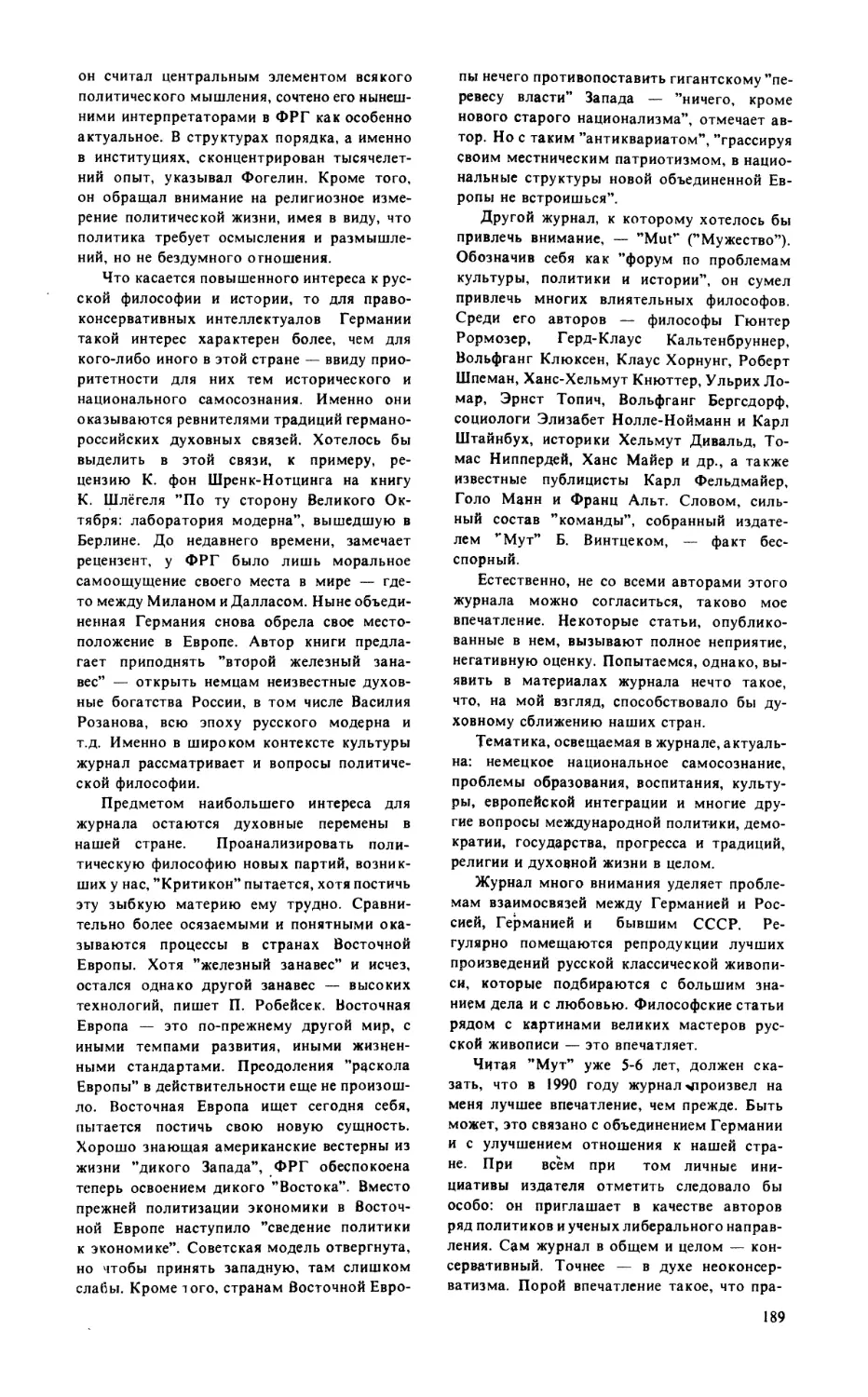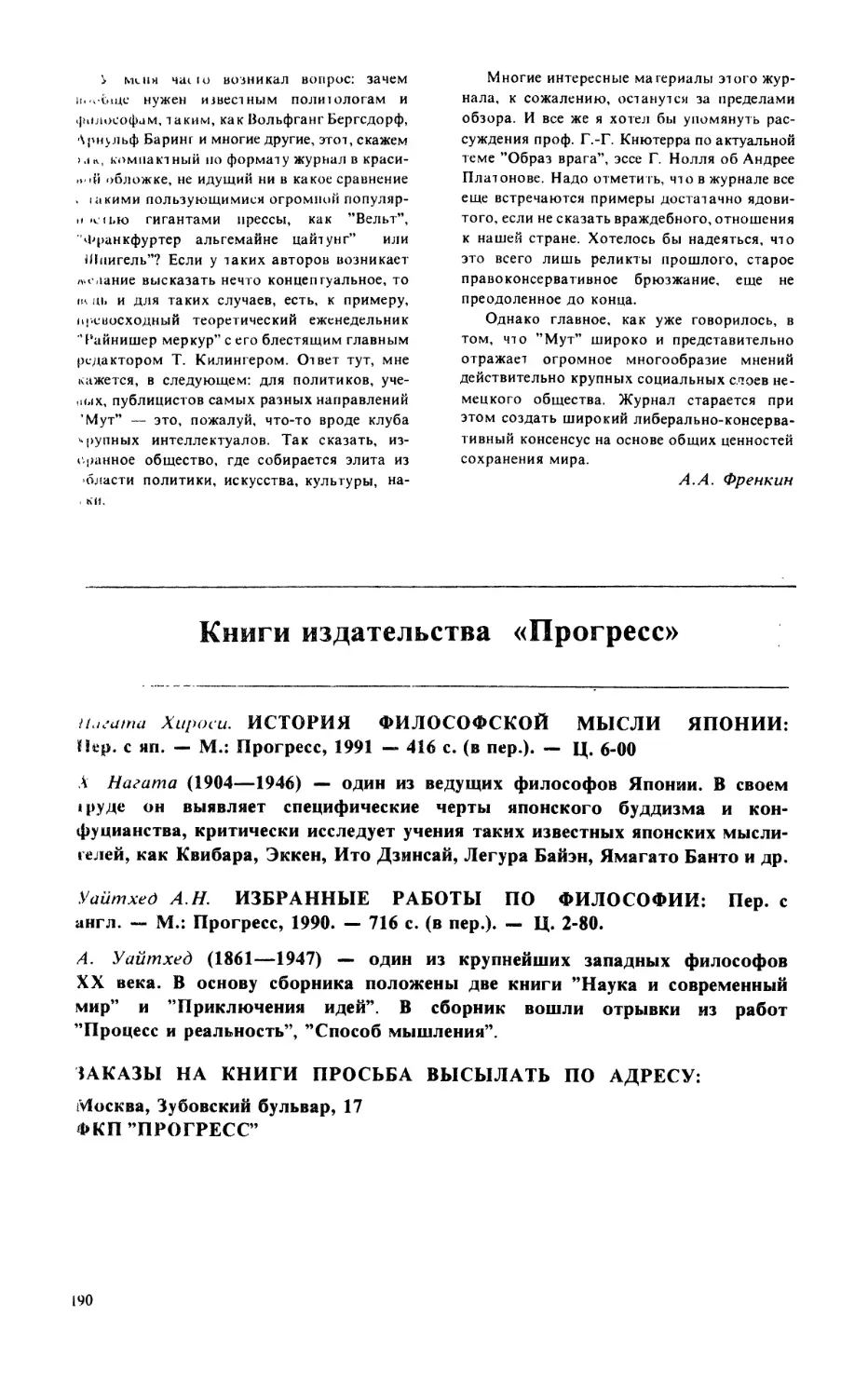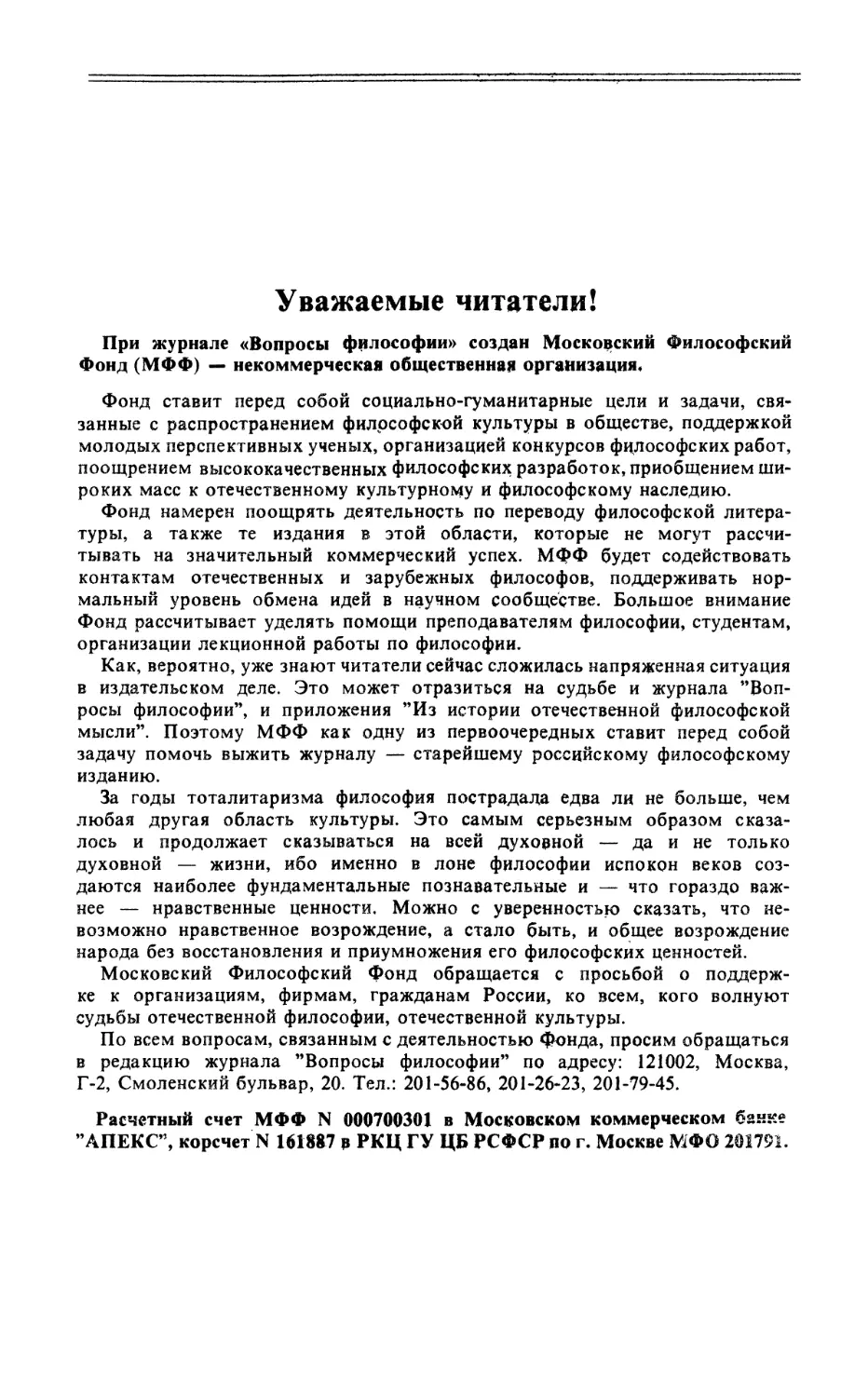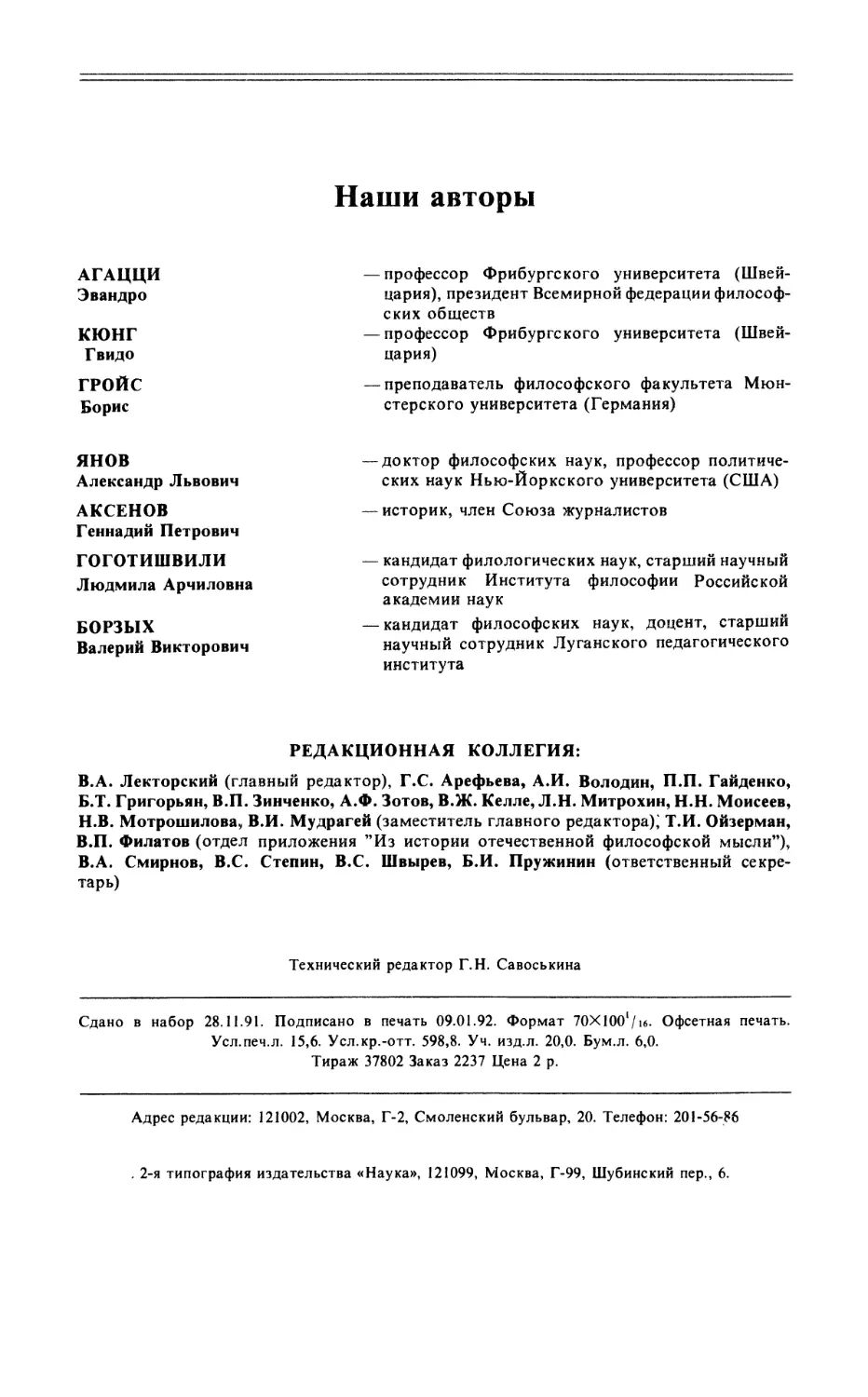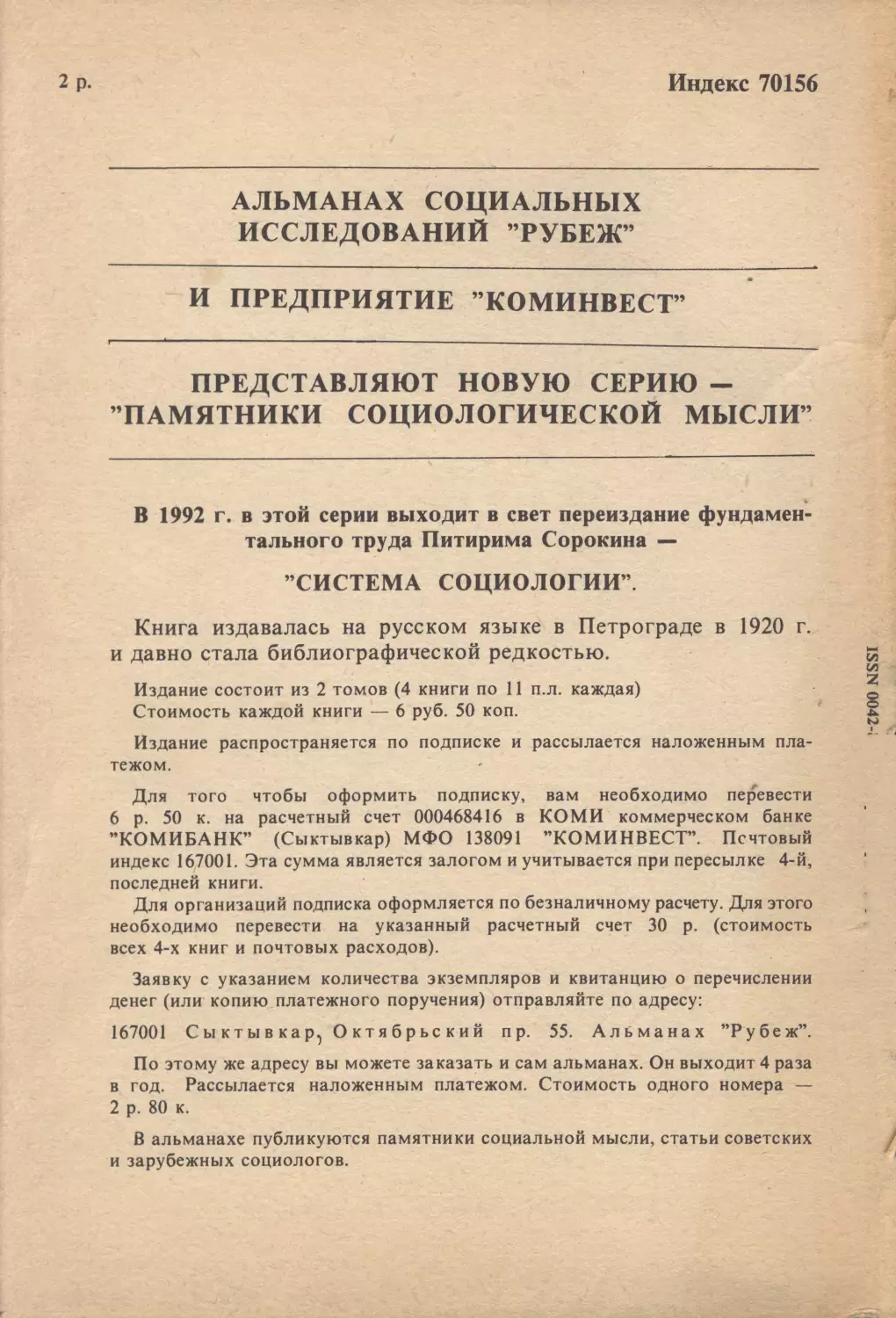Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ВОПРОСЫ
ФИЛОСОФИИ
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
_у л ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА 1 ППО
JN 1 ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО 1 У У L
Издается при содействии Всероссийского биржевого банка
СОДЕРЖАНИЕ
Трудовая этика как проблема отечественной культуры: современные
аспекты (материалы "круглого стола"). Выступили: Е.З. Майминас,
Д.Е. Фурман, Л.А. Радзиховский, Ю.Н. Давыдов, М. Бюшер, Л.Я. Гоз-
ман 3
Философия и наука
Э. Агацци — Ответственность — подлинное основание для управления
свободной наукой 30
Г. Кюнг — Когнитивные науки на историческом фоне. Заметки
философа ; 41
Россия и Запад
Б. Гройс — Поиск русской национальной идентичности 52
Из истории отечественной философской мысли
А.Л. Янов — Трагедия великого мыслителя 61
Г.П. Аксенов — Времявластие (О Валериане Муравьеве и его философии). 89
В.Н. Муравьев — Письма. Внутренний путь. Философские заметки,
афоризмы 97
Философский архив
Л.А. Гоготишвили — Варианты и инварианты М.М. Бахтина 115
М.М. Бахтин — Дополнения и изменения к "Рабле" 134
МОСКВА • «НАУКА» • 1992
Наши интервью
Август перемен — взгляд русского эмигранта. Интервью с Н.В.
Моравским 165
Из редакционной почты
В.В. Борзых *— О свободе морального выбора о... 175
А.А. Печенкин, А.В. Чайковский — Вспоминая Б.М. Кедрова .. 178
Колонка редактора 181
Критика и библиография
К.Г. Исупов — Пушкин в русской философской критике. Конец XIX —
первая половина XX вв 183
А.А. Френкин —- Вопросы политической философии в журналах ФРГ... 187
Книги издательства "Прогресс" 190
О создании Московского Философского Фонда ,. 191
Наши авторы 192
CONTENTS
ETHIICS OF LABOUR AS A PROBLEM OF NATIVE CULTURE:
MODERN ASPECTS (A round-table discussion). E. AGAZZI. Responsibility:
the Genuine Ground for the Regulation of a Free Science. G. KUNG. Cogntive
sciences at historical phone. B. GROYS. The search of Russian national
identity. AX. JANOV. The tragedy of greate thinker. V. MURAVIEV. From
the archives. Inner way. Philosophical notes and aphorismes (Introduced
by G.P. AKSENOV). M.M. BACHTIN. The supplements and changes for
"Rabelais" (Introduced by L.A. GOGOTISHVILI). August of changes:
opinion of Russian emigrant (interview with N.V. MORAVSKY). V.V. BORZYCH.
On the freedom of moral choice. A.A. PECHENKIN, A.V. CFIAIKOVSKY.
Remembering of B.M. Kedrov. BOOK REVIEWS.
© Издательство «Наука».
«Вопросы философии». 1992
Трудовая этика как проблема
отечественной культуры:
современные аспекты
(материалы "круглого стола")
От редакции. В сентябре прошлого года наш журнал провел "круглый стол" по одной из
самых тревожных и существенных для нашей страны проблем. Редакция предложила для
обсуждения следующие темы: типы перехода от традиционного и тоталитарного общества
к рыночной экономике; Веберовский тезис о важности идейно-религиозной установки
и перспективы трудовой этики в России; влияние генотипа культуры на возможность
выхода России на уровень мировой цивилизации и ряд других тем. ,jB условиях, когда
в магазинах нет товаров, когда катастрофически падает производительность труда, а
цены растут, когда люди проводят время — даже минимально не отдавая его работе —
в тоскливых гаданиях о предстоящих ужасах, в воспоминаниях о бедствиях уже испытанных
и в предвкушении бедствий грядущих, актуальность этого "круглого стола" не вызывала у нас
сомнений. Экономисты, историки, публицисты, философы и психологи высказали свои
соображения по предложенным темам. Публикуя материалы "круглого стола'*, мы можем
только призвать политиков и людей, от которых зависит наше
общественно-экономическое развитие, поменьше думать о своих амбициях, а обратить, наконец, внимание
на специфику культуры, в которой мы все живем, на ее традиции и трудности.
Е.З. МАЙМИНАС (доктор экономических наук, Институт
народнохозяйственного прогнозирования АН СССР). Этика труда и отечественная
культура.
Трудовая этика — это отношение людей к труду, запечатленное в
комплексе моральных ценностей и норм, воплощенное в категориях и
образцах культуры и выраженное в человеческом поведении, прежде
всего в сфере трудово.й деятельности. В моем понимании трудовая этика
входит составной частью в социально-экономический генотип общества —
СЭГ. СЭГ образует своего рода информационный механизм "социального
наследования", который обеспечивает воспроизведение структуры и принципов
функционирования, регламентации и обучения в данной общественной
системе. Он включает систему ценностей, мотивационный комплекс,
парадигму хозяйствования и управления и проявляется в виде контуров
регулирования и управления социально-экономическими процессами — в том
числе норм и стимулов правовых, административных, экономических и
моральных. Сам СЭГ опирается на систему общественных интересов
и культуру общества.
Следовательно, рассматриваемая нами проблема — это определенный
"срез" социально-экономического генотипа, что важно видеть для понимания ее
места и связей в социальных процессах.
Для начала стоит разобраться, о каком труде пойдет речь. Одно
дело, если мы будем иметь в виду самое общее понимание труда как
определенной сферы жизнедеятельности (наряду с досугом и т.п.). Тогда,
скажем, трудовая мотивация будет включать мотивацию (побудительные
стимулы, обоснования) ведущего натуральное хозяйство крестьянина,
работающего на рынок ремесленника, предпринимателя, менеджера, наемного
работника, члена кооператива, домохозяйки, и т.п., хотя вполне очевидно,
что она различна у каждого из них. Или мы по-марксистски исключим из
рассмотрения предпринимателей-эксплуататоров, а заодно и людей, занятых
"непроизводительным трудом".
Далее нам придется видеть различия между физическим и умственным
трудом и глубже — между их видами, поскольку в разных социальных
общностях и культурах неодинакова градация их ценности и значимости.
В древней Греции внизу шкалы оценок был труд физический, в
императорском Китае вверху этой шкалы — труд мандаринов, в старой и советской
России и власть имущие и безвластные массы отрицательно относились
к интеллигентскому труду и т.д. Растворив все эти различия в
"отношении к труду" вообще мы бы не получили содержательных результатов.
С другой стороны, нельзя упускать из виду общей этической основы,
имеющей глубокие религиозные и в целом — мировоззренческие корни.
Труд на протяжении тысячелетий заполнял собой практически все
существование простого человека, и уже поэтому нуждался в осмыслении и сакральном
обосновании. Рай представлялся всегда как вечная жизнь без труда,
который ниспослан Богом человеку в наказание за первородный грех.
Человек должен смиренно нести свой крест, и ему воздастся — это общее
место всех религий. Но в некоторых, как показал М. Вебер, труд
получает приоритет особо богоугодного дела. Интересно, что в
старообрядческих общинах, подобно протестантским, также поощряется трудовая
активность.
В советской субкультуре с ее двоемыслием труд на словах
превозносился как дело чести и славы, а на деле назначались трудовые
"маяки"; под евангельским заветом ("не трудящийся да не ест") насаждалась
система принудительного труда, всеобщей трудовой повинности. В итоге
прививалось стойкое отвращение к труду, особенно непрестижному
(поскольку в нашем тоталитарном обществе существовала четкая реальная
иерархия "трудящихся").
Независимо от религиозных и иных мировоззренческих форм существует
еще и некое интимное отношение человека к предмету своего труда —
от любви до ненависти. У крестьянина, рыбака первое — это слияние
с землей или морем, с природной средой, у рабочего — платоновское
"влекущее чувство к машине", у учителя и врача — любовь к ученикам,
больным, у ученого — переживание внутреннего совершества научной теории,
красоты и гармонии мира, драмы идей. Все это, безусловно, входит в основы
трудовой этики,
В данном контексте необходимо также прояснить термин "отечественная
культура". Для чрезвычайно разнообразных культур народов, населяющих
огромную территорию бывшего СССР, общим было разве что их
социалистическое наполнение — та советская субкультура, о которой говорилось
выше. Переплетение нагнетаемой идеологии официального социализма,
многовековых авторитарных устоев и широкого спектра
религиозно-этнических начал характерно для всех культур "советских" народов. По-крупному же
явно выделяются два культурных мира — христианский (в основном
славянский и православный) и мусульманский (преимущественно тюркский)
с существенно отличной историей, шкалой социальных ценностей, типом
общественно-культурных связей.
Эти миры в разное время и в неодинаковых условиях вступают в поток
современной цивилизации. Сначала отдельные индустриальные анклавы
со щупальцами железных дорог, капиталистические хозяйства, взламывающие
общину в деревне, потом мучительная индустриализация и коллективизация
советской эпохи, бросившая в города и ГУЛАГ десятки миллионов
людей, а в Великой Степи — кровавое разрушение многовекового уклада.
Эти колоссальные тектонические сдвиги буквально перевернули
традиционную трудовую этику.
Исходным для нее стало отчуждение труженика, что привело к утере
хозяйской мотивации и самоценности труда. Непосредственно в самом
"обобществленном" хозяйстве доминировать стали внеэкономические мотивы
трудовой активности — такие как энтузиазм и послушание, страх и
прямое принуждение, а побудительный ее стимул переместился в сферу
власти, бюрократического и теневого распределения, где обеспечивался
доступ к благам. Нетерпеливый энтузиазм строителей коммунизма, казенное
огосударствление и подневольность труда, наложившись на индустриализацию
и милитаризацию, совместно вызвали агрессивно-механистическое
отношение к природе, к производству вообще ("седлай технику, покоряй природу"),
породили культ материальных символов "технического прогресса"
(промышленные монстры, фабричные трубы, гигантские плотины), примат
технической подготовки и технократического мышления над гуманитарным
образованием и духовной культурой. Этим определялась новая ориентация
трудовой этики, если отвлечься от ее "социалистической" упаковки.
Традиционные линии трудового поведения также преломились в наше
время: зависимость от барина, властей, начальства вылилась в
безынициативность; она же вкупе с общинной уравнительностью выродилась в
иждивенчество, стремление жить за казенный счет, не сопоставляя "отхваченную" долю
со своим трудовым вкладом, безразличие к чужому имуществу и зависть к
более умелому и обеспеченному человеку. Подобные люмпенские черты
социальной психологии стали заметно выражаться и в трудовой этике.
Наконец, в ней по-прежнему проявлялись некоторые типичные,
многократно описанные в российской научной и художественной литературе
черты: скорее размашистость и авральность, чем методичная трудолюбивая
добросовестность в работе; терпеливая готовность к плохим
условиям и большим нагрузкам; подвижническая жертвенность ("если надо"),
возмещающая непредусмотрительность в труде; склонность к
мечтательному и масштабному прожектерству, отодвигающая на задний план
повседневную расчетливость, деловитость и обоснованный прогноз;
коллективизм и взаимопомощь в труде при нехватке личной ответственности
и настороженно отрицательном отношении к индивидуальным усилиям.
Таковыми в самом сжатом виде мне представляются структура и
состояние трудовой этики в сегодняшней России. Главную — и не только
культурологическую проблему я вижу в том, как она соотносится с
категорическим императивом перехода к рыночной экономике. Последняя,
что бы ни говорили о смешанном, плюралистическом ее характере, основана
на частной собственности и частной инициативе, конкуренции, свободном
предпринимательстве и свободном труде. Наша нынешняя трудовая этика,
как она существует в массовом сознании и проявляется в экономическом по-
ведении, плохо стыкуется с этими основами — почти по всем
обозначенным выше линиям.
Ростки капитализма тщательно выкорчевывались и запахивались в трех
поколениях советских людей — часто вместе с их носителями, что не
могло не сказаться на генофонде нации. Легко было повернуть к
нэпу, когда еще были живы настоящие крестьяне и мастеровые, недобиты
"третье сословие" и старая интеллигенция. Труднее вернуться к рыночной
экономике, о которой помнят одни старики, пятьдесят лет спустя в
Прибалтике, западных областях Украины и Белоруссии, в бывшей Бессарабии.
Применительно к России приходится говорить о новом становлении рыночной
экономики, и это в полной мере относится к формированию адекватной ей
трудовой этики.
Конечно, эта работа начинается не с полного нуля. Есть
предприимчивые люди, и всегда шел обмен в легальной и теневой экономике,
есть "демонстрационный эффект" западных образцов (правда, больше в
потреблении, чем в производственной этике), появляется заметный фермерский
сектор. В этих "экологических" нишах росли своеобразные мутанты рынка со
своей изуродованной квазирыночной культурой, Сумеет ли из них развиться
полноценная нормальная трудовая этика?
Ответ представляется мне неоднозначным. Он во многом зависит от
путей становления рыночной экономики, прежде всего, от того, как пойдет
приватизация государственно-колхозной собственности, от масштабов и
распределения между общественными группами "социальной платы" за
переход к рынку. Если она всей тяжестью ляжет на плечи нищающих
слоев населения, трудно надеяться на скорое преодоление люмпенских
установок. Если удастся в сравнительно близком будущем создать мощный
"средний слой" собственников, которым есть что терять "кроме своих
цепей", ситуация может стать более благоприятной.
К тому же заведомо по-разному она сложится в разных регионах
бывшего СССР с особым своеобразием в "мусульманских" республиках.
Правда, и в государствах схожей с ними культуры имеется как пример
Ирана, так и пример Турции. Собственно в России вряд ли приходится
рассчитывать на прямое следование западным образцам. Это действительно
евроазиатская страна со своей "наследственностью", где на
восточнославянскую основу наложились византийское, ордынское, западноевропейское
влияния. Учитывая сложившийся в российском обществе
социально-экономический генотип, следует серьезное внимание обратить на особенности
формирования современной рыночной экономики в таких странах, как
Япония, Корейская республика, в известной степени — Китай. Патернализм и
система пожизненного найма, авторитаризм и склонность к совместным
опекаемым государством действиям созвучны многим нашим генетическим
чертам.
Наконец, существенное значение будет иметь и позиция творческой
интеллигенции. Она с XIX в. отрицательно относилась к Колупаевым
и Разуваевым, к немецким заземленным "мальчикам в штанах", предпочитая
им наших "мальчиков без штанов" (см. щедринское "За рубежом"),
обрушивалась на буржуазное мещанство. До сих пор ею осуждается
стремление к обогащению, рыночной деятельности и т.п., что, несомненно,
сказывается на массовом сознании. В этом свете важнейшую роль будут
играть установки молодежи, которые пока недостаточно определились.
Без преувеличения можно сказать, что от них зависит наше будущее.
Д.Е. ФУРМАН (доктор исторических наук, Аналитический центр
АН СССР по проблемам социально-экономического и научно-технического
развития). "Капитализмы" тоже бывают разными.
Сейчас единое стремление едва ли не всей нашей страны, во всяком случае,
всей ее социально-активной части — как можно быстрее "построить
капитализм". В новой и "перевернутой" форме возрождается старый
и характерный не только для нашей страны идейно-психологический
комплекс — представление об ужасном прошлом (раньше это был царизм и
капитализм, теперь — социализм и власть большевиков), трудном
переходном периоде и грядущем после него земном рае, на этот раз
капиталистическом. Мне думается, что даже цифра 500 в программе 500 дней не
случайна, а связана с памятью о пятилетках.
У меня нет никаких сомнений, что перед нами сейчас лишь один путь —
к рынку, к свободной экономике, где хозяйственная деятельность людей
не будет сковываться догматическими представлениями о правильной
экономической организации. Но все же мне думается, что мы связываем
с рынком несколько преувеличенные ожидания. Я никогда не мог
понять из наших статей о рыночной экономике, почему под ней всегда
подразумевают экономику США, Канады, ФРГ, а не Перу, Гаити или
Верхней Вольты. Неужели то, что мешает Перу стать процветающей
страной — это отсутствие рынка?
Мне думается, что в наших рассуждениях о рынке мы систематически
недооцениваем роль культурного фактора. Рынок эффективно работает,
очевидно, лишь при культурной и психологической готовности к
ответственному, честному рыночному предпринимательству, наличию или
возникновению в культуре каких-то аналогов веберовского "бескорыстного"
капитализма. Без наличия этих культурных основ рынок может стать
источником не обогащения народа, а его нищеты, и обогащения уголовников
типа колумбийской мафии. Наконец, лишенная этих основ культура
может просто не вынести, не выдержать свободного рынка, даже если
он и производит экономический эффект, и отторгнуть его, как это
произошло в нашей русской истории.
Похоже на то, что для жизненного уровня народа наличие этих
культурных основ эффективной рыночной экономики даже важнее, чем
наличие самого рынка. Рынок может быть в силу каких-либо
исторических причин ликвидирован, но если сохраняются эти культурные основы,
сохраняется в громадной мере и жизненный уровень.
Можно привести множество примеров, иллюстрирующих сравнительное
значение культурных факторов, создающих основу здоровой рыночной
экономики, и самого рынка. Различие в жизненном уровне ГДР я ФРГ — это,
очевидно, следствие различий в социальном строе, но различие жизненных
уровней ГДР и России или Польши — это уже никак не следствие различий
в социальном строе, это — следствие различия культур. Превосходство
Финляндии над Эстонией, вполне возможно, превосходство строя. Но
превосходство эстонского колхоза над соседним псковским никак не объяснимо
различиями в строе. Строй у них — один.
С народом, в культуре которого выработано отношение к труду,
как долгу перед Богом, обществом и самим собой, у которого есть
представление о некоем обязательном уровне чистоты, порядка,
образования, жить без которых просто нельзя, — вы можете сделать все, что
угодно, он все равно быстро восстановит свой жизненный уровень.
Вы можете разбить его в войне, ограбить, выселить с земель, на которых
сотни лет жили его предки, искусственно разделить его между двумя
разными государствами и заставить одно из этих государств жить по-
социалистически, как мы это сделали с немцами, — все равно пройдет
какой-то период времени и немцы будут жить лучше, чем русские и
поляки. Вы даже можете их голыми и голодными выбросить в казахской
степи — и те, кто уцелеет, создадут колхозы лучшие, чем русские
и казахские. При этом роль культурного фактора очень устойчива.
Как в XVIII веке немецкий крестьянин жил лучше русского и польского,
так это было и в XIX веке и в XX в., и, скорее всего, будет,
чтобы ни говорил Л. Валенса о превращении Польши во вторую Японию и
чтобы ни говорили многие наши теперешние политики, что все наши
беды — от большевиков и социализма, и в XXI веке. Революции и
контрреволюции тут значат очень мало. Для того, чтобы нация совершила
"рывок", вышла из своего места в устойчивой иерархии жизненных уровней
наций, нужно что-то иное, чем революция или контрреволюция — нужны
глубокие изменения в культуре, — которые зачастую никак не связаны
с внешними социально-политическими изменениями. Это — не шумные, а
"тихие" революции. "Рывки" Тайваня, Южной Кореи, Сингапура — это
революции "тихие", но, очевидно, более глубокие, чем совершаемые под
барабанный бой революции, провозглашающие социализм или капитализм.
И даже эти "рывки" отдельных стран, на наш взгляд, говорят о
громадной роли культурного, мотивационного фактора. Дело в том, что
они, насколько можно судить, связаны с "рыночной переработкой" уже
наличествующих в культуре предпосылок. Немыслимое трудолюбие китайца,
его громадное чувство долга перед семьей и страной базировались на
совсем иных основаниях, чем веберовский "дух капитализма". Но они
создавали основу для "переработки" в национальный аналог этого "духа",
когда китайцы "попадали" в устойчивую современную рыночную среду.
Наверное, то же — с японской феодальной честью и чувством долга,
которые перерабатываются в долг работника перед фирмой, а фирмы —
перед работником. В 60-е — 70-е гг. резко возрос жизненный уровень
сикхов в Индии. Это произошло в результате "зеленой революции",
создания новых сортов риса и пшеницы, дающих десятикратные приросты
урожая. Но и здесь важнейший фактор — культурно-мотивационный.
Дело в том, что сорта эти — очень "капризные", дающие эффект лишь
при условии высочайшей культуры земледелия. Сикхи же всегда были
прекрасными земледельцами, что связано с особенностями их веры, их
высокой (хотя совсем не в "веберовском" духе) традиционной трудовой
этикой. Гуру Говинд отказался пить воду из ладоней юноши, у которого
не было мозолей — об этом знает каждый сикх. И только поэтому они и
смогли воспользоваться открывшейся перед ними возможностью. Иногда
культурно-мотивационная основа эффективного рынка — очевидна, иногда
она — неясна. С чем, например, с какими культурными процессами
связаны успехи современных Италии или Турции? Но наверняка и здесь
дело не просто в рынке, а в "рыночной" переработке культуры, выработке
адекватных рынку мотиваций.
При этом формы, в которых народы входят в современную рыночную
экономику, могут быть такими же разными, как различны культурные
основы их трудовых мотиваций.
Честный рыночный труд японца базируется на иных мотивациях,
чем честный труд американца. И японская корпорация — это не
американская корпорация. Каждый народ создает адекватные ему формы рыночного
хозяйства (как и адекватные ему формы политической демократии)
и то, что прекрасно "работает" в одной культурной среде, "ломается" в другой
культурной среде или отторгается ею. Израильский киббуц немыслим
в Европе или в Америке, здесь он — хозяйственный абсурд. Но в Израиле-то
он — совсем не абсурд.
Свободная рыночная экономика не может принести успех "автоматически".
Прочный успех в ней может принести лишь выработка адекватных ей, ее
правилам и одновременно соответствующих культуре народа рыночных
трудовых мотиваций, адекватных ей и соответствующих культуре народа
форм хозяйственной жизни. В современном мире к свободному рыночному
хозяйству выходят все, но одни — легко и быстро, другие — мучительно и
трудно, и все выходят своими путями, вырабатывая свои формы
хозяйственной жизни. В этой всемирной школе каждый ученик — неповторимая
индивидуальность, и есть такие ученики, у которых дело идет очень
плохо.
Если исходить из сказанного выше, наше современное рыночное
развитие представляется весьма сложным. В дореволюционной России,
насколько я представляю себе, рыночное капиталистическое
предпринимательство особенно успешно развивалось у некоторых религиозных групп,
"ушедших" от крепостного права и выработавших очень высокую трудовую
этику — старообрядцев, молокан, духоборов. У основной массы населения,
очевидно, трудовые мотивации были слабее (крепостное право также
не могло способствовать выработке трудовых мотиваций, как мешало их
выработке у американских негров рабство) и главное — носили совершенно не
"рыночный" характер. Здесь существовало громадное неприятие
капиталистического рынка — один из источников нашей революции. Революция
уничтожила "анклавы" высоких рыночных, капиталистических мотиваций.
Она создала очень высокие трудовые мотивации, но совсем другого
типа — на основе традиционных для России, но совсем не "рыночных"
мотивов общинного коллективизма, преданности государству на основе
коммунистической идеологии. Эти мотивации сейчас тоже рухнули вместе с
гибелью поддерживавшей их идеологии.
Наша социалистическая система хозяйства держалась на догме и
вере и рухнула вместе с догмой и верой (а до этого разлагалась
и загнивала вместе с догмой и верой). И как нет пути назад — к прежней
вере, так нет и пути назад к социалистической системе. Путь есть только
вперед, к свободной, не основанной на догме, рыночной экономике.
Но, мне думается, падение нашего социализма породило сейчас культурный
и психологический "шок". Отбросив старую, социалистическую трудовую
мораль, мы не выработали и, похоже, не вырабатываем никакой другой.
Создается впечатление, что основная мотивация наших бизнесменов —
это просто стремление "нахапать". И не только бизнесменов. Некоторые
наши политики думают прежде всего о том, как бы добыть кредиты,
как бы сделать так, чтобы получить с бывшей братской республики
побольше, а дать ей поменьше, как бы завладеть союзной собственностью
и собственностью КПСС. Думают порой не столько об увеличении
общественного богатства, сколько о дележе этого уменьшающегося богатства.
При этом господствует идея, что капитализм и рынок сами собой
принесут богатство.
Мне думается, что на такой идейной и психологической основе,
несмотря на все наше "головное", идейное устремление к капитализму,
никакого эффективного рыночного хозяйства не создашь. Можно построить
лишь "мафиозно-коррупционный" капитализм, основанный на нищете
народа. Ибо если богатство индивида и может быть добыто "хапаньем",
богатство народа может быть создано лишь трудом. Эффективный
рынок будет у нас только тогда, когда сформируются адекватные и
рынку и нам, нашей культуре, мотивации рыночного предпринимательства,
когда образцом для подражания станет частный, но обязательно честный,
рыночный предприниматель, работающий не для того, чтобы "нахапать",
но из чувства долга и потребности в труде, когда мы выработаем свои,
не американские и не японские, а российские формы рыночной
экономической жизни. Все это нельзя "выдумать", это должно "вызреть",
возникнуть само. И может быть, это скорее "вызреет", если мы преодолеем
современные оргию наживы и опьянение идеей капиталистического рынка,
как магического средства, которое само собой решает все проблемы,
как раньше их у нас решало другое магическое средство — социализм.
Л.А. РАДЗИХОВСКИЙ (кандидат психологических наук,
Научно-исследовательский институт общей и педагогической психологии АН СССР).
"Перестройка" — это и есть развитой социализм.
Есть один феномен в "перестройке", который меня с самого начала
поражал. Ведь, казалось бы, делаются вещи более разумные, чем в предыдущий
период: прекращены самые безрассудные стройки; уменьшены (пусть
ненамного) военные расходы; заменены самые одиозные политики. А система
работает все хуже! И чем более разумные вещи делаются — тем хуже
работает система!
Конечно, есть простое объяснение: если система функционирует, а у нее
на ходу меняют детали, то сам этот процесс замены настолько болезнен,
что он-то и разрушает систему, даже если плохие детали заменяют на
лучшие. Может быть и так. Но мне во всем этом развале видится
еще одна и очень важная причина. А именно: наконец-то, уже в годы
"перестройки" в полном объеме восторжествовала более ничем не связанная и
не закамуфлированная хозяйственная этика социализма.
Что такое хозяйственная этика социализма? Перефразируя название
известной работы, я бы сказал: хозяйственная этика социализма — это
высший или последний этап хозяйственной этики капитализма, но только
одной линии этой этики.
В хозяйственной этике капитализма можно, очень условно, выделить
две линии. Одна — это примерно то, что и описывал Вебер как
"протестантскую этику". Это — религиозная хозяйственная этика, культ
честности, ответственности, скупости, словом, совокупность бюргерских
качеств. А другая линия — это то, что описывал Маркс, —
"атеистическая" хозяйственная этика капитализма. Вы все помните, что Маркс
описывал капитализм как хищнический строй, как отношения, построенные
на господстве чистого бездушного расчета, чистогана. Он говорил, что
капитализм — это культ "золотого тельца", как раз по типу антихристианский.
Капитализм обливает все "ледяной водой эгоистического расчета", топит в этой
воде все — и религиозные, и романтические, и иные человеческие порывы.
В действительности, конечно, в капитализме присутствуют оба эти
вектора* Совсем грубо можно сказать, что в "производящем" капитализме
сильнее действует протестантская этика, а в спекулятивном сильнее выражена
хищническая, "атеистическая" этика капитализма.
В традиционном европейском капитализме эти два вектора как-то
органически и незаметно переплетаются, работают друг на друга. Например,
по теории Смита: каждый эгоист, каждый думает только о себе и богатеет
для себя. Но в итоге-то в обществе появляется достаточная критическая
масса богатых людей, а это значит, что богатеет все общество, которым
движет совокупность эгоистических интересов. Эдакая предустановленная
гармония.
Но в России этот механизм всегда был плоховато отлажен. Я в этом
смысле очень люблю одно место из "Преступления и наказания" — первую
встречу Рас кольни кова с Лужиным. Лужин прямо излагает эти идеи
Смита — про то, что, приобретая только и единственно себе, я, тем
самым, как бы стараюсь и для общего блага и т.д. Но Раскольников
с его чисто русским стремлением "дойти до самой сути", выявить "настоящую
правду" его прерывает и говорит: раз вы приобретаете себе, то зачем же
увеличивать сумму общего богатства, производить, организовывать
производство и т.д.? Можно куда проще: взять топор, убить кого-то, ограбить — вот
и приобрел самому себе. Дешево и сердито. Вот вам и "прогресс общества,
как результат суммы эгоизмов"! К Раскольников в этом разговоре куда
логичнее и рациональнее. То есть он, как выражается Достоевский,
"доводит до последствий", проделывает логически беспощадный анализ
ю
всех последствий идеи обогащения, как высшей ценности. Чтобы защитить
свою точку зрения, Лужин, кстати, вынужден сойти с чисто логических
рельс и напомнить про "мораль, зтику", то есть, по сути, обратиться
к религии.
Достоевский не зря как-то соединял Раскольникова с социализмом,
хотя сам Раскольников, конечно же, в строгом смысле социалистом не
был и с социалистами спорил. Но он — носитель социалистической
этики, о которой М. Фонвизин говорил, что ее суть сводится к тому,
что "все мое — мое, а твое — тоже мое". Примерно так говорил и
Бакунин.
Действительно, как бы сам Маркс ни трактовал "уничтожение частной
собственности", в какие бы философские дебри проблемы "снятия" и
"преодоления отчуждения" мы здесь ни забирались, но последователей Маркса,
конечно же, все эти тонкие материи мало волновали. Они понимали
дело просто: раз "собственность — кража" (Прудон), то, значит, "грабь
награбленное".
Заметьте, как здесь толкуется капиталистическая этика — как этика
кражи. То есть сразу скидывается за борт весь производящий,
"протестантски-этический" капитал. Ему просто отказывают в праве на
существование. Остается лишь капитал-хищник, капитал-вор, капитал-паразит. И что
же? "С волками жить — по-волчьи выть". Вот вам и вся этика
и прямо провозглашенная цель социализма — переграбить, перераспределить.
Цель ставится простая — сохранить этот дух капитализма, только
обернуть его себе на пользу, грубо эгоистически, опять же хищнически.
Отсюда мораль: социалистическая этика — это просто "доведенная
до последствий", полностью рационально-обездушенная, голо-хищническая
часть этики капитализма.
После революции многие боялись всеобщего тотального разграбления,
когда "шариковы" не будут ничего производить, а просто раскрадут то, что
захватили. Но этого, как известно, все же не произошло. Страх и некая
квази-религиозная социалистическая теперь уже этика, все же как-то
"подморозили" этот процесс полного хищничества.
С середины 60-х годов страх крайне ослаб (квази-религиозная этика
испарилась еще раньше). Примерно с этого времени размер хищничества
рос очень быстро. В этом смысле "перестройка" и стала "последним
ударом кисти мастера" — внешняя оболочка из страха и лицемерия была,
наконец-то^ сорвана и хозяйственная этика социализма впервые вышла на
поверхность во всей красе. Вот с этим я не в последнюю очередь
связываю и все "достижения" последних лет.
Есть две удачные формулы, описывающие состояние современной
советской экономики. Первая: у нас было производство без рынка, а
теперь создан рынок без производства. Вторая: у нас паразитическая
экономика, которой больше не на чем паразитировать. Вот на втором
моменте я и хочу остановиться подробнее
Хищничество и паразитизм питались не только моральными факторами,
всей этикой социализма. Здесь были и объективные экономические моменты.
В самом деле, советская экономика государственной монополии устроена так:
есть огромное "ничье" богатство, которое никому не принадлежит.
Понятно, что наличие такого богатства совершенно не поощряет
психологически к тому, чтобы производить, увеличивать сумму этого ничейного
богатства. Стимул появляется совсем другой, который Жванецкий назвал
"что охраняю — то и имею". И еще, невольно вступая в полемику со
Смитом, считавшим, что чем больше богатых людей, тем богаче страна,
Жванецкий сформулировал другой свой афоризм: "все воруют, а страна
богатеет",
И
И действительно — перед человеком огромное, ничейное богатство.
И, вполне понятно, что силы своего интеллекта он направляет на то,
чтобы присвоить (раньше — тайно, а в последние годы — почти уже
явно) себе что-то от этого всеобще-ничейного имущества.
В этом плане приватизация "приватно" идет уже 70 лет, то активнее,
то пассивнее. Ею занимаются "и академик, и герой, и мореплаватель,
и плотник", но наибольшие возможности, понятно, были у номенклатуры.
Вот эти номенклатурные "приватизаторы" и преуспели больше всех —
и опять же за последние 2—3 года они "наприватизировали" столько же,
сколько за все предыдущие 70.
Этот механизм "приватной приватизации" четко описан в "Золотом
теленке". Там это изображено наглядно, замечательно. Если помните,
у Корейко была такая артель "Реванш". Технологический процесс такой:
вода перетекает из одного ведра в другое (из пустого — в порожнее).
Финансовый же цикл совсем другой: деньги из безналичных (государственный
кредит) превращаются в наличные (счет артели "Реванш" и ее хозяина).
А завершает этот цикл механизм обратной связи: часть наличных
"возвращается" в карман тому, кто и выдал кредит в безналичных, — крупному
чиновнику. Это и есть модель социалистического "перпетуум мобиле".
Таков и был универсальный механизм действия большинства советских
кооперативов и малых предприятий в течение последних лет. То же
самое (и может быть еще ярче) проявлялось во внешней торговле.
Торгуют два партнера. Но у западного партнера есть собственность
(для простоты — "своя", личная собственность, хотя, обычно это и не
так), а у советского его собственность — это его костюм. А от той
собственности государственной, которую он "представляет", он чувствует
глубочайшее отчуждение. Она для него — лишь повод для внешнего
обогащения.
Ю.Н. ДАВЫДОВ. Для того, чтобы получить представительский подарок в
1.000 долларов, ты заключаешь контракт, где страна проигрывает миллионы
долларов.
Л.А. РАДЗИХОВСКИЙ. В этом плане помню поучительный пример.
Я в 70-е еще годы был на даче у одного крупного номенклатурного
чина. И помню, как он гордился своим видеомагнитофоном, который
он как раз получил в виде представительского подарка, заключив какую-то
многомиллионную или миллиардную сделку. Надо было слышать, как он
говорил о своем магнитофоне и об этой "ничьей" сделке. То есть была
ясно видна несопоставимость двух этих сосудов — ничейного, казенного
и своего. Это и всегда было в России, но была и своя собственность.
А при социализме ее не осталось.
С этим и связан не просто хищнический, но безумно расхититель-
ский характер всей экономики, когда ради своего доллара готовы пустить
с молотка пол-страны, а рабочий, чтобы раздобыть деталь ценой в пятерку,
развинчивает станок, который стоит сто тысяч. Таков ближайший (хотя,
конечно, далеко не главный) непосредственно материальный результат
советской хозяйственной этики.
Но, видимо, сейчас наступает какой-то новый этап. Дело хотя бы в том,
что масса наиболее легких и сладких кусков уже таким способом
"приватизирована" и начинается как бы "вторичный передел". С этим
и связана всеобщая "битва за приватизацию". И это хорошо корреспондируется
с политической борьбой вокруг приватизации.
Самое важное: мы входим вроде бы в иную экономическую ситуацию,
где есть (будет, должна быть) своя собственность, все с той же "хозяйст-
12
венной этикой" кражи "ничьей собственности". Это противоречие, может
быть интуитивно, но чувствуют миллионы людей — и, так сказать,
"эксплуататоров" и, так сказать, "эксплуатируемых", равно привыкших
эксплуатировать всеобще-ничейную советскую собственность (хотя и
созданную реально ими же или их предками ценой государственной
сверхэксплуатации). И здесь лежит одно из главных психологических препятствий на
пути к рыночной экономике. Потому что не может быть чисто
паразитического, чисто хищнического предпринимательства с чисто социалистической
этикой. Это и есть "рынок без производства", "паразитическая экономика,
которой не на чем паразитировать". То есть логически эта ситуация вроде
бы безвыходна. Но остается думать, что сами наши логические схемы
слишком уж грубы и наивны, что действительность куда тоньше.
Ю.Н. ДАВЫДОВ (доктор философских наук, Институт социологических
исследований АН СССР). Тоталитаризм и проблемы трудовой этики.
Мои соображения будут иметь характер скорее вопросительных, чем
утвердительных. И это будут вопросы не только к другим, но и к
самому себе. Сначала я хотел бы коснуться двух вопросов. Во-первых,
зачем нужна эта трудовая этика? Во-вторых, кому она нужна. А попутно
я хотел бы перевести некоторые общеидеологические и
культурологические проблемы, о которых здесь говорили, на язык политэкономии
и социологии. Мне кажется, что так мы быстрее найдем общий язык
между нашими эмоционально окрашенными рассуждениями о России
и "западным" ее пониманием. Иначе, независимо от того, рассуждаем
ли мы о нашей российской ситуации со славянофильской или с западнической
точки зрения, как-то так получается в конце концов, что умом России
не понять. А коли так, то к чему весь этот "интеллектуальный шум"?..
Парадокс заключается в том, что трудовая этика нужна не столько
в ситуации, когда уже сложились определенные хозяйственные структуры,
сколько тогда, когда их нет и они еще только складываются. Когда
же они, так сказать, накатаны, кажется, порой, что вообще можно
без нее обойтись. Для нас она нужна гораздо больше, чем, скажем,
для американцев, где с трудом дело обстоит настолько благополучно,
что трудовую этику можно и не поминать "всуе". Ведь она уже
объективировалась в структурах предприятий, организаций и т.д. А мы удивляемся,
когда узнаем, что приезжает россиянин в США и начинает вкалывать
там "со страшной силой". И задаемся, подчас, "метафизическим" вопросом: а
нужна ли она вообще? Может, дело вовсе и не в ней, а, скажем, в
конвертируемости рубля?
Между тем в условиях хорошо налаженного производства и
рационального хозяйственного быта труд — высококачественный и
высокоэффективный — перестает быть делом свободы, а проблема труда —
этической проблемой. Там, где господствует необходимость, заставляющая
людей напряженно трудиться, в трудовой этике уже нет необходимости.
Но вот там, где проблема труда рассматривается в аспекте "свободного
выбора" (хочу — работаю, хочу — добываю деньги иным способом;
хочу — тружусь "в поте лица своего", хочу — "творю" как
"свободный художник"), там, где еще недавно труд определялся с помощью
спортивных (труд — "дело чести, доблести и геройства") или эстетических
(труд — это "род художественного творчества") метафор, — там без
трудовой этики никак не обойтись. Подобно тому, как невозможно было
обойтись без нее в условиях разложения традиционной трудовой этики,
когда современный (индустриальный) тип производства и соответствующего
ему предпринимательства был еще делом будущего, а следовательно —
проблемой выбора. Когда, следовательно, еще не существовало объективных
13
детерминаций, определяющих тип того (промышленно-предприниматель-
ского) общества, которому еще только предстояло возникнуть. А чтобы
оно возникло, уже должна была существовать соответствующая ему трудовая
этика. (На этом, кстати, "летит" весь марксизм, весь исторический
материализм с его "бытие определяет сознание". Ибо здесь все было наоборот:
чтобы возникло новое "бытие", нужно уже было иметь в наличии
новое сознание. А не будет этого сознания — "капиталистического духа"
с его протестантской этикой индивидуального труда и личной
ответственности, — не возникнет и современный капитализм.)
А там, где необходимость систематического и напряженного труда
осуществляется уже не автоматически, в силу высших детерминаций,
а опосредуется свободным выбором, — только там возникает и потребность в
трудовой этике, и возможность ее теоретической разработки.
Потребность в трудовой этике возникает там и тогда, где и когда существует
нужда в оправдании труда, его обосновании, с помощью которого
доказывается то, что кажется недоказуемым никаким иным способом, кроме
этического (в данном случае — религиозно-этического). А такая нужда
возникает там и только там, где разрушаются традиционно
"бессознательные" (автоматически действующие) регулятивы. Она возникает не
"благодаря", а "вопреки". Вспомним о временах, когда зарождался и
формировался "капиталистический дух" Нового времени. Вокруг носителей
этого "духа" было тогда поле необозримое — поле приверженцев совсем
иного "духа", который можно было бы назвать "антибуржуазным". Свою
этическую практику, равно как и (нравственно-религиозную) теорию
протестантизм — особенно радикальный — утверждал в решительном
противостоянии "окружающей действительности".
Здесь вполне допустима некоторая аналогия с нашей ситуацией. Этико-
философское оправдание труда насущно необходимо нынче хотя бы уже
потому, что молодым людям вообще нельзя доказать "логически", почему же,
собственно, надо "вкалывать", работая всерьез, а не "с прохладцей",
когда известно, что "работа дураков любит". Ссылка на то, что нужно
работать, чтобы жить, здесь "не работает", так как тут же следует
возражение: чтобы жить, нужно не работать, а "зарабатывать деньги", а
"заработок" и работа — вовсе не одно и то же. Еще менее убедительной
была бы эта ссылка в устах приверженца протестантской трудовой этики,
согласно которой не работать нужно, чтобы жить, а наоборот: жить надо,
чтобы работать. Одним словом, для того, чтобы оправдать (вроде бы
само собой разумеющуюся) необходимость трудиться и трудиться всерьез,
а не "играючи", нужно целое религиозно-философское построение, аналогичное
протестантскому, утверждавшему труд как личный ответ каждого
протестанта на призыв самого Бога, обращенный непосредственно к нему.
Таким образом, при решении вопроса о том, зачем нам нужна трудовая
этика, не уйти от философии точно так же, как не уйти от нее при
обсуждении вопроса о том, зачем вообще человеку трудиться. Тем более,
что второй вопрос будет неизбежно усложняться и запутываться по мере
роста армии безработных и появления целого социального слоя людей,
которым предстоит жить на пособие по безработице, причем не год и не два.
И что совсем уж очевидно, так это то, что изучение роли этики в
формировании "трудовой мотивации" с неизбежностью ведет нас к глубокому кризису
и разрушению упрощенно-позитивистских представлений о самой этой
мотивации, все еще бытующих в социологической среде. Хотят этого
социологи или не хотят, но им уже не обойтись при анализе мотивов,
побуждающих человека напряженно трудиться, без обращения к глубинно-
мировоззренческой проблематике, включая проблему смысла жизни и
нравственного абсолюта.
14
Теперь — по поводу второго вопроса: кому нужна трудовая этика?
Или, как мы можем теперь уточнить и конкретизировать его, кому
она нужна прежде всего. Очевидно, эта этика не так нужна тому,
кто смирился с судьбой безработного, в особенности если он является
безработным во втором или третьем поколении — случай, с которым
все чаще сталкиваются как раз наиболее развитые страны Запада.
Однако, судя по всему, не очень-то озабочены выработкой такой этики
и люди, уже включенные в непосредственный процесс производства.
Впрочем, и гуманитарная интеллигенция, не включенная (в отличие от
технической) в этот процесс, также не обнаруживает потребности в
трудовой этике. Как у нас, так и в развитых странах Запада (что засвидетельствовал,
например, Д. Белл), гуманитарная интеллигенция склонна скорее
вырабатывать нечто вроде не- или даже антитрудовой этики (концепция "анти-
производительности"). И если и раздаются сетования отдельных гуманитариев
по поводу отсутствия у нас "трудовых навыков", то адресованы они,
как правило, не к гуманитарной интеллигенции, но к людям "физического
труда". Поэтому приходится сформулировать вопрос несколько иначе:
кто испытывает (или во всяком случае Д&лжен был бы испытывать)
потребность в современном типе трудовой этики в силу своеобразия
тех условий, в каких он оказался сегодня, по причине вполне
конкретных неудобств, связанных с ее отсутствием? И тут приходится обратить
внимание на инженерно-технический "костяк" современного производства,
высококвалифицированных рабочих, но прежде всего — на только еще
рождающихся у нас предпринимателей.
Здесь, однако, возникает новый вопрос: что мы имеем в виду, когда
говорим о предпринимателях нового типа, которые действительно нуждаются
в трудовой этике для успешного развития своего дела. Ибо
существует два типа предпринимателей, соответствующих двум типам
предпринимательства (капитализма), сосуществующих ныне на Западе. Речь идет о
различении, конкретно осмысленном уже в рамках немецкой историографии
и немецкой исторической школы, а затем у М. Вебера в противовесе
Марксову пониманию капитализма. Для нас, "разделавшихся" с марксизмом
только на словах, а не на деле, есть только один капитализм, а
соответственно — только один тип предпринимательства. Когда же заходит речь о
существовании капитализма, скажем, в Древнем Риме, мы начинаем
испытывать интеллектуальный дискомфорт, поскольку он существенно
отличен от того, с чем мы имеем дело в Новое и Новейшее время. А между
тем действительно существуют два типа капитализма. Один из них
Вебер в духе тогдашней немецкой историографии назвал торговым,
ростовщическим, авантюрным или, если хотите, "чисто денежным"
капитализмом. Этот капитализм существует, так сказать, испокон века. Его можно
зафиксировать и в Древней Греции, Древнем Риме, Древнем Египте —
везде, где возникают зачаточные формы денежного обращения и рынка
и где возникают возможности накопления "богатства" и его целенаправленного
приумножения.
Такой капитализм возникает каждый раз "чисто стихийно" в том смысле,
что для его появления нет необходимости в особом типе трудовой этики,
предполагающей целую религиозную реформацию. Только иудаизм
попытался внести сюда этические мотивы, толкуя денежное богатство как
справедливое вознаграждение за торговый труд: это уже определенный
способ "оправдания капитала", но капитала именно торгового, а не
промышленно-предпринимательского. В общем-то этот торгово-денежный
капитал, где предметом торговли были главным образом сами деньги
(не случайно Вебер называл его ростовщическим), не исчезал и в средние века.
Скажу больше: в виде авантюрно-спекулятивного, а также "хищнического" —
15
основанного на многообразных формах расхищения "государственной
собственности" такого рода — капитализм существовал у нас и после Октябрьской
революции. Он вовсе не исчезал при нашем социализме — ни при
первобытном ("военный коммунизм"), ни при "развитом". И то, что мы называем
спекуляцией, фарцовкой, теневой экономикой, это всегда у нас существовало.
И даже существовала своя "твердая" (вернее — жидкая) валюта — знаменитая
"пол-литра". В целом же, если вернуться к нашей теме, история советского
социализма лишь подтвердила общий закон возникновения и
функционирования предпринимательства "торгово-денежного" типа: ни для того,
ни для другого оно, как правило, не нуждалось в трудовой этике.
Наоборот: оно способствовало скорее разрушению остатков традиционной
этики труда, чем созданию новой, нетрадиционной. И прекрасно уживалось со
спортивно ориентированной "эстетикой труда", какой у нас еще недавно
надеялись заместить трудовую этику.
Надо сказать, что сейчас у нас этого капитализма гораздо больше, чем надо.
А потому он скорее препятствует, чем способствует возникновению
предпринимательства продуктивного — промышленного, а не
потребительского — типа, поскольку в общем-то не так уж и плохо уживается
с перегнивающими тоталитарными структурами. Подобно тому как в далеком
прошлом этот авантюрный капитализм "ростовщиков", "откупщиков" и
"поставщиков" (Вебер) совсем неплохо "ладил" с авторитаризмом,
абсолютизмом и самодержавием, не проявляя особого интереса ни к религиозно-
этическим реформациям, ни к политическим революциям.
Следует, однако, подчеркнуть особо: по мере того, как утверждается
капитализм продуктивного промышленно-предпринимательского типа и с
ним вступает в альянс торгово-денежный капитал, этот последний начинает
усваивать и элементы трудовой этики, из "духа" которой возникло
продуктивное предпринимательство, неразрывным образом связывающее
богатство с индустриальным трудом. На место старого как мир: "не
обманешь — не продашь" приходит пуританское: "честность — лучшая
политика", в частности (а быть может, даже в особенности), в области
торговли. Честность, честный продуктивно-предпринимательский труд
становится главным "оправданием капитала" и стремления к богатству
вообще. Тем более, что речь идет о "пр'оизводительном" капитале —
не том, который "прожигается" или "профершпиливается" (проигрывается в
карты, тратится на кутежи или любовниц и т.п.), но о том, который тут
же "запускается в дело" — в процессе создания новых промышленных
предприятий, новой массы товаров и т.д. Это для самого предпринимателя
означает возникновение новых забот, дополнительной ответственности
перед его возрастающей собственностью, которая свяжет по рукам и ногам
и уж, конечно, помешает вести гедонистически- "шикарный" образ жизни.
Хочешь ты того или не хочешь, но твой "самовозрастающий" капитал
откажет тебе в удовольствии позволить себе "широкий жест" и заставит
тебя быть аскетом в миру. И вот для этого, чтобы избавиться от
"атавистически"-гедонистических склонностей, которым потакает
"авантюрный" капитал с^его непременным "лови момент!", опять-таки нужна
новая — нетрадиционная — этика труда и личной ответственности,
уходящая своими корнями в ("реформированное") религиозное
мировоззрение.
Однако в прошлом, у "истоков" капитализма, имеющих, как видим,
специфически духовное "ядро", потребовалась целая реформация, результатом
которой стал протестантизм со своей особой "хозяйственной этикой".
Она и предстала как новый способ оправдания трудовой — и прежде
всегЪ предпринимательской — деятельности.
Как свидетельствует опыт наиболее развитых дальневосточных стран
16
(Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг), новый тип трудовой этики
вообще может формироваться не только на основе реформированного
христианства, но и на почве других этически ориентированных мировых
религий. Путь протестантской реформации оказался совсем не единственным
путем формирования трудовой этики, соответствующим условиям
современного индустриального (и даже постиндустриального) общества. Однако во
всяком случае очевидно, что, во-первых, при этрм идет речь отнюдь не
об этике капиталистического общества вообще, а об этике промышленно-
предпринимательского капитализма. А во-вторых, даже если имеется в виду
капитализм этого ("современного") типа, речь идет о трудовой этике
отнюдь не всего общества, а прежде всего об этике тех общественных
слоев, которым предстоит образовать его костяк, — о мелких и средних
предпринимателях, высококвалифицированных рабочих и фермерах, а также
о научно ориентированных инженерах и техниках, которые и образуют в
совокупности "средний класс". "Плазма", окружающая этот этически
озабоченный "класс", может быть более или, наоборот, менее широкой.
Однако с нею связаны сегодня судьбы современной трудовой этики.
Если мы озабочены тем, чтобы у нас сформировалась и утвердилась
такая этика, мы должны поддерживать прежде всего это "ядро", сколь бы
численно малым оно ни казалось поначалу, учитывая наше современное
социально аморфное состояние. Но даже известное противостояние этого
"ядра" окружающей его "плазме", а тем более "остальному" обществу,
создает атмосферу напряжения. Она не только не препятствует, но — в
известном смысле — даже способствует этически направленному творчеству.
Об этом свидетельствует, кстати сказать, и российское сектантство,
и русское раскольничество, в русле которых возникали ментальные структуры,
если не вполне аналогичные, то "изоморфные" трудовой этике протестантизма.
Впрочем, и на почве католицизма была возможна такая ситуация, когда,
оказавшись в меньшинстве в том или ином регионе, католики в своей
"диаспоре" воспроизводили "ходы мысли", сближающие (в тех или иных
пунктах) их толкование католичества с протестантской трудовой этикой.
Здесь опять-таки существенно важную роль сыграло религиозное
противостояние и связанные с ним дополнительные этические напряжения.
Но если вернуться к вопросу о тенденциях в понимании трудовой этики
современного типа, возникших на почве русского православия — ив
определенном противостоянии ему, временами перераставшему в стремление
реформировать христианство "как таковое", то хотелось бы обратить
внимание на две фигуры русской религиозно-философской мысли —
Достоевского и Толстого. В их произведениях явственно ощущается атмосфера
нравственно-религиозного напряжения, вполне сопоставимого по своей
интенсивности с раскольническим и сектантским. Не случайно еще Ницше,
говоря об атмосфере "русского романа", подчеркивал, что она тождественна
той, в какой появился Христос, "явление" которого можно ожидать в
России "в любой момент". Но самое интересное, что "силовые линии"
этой напряженной атмосферы указывали в том же направлении, в каком
двигались протестанты, преобразуя традиционную трудовую этику
христианства в современную. В этом направлении шла и религиозная
эволюция Толстого, во многих отношениях созвучная эволюции
радикального протестантства, и ряд "обновленческих" идей Достоевского,
сохранившего верность православию. Я имею в виду, в частности, идею
"внутримирского" труда как нравственно-религиозного покаяния, а также
монашеской аскезы, выливающейся в подвижническую деятельность "в миру".
Все это вместе взятое, совершившееся на фоне активизации религиозной и
хозяйственной деятельности сектантов и старообрядцев и назревавшего
"поворота" в сторону обновленного христианства русской интеллигенции,
17
свидетельствовало о возникновении в России скорее даже "предреформенной'\
чем предреволюционной ситуации. Однако обострение внутриполитической
ситуации, связанное с внешнеполитическими неудачами авторитарного режима
(сперва в русско-японской, затем первой мировой войне), привело к
переключению религиозно-реформационной энергии народа в русло
политически-революционных "спазмов" и катаклизмов. Перспектива
трансформации традиционно-православной трудовой этики в трудовую этику
современного типа, намечавшаяся в России на протяжении последней трети
прошлого века, была сметена волнами революционно-социалистического
"хилиазма" — идеей "тысячелетней субботы", земного рая "отдыха и
счастья". В русле этой общей подмены вместо этики труда предлагалась
"эстетика творчества", которая на практике обернулась "этикой товарища
Маузера", трудовых армий и концлагерей. А это, разумеется, не могло
не стимулировать окончательное обесценение этики труда в глазах
трудящегося народа: труд полностью утратил этический смысл. Он предстал как
совершенно бессмысленное само по себе — а потому достойное лишь
презрения — средство поддержания физического существования человека, от
которого он спешил избавиться, как только подворачивался другой
способ добывания жизненно необходимых благ. Отсюда — та
поразительная ненависть к труду (а заодно к предмету и орудиям труда),
которая накапливалась в народе — и даже у интеллигенции, чья работа
менее "трудна" в физическом смысле, — в результате которой народное
присловье "злой на работу" приобретает совершенно буквальный смысл. Таким
образом, и в этой сфере, как и во всех иных социокультурных областях,
тоталитаризм оставляет после себя пустыню. Так что и здесь приходится
начинать теперь даже не с нуля, а с отрицательной величины.
А это делает задачу философского обоснования трудовой этики, которая
была бы адекватна нашей современности, очень трудной и запутанной,
если не неразрешимой. Хочешь не хочешь, но остается надеяться на то, на что
все больше надежд начинают возлагать западные исследователи состояния
трудовой этики. Речь о том, что постиндустриально продвинутые общества
обнаруживают далеко идущую готовность оплачивать принудительное
безделие все более широких слоев трудящихся, так сказать, "среднего
уровня", чтобы они не мешали трудиться работникам высшей квалификации —
все равно, идет ли речь об инженерах и техниках или виртуозах
"механического" труда. Им капитаны "постиндустриального" производства готовы
платить в десятки раз больше, чем они все еще вынуждены платить
работникам "средней руки". Но это значит, что в обозримом будущем
труд — столь же напряженный, сколь и ответственный (в силу
скачкообразно возрастающей мощи техники, приводимой в движение), столь
же высококачественный, сколь и высокооплачиваемый, — рискует
превратиться в аристократическое занятие. Тем более, что число трудящихся
этого типа будет несоизмеримо меньше, чем число людей, обреченных
на счастье "вечной Субботы" ввиду неспособности выдержать трудовой
ритм "постиндустриального" производства. Но именно в связи с этим
неизмеримо должна повыситься этическая ценность труда, становящегося
уделом высокооплачиваемой "трудовой элиты".
Конечно, для нас, кому еще только предстоит восстанавливать
индустриальное общество, рассыпающееся на наших глазах по мере "демонтажа"
бюрократической формы его прежнего существования, все это может
показаться делом далекого будущего. Но ведь если это будущее соседствует
с нашим посттоталитарным настоящим в одном и том же "хронотопе",
как сказал бы М.М. Бахтин, то это будущее может — неровен час —
вторгнуться и в наше настоящее. И тогда, быть может, нам придется решать
одновременно (как это с нами уже случалось) задачи и индустриальной
18
эпохи, еще не пройденной и не исчерпанной нами, и эпохи
"постиндустриализма", с теми ее проблемами, о которых только что говорилось.
В этом случае перед нами, возможно, приоткроется перспектива
возвращения былой этической ценности труда и возникновения новой — на этот
раз "постиндустриальной" — этики аристократов трудовой деятельности,
которая уже открылась постиндустриальному Западу. Однако платой за
эту перспективу может быть лишь обострение самых разнообразных
социальных коллизий, неизбежных в связи с массовой безработицей, поджидающей нас
в совсем уже недалеком будущем. Захотим ли мы, развращенные
десятилетиями столь же скрытой, сколь и сердобольной безработицы, оставлявшей
нас дремать "в неведеньи счастливом", платить за нее такую суровую
цену, — это вопрос, на который не так-то легко ответить.
Пока же можно надеяться только на то, что и наши
теоретические усилия не останутся безрезультатными и сыграют свою
стимулирующую роль, обращая внимание на всю антиномичность проблемы
трудовой этики, как она стоит сегодня в России. Кроме того, есть
надежда и на представителей продуктивного типа, где деятельность теснее
связана с этически ориентированным образом жизни. Они быстрее других
должны будут почувствовать потребность в нетривиальных обоснованиях
предпринимательской этики. Но для того, чтобы такая потребность
возникла, нужно, чтобы существовали "в наличии" предприниматели этого
типа. А существуют ли они? Однако общество явно испытывает возрастающую
нужду в них — и с этим как раз и связан мой "осторожный" — и даже
робкий, но все-таки — оптимизм.
М. БЮШЕР (докторант Института экономической этики при Санкт-Гал-
ленском университете, Швейцария). Трудовая этика и трудовой этос:
значение этических аргументов для политики перехода к рынку.
Этические понятия, как правило, чужды экономистам. Бизнес есть
бизнес, а этика есть этика, экономика — одно дело, а культура —
совсем другое, — в таком противопоставлении заключается роковой
недостаток экономической теории, а также современных попыток определить
правильную экономическую политику перехода к рынку.
Поэтому я хочу подробнее остановиться на методологических слабостях
современной экономической теории — будь она неоклассической,
монетаристской или кейнсианской — и необходимости учитывать в ней философские
аргументы, как на нормативном уровне (в этом случае обычно употребляется
термин "этика"), так и на дескриптивном (здесь используется термин
"этос").
Экономическая теория основана на наборе достаточно жестких предпосылок,
ограничивающих сферу ее применения. Основные из них — это так
называемый "экономический принцип", согласно которому данный объем
производства должен достигаться с минимальными затратами, либо при
данных затратах должен производиться максимум продукции; линейная,
монолитная экономическая рациональность; антропологическая предпосылка
экономического человека (homo oeconomicus), поведение которого
экономически рационально; концепция универсальной экономической науки,
независимой от любых социальных и культурных влияний.
Будучи общественной наукой, экономическая теория стремится быть
такой же точной, как науки естественные. Экономисты полагают, что
именно эта точность дает их науке преимущество перед другими
общественными дисциплинами: социологией, политологией, историей. Не будет
преувеличением сказать, что экономисты строят свои модели в чрезвычайно
жестких рамках. Так, социальные и экологические проблемы причисляются
19
ими к внешним эффектам. В принципе, экономисты-теоретики не
испытывают потребности включить в рассмотрение неэкономические факторы.
Простота и ясность, конечно, являются достоинствами теоретической
модели. Однако и для самой теории, и для основанной на ней политики
не может быть безразличным вопрос об эмпирическом и логическом
фундаменте, на котором основан этот "модельный платонизм". К сожалению,
ответы на этот вопрос трудно назвать утешительными. Упомянутые
выше предпосылки являются односторонними или анахроничными.
Приведу два примера, иллюстрирующие этот тезис. Первый касается
использования экономической теории А. Смита, шотландского философа,
с большим основанием считающегося основателем современной
экономической науки. В его либеральной философии экономические отношения
между людьми получили автономию, тогда как раньше экономическая
жизнь в целом была подчинена правилам морали и религии, а
экономические достижения имели религиозное истолкование. Наибольшую
известность у экономистов имеет его книга "Богатство народов". Ее часто
цитируют, причем обычно ссылаются на одни и те же высказывания.
Смит пишет о том, что общее благо вернее достигается не там, где
каждый к нему осознанно стремится, а там, "где кавдый преследует
свой собственный интерес". Этот тезис действительно принадлежит Смиту,
но экономисты забывают, а часть их и не знает о том, что Смит был
философом, известным среди своих коллег благодаря другой книге —
"Теории нравственных чувств". Обе работы образуют нерасторжимое
единство, их нельзя понять по отдельности. Говоря о собственном интересе,
Смит не имел в виду только эгоизм. Симпатия, забота о других людях,
ответственность за них — все это также имело у него существенное
значение. Согласно Смиту, общее благо достигается не с помощью
идеи "laisser-faire", а через благоволение Бога — творца Вселенной,
который как часовщик запустил механизм и теперь наблюдает за его
самостоятельной работой. Идеи Смита ведут свое происхождение от стоиков
и шотландского деизма, в рамках которого принцип laisser-faire означает лишь
то, что мы не вправе вмешиваться в дела рук Божьих. Такое мировоззрение
совершенно чуждо экономистам наших дней и всякому светскому обществу
в целом.
Короче говоря, ссылаться на авторитет Смита, доказывая преимущества
свободного рынка и построенной на индивидуализме экономики
"laisser-faire" — это анахронизм. Идея laisser-faire — слабое место его теории,
и применять ее непосредственно к экономическим проблемам современного
индустриального общества — это просто логическая ошибка.
Экономическая теория претендует на внеисторичность и
универсальность. Мой второй пример говорит о том, что идеи рыночной экономики
падают на совершенно разную почву в разных частях света. Знаменитое
исследование М. Вебера "Протестантская этика и дух капитализма"
подчеркивает значение человеческого менталитета как ключевого фактора
экономического успеха. Его идея заключалась в том, нто набожный
предприниматель, ведущий скромный, аскетический и ответственный образ
жизни, использует прибыль не для личного потребления или накопления
сбережений, а для"" вложений в свое предприятие. В кальвинистской
традиции экономический успех трактовался как признак Божьей благодати.
Данный этос включал в себя набожный индивидуализм, ответственность,
накопление капитала и вложение его в предприятие. Поборники
рыночной экономики часто полагают, что даже при отсутствии этих этических
предпосылок европейский вариант рынка может успешно функционировать
повсюду: будь то в Мексике, Замбии или Польше, ибо включение
одинаковых экономических механизмов везде сможет привести общество к росту
20
и благосостоянию. Но рыночные структуры в разных странах опираются
на различный экономический и трудовой этос. Индивидуализм и
предпринимательский дух американцев коренятся в истории этой страны, ее
сложной этнической и географической структуре.
Трудовой этос Германии и ее экономические успехи невозможно
понять, не зная истории немецкого государства, не учитывая характерного
для немцев чувства долга и идентификации с государством, других
качеств этой нации мыслителей и поэтов, сосредоточения ее на
сравнительно небольшом пространстве германской федерации. Трудности
экономического развития многих стран третьего мира, в особенности
африканских, нельзя объяснить, не вовлекая в рассмотрение тамошний трудовой
этос, в котором слабо выражено стремление к материализованным
достижениям, увеличению личной собственности, желание делать
инвестиции в расчете на будущее.
Лишь немногие "неортодоксальные" экономисты смогли понять важность
всего набора культурных предпосылок, лежащего в основе экономического
роста развитых стран. Будучи гостем вашей страны, я не стал бы пытаться
оценивать существующие социо-культурные и исторические
предпосылки. Я могу лишь подчеркнуть, что здесь необходимо найти свою
модель развития, аналогов которой в истории не существовало. Последние
данные Мирового банка о состоянии польской экономики говорят о том,
как опасно доверять "чистому" рынку.
Преобладающая часть исследователей и политиков смотрит на дело
иначе: экономисты ищут экономические механизмы в политике (максимизация
голосов избирателей, теория общественного выбора), политики же, со своей
стороны, подчеркивают необходимость дерегулирования и повсеместной
либерализации рынков. Они не думают о процессе создания предпосылок
для рынка: больших вложений в образование, в создание соответствующей
системы органов управления и обеспечение социальной безопасности в самом
широком смысле слова. Они просто верят, что рынок сделает свое дело —
возможно, после "переходного периода" шоковой терапии. Обследования
в Восточной Германии показывают, что 87% населения считают, что уровень
социальной безопасности до объединения был выше. Лишь 22% опрошенных
советских граждан отвечают утвердительно на вопрос о том, одобрили
бы они политику перестройки, зная, к чему она приведет. Конечно,
эти цифры можно интерпретировать самым различным образом, но факты
говорят о том, что ожидаемое людьми от рыночной экономики изобилие
дешевых товаров не может наступить без усиления бедствий больших
масс населения.
Универсальная экономическая теория и кратчайший чисто рыночный
путь к обществу благосостояния не более, чем мифы. Ни один спортсмен
не выходит на старт без тренировки, и не каждый человек может стать
хорошим спортсменом.
Недостатком господствующей экономической теории является не только
то, что она не вовлекает в рассмотрение хозяйственный этос. Она
абстрагируется также от этики на нормативном уровне: предполагается,
что этические факторы относятся лишь к внешним условиям
экономической деятельности, причем не настолько важным, чтобы включать
их в парадигму экономической теории. Такое отношение экономистов
к этике можно было бы назвать "отстраняющим". Заниматься этикой
можно в свободное время, из любви к "изыскам", она не относится
к той "реальности", которой занимается экономическая теория.
Сторонники второго подхода к экономической этике объявляют
экономическую науку безнравственной и деструктивной и применяют этические
критерии к деятельности управляющих и к функционированию рынка.
21
Этот подход мы назовем аддитивной (дополняющей) этикой. В его рамках
также существует Ьольшой разрыв между этикой и экономической теорией.
Его приверженцы обычно выступают с этически безупречных позиций, но
часто впадают в отчаяние от того, что экономисты не хотят их слушать.
Третий подход к экономической этике можно назвать
функциональным. Утверждается, что в конце концов этически ориентированная
экономическая теория станет наиболее конкурентноспособной, поскольку с течением
времени высокие моральные качества людей, их способность вызывать
доверие, а также надежность товаров и услуг станут наиболее ценными
благами. Таким образом, вести себя этично будет экономически рационально.
Наконец, четвертый, интегративный подход. Его сторонники считают,
что этику и экономическую теорию нельзя изолировать друг от друга,
но этические рудименты и этические основы экономической науки следует
анализировать в рамках самой этой науки.
Таким образом, социальные и философские корни экономической теории
следует выявить и, там, где это необходимо, поставить под вопрос.
Подобный подход требует значительных познаний и богатого опыта в обеих
чуждых друг другу сферах этики и экономической теории.
В рамках интегративного подхода, который мне ближе, необходимо
подвергнуть сомнению анахронические философские основы экономической
науки, а затем модернизировать ее, включив в рассмотрение
культурные и политические факторы. Это крайне трудная задача, поскольку
здесь требуется вначале осознать региональный контекст в самом
широком смысле слова, а лишь потом применять к нему инструментальные
модели экономической науки и политики. Применительно к политической
сфере такой подход, очевидно, требует длительного и постепенного создания
предпосылок рыночной экономики.
Интегративный йодход не дает общих ответов, но вооружает- нас
методом анализа сложных экономических проблем. Мы вовсе не собираемся
отвергать экономическую теорию в целом. В наши дни изучаемые ею
проблемы предложения товаров и услуг продолжают существовать, и важность
их возрастает как в национальном, так и в мировом масштабе. Речь идет о
том, что необходимо создать социально адекватный механизм применения
экономического знания. В то время как многие страны Запада страдают от
проблем не в меру богатого индустриального общества и перегрузок,
часто связанных с недостаточным контролем над рыночной системой,
другие государства сталкиваются с противоположными трудностями.
Таким образом, равновесия нет нигде; напротив, повсюду экономические
системы не выполняют ту функцию, которую по идее должны выполнять.
Западные традиции проникнуты верой в индивида, обеспечивающего
функционирование всей общественной системы; социалистическая традиция
подчеркивает необходимость государства для осуществления
общественного контроля над экономическим развитием. В момент, когда общество
меняет свои собственные основания, ни одна из этих точек зрения не в праве
претендовать на исключительную правоту.
Тезис о конвергенции экономических систем не оправдался в условиях
их антагонистического противостояния. Но после шести лет перестройки мы
видим, что страна с плановой экономикой внедряла индивидуализм,
в то время как страны с рыночной экономикой пытаются сделать
рынок более приемлемым с социальной и экологической точек зрения.
Оба вида общественных систем, основанные на индивиде или на
государстве, испытывают недостаток в промежуточных институтах, которые
могли бы демократическим образом обеспечить влияние социальных групп
с различными интересами на общественное развитие. Такие институты
могли бы осуществлять своего рода макро-планирование, в рамках которого
22
развивался бы рыночный процесс. Как организовать такого рода "комитет" —
это проблема, для которой не может быть общего решения. Однако
ясно, что эту функцию не может выполнять ни отдельный индивид,
ни отдельная социальная группа, ни какое-либо министерство.
Философская задача состоит в том, чтобы выявить нормативные
и социальные основы этих процессов, которые пока идут чисто
технократическим путем, в познании и признании нуждается не только
объединяющая роль культуры, но и природа некоторых основополагающих
ценностей и принципов, будь то экономическая теория, ориентация на
труд и достижения или демократия.
Только тогда эти термины будут наполнены реальным содержанием,
иначе они останутся пустыми оболочками, которыми можно сколько
угодно восхищаться, но это не поможет решить задачи переходного
периода. Однозначного и простого способа внедрить в вашей стране какую-
либо заимствованную модель переходного периода не существует. Для того,
чтобы понять специфические исторические и социо-культурные предпосылки
советской экономики, надо быть хорошим экономистом, т.е. в данном
случае больше, чем экономистом. Среди таких предпосылок — насколько
может судить об этом иностранец — можно назвать сравнительно сильное
коллективистское сознание, иерархически-административные установления,
религиозные традиции православия, культурное (и духовное) богатство.
Хороший философ тоже должен знать о многом, находящемся за
пределами своей области знания. Социально разумный путь перехода
к рыночной экономике — это процесс, который нельзя отдавать на
откуп ни экономистам, ни рыночным силам.
Л.Я. ГОЗМАН (кандидат психологических наук, факультет
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова). Мораль, труд, власть и паразитизм.
Когда говорят о пропасти, в которой мы сидим, то достаточно часто
идет апелляция к каким-то особенностям русской культуры, русского
народа и прочее. Я не буду об этом говорить. Я не хочу этого
делать прежде всего потому, что такого рода разговоры очень часто
сводятся к своего рода расизму.
Вообще искать некую предначертанность, выводить из Ивана Грозного
или татар нынешнее положение — это в каком-то смысле выгодная
позиция. Она выгодна тем людям, которые по социальным или
психологическим причинам не хотят изменений. Еще недавно Н.И. Рыжков
утверждал, что у нас психологические проблемы — преодолеть
уравнительную психологию. Но ведь нет такой уравнительной
психологии. Нет такого понятия. Наши правители его сами придумали:
"Понимаете, ребята, сложная ситуация, надо подождать, пока поколение
сменится". Стали часто вспоминать Моисея, который сорок лет вел
по пустыне. А Солженицын говорит, что поскольку путь-то там был
короткий, Моисей евреев не вел, а водил, а соответственно меняется
и оценка его исторической роли.
Любые вожди (не только коммунистические) хотят выполнять функции
воспитателя, а не координатора, то есть нанятого человека. Президент,
оказывается, не тот человек, которого я нанял. Я его нанял, чтобы он
все координировал, обеспечивал порядок, т.е. выполнял какие-то функции.
А он становится моим воспитателем, он меня должен преобразовать,
чтобы я, наконец, понял что-то. Позиция воспитателя, конечно, значительно
более приятная, чем координатора, даже высокооплачиваемого и престижного.
Если посмотреть на российскую историю, то очень разные векторы
в этой культуре. Действительно, была и община, но ведь были и
люди, которые пытались из нее вырваться. Напомню, что А. Стреляный
23
раскопал в каком-то полицейском архиве: мужик хочет выделиться
из общины в соответствии с государевым рескриптом, а односельчане
говорят: "мы тебя пожгем". А он обращается к полиции, и полиция
сделать ничего не может. Но ведь этот мужик, который хотел выйти
из общины, он же все-таки был, он же не из Парижа к ним приехал. Он свой,
такой же. Значит, были люди, которые хотели равенства, а кто-то хотел
грабить. Кто-то жил тихо и боялся чуть-чуть шаг в сторону сделать,
а кто-то ехал воевать новые земли, путешествовать и т.д.
То есть речь идет на самом деле о том, какие аспекты традиционной
российской культуры должны получить сегодня поддержку. Не надо
никого переделывать, перевоспитывать, не надо здесь строить Соединенные
Штаты Америки. У нас достаточно добрых, нормальных и
конструктивных традиций, но их действительно надо поддерживать. Вопросы эти
колоссальной важности. По мере сил попытаюсь нечто сформулировать.
Прошу только учесть, что рассуждения, которые вы сейчас услышите,
принадлежат не только мне, но и моему постоянному соавтору A.M. Эткинду.
Я хочу сказать о двух вещах. Во-первых, о том, что моральное поведение
человека, в частности, в труде предполагает наличие морали в мире.
Мне кажется, что бессмысленно и нет шансов на моральное поведение
в аморальной ситуации. Это уже героизм, подвижничество уникальных
людей. А в массовом порядке я веду себя по-честному, если есть
какая-то честность вокруг. Если честности нет, то нет ее и у меня.
Во-вторых, хочу сказать о некоторых моментах социальной организации,
которые способствуют или препятствуют формированию трудовой этики.
Итак первое: есть ли мораль в нынешнем деловом мире — с точки зрения
обычного человека? Сейчас очень приняты интервью с бизнесменами.
Нас призывают у них учиться. Я же убежден, что многие из них элементарные
жулики, которые, например, у меня кроме отвращения ничего не вызывают.
Нынешние, так сказать, "капиталисты" паразитируют на советской
экономике, и в этом смысле они не основа среднего класса, который
когда-нибудь потом сделает здесь Америку, а это как раз наиболее
реакционный класс, причем с отходом партаппарата он выходит по
реакционности на первое место. И не случайно партийный аппарат так легко
и органично перетекает в новые деловые структуры. Потому что это
не рыночные структуры, а просто грабеж. Ни в одной стране мира нельзя
продавать то, что продают в наших кооперативных лотках, за такие деньги.
Но спекулянты могут существовать потому, что государство фактически
стоит на страже их торговой монополии.
И вообще, вы знаете, я не верю капиталисту, который курит "Мальборо",
потому что заплатить на 20 рублей больше за сигареты пусть лучшего
качества для настоящего капиталиста — расточительство. Но если ты
платишь на 20 рублей больше и идешь обедать в кооперативный ресторан, то
ты жулик, а не капиталист. Если же ты получаешь их за валюту, то ты
жулик по менталитету. Для делового человека доллар стоит 30, а уже
и 80 рублей, и он помнит это.
Я никого не хочу обличать. Я говорю о другом: можно ли надеяться
на деловую мораль среднего гражданина, если в качестве образца
делового успеха выступает абсолютно откровенный жулик? Понимаете, когда
Андрей Макаревич говорит, что теперь сигар не достать и он вынужден
перейти на "Мальборо", так ему можно, потому что он суперзвезда,
он зарабатывает деньги для удовольствия, й он их тратит, как хочет. Это
совершенно другая социальная роль.
Но когда это делает предприниматель, это не предприниматель, а жулик,
это продолжение нашей системы. И заменить флаг на трехцветный —
24
недостаточно. Это очень приятно, но, увы, рыночной экономики из
этого не выйдет.
Давайте посмотрим, чего ждут люди. Есть разные мифы о рынке.
Вообще люди реагируют не на реальность. Люди реагируют на самом
деле на представление о реальности. Если я боюсь черной кошки, то
не в том дело, что я знаю, что в таком-то проценте случаев пересечение
дороги кошкой черного цвета приносит неприятности. Я верю. У меня
есть некая вера, которая может соответствовать какой-то реальности,
а может и не соответствовать. Это не имеет никакого значения.
Как и вера в капиталистическое будущее. Верующих в полное процветание
не так много и такие люди довольно опасны, потому что через какое-то
время люди эти почувствуют себя обманутыми, а это резерв для
Жириновского и кого угодно. Другая группа считает, что всех ожидает
полная нищета, всех, кроме узкого круга жуликов и плохих людей.
Надо сказать, что существующая сегодня пропаганда очень сильно
поддерживает именно эту точку зрения. Вы даже среди нашего слоя
покажите мне людей, которые, считая, что народу в целом, стране в
целом в конце концов будет лучше, надеялись бы, что их личное
материальное положение улучшится в ближайшие годы. Все живут в ожидании
катаклизмов, кто-то копает картошку, а кто просто сидит и ждет холода,
голода и неприятностей. Но вообще ситуация такова, что страна насмерть
запугана, все ждут ухудшения: дальше будет хуже. Поскольку хуже уже
действительно некуда, то дальнейшее ухудшение — это уже удар по
физиологии: голод, холод и т.д. Многие хотят "капитализма", потому
что никто не знает, что это такое. Спрашивать человека, как ты относишься
к рыночной экономике, то же самое, что спросить, а как ты относишься к
розовому слону: я его также никогда не видел, молока его не пил. Как я
отношусь? Я отношусь так, как мне сказали относиться, как говорят
мне престижные люди. И если мой сегодняшний лидер говорит, что
"нужен капитализм", то я верю, что "нужен капитализм". Эти вопросы
превышают информационную компетентность респондентов.
Если посмотреть более пристально на то, чего люди ждут, то заметим
очень интересное изменение отношения к справедливости. Возьмем
традиционный образ социализма и традиционный образ капитализма. Здесь —
царство справедливости, там — царство несправедливости. Причем даже
тогда, когда перестали говорить, что здесь живут хорошо, а там рабочий
класс голодает, тем не менее сама идея справедливости держалась.
Вспомните замечательный фильм "Три тополя на Плющихе", когда
героиню спрашивают, не тстрашно ли ей жить там, где она живет? И она
отвечает, что нет, не страшно, чай, не в тюрьме живем и не в Америке.
Тогда ее спрашивают, а что, в Америке страшно? Да, очень страшно,
отвечает она. Там это говорится с определенной иронией. Баба,
приехавшая в Москву первый раз в жизни, точно знает, что в Америке жить
страшно, там горло друг другу перегрызают.
Справедливость — это великое понятие, и люди хотят действительно
жить в справедливости и мире. В частности, призыв потерпеть во имя
реформ ' может иметь хорошие результаты, народ готов терпеть, но
только до тех пор, пока все терпят. Как только окажется, что я терплю,
а ты в это время наживаешься, то тут любому терпежу придет конец,
и будет осуществляться экспроприация экспроприаторов.
Социализм в прежнем варианте рассматривается как уравнительная
справедливость. Конечно, она имеет свои недостатки, так как умный
получает столько же, сколько и глупый и т.д., но все-таки все поровну.
А там несправедливость, потому что там, чем ты лучше как человек,
тем ты хуже живешь, толстый капиталист, изможденный рабочий и т.д.
25
Сейчас меняется образ капитализма, и он предстает в качестве светлого
будущего. Я тоже считаю, что обязательно нужно иметь что-то хорошее
впереди, иначе, действительно, все тяжело. Мне лично хочется верить в
какие-то позитивные перспективы хотя бы собственной жизни, а желательно и
мира, в котором я живу.
Капитализм стал представать как общество пропорциональной
справедливости. Социализм — это уравнительная справедливость, а капитализм —
это пропорциональная справедливость. И вот нам начинают объяснять
те же самые комментаторы, которые поливали капитализм, как там
здорово. А что там здорово? Не то, чтобы там молочные реки и кисельные
берега — нет. Там здорово другое. Вот посмотри: он работал в два
раза больше — и он в два раза больше получил. Вот он талантливый —
и за этот талант он получил. А вот этот пьяница, и он живет пусть богаче,
чем мы, но значительно беднее, чем все остальные в его стране. А вот этот
пашет день и ночь, поэтому он такой уважаемый человек.
Пропаганда будущего капитализма у нас в России идет, как мне кажется,
как пропаганда общества пропорциональной справедливости. Мне кажется,
что эта концепция напугала наших соотечественников. Ведь что получается.
Пропорциональная справедливость хороша для сильного человека. А если
я больной, калека и т.д., тогда я этого, естественно, боюсь, тогда мне
страшно.
Капитализм изображается обществом сильного человека: интеллектуально,
физически, морально. Это на самом деле страшная вещь. Потому что
в любом обществе самооценка человека — это одна из самых важных
психологических проблем. Люди не доверяют себе, люди не верят себе,
люди не любят себя в любом обществе. В нашем обществе вся система
социальной организации построена так, чтобы снизить самооценку человека:
ты дерьмо, ты ничтожество. Это с самого начала говорится, и в этом
человек убежден. Для системы была важна такая низкая самооценка:
я сам не могу, я не могу без тебя прожить, мне нужна твоя защита,
мне нужны сильные вожди. А в результате слабому человеку, крайне
неуверенному в себе, предлагают жить в обществе, где хорошо сильному и
плохо слабому.
На самом деле, это большое искажение. На самом деле, там существует
также и безусловное отношение к человеку со стороны общества.
Оплата по труду — это условное отношение. Но там условное отношение
подкрепляется безусловным отношением. Если вообще нет ответственности
за другого, нет безусловной помощи и поддержки, то это война каждого
против всех. Обратите внимание, что там даже в фильмах о ковбоях
обязательно есть у главного героя пусть не столь блистательный, но
надежный друг, с которым он спина к спине у мачты, которому
полностью доверяет и с которым, обратите внимание, поровну делится добыча.
Кто бы они там не были: бандиты, золотоискатели, но добыча делится
поровну вне зависимости от вклада.
В современном цивилизованном мире эту психологическую
потребность, как мне кажется, удовлетворяют две социальные структуры.
Во-первых, страховые компании. Это самый процветающий бизнес. Люди
платят от страха, если брать русскую этимологию слова. То есть я застраховал
машину — я не боюсь случайной ошибки. Я заплатил медицинскую
страховку — я не боюсь случайной болезни. Второе — это община
{национальная, религиозная), где оказывается безусловная поддержка.
Мне помогут не потому, что я, хороший, не потому, что я трудился,
а просто потому, что по факту рождения случайно оказался членом
этой общины, и она меня не бросит. То есть человек страхуется
общинами и страховыми компаниями от того* что от него не зависит.
26
Например, за случайную аварию мне заплатят полностью, мне новую
машину дадут. За намеренную аварию мне не заплатят ничего, да еще
оштрафуют. Если я бедный, мне дадут стипендию, будут бесплатно
лечить и т.д. Если я богатый, мне не дадут ни гроша. И потому
американцы говорят, что лучшее медицинское обслуживание получают
очень богатые, которые могут за все платить, и самые бедные, у которых
вообще нет ничего. Поэтому они все получают бесплатно от государства.
Наши эмигранты получают там великолепное медицинское обслуживание,
которое с трудом получает американец среднего класса.
Вот это действительно серьезное различие. И мне кажется, что отличие
нашего общества от западного еще и в том, что в том обществе
действительно присутствует мораль з социальной организации. То общество
морально. Оно действительно старается реализовать этические принципы
и в значительной мере реализует в своей ежедневной практике. Наши же
призывы к морали, к трудовой этике бросаются в пустоту, потому что
кругом грязь, бандитизм, а я один должен быть честным. Стало быть
нужно быть подвижником. Нормальный человек, который штаны шьет,
не может так. Это нереально.
Роль политического лидера особенно в смутные, тяжелые времена
отнюдь не только в том, чтобы координировать и принимать решения.
Он выражает человеческие эмоции лучше, чем другие. Но теперь уже
нужны не слова, а конструктивные действия. Сейчас ситуация в обществе
изменилась. Линия напряжения, которая была между народом и аппаратом
главной в 1989-90 гг., сегодня отходит на задний план. Реальное
напряжение стало идти по другой линии, стали меняться объекты раздражения.
Мне кажется, что раздражение теперь перешло на тех, кто начал распределять
товары и услуги в этом дефицитном обществе. Частично там остались
старые люди, частично появились новые люди.
Я присутствовал при замечательной сценке в одной из кооперативных
забегаловок. Написано, что перерыв с 15 до 16 часов. Передо мной мужчина,
который туда тоже рвется, а оттуда выходит спортсмен-вышибала и говорит,
что закрыто, хотя до обеденного перерыва еще час. Мужчина начинает
"качать права", а охранник его "посылает". Тогда тот обращается к
последней защите советского человека — он просит администратора
позвать, дать ему жалобную книгу, на что охранник ему говорит:
"Это тебе не старый режим. Это частное предприятие. Пошел вон отсюда".
Понимаете, если хозяин предприятия может мне сказать, что это
не старый режим и пошел вон отсюда, то зачем мне государство! За что я
содержу Президента! За что я плачу!
Ведь на самом деле, власть, будучи за предпринимательство, не должна
быть за предпринимателей. Власть всегда представляет интересы рядового
избирателя. Я в Париже спрашивал хозяина кафе вот о чем. Время
было позднее, народу не было вообще. Мы только вдвоем остались
и взяли по самой дешевой чашечке кофе. Мы спрашиваем: "А почему
вы так долго держите кафе открытым, ведь народу у вас нет?" А в кафе
сидит официант, сидит сам хозяин, горит свет — расходов много.
Абсолютно не окупаются расходы. Народу нет. Он мне отвечает: "Я не
имею права раньше закрыть. У меня лицензия на эту торговлю, которая
содержит пункт, что кафе должно быть открыто с такого-то часа до
такого-то". А выгодно это ему или не выгодно — неважно. Его заставляет
государство держать кафе открытым в невыгодные часы, потому что без
этого оно ему не дает права зарабатывать в выгодные часы. Там всего
и есть два-три часа в день, когда он делает деньги. Все остальное время
он работает себе в убыток. Но государство представляет интересы
рядового потребителя и избирателя. И если хозяин будет закрывать
раньше, его просто разорят.
Наше государство делает вид, что мои отношения с мясником в мясном
отделе, где меня грабят, — мои личные отношения. А они не личные.
Любые торговые отношения — это общественные отношения. Эти
отношения государство обязано контролировать.
И вот здесь меня удивляет и огорчает такое разведение руками:
а что мы можем сделать? Вы же понимаете, что это такая система.
Вот когда будут конкуренция, когда будет нормальная торговля, тогда
все будут в порядке и т.д. Может быть я не доживу до этой нормальной
торговли. Я хочу сейчас не коммунизма, не этого рая на земле, я понимаю,
что это невозможно, но я сейчас хочу, чтобы власть, которую я выбрал и
содержу, могла предпринимать те шаги, которые в моих интересах.
Понимаете, я не верю, что нельзя навести порядок с такси, я не
верю, что нельзя навести порядок в московских аэропортах, когда там
стоит милиционер и всегда смотрит в сторону, а это милиционер,
которому я плачу деньги. А тут же "продавцы" увеличивают цену,
рэкетиры не подпускают конкурентов, грабят, убивают и т.д., а власть ничего
с этим не может сделать: зачем она тогда нужна?
Понимаете, идет вообще какой-то странный скос: репрессиями ничего не
добьешься, законы должны быть как можно мягче и т.д. Я не понимаю, почему.
Я понимаю, что нельзя посадить всех взяточников в ГАИ, которые
останавливают машины с продуктами, едущие в Москву, и берут с них
взятки, которые мы потом оплачиваем. Я прекрасно понимаю, что
многое коррумпировано, что всех не пересажаешь, но почему конкретного
человека, взятого за руку, нельзя посадить всерьез в тюрьму, я не понимаю.
Это же страшное преступление, это покушение на безопасность. И
действительно это все очень опасная вещь. Власти должны драться до последней
капли крови. За это мы их содержим.
И мне кажется, что, поскольку они этого не делают, это снижает
трудовую мораль и вообще снижает общий уровень морали в обществе.
Говорят о приватизации. Умные люди придумывают схемы
приватизации. Я, честно говоря, в эти схемы не верю, потому что не учитывается
человек. Что такое приватизация? Это я должен взять ответственность
за безопасность. Я должен захотеть это сделать. Я должен вести себя
рационально в соответствии с их представлениями о моем поведении.
Но я не вижу в разговорах об экономической реформе, которые ведут
экономисты, более сложной концепции, чем концепция экономического
человека. Но сейчас все-таки не XIX век. Люди не ведут себя рационально
экономически. Они ведут себя иррационально. И с очень сложной структурой
мотивации. В соответствии с этой структурой они себя и ведут. И это надо
учитывать. Поэтому если я не захочу взять на себя ответственность
за собственность, то все равно никакой приватизации не будет. Почему?
Да потому, что из рядовых граждан никто не знает правил и законов
приватизации. Я не могут, например, объяснить, как можно
приватизировать магазины. Допустим, у меня есть деньги и я хочу купить акции
магазина, например, булочной или хочу стать совладельцем этой булочной.
Как я это могу сделать? Кто-нибудь из вас это знает? Ведь мы здесь
не самые глупые люди собрались, но не знаем.
Все это будет возможно, и нормальные люди это поймут, только
в том случае, если им будет ясен абсолютно каждый шаг, как и что
им надо делать. Если я знаю, как это сделать, это другое дело. А сейчас
такое ощущение, что начать свое дело можно, дав только огромные
взятки, причем уже новой власти.
Но если новые структуры не помогают мне заниматься бизнесом, а
мешают мне, тогда уже с самого начала мой бизнес становится
криминальным. Мне кажется, что это очень серьезная вещь. Если бы я представлял
28
властные структуры, то я бы дал инструкции по поводу того, как
начинать Дело, опубликовал это миллионными тиражами. Я бы потребовал
этого от печатных изданий. Это должен знать, каждый, чтобы потом
несколько процентов населения действительно этим пыталось заниматься.
Честное предпринимательство возможно в том случае, если будет
соответствующий уровень морали. Мы недооцениваем уровня моральности
людей. Люди не хотят делать безнравственные вещи. А что получается?
Эти изменения поставили в жуткое положение как раз честных людей,
которых оболванили, обманули, которые гордились, говоря: да, я бедный,
но я честный. Я всю жизнь работал. И это действительно правда. Он, может
быть, дурак, что верил в эту идеологию, но он честный человек. А сейчас
ему говорят, что ты не только бедный, но ты еще и кретин. На самом деле надо
было быть другим. И единственная гордость, что он был честный, куда-то
исчезает.
И поэтому мне кажется, что рациональные схемы должны быть еще
и нравственными. Я думаю, что легальное включение теневой экономики в
экономический оборот, наверное, очень выгодная вещь, но морально я
не уверен, что это может дать эффект. Люди должны видеть способ
честного богатства.
У нас общество было биполярным: огромное большинство населения
жило почти в полной нищете, а рядом — очень малая часть очень богатых
людей. Ты в цеху можешь копить, откладывая свои премиальные и
прогрессивки, миллион лет и ты не купишь видеомагнитофон. Надо было
либо украсть, либо попасть во властную элиту. И это нечестно нажитое
богатство сегодня отмывается и оправдывается.
Мне кажется, что разговоры о деловой морали и прочем могут стать
реальностью только в том случае, если значимость морального поведения
будет ясна для властных структур.
29
ФИЛОСОФИЯ И НАУКА
Ответственность — подлинное основание
для управления свободной наукой*
Э. АГАЦЦИ
Введение
Безграничное доверие, непоколебимый оптимизм и безусловное одобрение по
отношению к достижениям развивающихся науки и техники в последние
десятилетия сменились усиливающейся подозрительностью, опасениями, упреками,
доходящими до клеветы, негативизмом. Создается впечатление, что общество как бы
шагнуло от сциентизма к антисциентизму; другими словами, понимание науки
(и техники) как абсолютного и безусловного блага сменилось рассмотрением
их как носителей зла. И то, и другое по существу иррационально, хотя в
поддержку столь различных позиций выдвигаются достаточно изощренные аргументы.
Сциентизм возлагает ответственность за негативные последствия
научно-технического развития на некие "внешние" силы, тогда как ответственность ученых
сводится здесь исключительно к правильному исполнению их специально-
профессиональной деятельности. Антисциентизм, напротив, взваливает на науку и
технику всю ответственность за эти негативные последствия и начисто
отвергает какую-либо положительную роль науки по отношению к человеческой свободе.
И сциентизм, и антисциентизм неразрывно связаны с некоторого рода
детерминистическим или фаталистическим пониманием развития науки.
Обе эти концепции ошибочны. Нельзя усомниться в том, что наука и
техника являются благом для человечества, как нельзя отрицать и то, что их
развитие связано е рядом отрицательных последствий (что особенно очевидно в
последнее время). Отсюда, однако, никак не следует правота тех, кто предлагал
бы как-то остановить научно-технический прогресс. Но мало просто отбросить
как ошибочную крайность воззрение на науку как на некоего злого оборотня,
ибо это ничуть не продвинуло бы нас в деле устранения отрицательных
последствий ее развития. В дальнейшем я подробнее остановлюсь на этом вопросе.
Мы должны признать, что возможное или даже обязательное регулирование
той или иной деятельности вовсе не противоречит тому, что эта
деятельность осуществляется свободно. Напротив, основное содержание исторического
процесса может быть выражено идеей возрастания свободы человеческой
деятельности в самых различных сферах; более того, именно свободная деятельность
является специфически "человеческой". Но в то же время мы должны согласиться,
что сам этот процесс не мог бы осуществляться без целесообразной, разумной
♦Evandro Agazzi. Responsibility: the Genuine Ground for the Regulation of a Free
Science. — in: Scientists and their Responsibility. Ed. by W.R. Shea, B. Sitter, Watson
Publishing International, 1989, p. 203-219.
30 .
и своевременной регуляции во многих сферах человеческой жизни. Отсутствие
такой регуляции было бы причиной злоупотреблений, нарушений справедливости
и прав человека, что угрожало бы как отдельным индивидам, так и обществу
в целом.
Вывод очевиден: мы вправе (и даже обязаны) выступить в защиту свободы
науки и техники. Но при этом мы не должны забывать, что такая свобода
связана с определенными ограничениями, необходимыми именно для того, чтобы
не нарушались другие неотъемлемые права человека. Впрочем, это справедливо
отнюдь не только по отношению к науке и технике.
Автономия науки
Современная эпоха — временные рамки которой, по крайней мере для западной
цивилизации, могут быть установлены начиная с Возрождения — может
рассматриваться как процесс ускоряющегося распада некоторого интеллектуального единства,
каким характеризовался мир античности и особенно средневековья. К наиболее
заметным проявлениям этой дезинтеграции следует отнести возникновение
некоторых "автономий" в различных сферах духовной и практической жизни людей:
автономия (Макиавелли), автономия естествознания (Галилей), автономия экономики
(британский либерализм), автономия искусства (Кант и романтики).Это оправдывалось
главным образом возрастанием специфики соответствующих сфер человеческой
деятельности, из которой вытекала опора исключительно на внутренние
критерии, каковыми определялось достижение специальных и ограниченных целей
в рамках этих сфер. Однако, раз возникнув, такие автономии подвигали на
поиск критериев того, что называлось "свободой" или "освобождением".
Такую трансформацию, или переход от автономии к свободе, можно было бы
объяснить тем, что признание автономии влечет за собой отрицание всяческой
зависимости или "внешнего" вмешательства по отношению к процессам внутри
данной сферы деятельности. Но обоснования свободы трактовались по-разному,
допускались и различные степени свободы. Согласно бдной трактовке, свобода
понималась как определенная независимость критериев суждения. Например,
какое-то решение может считаться политически верным, хотя бы оно было
уязвимо по экономическим соображениям; другое решение признается экрномически
оправданным, хотя имеет изъяны с точки зрения морали; произведение искусства
оценивается как высокохудожественное, хотя оно может нарушать некие приличия.
Такую трактовку обычно выражают требованием "свободы от ценностей" по
отношению к политике, экономике или искусству, и это требование в особенности
поддерживается по отношению к науке. И действительно, тезис о том, что наука
является и должна быть свободной от ценностей, довольно скоро стал весьма
распространенной догмой западной культуры.
Возможна и другая трактовка, по которой из автономии вытекает
независимость действия. Продолжая предыдущие примеры, можно было сказать, что
некто вправе совершать политическую акцию, несмотря на ее экономическую
ущербность, участвовать в экономическом предприятии, небезупречном с моральной
стороны, или создавать произведение искусства, не заботясь о приличиях. Другими
словами, политик-профессионал, бизнесмен как "homo oeconomicus" и художник как
"человек искусства" могут действовать, руководствуясь только "внутренними"
критериями своих профессий, во всяком случае до тех пор, пока их деятельность
не выходит за рамки этих профессий. Автономия может также означать
отсутствие контроля или каких-то ограничений со стороны внешних сил.
У такого "освобождения" могут быть и нежелательные последствия. В частности,
так обстоит дело в науке: необходимость защиты природной среды, угроза
технологических катастроф или неконтролируемых результатов генетических
манипуляций (если брать только самые известные примеры) — все это говорит о том,
что научные исследования и технология должны регулироваться. Проблема достаточно
деликатна: как критически переосмыслить понятие научной свободы, не превращаясь
в обскурантов?
Прежде всего постараемся понять, в каком смысле можно полагать "свободными
от ценностей" те сферы человеческой деятельности, которые признаются
автономными. Конечно, это не означает, что такие сферы "свободны от любых ценностей",
а люди, действующие в них, не могут по-своему оценивать свои поступки.
Фактически никакое подлинно человеческое действие не может быть бесцельным,
то есть совершаться без заранее поставленной и ценностно осмысленной цели.
Такая цель как преднамеренный результат действия может пониматься как
некая "ценность", ради которой и действует человек. Есть смысл также в том,
чтобы по некоторым установленным критериям оценивать способ достижения
такого рода целей.
Здесь нет моральных проблем, поскольку такими критериями действие
оценивается косвенно и гипотетически; ведь они говорят только о том, как следовало
бы действовать, если рассматривать данную цель как единственную. Но из этого
ворсе не следует, что данная цель действительно является единственной или высшей,
либо что можно отвлечься от влияния, какое может иметь достижение этой
цели на другие человеческие цели или ценности. Тот кто сделал бы именно
такие выводы, тем самым подменил бы первый из указанных выше смыслов
термина "автономия" вторым, то есть понимал бы "автономию" как "независимость
действия" и, таким образом, связал бы себя особыми и довольно проблематичными
этическими требованиями.
Цели
Теперь перейдем к науке. Будем различать "чистую науку" и "прикладную
науку". Дело не в том, что такое различение всегда может быть успешно
проведено или того требует анализ конкретных ситуаций в науке. Скорее, это
два "идеальных типа", смешение которых могло бы приводить к недоразумениям.
И та, и другая — средства получения знания, но если "чистая наука" имеет
целью открытие истины (то есть установление "реального положения дел"), то
"прикладная наука" направлена на получение некоторого практического результата.
Если "чистая наука" занимается тем, что ищет истину, это освобождает ее
от каких-либо моральных обязательств (она выступает как самодостаточная
ценность). Ее усилия сосредоточены на достижении истинных и достоверных знаний,
для чего вырабатываются специальные предписания ("научная методология"),
указывающие, как могут быть достигнуты эти цели в самых различных областях.
Они не несут никакой этической нагрузки, будучи лишь более или менее
адекватными инструментами научного познания.
Но все же "чистая наука" связана с некоторыми требованиями морального
плана. К ним, например, можно отнести обязательство не манипулировать данными,
готовность учесть критику, не закрывать глаза на чужие ошибки, признавать
приоритеты, посвящать себя нелегкой работе. Эти добродетели не являются
специфическими для науки, а имеют весьма общий характер, лишь особым образом
преломляясь в научной деятельности, скажем, в форме интеллектуальной
добросовестности или самодисциплины. Поэтому такого рода "деонтология" не имеет
реального отношения к проблеме связи между наукой и этикой; соблюдение
подобных требований просто способствует тому, что ученые достигают особых и
внутренне присущих науке целей.
В прикладной науке ситуация иная. Здесь поиск истины на втором плане, а
первостепенной целью выступает определенная возможность практического
применения знания; отсюда ряд этических проблем, возникающих в связи с конкретными
целями, ради которых работает прикладная наука. Это так очевидно, что вряд ли
нуждается в каких-то пояснениях. Коротко можно было бы сказать так: знание о
чем бы то ни было не может подвергаться суду морали, нет морально неприемлемых
истин; в то же время не все, что может быть сделано, морально допустимо,
действие может запрещаться моралью.
Средства
Было бы слишком поспешно выводить из сказанного, что "чистая наука" ни
в коем случае не подвержена моральным возражениям. Это верно, когда речь идет
о ее целях. Но следует принимать во внимание и средства, которыми эти цели
достигаются. Общая максима "цель не может оправдывать средства" относится
32
и к науке. Можно ли еокласиться с тем, что истинное знание оправдывает
используемые для его получения морально сомнительные средства?
А такая ситуация действительно возможна. По крайней мере в
экспериментальной науке истинное знание не можеч быть получено умозрительно или при
помощи нейтрального наблюдения за объектом. Исследуемый объект подвергается
различным манипуляциям со стороны исследователя. Манипуляция есть действие.
Хотя конечной целью такого рода действий является получение знаний, сами эти
действия могут быть морально неприемлемыми. Когда экспериментальное
исследование имеет своим объектом человека, моральные критерии приобретают характер
императивов. Например, широко обсуждаются проблемы, связанные с
экспериментами в области человеческой эмбриологии или манипуляциями с генами
человека. Такие дискуссии показывают, что моральные проблемы возникают и в
"чистой науке", а моральные требования могут выступать как ограничители свободы
научного исследования.
Совершенно ясно, что проблема релевантности средств относится и к
"прикладной науке". Какое-то частное прикладное исследование, не вызывающее
моральных возражений само по себе, должно быть рассмотрено еще и с точки зрения
моральной допустимости используемых в нем средств.
Условия
Моральное рассуждение не может не касаться условий действия. Есть сходство
между условиями и средствами действия, однако, если средство — это то, с помощью
чего достигается цель действия, го условия — это то, благодаря чему действие
становится возможным; поэтому условия связаны с действием косвенно. Это
отличие следует помнить, поскольку даже в тех случаях, когда преследуются
морально безупречные цели и применяются морально допустимые средства,
объектом моральной критики все же могут стать условия, при которых
совершается действие. Современный пример такой ситуации связан с финансированием
научных исследований. Деньги, выделяемые на науку, уменьшают сумму иных
расходов общества, а среди них — расходы на содержание больниц, школ,
поддержание общественной безопасности, защита окружающей среды.
Удовлетворение таких нужд соответствует самым необходимым и важным ценностям. Поэтому
расходы на науку связаны с определенным моральным выбором. Такой выбор,
по-видимому, легче совершается по отношению к прикладной науке, когда нетрудно
показать, что результаты прикладных исследований могут "компенсировать"
общественные затраты. В "чистой науке" это сложнее. Во всяком случае, этот пример
показывает, насколько ошибочна идея, будто этические проблемы типичны только
для прикладной науки и не касаются "чистой науки*9.
Следствия
Обратимся к рассмотрению возможных последствий научных исследований. Часто
их обсуждением ограничивается этический анализ науки, Это, конечно, слишком
узкий подход, И все же важность рассмотрения таких последствий для моральной
оценки науки нельзя отрицать. Тот, кто действует, должен отвечать за
результаты своих действий, а потому должен пытаться предвидеть их — это вполне
очевидный моральный принцип. Центром этических дискуссий о науке эта проблема
стала из-за определенных трагических последствий технологического развития.
Этика, конечно, не впервые сталкивается с проблемой так называемого "двойного
результата", когда предполагаемая цель некоторого действия (сама по себе морально
оправданная) оказывается связанной с рядом морально неприемлемых последствий.
Это относится также и к тем случаям, когда такие последствия можно предвидеть
с достаточно высокой вероятностью. В таких случаях прежде всего следует
определить, можно ли отказаться от достижения цели только для того, чтобы избежать
этих нежелательных последствий? Если можно, то моральная обязанность состоит
в том, чтобы отказаться от действия. По аналогии с принципом "цель не может
оправдывать средства" можно сказать, что "цель не оправдывает все свои
последствия". Таким образом, мы убеждаемся в том, что этика отнюдь не ограничивает
свой анализ субъективными намерениями при совершении какого-то действия.
2 Вопросы философии, N I 33
Но существуют и такие ситуации, в которых моральный
именно в достижении данной цели. В таких случаях можно сравнить значимость
ценностей (ценности, ради которой совершается какое-то действие, и ценности,
которой это же действие противоречит) и пожертвовать менее значимой ценностью,
либо рассматривать каждую из них порознь и, как говорится, "выбрать из двух
зол меньшее". Классическим примером может служить так называемый
"терапевтический аборт*', когда врач стоит перед выбором: или отказаться от применения
некоторых лекарств и тем самым поставить под угрозу здоровье матери, или
применить эти лекарства и тем самым погубить плод. Последнее рассматривается
как "меньшее зло" (не надо смешивать это с другой ситуацией, когда аборт
выступает как средство спасения матери). Такого рода ситуации нередки в прикладной
науке.
Анализ последствий чаще представляет собой проблемное поле для прикладной
науки, однако и "чистая наука" не свободна от таких проблем; например,
сообщение о каком-то открытии имеет свои моральные аспекты. Дело в том, что
научные открытия или содержание новых теорий часто преподносится публике
как некая сенсация, что отрицательно действует на образ мысли многих людей,
искажает их представления о жизни и ее ценностях. Часто эта вина ложится на
средства массовой информации, но бывает, что и видные ученые позволяют себе
поверхностные популяризации или субъективные интерпретации и неправомерные
экстраполяции. В наше время, когда наука оказывает такое сильное влияние на
мысли и чувства людей, честные и морально выверенные пути распространения
научных истин приобретают статус этического императива.
Особая роль технологии
Ход наших рассуждений ведет и к различению науки и технологии. Основанием
различения являются особые цели. Специфической и главной целью науки является
знание; цель технологии — осуществление определенных процессов и/ или
продуктов. Наука стремится знать, технология предназначается для того, чтобы
производить. Наука, по своей сути, — это поиск истины; технология же ищет пользы.
Но между наукой и технологией имеются теснейшие связи. С одной стороны,
наука как таковая (а современная наука в особенности) не могла бы достигать
своих целей, не опираясь на высоко развитую технику. С другой стороны,
современная технология есть не что иное как сложнейший процесс применения
знаний, добытых наукой.
Действительно, технологию нельзя рассматривать только как технику именно
потому, что технология — это то, что основывается на применении научных
знаний. "Чистая техника" — это накопление практических полезных способов
осуществления некоторых операций, проверяемых и совершенствуемых многими
поколениями; это "know how", но совсем не обязательно "know why". Мы знаем,
что существовали цивилизации, обладавшие высоко развитой "техникой", но скудной
наукой, тогда как другие цивилизации, напротив, создавали мощную науку, но
оставались на очень низком техническом уровне. Западная цивилизация установила
корреляцию между наукой и техническими инновациями. Это достигалось двояко:
во-первых, научное исследование объясняло причины, по которым определенные
технические процессы оказывались успешными; во-вторых, развитие техники позволяло
целенаправленно проектировать и изготовлять инструментальную оснастку научных
исследований, без которой невозможно было бы получать определенные
результаты. Последнее и выступало как отличительная особенность технологии при
всей строгой взаимозависимости технологии и техники, которая иногда принималась
за тождество между ними.
Очевидно, что все сказанное выше о прикладной науке относится и к
технологии. Отличие же в том, что специфическая и непосредственная цель
технологии — изготовление чего-то, тогда как прикладная наука все же стремится
к знанию, хотя по-другому, чем "чистая наука".
Это различие имеет прямое отношение к проблеме свободы и регуляции.
Нет возражений против того, что каждый волен думать о чем угодно, но вряд ли
можно согласиться с тем, что каждый может делать, все что захочет. Другими
словами, деятельность, как правило, должна подчиняться определенным нормам
34
'моралью, так и правом. В сфере познания нет никакого
"долженствования" (за исключением, может быть, единственного императива:
устранять ошибки, ибо это "определяющее условие" достижения истины), но в сфере
деятельности мы руководствуемся тем, как "должно быть" и как "следует
поступать". Отсюда нормы, определяющие деятельность как с субъективной стороны
(мораль), так и со стороны общества (право, закон). Этими нормами одни действия
разрушаются, другие вменяются в обязанность или запрещаются.
Здесь мы встречаемся с главным различием между регуляциями "чистой науки"
и технологии. Ограничения свободы научного исследования существенно зависят от
того, какие средства применяются в нем, или от условий, в которых оно
осуществляется; однако цель науки — открытие новых истин — в любом случае
считается оправданной. Напротив, в технологии (даже в большей степени, чем в
прикладной науке) регуляции подлежит и выбор целей. Дело не только в том,
что некоторые цели технологии могут быть морально неприемлемыми или
представляют опасность ддя общества, но еще и в том, что частные технологические
предприятия могут вступать в конфликт между собой или с уже установленными
и признанными целями общества. Короче, технология решает проблемы, связанные
с осуществлением любых технологических замыслов, но, хотя замысел свободен, ке
всякий технический проект имеет право на жизнь.
Отсюда можно было бы вывести» что проблема регуляции технологии не может
рассматриваться в отрыве от анализа целей ее развития. Эта идея, однако,
не является общепризнанной. По-прежнему под технологией часто понимают только
совокупность определенных процедур, оставляя в стороне проблему целей. Это
странно, поскольку технология по самой своей природе есть такая деятельность,
в которой знание служит определенным целям. Технология должна "делать нечто
хорошее9*, а не только "хорошо делать нечто"; следовательно, очевидно ее
отношение к морали, а также к проблемам нормативной регуляции. Однако
исторически сложилось так, что эта двойственность в подходе к технологии была
утрачена.
Эволюция технологии
На ранних стадиях развития общества технические средства были орудиями
примитивной практики. Эмпирически открываемые технические процедуры постепенно
совершенствовались. В эпоху Возрождения, когда, по-видимому, возникла
современная наука, некоторые мыслители, в первую очередь Бэкон и Декарт, выступили
с лозунгом власти человека над природой. Путь к этой власти — раскрытие
тайн природы и подчинение их нуждам человека. Но по мере того, как новая
наука стала находить все большее применение, результатом оказалась не власть над
природой, в, замена природы искусственным миром, который и стал считаться
чем-то лучшим, чем "природа как ока есть". Артефактами этого мира,
созданными с помощью научного знания, стали машины.
Изобретение и производство машин служило не удовлетворению собственно
человеческих потребностей. Машины просто позволяли более эффективно совершать
некоторые действия, ранее производимые мускульной силой человека или животных.
Но машины стоили дорого и производились не для того, чтобы дать отдых
мускулам людей, а для того, чтобы сделать выгодными производственные
процессы. Базисом промышленной революции стало быстрое распространение машин
и внедрение их в качестве мощного ускорителя технологических операций. Это
сделало технологию экономически прибыльной. Конечно, это не зачеркивает тот
факт, что технология служила и "благу человека", но не это было ее важнейшей
целью. Даже если какой-то изобретатель машин и вдохновлялся столь благородной
идеей, его изобретение обычно получало финансовую поддержку только в том
случае, когда оно обещало значимую прибыль.
С недавних пор ускорение технологического развития получило еще один
дополнительный фактор: стремление людей к осуществлению любых возможных
проектов, к преодолению всех практических ограничений. Само по себе
фетишизирование новшеств, гордое ощущение силы, позволяющей осуществить то, что некогда
признавалось невозможным, амбиции власти, расширяющейся бесконечно, — все
это стало внутренним мотивом развития технологии, независимым от иных целей.
2* 35
Производство новых артефактов стало считаться самадезяеющейгданноетью:,
так же как открытие новых истин.
Разрыв между технологией и мудростью
Так технология стала все менее и менее целесообразной деятельностью. Но
без осознания своих целей деятельность становится бессмысленной. Использование
технологии для удовлетворения человеческих потребностей погружено в контекст
ценностей и целей, придающих ей смысл и разумность. Но когда движителем
технологии становится исключительно прибыль, такая осмысленность почти
исчезает.
Этому способствует узость горизонта технологии. Технологическая рациональность
имеет чисто инструментальный характер, кроме того, она как бы разбита на
отдельные, непересекающиеся фрагменты. Для каждой изолированной области, где
царствует такая рациональность, существенна проблема "как достичь поставленной
цели", но практически не имеет значения другая проблема "к какой цели следует
стремиться и почему".
Последствия такого разрыва очевидны: загрязнение природной среды, угрозы
выживанию человечества, стремительное и глубокое вырождение социальных и
экономических структур, угасание традиционных культур, падение ценности и
достоинства человеческой жизни. У этих последствий есть нечто общее: они глобальны
по масштабу и свидетельствуют об ограниченности технологической
рациональности. Действительно, как уже было отмечено, технологическая рациональность
направлена на достижение единичных и обособленных целей, тогда как следствия
этих целей многообразны и широкомасштабны. Конечно, в древние времена масштаб
этих последствий был гораздо меньшим: технические орудия были примитивны,
служили либо отдельному человеку, либо небольшой социальной группе; отсюда
и локальность оценки таких последствий. Не так в наше время: современная
технология связана с далеко идущими последствиями, охватывающими все
человечество.
Проблема регуляции
Современный человек болезненно чувствителен к ограничениям свободы своей
деятельности. Это следствие индивидуализма, характерного для западной культуры
последних четырех столетий. Сознание человека этой культуры мирится лишь с
таким регулированием, которое необходимо для защиты индивида от посягательств
во стороны других людей. Некоторые полагают, что лучшей гарантией от всяческих
злоупотреблений и беззаконий является такая система общественных отношений,
при которой каждый человек выступает как участник универсального рынка, где
свободное "предложение" встречается со столь же свободным "спросом" и потому
может быть принято либо отвергнуто. "Свободный рынок" как идея, заимствованная
из философии либерализма, выступает как модель приведения общества в состояние
всеобщей гармонии (баланс спроса и предложения корректирует цены товаров
и гарантирует всеобщее благоденствие). Но нельзя забывать, что так называемый
"свободный рынок" может функционировать должным образом только в том случае,
если он "регулируется" (например, с помошью антитрестовского законодательства
или законов, регулирующих демпинг). Кроме того, далеко не все может быть
предметом свободной купли-продажи. Например, почти в каждой стране запрещена
продажа героина или других опасных для жизни и здоровья людей продуктов,
чю, конечно, определенным образом ограничивает свободу потенциальных
потребителей этих продуктов. Когда свобода может быть использована не во благо
людей, она должна определенным образом ограничиваться. Например, реклама
табачных изделий изображает курение как нечто в высшей степени
привлекательное, но общество вправе потребовать, чтобы наряду с этой рекламой на
упаковках сигарет были и предупреждения об опасностях, угрожающих курильщикам.
Даже на таких простейших примерах легко убедиться, что определенная регуляция
необходима и в Дамках идеальной рыночной модели; без нее рыночные отношения
не могли бы быть действительно свободными.
Научные исследования и технологические процессы уже сейчас подчинены опре-
36
^иВйШш^ще^твуют определенные стандарты, в ряде стран действуют
законы, регулирующие продажу новых наркотических препаратов или запрещающие
использование пищевых суррогатов, применение горючих материалов при
строительстве некоторых типов сооружений, правила, направленные против возникновения
аварий на промышленных предприятиях. Таких примеров сколько угодно. Но такого
рода регулятивы узко-специальны и "локальны" в том смысле, что они
предназначаются для предотвращения каких-то частных злоупотреблений или опасностей.
Они безусловно необходимы, но вряд ли можно надеяться, что с их помощью
будут решены проблемы универсального характера, о которых шла речь выше.
Такие регулятивы главным образом служат защите от опасных или
нежелательных ситуаций и не имею! какого-либо позитивного содержания, когда же перед нами
стоят проблемы глобального масштаба, мы нуждаемся в регулятивах иного рода.
В этой роли должны выступать наиболее значительные цели, определяющие
приоритеты деятельности, придающие развитию науки и технологии смысл участия в
общем прогрессе человечества. Нам нужна модель рациональности, открытая для
ценностных суждении.
Плюрализм ценностей
Для этики прежде всего важно осознание того, что существует широкое
разнообразие мотивов человеческой деятельности, каждый из которых может быть
по-своему оправдан, но когда какая-либо ценность абсолютизируется как единственно
значимый мотив действия (например, удовольствие, здоровье, власть, семейные
отношения, любовь к отечеству, дружба, красота, истина, любовь мужчины и
женщины, наконец, религия), это непременно приводит к выводу о том, что
достижение цели оправдывает любые средства: "все дозволено". Иногда говорят,
что если мотивом действия выступают телесные наслаждения или поддержание
собственного здоровья, то это еще не человеческий, а как бы дочеловеческий
уровень мотивации. Но дело не в том, что эти ценности имеют более низкий
ранг в шкале человеческих ценностей, а в том, что снижение человеческого уровня
мотивации происходит из-за абсолютизации — сознательной или неосознанной —
данных мотивов. В этом нетрудно убедиться, если припомнить, какое огромное
количество аморальных действий совершалось или могло совершаться из-за
абсолютизации ценностей даже самого высокого ранга.
Наука — не исключение из этого правила. Если видеть в науке только
систему знания (т.е. рассматривать только ее содержание), то она не имеет
отношения к этике. Но как только мы рассматриваем науку как человеческую
деятельность, направленную на получение • знаний, это ведет к заключению, что
такая деятельность, как и всякая иная, обусловлена человеческим выбором, который
направляется и вдохновляется ценностями. Поэтому проблема плюрализма ценностей
приобретает первостепенное значение.
Дух регуляции
Уже можно сделать некоторые выводы. Практика научных исследований
находится под воздействием особых этических ограничений и регулятивов. В самом
деле, коль скоро мы допустили, что моральные принципы выступают регуляти-
вами человеческих действий, из этого следует, что не всякое действие приемлемо.
Конкретные нормы устанавливают, какие действия допустимы, обязательны или
запрещены. Но каждая конкретная ситуация деятельности — это сложная система
действий; поэтому и нормы, регулирующие поведение в таких ситуациях, должны
выступать как системы взаимодействующих принципов и ценностей.
Отсюда два следствия. Во-первых, критерии, стандарты или нормы, применяемые
при оценках какой-то одной сферы деятельности, не могут автоматически
переноситься на другую сферу. Это значит, что проблема, стоящая перед этическим
анализом, заключается в следующем: нужно определить, каким образом находится
удовлетворительное сочетание различных ценностных мотивов в каждой конкретной
ситуации. Применительно к науке это означает, что этика должна решать, каким
образом свобода научного исследования может удовлетворительно сочетаться с
иными ценностями, вовлеченными в каждую конкретную научно-исследовательскую
37
ситуацию. Следовательно, требование свободы научняш
часть этического подхода к науке.
Мы уже отмечали, то в рамках локальных научно-исследовательских или
технологических предприятий часто упускаются из виду универсальные цели и
ценности человечества, что не может не сказаться на регуляции этих предприятий.
Нужны серьезные усилия, чтобы регулятивное мышление достигло уровня всеобщности,
приняло точку зрения человечества, будущих поколений и общечеловеческого блага.
Такие усилия могли бы оказаться бесплодными, если не принять установку
ответственности. Неверно, что такая установка чужда современному человеку. Она лишь
не имеет должного распространения. Наш образ жизни слишком подчинен
определенным стандартам, и мы "решаем" некоторые житейские задачи, вовсе не чувствуя
ответственности за свои решения.
Пути регуляции
Необходимость некоторых очевидных регуляций научно-исследовательской
деятельности и сейчас не вызывает сомнений. Стали привычными нормы, которыми
обеспечиваются безопасность или секретность исследований как в "чистой", так и в
прикладной науке. Почему же мы должны исключать возможность регулятивного
применения более общих, например, моральных норм? Однако, если даже допустить
такую возможность, остается вопрос: каким образом могут быть сформулированы
такие нормы и какая сила способна обеспечить их неукоснительное применение?
По моему мнению, в таких нормах должен найти выражение теоретико-
системный подход к гармонизации различных ценностных мотиваций, Кроме того,
в основу должно быть положено допущение о всеобщей ответственности. Научное
сообщество должно принять во внимание все разнообразие ценностных установок
в обществе и, следовательно, признать право различных социальных субъектов
(экономических, политических, религиозных и др.) оказывать свое влияние на
процессы, в которых реализуется право науки на свободу исследований. Такой
уровень всеобщей ответственности для своего достижения требует развития
образования в масштабах всегр общества, а также широкого соучастия ученых в
социальной жизни, что повысило бы их чувствительность к значимости
общечеловеческих ценностей. В то же время моралисты, проповедники и политики
должны лучше знать и понимать практические проблемы научных исследований.
Силы контроля
На первый взгляд, возможные конфликты между ценностными мотивациями,
правами и интересами людей науки могли бы легко разрешаться. Для этого
достаточно было бы осуществить тотальный социальный контроль над наукой,
целью которого было бы ограничение проблемного поля науки социально
приемлемыми задачами, Призывы к этому раздаются и сегодня. Но здесь возникает
ряд трудностей.
Прежде всего отметим, что целенаправленное управление наукой могло бы быть
эффективным только в том случае, если око осуществляется общественной властью.
Но это превратило бы "общественное управление5' наукой в "политическое
управление". Мы знаем, что успешное контролирование науки являлось одной из
привилегий тоталитарных режимов. Подоплекой такого "успеха" являлось существенное
ограничение свободы в обществе. Но и при демократических режимах политический
контроль также неизбежно приводил бы к односторонности оценок,
идеологическим вмешательствам в исследовательские процессы, к давлению политических
группировок. Другими словами, наука просто стала бы "служанкой власти".
Помимо этих практических трудностей, существуют еще и принципиальные:
из принятия тотального социального контроля за научными исследованиями,
стремящегося подчинить себе их целевую ориентацию, вытекало бы два весьма
сомнительных следствия. Во-первых, из благого- пожелания гармонизировать все
ценностные установки получилось бы существенное ограничение свободы науки.
Под предлогом "социальной бесполезности" или "социальной опасности" некоторых
исследований стал бы осуществляться внешний прессинг интеллектуальной
деятельности, от которого так мучительно освобождалась современная наука, выигравшая
свою историческую битву.
38
что наука обязана быть "ориентированной на
социальные цели", то обязателен вопрос, кто будет определять эти цели? Сказать,
что эти цели определяет само общество, было бы наивно. Общество — некая
абстракция, которая вряд ли годится на роль субъекта, определяющего цели
конкретных научных проектов. Должен существовать "некто", указывающий, какие
именно общественные потребности обязана удовлетворять наука и каким именно
способом. Здесь мы наталкиваемся на проблему политической власти.
Право на свободу исследований
Любые ограничения научных исследований не должны противоречить свободе
науки. Никакое фундаментальное право и никакая общечеловеческая ценность не
могут быть вообще элиминированы. Этот принцип прямо вытекает из
универсального требования свободы мысли. Но есть еще и практическое соображение:
наука не может развиваться без личностного творчества, каковое не осуществляется
по приказу ни отдельными личностями, ни целыми институтами. Атмосфера,
лишенная свободы и ощущения самоценности знания, была бы губительной для
науки.
Но так же ясно, что гарантии свободы науки не могут противоречить столь же
очевидной обязанности науки возмещать обществу те расходы, какие оно несет
за развитие научной деятельности. Общество должно хорошо понимать свои
собственные интересы: творческие потенции, личностная инициатива, критицизм
и духовная раскрепощенность членов общества — все это несомненно входит
в круг его "интересов". И если наука способствует развитию этих качеств, она,
конечно, вносит свой вклад в улучшение общественной жизни.
Ответственность науки
Однако ориентирование науки на удовлетворение основных социальных
потребностей и осуществление фундаментальных прав человека не только оправдано,
но и в высшей степени желательно. Это не означает, что любое научное
исследование должно стать прикладным или ориентированным на непосредственные
практические цели. Сами ученые должны решать, по каким направлениям
развиваться научному поиску. Но это "самоопределение" не должно пониматься
примитивно. Его смысл в том, что научное сообщество должно во все большей
степени вовлекаться в обсуждение и реализацию социально значимых проблем.
Это оказало бы значительное влияние на постановку научных целей в
интересах общества, стало бы дополнительным стимулом для развития современной
технологии,, в которой находят применение достижения науки. Но призыв служить
общественным нуждам, обращенный к науке, имеет моральную силу; это не формула
долга или общественной повинности, а воззвание к ответственности каждого
ученого и научного сообщества в целом. Только свободное и разумное существо
может обладать чувством ответственности.
Когда проблема рассматривается именно в этом свете, падает большая часть
трудностей, возникающих из-за абсолютного противопоставления прав науки и"
прав общества. Ученый — член общества и поэтому обязан воспринимать проблемы
общества. Говоря "обязан", мы прибегаем к категории "долженствования" —
единственной категорий, в которой соединяется свобода и долг так, что это не
противоречит человеческому достоинству. Ответственным человеком является тот, кто
сознает свои обязанности и готов исполнять их. Ученые уже привыкли уважать
некоторые обязательства их профессии. Главным образом они связаны с тем,
что называется "интеллектуальной честностью". Но другие обязанности, вытекающие
из контекста научной деятельности, воспринимаются не так легко. Пришло время
привыкать и к этим обязанностям. В этом единственная гарантия того, что
люди сохранят доверие к науке и перестанут бояться ее. Ведь страх возникает
из-за того, что в науке и технологии видят только слепую силу, не знающую
над собой контроля.
Но если бы люди обрели уверенность в том, что научные процессы идут
не вслепую, что за ними стоят мудрые и ответственные решения тех, кто
направляет эти процессы, укрепилось бы и положительное отношение к науке и тех-
39
нологии. Есть еще одна причина тревоги, весьма характерная для современного
общества — это падение чувства долга и чрезмерный акцент на правах
человека. Ведь чувство безопасности в обществе покоится только на уверенности
в том, что каждый член этого общества выполняет свой долг. В этом гарантия
уважения и всех наших прав, И это одинаково верно и по отношению к
отдельным индивидам, и к институтам, и к большим предприятиям: наше доверие
основывается на обязанностях уважать наши права.
Влияние науки на этику
Все, что было сказано о всеобщей ответственности как духовном основании
морального и правового регулирования науки, свидетельствует не только в пользу
"демократических" способов решения этой неотложной проблемы, но и о
необходимости более глубокого понимания связи между наукой и этикой, понимания,
требующего теоретико-системного подхода, о котором я упомянул выше.
Действительно, рассматривая эту связь, было бы недостаточно учитывать влияние этики
на науку, о котором шла речь до сих пор. Не менее важно влияние науки
на разработку этических и моральных норм. Ограничимся только несколькими
замечаниями. Спецификация таких основных понятий этики, как свобода, обязанность
и природа человека, необходимая для применения этих понятий в анализе
конкретных человеческих действий, нуждается в привлечении результатов некоторых
наук, в особенности наук о человеке (биологии, генетики, нейробиологии,
психологии и социологии). Без правильного использования информации, какую дают
эти науки, этика не могла бы судить о современном человеке, тем более,
что в наши дни люди уже по-новому смотрят на себя и считали бы этику,
игнорирующую научные знания о человеке, безнадежным анахронизмом.
Прогресс науки уже создал и впредь будет создавать новые и неожиданные
ситуации, для ориентирования в которых нынешние моральные нормы вряд ли
пригодны. Он открывает также новые возможности для человеческого действия,
и поэтому человек должен делать выбор в таких ситуациях, какие в прошлом
вообще находились вне человеческих решений. Если этика, вообще говоря,
рекомендует человеку "поступать так, как должно", то без помощи других наук
она не могла бы ответить на вопрос "как должно поступать?" в конкретных
ситуациях. Что касается науки, то она не претендует на то, чтобы отвечать
на такой вопрос, ибо сам вопрос не является научным, но она могла бы помочь
этике найти ответ.
Заключение
Мы приходим к выводу, что нужна саморегуляция научных исследований и
технологии. Но сама по себе саморегуляция научного сообщества практически
недостаточна и уязвима для критики. Научное сообщество не вправе
рассматривать себя как замкнутую систему, отвергающую внешний контроль. Нужна
определенная правовая регуляция его деятельности. Исторический вызов нашего времени
состоит в том, чтобы выработать основы такой регуляции, опираясь при этом
на плодотворное, ответственное участие самих ученых.
В то же время такая регуляция должна быть разумно гибкой, за
исключением, конечно, смертельно опасных ситуаций, когда управление наукой
осуществляется с помощью тех же средств, какими всякая общественная власть
добивается исполнения законов. В прочих ситуациях должны действовать более
гибкие нормы, основанием которых служат ценностные "кодексы", принятые
различными профессиями. Но самая важная проблема — это не нормы. При всей
их важности, гораздо важнее привычка правильно оценивать конкретную ситуацию,
в которой трудно применять какую-либо норму, чтобы предотвратить
столкновение различных ценностных мотиваций. И опять-таки положиться на чью-то
ответственность — лучший способ удержать науку под контролем, не унижая при этом
ее интеллектуальные и практические завоевания.
Перевод В.Н. Поруса
40
оюнн*»мзд&оэ Rim
Когнитивные науки
на историческом фоне
Заметки философа*
г. кюнг
Настоящий вводный доклад, как и все сообщения первого дня заседаний,
заявлен под рубрикой "Подходы". В нем я собираюсь прежде всего рассмотреть
тему когнитивных наук в более широком историческом контексте. Это значит,
что вам не будет предложен образчик философского анализа, моя задача —
широкими мазками обрисовать развитие философии в Новое время, напомнить,
что психология как экспериментальная наука выросла из философии, и показать,
как соотносится с этим фоном когнитивная психология, образующая "твердое
ядро" интересующих нас здесь когнитивных наук.
Перечислением исторических фактов я не ограничусь, а в первую очередь
попытаюсь изложить свою собственную точку зрения и свои оценки. Итак,
мною выделяются те линии развития, в которых я уверенно ориентируюсь и
которые представляются мне наиболее важными. Кое-что может показаться вам
необязательным, что-то вы оцените иначе. Однако я выбрал позицию
заинтересованного наблюдателя, и она кажется мне наиболее плодотворной для
предстоящей дискуссии, сулит дать наиболее сильные импульсы для нее, причем именно
в тех случаях, когда она позволяет увидеть некоторые вещи в новом для вас,
непривычном освещении.
Поскольку на нашем симпозиуме важное место отведено проблематике
повседневности и культурному многообразию человеческого познания (Kognition), то я во
втором и третьем разделах моего сообщения скажу, в частности, о том, как
видятся мне эти темы с моего наблюдательного пункта. Но и здесь я смогу
рассказать лишь о современном состоянии дискуссии, как оно мне
представляется. К сожалению, подробное ознакомление с соответствующей философской
аргументацией завело бы нас слишком далеко,
1. Историческое развитие философии и психологии
от Декарта до наших дней
IX Философия сознания и зарождение
экспериментальной психологии в Новое
Когда Галилей (1564—1642) в своей новой математической и детерминистской
физике ставил под сомнение восходящую к Аристотелю философскую традицию,
♦Работа написана для коллоквиума Швейцарской Академии гуманитарных наук
"Обыденное знание. Когнитивный подход в междисциплинарном диалоге", состоявшегося с 24 по
79 сентября 1990 г. в Мер пшене.
41
Декарт (1596—1650) бился над новым синтезом, который должен был, с одной
стороны, подвести надежный фундамент под гзлилеево естествознание, а с другой,
уберечь духовные ценности от материалистического механицизма. Он полагал,
что нашел решение этой проблемы в жестком разделении первично данного
духовного сознания и лить разгадываемого мира протяженных тел. Такой
последовательный дуализм в свою очередь сразу же породил серьезные проблемы,
но во-первых, он указал естествознанию самостоятельную сферу исследований,
а во-вторых, открыл для философского анализа независимую от естественных наук
область, — область сознания. Тем не менее еще долгое время наука о природе
и наука о сознании рассматривались как ветви философии, и Декарт, как и
Лейбниц, работая одновременно в обеих областях, проторили путь для
дальнейших исследований, Однако можно сказать, что позднейшее деление на
экспериментальное естествознание и философию, преимущественно ориентировавшуюся на
анализ сознания и теорию познания, уходит корнями в построения Декарта.
Первые камни в фундамент возникшей науки о сознании заложили
рационалисты, но затем ведущая роль в деталькой аналитической работе перешла к
эмпиристам; кульминация здесь приходится на монументальное творчество Юма
(1711—1776). Важным новшеством оказалась разработанная при этом идея
психологической науки, расцениваемой ничуть не ниже физики: если физика трактует
о материальных телах, управляемых законами гравитации, то теперь следовало
создать науку о впечатлениях й идеях, сочетающихся по законам ассоциации.
Особенно энергично работали над созданием такой ассоциативной психологии Дэвид
Гартли (1705—1757) и Джозеф Пристли (1733—1804).
В результате развития точной физиологии органов чувств в начале XIX века
интерес исследователей во 2-й половине этого же столетия обратился к иному
типу законов — законов психофизического взаимодействия (сюда относится,например,
закон Вебера-Фехнера). Благодаря згой взаимосвязи психических и физических явлений
наука о сознании, позиции которой на первых порах были еще довольно шатки,
смогла подключиться к строгим методам физики. Всюду открывались
психологические лаборатории, и новая экспериментальная психология — в первую очередь
стараниями Вильгельма Вундта (1832—1920) — распространилась по всему миру.
Уже вскоре психологи, уделявшие серьезное внимание методологической стороне,
постарались полностью изгнать субъективный, интроспективный момент из своей
науки и приступили к разработке бихевиористской психологии "без души". Начало
было положено учеником Вундта, русским исследователем В.М. Бехтеревым (1857—
1927), который уже в 1899 г. работал над созданием так называемой "объективной
психологии". А в 1912 г. американский психолог Джон Б. Уотсон уже говорил
в своих лекциях о "бихевиоризме".
1.2. Ненаучные течения в философии еоеле Юма
Исследования сознания Юмом были проведены настолько тщательно и с такой
последовательностью, что они вырвали Канта (1724—1804) из — как он сам
выразился, — "догматического сна" его метафизики, отмеченной на первых порах
печатью рационализма. С другой стороны, метод Юма отличался такой строгостью,
т.е. узкой эмпиричностью, что стали явно проступать признаки скептицизма как
следствия эмпиризма, еще незаметные у Локка. Сам Юм всячески подчеркивал,
что из сколь угодно большого числа отдельных эмпирических фактов нельзя
вывести общезначимого закона. Это значит, что естественнонаучные и
психологические законы не могут быть оправданы эмпирически в строгом смысле,
а оказываются на поверку лишь обобщениями, базирующимися на естественных
привычках человеческого мышления. Такое отрицание необходимой природы законов
естествознания было неприемлемо для Канта, и он был счастлив, когда ему
удалось "спасти** по крайней мере необходимость всеобщих основополагающих
начал естествознания, придав рационалистическому учению о врожденных идеях
новый облик учения об априорных формах и категориях познания.
Как ни парадоксально, именно эти усилия Канта по "защите** необходимости
научных истин послужили исходным пунктом ненаучных течений XIX и XX веков.
Решающую роль при этом играло характерное практически для всех философов
Нового времени (за вычетом Лейбница) незнание логики, Так Кант считал возможным
доказать, что все аргументы рационалистической метафизики в связи с их
42
ангиномичностью не имеют силы и что тем самым опровергается возможность
научного познания вещей в себе; что естественные науки могут исследовать только
явления вещей, продуцируемые познающим духом. Гегель же полагал, что
историческое раскрытие духа и развитие его научных и культурных порождений
необходимо исследовать посредством диалектики, превосходящей нормальную научную
логику. Хотя Гегель надеялся подойти на этом пути к открытию истинной науки,
такой подход открыл простор для бесконтрольных спекулятивных рассуждений;
воцарился ненаучный стиль философствования. Одновременно в ходе
индустриализации, а затем и мировых войн, все более стали проявляться теневые стороны
научно-технического прогресса, что дало новую пищу для антинаучной тенденции,
Неудивительно, что вплоть до наших дней продолжают существовать ненаучные
и антинаучные философские течения в лице идущих от Гегели марксистов,
ницшеанцев, бергсонианцев, экзистенциалистов и герменевтиков.
1.3. Прорыв к современной науке
о человеческой деятельности
13*1. Феноменология и аналитическая философия
как обновление научно«ориеятира&ашшй философии
Фундаментальное обновление философии началось уже во времена Вундта,
оно связано с именами Франца Брентано (1838—1917) и Готдоба Фреге (1848—
1925). У Фреге речь шла о новом подходе, который до него можно было
встретить разве что у Лейбница и который был связан с возрождением
формальной логики. Что касается Брентано, он продолжил анализ сознания, начатый еще
Декартом и Юмом, причем принципиально новое здесь было связано с обращением
к Аристотелю, с новым открытием интенционального отношения. Благодаря этому
стало возможным преодолеть ограниченность эмпиризма Юма, а поворот к
Аристотелю восстановил доступ к пониманию значения формальной логики. Таким
образом в философии на стыке столетий (то есть почти в одно время с
бихевиоризмом в психологии!) сформировалось новое методологическое сознание, причем
одновременно происходило расширение горизонта философии сознания, разорвавшее
границы, установленные Декартом.
После Фреге в аналитическом направлении работал главным образом Бертран
Рассел (1872—1970), который ввел в философию метод логического анализа языка.
Здесь на первый план выдвигались уже не содержание сознания: в центре
внимания оказались правила языка. А правила языковых структур, как стало ясно
в основном после работ Людвига Витгенштейна (1889—1951), необходимо увязывать
с правилами речи, т.е. с правилами основополагающей формы человеческой
деятельности.
В феноменологии, претерпевшей дальнейшее развитие в трудах Эдмунда Гуссерля
(1859—1938) также происходило преодоление психологизма и открытие объективных
структур, — на этот раз на базе метода анализа интекциональной корреляции
между актами мышления и мнимыми предметами. Однако Гуссерль оказался в
плену трансцендентального идеализма, и только в последнее время ряд
феноменологов занялись проблемой включения результатов гуссеряианекого анализа
в разработанную в рамках аналитической философии реалистическую философию
человеческой деятельности.
1.3.2. Преодоление бихевиоризма когнитивной психологией
С бихевиоризмом связан также перенос центра тяжести в экспериментальной
психологии с сознания на поведение организма. Вместе с тем методологическая
строгость привела к предельному сужению тематики, ограниченной системами
функциональных корреляций между внешними стимулами и поведенческими реакциями
организма. Сужение тематики было встречено критиками в штыки и в конечном
счете изжито. (Стоит сравнить в этой связи носящие иной характер, однако
также сочетающие как пользу, так и исключительную крайность, методологические
сужения, которые были принесены эмпиризмом Юма в XVIII веке и
неопозитивизмом Венского кружка в 30-е годы XX столетия.)
43
Окончательное преодоление ограниченности классического оихевйоризма^Стало
возможным только в недалеком прошлом и связано оно было с когнитивным
поворотом, т.е. с рождением когнитивной психологии, которое можно датировать
1956-1960 годами (подробнее об этом говорится в докладе Речицки). Поворот
этот произошел благодаря прогрессу в более широком окружении аналитической
философии. Метаматематика и питаемое теорией науки методологическое сознание
привело к разработке компьютерной науки (Тюринг Машинен", 1936) и лингвистики
трансформационных грамматик (3. Харрис, Н. Хомский, 1957). Эти новые
вспомогательные средства уже не позволяют современному психологу игнорировать то,
что протекает в "черном ящике" сознания или мозга, чем грешил классический
бихевиоризм. Мало того, психолог может с помощью компьютерных программ
попытаться смоделировать эти процессы в рамках новой теории искусственного
интеллекта. Опираясь на это, психология достигла такого уровня современной
науки о человеческой деятельности, где равным образом исследуются как "внутреннее"
планирование, так и реализация планов во "внешнем" действии, и, конечно,
"интерсубъектная" коммуникация.
1.3.3. Предварительные итоги
Изложенное выше позволяет наглядно представить место интересующей нас
когнитивной психологии в схеме развития философии Нового времени.
Декарт
Юм
Ассоциативная
психология
Вундт Брентано Фреге
Бихевиоризм Гуссерль Рассел
Неопозитивизм
Венского кружка
Когнитивная
Современная аналитическая
психология L ^ философия человеческой
деятельности
Разумеется, в эту схему для полноты можно ешс многое добавить, но время
мое ограничено, и кроме того нужно учитывать, что перегруженный рисунок
плохо воспринимается. Как видно из схемы, я придаю особое значение связи
когнитивной психологии (и вместе с тем когнитивных наук в широком смысле)
с аналитической философией человеческой деятельности. На рисунке не обозначены
перекрестные связи, однако хорошо известно, что научная психология вместе
с бихевиоризмом уже интегрирована в научно-теоретические дискуссии аналитической
философии. Помимо того когнитивный поворот, как уже говорилось, осуществился
под влиянием метаматематики, логики и теории науки. Следовательно, вполне
очевидно, что когнитивная психология сохраняет тесную взаимосвязь с
аналитической философией и в рамках новейших дискуссий.
Но мне дорога и средняя линия на схеме, а здесь интеграция продвинулась
меньше, да и осуществить ее сложней. К примеру, двойные стрелки на схеме
призваны указать, что на мой взгляд не только преодоление бихевиоризма и
неопозитивизма, но и феноменологическое преодоление эмпиризма относятся к
важнейшим моментам расширения горизонта. Однако линия научной психологии
разветвляется до "брентановской революции", а значит и не обогатилась
феноменологическими данными. Линия аналитической философии также пролегала сначала
мпо соседству** с феноменологической линией, и лишь в последнее время в
аналитическую дискуссию благодаря исследованиям Родерика М. Чисхолма, Джона
44
Сёрля, Дагфина Феллесдаля были включены вопросы интенциональности1. Что же
касается прямых объяснений между феноменологией и когнитивной психологией,
то впервые полемику с исследованиями в области искусственного интеллекта
завязал Хуберт Дрейфус; кроме того важные импульсы к дальнейшему
продвижению содержатся в работах присутствующих здесь наших коллег Эльмара
Холленштайна и Эдуарда Марбаха2. Хочется надеяться, что эта дискуссия найдет
плодотворное продолжение, поскольку тут возникают решающие вопросы, касающиеся
взаимоотношения человека и машины, с которыми надлежит разбираться как
феноменологии, так и когнитивной психологии.
2. Обыденное мышление -» точка пересечения когнитивной
психологин, аналитической философии и феноменологии
Интересно отметить, что сегодня тема обыденного мышления имеет решающее
значение во всех трех выделенных мною течениях, причем по совершенно различным
причинам.
2.1. В когнитивной психологии
Будучи экспериментальной дисциплиной, когнитивная психология занимается
исследованием реально существующего мышления. В отличие от логики, являющейся
нормативной наукой, когнитивная психология, следовательно, интересуется не
идеальными нормами, но мышлением, которое фактически имеет место в конкретном
человеке, а значит и в конкретной повседневности. В связи с этим ее задачи
пересекаются с задачами социологии и этнологии, и неудивительно, что когнитив- •
ный поворот в психологии был встречен там с особым вниманием, хотя, надо
заметить, разрыв между распространенным в когнитивной психологии компьютерным
моделированием и в основном куда менее строгими моделями в социологии
и этнологии весьма велик.
2.2. В аналитической философии
В этом философском направлении, истоки и фундамент которого связаны с
логикой, ведутся работы главным образом по конструированию идеальных языков3.
Дело в том, что для естественных языков с их многозначными выражениями и
исключительно сложными грамматическими структурами едва ли можно указать
точные правила логического умозаключения. Первое время эти идеальные языки
(т.е. эти логические конструкты) были изрядно примитивными. Ведь всюду, где
человек строит системы и машины, первые опыты всегда вынужденно просты, и лишь
дальнейшие результаты постепенно делаются сложнее и заслуживают большего
внимания.
И тем не менее уже очень скоро в аналитической философии также возник
интерес к естественным языкам. Это безусловно связано прежде всего с влиянием
Витгенштейна. С помощью теории отображения для идеальных языков, изложенной
в его "Логико-философском трактате", он вообще намеревался раскрыть тайну
функционирования языка. Но затем он обнаружил, что для этого необходимо
учесть все многообразие способов употребления в естественных языках. Однако
и он, и вдохновленная им Оксфордская школа (Райл, Остин, Стросон и другие)
упорно придерживались убеждения, что функционирование естественного языка
нельзя описать той или иной систематической теорией. По их мнению,
естественный язык допускает возможность наличия бесконечно большого и
гетерогенного множества языковых игр, а философия поэтому должна удовольствоваться
терапевтической задачей и лишь от случая к случаю может предостерегать от
"выражений, систематически вводящих в заблуждение" ("systematically misleading
expressions", т.е. выражений, вводящих в заблуждение философа, который хочет
навязать им некую систематику).
И все же развитие все более содержательных идеальных языков благодаря
работам логиков указало на выход из этого витгенштейнова тупика. Дело в том,
что со временем логические конструкты по своей комплексной эффективности все
более приближались к естественным языкам. С другой стороны, приверженцы
45
трансформационных грамматик в своих лингвистические теориях использовали
определенные идеальные языки логиков для передачи так называемых "глубинных
структур" естественных языков. В результате исчезла пропасть, со времен Рассела
разделявшая филологическую науку о языке и логику, что открыло возможность
интенсивного сотрудничества лингвистики и логики. В современной аналитической
философии это привело и к исчезновению противоречия между "философией
обыденного языка" ("ordinary language philosophy") и философией: в
рассуждениях философии языка сегодня ссылаются равным образом на комплексные теории
как лингвистов, так и логиков.
"Горячей" темой логики, философии и языкознания наших дней стали "indexicals".
т.е. местоимения, зависящие в своем функционировании от речевой ситуации,
указательные местоимения и т.д. В них мышление проявляется уже не как
мышление некого чистого сознания, а однозначно как мышление человеческого
индивида с характерной для него укорененностью в конкретном материальном
и социальном окружении.
Другой пример того, как логика по собственной инициативе обращается к
обыденному мышлению, встречается в эпиетемической и деонтической логиках.
В них быстро осознали, что ни один человек в конкретной жизни не в состоянии
обозреть всех логических следствий, вытекающих с идеальной точки зрения
из разделяемых им убеждений и взятых им на себя обязательств. Иными словами,
было признано, что к рациональности конкретного человека нельзя предъявлять
нереалистически высоких требований. В связи с этим логики и теоретики в области
принятия решений видели перед собой задачу нахождения норм, позволяющих
проводить различие между тем, чем человек на разумных основаниях может
пренебречь, и тем, что в определенной ситуации оказывается релевантным и
потому должно быть принято во внимание.
Этот и другие примеры показывают, что в наши дни с проблемами
повседневного мышления интенсивно работают не только в психологии и социологии,
но и s логике и в аналитической философии.
2.3. В феноменологии
В этой области многое, что рассматривается сегодня иод рубрикой
обыденных языков в логике, лингвистике и аналитической философии, уже давно стало
предметом изучения. Так, Гуссерль в "Логических исследованиях" под ключевым
словом "окказиональные значения" рассматривает "indexicais", а принципы теории
речевого акта еще до Остина и Сёрля обсуждались философами-феноменологами
(такими как Антон Марти, Александр П фейдер, Гуссерль, а главное — Адольф
Райках)4. Кроме того, в феноменологии Гуссерля под ключевыми словами
"воображаемая вариация", "горизонт", "седиментация" встречается множество материала
по равно важным как в аналитической философии, так и в психологии, темам
лингвистического и нелингзистического содержания. Однако эти феноменологические
штудии были преданы забвению и лишь в наши дни, в свете современного
философского развития переживают свое второе рождение.
В отличие от этого феноменологические исследования явлений человеческой
телесности не знали таких разрывов. Развивая импульсы, данные Гуссерлем,
экзистенциалисты и прежде всего Мерло-Понти рассматривали эту тему как
приоритетную. Отсюда выросло сотрудничество психологии и психиатрии5, особенно
в отношении психиатрических исследований искаженного мировосприятия у
душевнобольных. Но как это раньше случалось с феноменологическими влияниями на
психологию мышления и гештальт-психологию, речь и здесь не шла о
сотрудничестве с "main stream", "главным потоком" научной психологии.
Основная линия постоянно ведущихся феноменологических исследований
проблематики повседневности шла от последнего труда Гуссерля "Кризис европейских
наук и трансцендентальная феноменология"'. В нем выделяется тема "жизненного
мира" и делается попытка показать, как научное познание исторически выросло
на почве этого жизненного мира. Здесь вскрываются связи с социальными науками,
причем в этой области до сих пор сохраняют основополагающее значение труды
ученика Гуссерля, Альфреда Шютца, где он систематически исследует отношение
жизненного мира к его феноменологическому я социологическому описанию.
46
Nn««v '- и-:Зв фундаментальная философская проблема:
множественность миров н познаваемость
единой действительности
Как мы видели, в центре внимания философов оказалось сегодня обыденное
мышление. Существует спрос на научные исследования повседневной жизни. Однако
нужно иметь в виду, что конкретные формы жизни и познания существенно
различаются в культурном плане, и даже для формулирования задачи научного
исследования этих жизненных форм предлагаются весьма несхожие варианты,
Помимо этого возникает вопрос, адекватно ли вообще самому предмету при
исследовании обыденного мышления подходить к объекту описания —
повседневному мышлению — с научным типом формулирования, находясь в позиции "извне"?
И как учесть тот факт, что сам исследователь укоренен в его собственной
повседневной и научной культуре? Не искажает ли поневоле эта укорененность
те результаты, которые исследователь предполагает получить при изучении чужой
для него культуры?
Речь идет здесь о множестве сложных вопросов и проблем, нуждающихся
в тщательной сортировке на основании аналитического подхода и в детальном
исследовании, руководствующемся конкретными случаями. Ведь существует опасность,
что в один котел поспешно могут быть ссыпаны различные вещи, и в результате —
после сдабривания соусом модных предрассудков — получится никому не нужное
варево.
Когда готовился этот симпозиум, мне бросилась в глаза быстрота, с какой
из факта множественности культур и познавательных форм делаются скептические
выводы о возможности познания действительности. По этой причине мне
представляется уместным остановиться на развитии, которое претерпели исследования
этой проблематики в профессиональной философии. Ведь широко
распространившийся ныне скептицизм проистекает видимо не столько из научной практики,
сколько из только частично понятых философом.
3.1. Основные позиции в теории познздшя
Нового времени
В философии Нового времени познаваемость действительности с самого качала
стояла под вопросом, причем куда в большей степени, чем в ранние эпохи.
Ибо физика Галилея радикально отграничила научную картину материальной
действительности от обыденной картины этой действительности, а Декарт столь же
радикально отделил идеи, составляющие содержание сознания, от внешнего мира,
трансцендентного по отношению к этим идеям. В связи с этим спор о
возможности познания действительности, начиная с Декарта и кончая XIX веком, а то
и более поздними временами, носил отпечаток парадигматической
противоположности реализма и идеализма. Вопрос формулировался так: познаем ли мы
только наши собственные идеи, "образы" вещей или мы можем заключать о
существовании и даже свойствах внешнего мира, скрытого "позади** наших идей?
Главных позиций было три: а) реализм: существует независимый от человеческого
сознания внешний мир, и мы можем раскрывать его существование и его
устройство; о) позиция Канта: существует "вещь в себе", ко она, будучи таковой,
для нас непознаваема; в) идеализм: допущение действительности, существующей
независимо от нашего сознания, бессмысленно. Ядро, общее для всех трех
позиций, заключалось в убеждении, что мы можем непосредственно познавать только
нас самих и наши собственные идеи. Это значит, что если вообще и имеется
существующая "сама по себе" действительность, то она доступна нам не прямо,
а лишь косвенно, через посредство причинного умозаключения.
3.2. Смени парадигм в современной теории познания
Сегодня философы-профессионалы как феноменологического, так и
аналитического толка называют вышеупомянутое фундаментальное убеждение "картезианским
репрезентационализмом", который практически повсеместно отброшен. Итак, как
принято говорить, произошла смена парадигм. И все же среди нефилософов
еще долгое время сохранялось старое представление об идеях или "образах1',
47
которое издавна входило как составная часть в систему общего образования.
Это особенно важно для психологии, которая должна бы располагать точными
сведениями об интенциональности и "mental images"» "ментальных образах".
Указанную смену парадигм можно охарактеризовать и тем, что современные
философы опасаются в первую очередь уже не недостатка, не скудости знания
истины, а его избытка, "излишка"! Современные мыслители ломают голову не
столько над возможностью того, что вероятно ни одна из наших теорий
не соответствует действительности в себе, сколько над тем обстоятельством,
что так много теорий вполне, пожалуй, ей соответствуют. Если прежде
господствовала позиция Канта, согласно которой трансцендентная по отношению к
сознанию реальность непознаваема, или позиция мистицизма, согласно которой вообще
не существует подобной трансцендентной реальности, то в нынешней философии,
обращенной к конкретному повседневному мышлению, едва ли можно найти
философа, который отважился бы всерьез оспаривать убеждение "здравого смысла",
по которому трансцендентная по отношению к нашим рассуждениям и желаниям
материальная действительность существует, и мы много (если не всё) о ней знаем.
Интересно, что в основе заострения проблематики на "излишке" истины лежат,
скажем, не соображения о культурном многообразии повседневных миров, а научный
прогресс и весьма технизированные исследования в области теории науки. В связи
с этим я позволю себе напомнить об отдельных этапах этого процесса.
3.2.1. Открытие неклассических теорий
Кант еще верил в то, что может существовать только одна надежная
естественнонаучная теория, а именно — ньютонова, и поэтому постулировал
незыблемые априорные формы и категории, однако прогресс науки и научной
теории уже вскоре подорвал это воззрение. Так, наряду с евклидовой геометрией
были разработаны неевклидовы системы, причем Эйнштейн в своей теории
относительности отдал предпочтение для приложения к физике именно неевклидовой
системе. Далее, как следствие кризиса основ, вызванного наличием антиномий,
в математике были выработаны весьма разнородные решения, нк одно из которых
не смогло утвердиться в качестве единой истинной теории. Мало того, даже
используемые в этих теориях логики отличались друг от друга, и, к примеру,
интуиционистская математика отрицала классический логический принцип!
исключенного третьего. Вслед за этим в теориях науки Пуанкаре, Карнапа и других
ученых сформировался конвенционалистский подход, где уже не шла речь —
как у Канта — о неком априорном знании, определяющем научный разум, а где,
напротив, этому разуму предоставлялась свобода выбора в отношений аксиом и
дефиниций той или иной теории.
Тем самым, однако, не было доказано, что среди научных теорий также
имеются вполне равнозначные альтернативы- Правда, корпускулярная и волновая
теории света, например, оказались фактически настолько равноценны, что
используются как одна корпускулярно-волновая теория, но тем не менее в принципе
все теории поверялись прагматическими критериями простоты и удобства в
практическом применении. И тут все еще живуча оказалась концепция Пирса, по
которой в конце научного прогресса останется одна, единственная,
зарекомендовавшая себя как лучшая теория, т,е. истинная теория. Хотя конец процесса
развития науки представлялся Пирсу де-факто недостижимой целью, чисто
регулятивной идеей в смысле Канта, тем не менее он полагал, что по мере своего
развития наука все более приближается к этой пели.
3.2.2. Открытие непрнводнмо различных,
но в точности рашшзн2!Ч1!ых теорий
Отход от этой линейной модели прогресса оформился в 1951 году в
исследованиях Нельсона Гудмена по разработке систем с помощью теории множеств
или мереологии6. Здесь легко делается вывод о том, что, например, система
евклидовой геометрии, т.е. система евклидова пространства, может быть построена
различными способами. Дело в том, что можно по-разному выбирать не имеющие
пока определения основные термины и сами определения; и тем не менее эти
системы будут очевидно равнозначными: все это будут полные системы евклидо-
48
в©й< геометрий; t? "другой стороны не имеет смысла стремиться включить эти
системы в единую суперсистему: ибо один определенный термин в одной
системе не может одновременно иметь определение и не иметь его; а система,
где все термины не имели бы определений, была бы совершенно бесполезной.
Итак, перед нами пример альтернативных теорий, причем абсолютно ясно,
что они по своей структуре неприводимо различны и одновременно равнозначны
друг другу. Все это очевидно, и было бы глупо из различия этих теорий делать
вывод о том, что евклидово пространство представляет собой непознаваемую
тайну, а каждая из этих систем есть только несовершенное приближение к ней.
Что касается материальной действительности, то еще вовсе не установлено,
будто в пространственном отношении она отвечает евклидовой геометрии. Однако
вполне можно допускать и для нее, что существует множество равноценных
теорий. Ибо для каждого вида пространства и для каждой непространственной
области можно аналогичным нашему примеру способом образовать множество
равнозначных теорий.
3.2.3. "The world is many ways"
В связи с этим Гудмен пришел к новой в теооии познания точке зрения,
которую он однажды сформулировал так: "У мира множество путей" ('The world
is many ways")'. Слово "мир" в этой цитате подразумевает действительность.
Согласно Гудмену действительность не сокрыта от нас, но систематически постигать
ее можно не только одним способом, но множеством способов. Конечно, существуют
системы, не согласующиеся с нашим опытом; но вместе с тем имеется и
множество различных систем, которые все подходят ("fit"), причем, как мы уже видели,
некоторые из них представляют собой полностью равнозначные альтернативы.
Исходя из философии "множества путей" Гудмен развил и содержательную
философию искусства, ибо произведения искусства также могут заставить нас
взглянуть на действительность совершенно новыми, разнообразными способами8.
К сожалению, Гудмен дал своей концепции название, которое может ввести в
заблуждение, — "ирреализм", поскольку под "реализмом" он понимает установку,
согласно которой только одна система может быть правильной. Он также
подчеркивает, что лишь избранный для каждой системы способ идентификации индивидов
"делает" то, что индивиды имеются в наличии, и определяет, каких и сколько
индивидов мы обнаруживаем. В этом смысле Гудмен даже говорит, например,
что мы "делаем" звезды, используя язык со словом "звезда" и таким образом
"делая" звезды релевантными для нашей языковой системы единицами9.
Современная аналитическая философия по большей части просто пользовалась
следствиями из открытия Гудмена. Хилари Патнэм с его "внутренним реализмом"
опирался на нее. У термина Патнэма есть преимущество, состоящее в том, что
он уже не внушает, не суггерирует, будто действительности ке существует. Название
это выбрано не без оглядки на Карнапа, определявшего "внутренние вопросы"
как вопросы, которые можно задавать в рамках терминологии определенной
системы, тогда как "внешними вопросами" являются вопросы извне о системе,
а именно о ее полезности10. У Майкла Даммита речь идет об "анти-реализме",
поскольку он в своей философии сочетает концепцию Гудмена с соответствующим
математическому интуиционизму отрицанием высказываний об актуально бесконечном
и отождествляет реализм с утверждением высказываний об актуально бесконечном.
Важно, однако, отметить, что и Даммит не вернулся к названию "идеализм",
ибо и он не желает утверждать, будто все, что мы знаем, или даже все, что
существует, суть только идеи в том или ином сознании.
У Куайна (которого с точки зрения хронологии следовало бы упомянуть
прежде Патнэма и Даммита) концепция Гудмена увязывается с крайним
бихевиоризмом: тот, кто ведет наблюдение за одним индейским племенем, не может —
согласно бихевиористским критериям — решить, следует ли индейское слово "га-
вагаи" переводить английским словом "rabbit" ("кролик") или "rabbit stage" ("эпизод
с кроликом"). Но это только означает, что в равнозначных гудменовых системах
интендированные в них различные онтологии с точки зрения бихевиоризма не
могут быть однозначно идентифицированы внешнем наблюдателем. А поскольку
Куайн также отрицает, что говорящий в ходе рефлексии может понять из
сказанного им самим больше, чем в состоянии установить внешний наблюдатель
49
с помощью бихевиористских методов, он приходит к малоубедительному
нию, что даже для самого говорящего онтологическая референция слов "rabbit"
и "rabbit stage" существует только друг относительно друга, а не однозначно
определена в ее отношении к действительности. Отсюда следует холистский тезис
о том, что отдельные слова и высказывания могут иметь смысл только
относительно других слов и высказываний той же системы. Все эти тезисы Куайна
о неопределенности перевода, онтологической относительности и холизме
противоречивы. Вместе с тем их трудно опровергнуть, не приняв интуиции, выходящих
за пределы устанавливаемых бихевиористскими методами словоупотреблений, а
именно интуиции категориально различных онтологических сущностей. А перспектива
принятия таких интуиции отпугивает многих философов-аналитиков.
3.2.4. "Trutli-maker''-онтологии
В современной дискуссии понятие онтологии зачастую отождествляют с понятием
построенной на основе теории множеств системы интендированной онтологии.
При этом упускается из виду, что Гудмен представил доказательство того, что
одна и та же область может быть описана различными равнозначными онто-
логиями, только для онтологии в последнем смысле. Дело в том, чго только
для таких систем-конструктов он доказал, что можно свободно выбирать что должно
считаться индивидом системы.
В самых последних дискуссиях некоторые философы осознали: онтологии Гудмена
и Куайна суть искусственные конструкты, которые следует отличать от онтологии
в старом классическом стиле. В классической онтологии или метафизике шел
поиск сущностей (Entitaten) в действительности (субстанций, свойств, процессов,
событий и т.д.), которые в смысле корреспондентной теории истины могут служить
в качестве "truth maker, "истинностной составляющей", "того, что делает истинными"
высказывания об этой действительности11. Но как раз множества — согласно
единодушному мнению специалистов по теории множеств — являются по своей
природе абстрактными сущностями (Entitaten), которые ни при каких обстоятельствах
не могут быть составными частями реально-конкретной действительности, а потому
не могут рассматриваться как "истинностные составляющие" высказываний а такой
действительности.
Для реалиста "истинностные составляющие" — это главное, и он поэтому
должен задаться вопросом, существуют ли и в онтологиях "истинностных
составляющих" полностью равнозначные альтернативы. Иные философы, например,
принимают во внимание, что разработанная онтология сущности и разработанная
так называемая онтология процесса могут одинаково хорошо подходить к
действительности, но это еще не доказано12. И даже если это было бы доказано, то зто
ке означало бы, что действительность непознаваема. Ибо до тех пор пока
философы вместе с Гудменом отличают теории, сочетающиеся с нашим опытом,
от теорий, не сочетающихся с ним, их нельзя еще считать скептиками.
Утверждение Фейерабенда "anything goes" ("все дозволено") и другие аналогичные
"постмодерные" высказывания таких философов, как Рорти и Деррида, перехватывают
через край и не могут быть оправданы обрисованной здесь проблемной ситуацией.
Примечания
lSchuwey В. Chisholm uber Intentionalitat. Bern, 1983; Searle J. Intentionality.
Cambridge University Press, 1983 (немецкий перевод: Frankfurt a.M., 1986; французский перевод:
Paris, 1985); Stegmuller W. Phanomenologe und analytische Philosophic nach Dagfinn Fvedlesal. —
in: Stegmuller W. Hauptstromungen der Gegenwartsphilosophie. Bd. 2, 8. Auflage.
Stuttgart, 1987.
2Dreyfus H.L.. Hall H. (Hrsg.). Husserl, Intentionality and Cognitive Science. Cambridge
Mass., 1984; HolensteinE. Natural and artificial intelligence. — in: IhdeD., Silverman H.J.
(Hrsg.). Descriptions. Albany NY, 1985, pp. 162-174; его же: Maschinelles Wissen
und menschliches Bewuptsein. —Studia Philosophica, 46. (1987), S. 145-163; его же: Eine Maschi-
ne im Geist: Husserlsche Begriindung und Begrenzung kunstlicher Intelligenz. — Phanomenoiogische
Forscrtungen, 21 (1988), S. 82-113; Mar bach E. On using intentionality in empirical
50
у'. ТпефТоШт of"*'mental images". — Dialectica, 38 (1984), pp. 202-229; его же: How to
study consciousness phenomenologically or quite a lot comes to mind. —7 Journal of the
British Society for Phenomenology, 19 (1988), pp. 252-268; его же: Mental Representation
and Consciousness, докторская диссертация. Берлинский университет, 1990.
3Kiing G. Die Realisierung idealer Normen in einer Maschine und im Menschen. — Studia
Philosophica, 46 (1987), S. 164-170.
4Mulligan K. (Hrsg.). Speech Act and Sachverhalt: Reinach and the Foundations of
Realist Phenomenology. Dordrecht, 1987.
5Spiegelberg H. Phenomenology in Psychology and Psychiatry. Evanston, 1972.
6Goodman N. The Structure of Appearance. 1st edition. Cambridge Mass., 1951; 3rd edition.
Dordrecht, 1977.
7Goodman N. The way the world is. — Review of Metaphysics, 14 (1960), pp. 107-109;
то же — in: Goodman N. Problems and Projects. Indianapolis, 1972; новый модифицированный
вариант этой концепции изложен — in: Goodman N. Ways of Worldrnaking.
Indianapolis, 1978.
8Goodman N. Languages of Art. Indianapolis, 1976 (немецкий перевод: Frankfurt a.M.,
1972; французский перевод: Nimes, 1990).
'Goodman N. On starmaking. — Synthese, 45 (1980), pp. 211-215.
l0Carnap R. Empiricism, semantics and ontology. — Revue international de philosopie,
4(1950), pp. 20-40.
''Mulligan K., Simons P.M., Smith B. "Truth-makers". — Philosophy and Phenomeno-
logical Research, 46 (1984), pp. 287-321.
l2Haefliger G,, Kung G. Substanzen, Zustande, Prozesse, Ereignisse: Ingarden und die
analytische Genenstandstheorie. В печати.
Перевод А.Б, Григорьева
51
РОССИЯ И ЗАПАД
Поиск русской
национальной идентичности
Б. ГРОЙС
Проблема "Россия и Запад" является центральной для русской философской
традиции, для русской литературы и, в целом, для русской культуры по меньшей мере
с начала XIX века и до сего времени. Когда говорят, например, о "русской
философии9* — в отличие от просто философии в России, — то обычно прежде всего имеют в
виду дискуссии, группирующиеся именно вокруг этой проблемы, по праву полагая,
что русская мысль выразилась в соответствующих дискуссиях наиболее интересно и
оригинально. На первый взгляд может показаться, что тема "Россия и Запад" имеет
только региональное значение и поэтому не может быть интересна для философии и
культурной теорий за пределами самой России, поскольку философия занимается
поисками всеобщих истин и универсальных законов мышления. Между тем
претензия определенного типа рационального, логического и научного мышления на
всеобщность базируется на вере в то, что субъектом этого мышления является
картезианское рациональное "я**, или кантовская трансцендентальная субъективность, или еще
какая-либо форма "чистого разума". Именно эта вера описывается, однако, в русской
философии как специфически западная, в то время как сама русская философия
ставит вопрос о реальном субъекте мышления и культуры: для нее философски
понятый универсальный субъект мышления и культурного творчества является лишь
маской вполне конкретного человека западной культуры, стремящегося
представить эту свою специфическую культуру в качестве всеобщей. Россия, с точки зрения
русской философии, не является частью Запада, и поэтому она самим своим
существованием ограничивает западную претензию на всеобщность мышления — в этом и
состоит для нее самой ее специфическое философское призвание. В известном смысле
русская философия есть философски сформулированная анти-философия.
Термины "Россия" и "Запад" не имеют таким образом в контексте русской
интеллектуальной традиции исключительно географического, политического или
социологического значения. Скорее они являются шифрами для обозначения
фундаментального философского вопроса об универсальности мышления и культуры. Термин
"Запад" обозначает здесь установку на универсальную, общеобязательную,
рациональную истину по ту сторону любых различий в жизненной и культурной практике.
Термин "Россия" указывает на невозможность такой истины и на необходимость
поэтому искать решения не на уровне мышления, а на уровне самой жизни. На своем
специфическом языке русская философия стремилась таким образом описать
проблематику, которая и в наше время остается актуальной, как об этом можно заключить
по многочисленным дискуссиям относительно того, что сейчас принято называть
"логоцентризмом" в западной культуре и связанными с ним стратегиями власти.
В данной статье я постараюсь, насколько мне удастся, описать, каким
образом в контексте обсуждения проблемы "Россия и Запад" сформировались ос-
52
новные фигуры и приемы мысли, характеризующие в целом русскую философию и
сохранившие необычайную устойчивость на всем протяжении русской культурной
традиции.
1. Вопрос об особом характере русской национальной культуры встал в России
впервые в достаточно острой форме после победы России в войне с Наполеоном в
1814 г. Русские войска вошли в Париж, но русская культура очевидным образом
по-прежнему не могла соперничать с европейской. Для большинства тогдашнего
русского образованного класса, получившего воспитание прежде всего под влиянием
французского Просвещения, это обстоятельство было вначале смягчено уверенностью,
что Россия постепенно движется по единой, универсальной дороге прогресса, лишь
запаздывая на ней, вследствие известных исторических причин, по сравнению с
другими народами Европы. Однако в начале XIX века идеология Просвещения оказалась
достаточно скомпрометированной в самой Европе в рез};льтате террора
Французской революции и наполеоновских войн. Вера в универсализм разума сменилась,
прежде всего под влиянием философского историзма Шеллинга и Гегеля,
ориентацией на уникальные национальные культуры, каждая из которых описывалась как
вносящая оригинальный и нередуцируемый ни к какой абстрактной истине вклад
в общечеловеческую культуру. В результате общечеловеческая культура утратила,
однако, прежнее логическое единство, на которое могла ориентироваться такая
развивающаяся страна как Россия. В тот самый момент, когда Россия все еще полагала,
что она уверенно движется по единому пути мирового Просвещения, само по себе
единство Просвещения оказалось более несуществующим, и относительно легкая
задача стать просвещенной сменилась для России куда более сложной задачей стать
оригинальной.
Влияние Шеллинга и Гегеля достаточно быстро распространилось в русском
образованном обществе. Уже в конце 10-х и в 20-х годах XIX века в центр его внимания
ставится вопрос, что же оригинального уже создала к тому времени русская
культура. Ответ дается, как правило, крайне неутешительный: практически ничего. Как
констатируют многие авторы — большей частью, разумеется, в переписке и в
"самиздате" того времени (!) — русская культура является исключительно
подражательной и не содержит в себе никаких оригинальных элементов, которые могли бы
считаться ее уникальным вкладом в мировую культуру: религия в Россия является
целиком византийской, а ее светская культура целиком западно-европейской.
Положение существенно осложнялось к тому же тем обстоятельством, что, если следовать
философии германского идеализма, то Россия не могла также рассчитывать на то,
чтобы породить что-либо оригинальное в будущем. Дело в том, что историзм в
философии, как известно, рассматривал себя самого как завершение оригинального
исторического развития: такое развитие возможно только при условии, если отдельная
национальная культура не обладает историческим сознанием и поэтому способна
нерефлективно и, в этом смысле, наивно и отчасти бессознательно осуществлять
одну определенную идею, полагая ее истинной и универсальной. С момента же
возникновения исторической рефлексии в немецком идеализме все истины и культурные
формы обнаруживают свою релятивность, так что наивное историческое
творчество становится более невозможным: историзм в философии означает конец истории.
Россия таким образом оказалась перед лицом усвоенной ею философии
германского идеализма в безвыходной ситуации: она была поставлена перед требованием
быть культурно оригинальной уже в постистории, когда оригинальность стала для
нее недостижимой. Эта культурно-психологическая травма нашла себе наиболее от-
четливос выражение в известном "Философическом письме" Петра Чаадаева, написан-
. ном в 1829 г., весьма ограниченно распространявшемся в дружеском кругу и
опубликованном несколько позже в 1836 году (2). Этим письмом Чадааева можно
датировать начало оригинального русского философского дискурса именно потому, что
. Чаадаев эксплицитно поставил в нем вопрос о принципиальной неоригинальности
м русской культуры. "Философическое письмо" Чаадаева обычно читается как чисто поли-
, тический документ, полемически и в черных красках рисующий тогдашнюю русскую
, действительность. Определенное политическое измерение в письме, разумеется, есть.
тНо в то же время в нем присутствует и более глубокое, чисто философское измерение.
р Чаадаев прежде всего фиксирует положение России вне мировой истории, поня-
••/пгой как саморазвитие мирового духа. Чаадаев пишет: "Мы никогда не шли вместе
iC другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств чело-
53
веческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого.
Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас
не распространилось". В России "все исчезает, все течет, не оставляя следов ни вовне,
ни в нас. В домах наших мы как будто в лагере, в семье имеем вид пришельцев; в
городах имеем вид кочевников — хуже кочевников..., ибо те более привязаны к своим
пустыням, нежели мы — к своим городам". У России нет истории, нет "прекрасных
воспоминаний", как у других народов, — она живет только в настоящем, ее культура
всецело заимствована и подражательна и поэтому не имеет в самой стране никакой
внутренней опоры. У русских нет идеи долга, справедливости, права, порядка. В
России царит лишь "бессмысленность жизни без опыта и предвидения". Чаадаев пишет
далее, что "даже в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное,
неуверенное", что делает его выражение "немым". Подобные цитаты можно умножить.
Россия оказывается таким образом у Чаадаева чем-то радикально Иным по
отношению к истории мышления, культуры, Духа или даже души в любых ее формах —
чем-то полностью исключенным из мирового Логоса. Существование России чисто
материально, фактично — оно представляет собой полностью редуцированную к почти
животным процессам повседневность. Историческое значение России Чаадаев видит
исключительно в демонстрации всему остальному миру устрашающего урока, что
означает жить в такой полной исключенности из мирового духовного единства.
Но эта негативная оценка русской действительности только подчеркивает то
обстоятельство, что Чаадаев одновременно открывает в России Иное по отношению ко
всей мировой истории — что и позволяет ему поместить Россию вовне
Божественного и философского Логоса. Тем самым, разумеется, сама мировая история
оказывается неполной, и гегелевский абсолютный Дух получает оппозицию в чисто
материальном принципе, понятном не как внешний объект научного исследования,
а как альтернативный любой историчности чисто бессознательный,
невыразительный способ существования. Такой способ сушествования ускользает от любой
философской рефлексии именно потому, что он не выражен, не артикулирован, не
оригинален, не объективирован в Мировой истории.
Естественно поэтому, что соотношение "Запада", который теперь символизирует
для русской мысли историчный способ существования par exellence, и России могло
быть далее с успехом перевернуто на ценностном уровне, что и происходит у ранних
славянофилов и что намечается позже и у самого Чаадаева в его "Апологии
сумасшедшего". Так, Иван Киреевский рассматривает в своей статье "О характере
просвещения Европы и о его отношении к просвещению России" (3), появившейся в
1852 г. и отразившей более чем двадцатилетний опыт славянофильских дискуссий,
неисторичность русского существования как особый тип христианской аскезы,
позволяющей России сохранить свое внутреннее достояние нерастраченным. Западную
культуру Киреевский рассматривает как наследницу древнего Рима, для которого все
отношения между людьми определяются только на уровне внешних правовых норм,
а истинность мышления определяется только его подчинением внешним правилам
логики. Соответственно, западная культура знает либо принцип внешнего авторитета,
базирующийся на традиции и власти, либо столь же внешний индивидуальный
протест против этого авторитета. Принцип авторитета Киреевский ассоциирует с
католичеством, а атомистический индивидуализм — с протестантством и
Просвещением. Православие он описывает, напротив, не столько как определенное учение,
альтернативное западным вероисповеданиям, сколько как образ жизни, не
выявленный исторически именно потому, что он сохраняет свою внутреннюю целостность и не
распадается на внешние формы. Для православного человека желание настаивать
на своей истине или на своих правах всегда умеряется стремлением не разорвать
связей с другими, сохранить с ними внутренний контакт. Поэтому русская история и
кажется столь неподвижной и внеисторичной, хотя она одновременно "полна
внутренней жизни". Киреевский не противоречит таким образом диагнозу русской
культурной ситуации, данному Чаадаевым, но для Киреевского отсутствие в русской
жизни ориентации на внешние право, справедливость или истину является лишь
свидетельством внутреннего, необъективного, неформального характера русской культуры.
Киреевский мыслит, конечно, как романтик и как идеалист, когда он
аргументирует в терминах: организм и внутреннее vs. механизм и внешнее. Но в то же время1
его не удовлетворяют гегелевское или шеллинговское решения проблемы, поскольку
в их идеалистической философии органический и внутренний синтез всего историче-
54
ского многообразия культурных форм только мыслится самими философами, но не
реализуется практически как реальный, фактический образ жизни. Киреевский
полагает, что такой реальный синтез и не может произойти на Западе, поскольку
историческая жизнь там завершилась и ее дорефлективное единство распалось, как об
этом свидетельствует и сам германский философский историзм, способный только на
историческую рефлексию, обращенную в прошлое. Поэтому только России, может
быть, суждено в самой реальности осуществить тот синтез, к которому Запад
оказывается способен только на уровне философского мышления.
Выделение России как радикально Иного по отношению к разуму, Духу и
мировой истории открывает таким образом для Киреевского возможность нового
синтеза, уводящего за пределы гегелевской системы: синтеза между завершающим историю
философским созерцанием и чисто материальным, внеисторическим и поэтому столь
же всеобщим типом существования, которым является Россия. В результате должна
возникнуть синтетическая, всеобщая жизнь — а не только синтетическое, всеобщее
мышление. Поскольку сама русская культура была в то время расколота на
европеизированные высшие классы и традиционные по своей культуре русское
крестьянство, такой конечный синтез означал для Киреевского также преодоление
внутреннего раскола в самой России, а также психологического раскола в душе каждого
отдельного русского образованного человека между его европейским образованием
и русским образом жизни. Можно сказать, что здесь Россия выступает как Иное,
как подсознание для русского человека, наделенного европейским сознанием, так
что Запад и Россия должны соединиться также и для того, чтобы русский человек
смог внутренне преодолеть социальную и психологическую репрессию и достичь
окончательной целостности. Кстати, если Просвещение выступило на Западе под
лозунгом освобождения от тирании ancien regime, то русское абсолютистское
правительство обосновывало, напротив, как раз своей большей просвещенностью свое
господство наи все еще непросвещенными русскими массами, так что Просвещение в
России во многом также и политически ассоциировалось с насилием и
механизмами власти.
Эта тема особенно заметно присутствует у другого теоретика славянофильства
того же времени Алексея Хомякова. В своих историко-богословских сочинениях
Хомяков провозглашает ставший знаменитым принцип соборности (4). Соборность
есть особое дорефлексивное состояние жизни тех, кто участвовал в первых
христианских соборах и формулировал первые догматы христианской веры. Для Хомякова
последняя истина христианства не в самих этих догматах, а именно в соборности,
т.е. в той дорефлективной жизни, из которой эти догматы родились. С точки зрения
Хомякова,западная католическая Церковь разрушила соборность тем, что самочинно
возвела в догмат fiiioque. отсутствующий в соборных постановлениях, и таким
образом стала во внешнее отношение к христианскому общению. При этом для
Хомякова дело не столько в самом догмате fiiioque, истинности которого он не
хочет предрешать, сколько в приписываемом Хомяковым католической Церкви
решении настаивать на этом догмате вплоть до разрыва с Восточной Церковью.
Претензия на истину всегда рождается, по Хомякову, из насилия и разрыва реальных,
жизненных связей и имеет своим результатом репрессию и отчуждение, которое
можно преодолеть, только если релятивизировать односторонние претензии на истину
не в теории только, а в самой жизни.
Для Хомякова католичество и протестантство представляют собой симптомы
отхода от истинного христианства именно вследствие их историчности, внешней
определенности, выделенности из христианской соборности. Поэтому он призывае г их вновь
соединиться во взаимной любви и созвать новый собор, который и мог бы решить
все их догматические споры. Реальной предпосылкой для такого события Хомяков
опять-таки считает наличие Православия, которое сохранило в самой своей
жизненной практике соборный дух. Россия по-прежнему понимается здесь как чисто
материальная, внеисторическая действительность. Но теперь уже сама ее внеисто-
ричность, сама ее инаковость по отношению к истории мирового духа опять-таки
делают ее способной воплотить христианство в его окончательном синтезе, дать
ему реальное, жизненное существование, на что исторически уже выявившие свой
частный характер христианские вероисповедания Европы более не могут быть
способны.
2. Россия не была, впрочем, единственной зоной, выпавшей из шеллингианско-
55
•' - ••»>< онч^слэон ляч'У:»оЧ a vqt-
гегелианского исторического синтеза. Уже параллельно с философами немецкого
идеализма Шопенгауэр создает свою теорию бессознательной космической воли,
как нередуцируемо иной и необъективируемой по отношению к диалектическому
процессу исторической саморефлексии. Сам Шеллинг в поздний период начинает
поиски "позитивного", т.е. не диалектического исходного принципа, особенно повлиявшие
на русскую философию. Киркегор ставит вопрос о человеке, живущем в гегелевской
пост истории, и приходит к идее нередуцируемой экзистенции, близкой ко многим ин-
туициям русской мысли того времени. И, наконец, Маркс открывает целый класс,
а именно пролетариат, не попавший в гегелевскую систему и представляющий
принцип чисто материального существования. Функция этого класса состоит по Марксу
в том, чтобы реализовать, или материализовать, на уровне самой реальности
идеальные синтезы гегелевской диалектики. Структурное сходство с русской мыслью
здесь совершенно очевидно.
Русская философия, под которой здесь понимается славянофильски ориентированное
философствование о России, оказывается таким образом частью общей парадигмы
пост-идеалистической философии в Европе в период кризиса шеллингианско-геге-
лианского историзма. Это было время первых открытий бессознательного какнеобъек-
тивируемого Иного, находящегося по ту сторону рефлексии, диалектики, мышления
или познания. Более того, само мышление было понято в свете этого открытия
лишь как функция Иного — мировой воли, экзистенции, экономической практики
и т.д., и тем самым не способное отрефлектировать и обосновать само себя, как это
еще недавно имело место в германском идеализме.
Россию Чаадаева и славянофилов можно поэтому считать еще одним именем для
европейского пост-идеалистического бессознательного. Но в одном отношении
славянофильская трактовка Иного и бессознательного заметно отличается от западной.
Для западных авторов дискурс о бессознательном так или иначе является подрывным
или даже революционным относительно существующего порядка, базирующегося на
унаследованных идеалах истины, добра и красоты. Совершенно другая картина
наблюдается у подавляющего большинства русских авторов. Сам Чаадаев открывает Россию
как подсознание еще по-западному — как альтернативу высокой культуры, но
призывает одновременно к "воспитанию" России и преодолению ее чистой материальности.
Начиная со славянофилов, русская мысль, однако, начинает приписывать русскому
бессознательному свойства высшего, мистического сознания. А именно: для
славянофилов русская бессознательная, внеисторичная жизнь изначально несет в себе
гарантию как раз той идеальной цельности, которую, по ее мнению, хочет, но которой не
может достичь Запад. Напротив, западное рациональное мышление своей постоянной
негативностью, своей постоянной критикой угрожает стабильности западных
культурных ценностей, которые, согласно славянофилам, могут быть сохранены только их
интеграцией в русскую действительность.
Поскольку для русских мыслителей их собственная страна оказалась
носительницей Иного, и поскольку эта страна уже с самого начала находилась географически
вне Запада, славянофилам не надо было разрушать европейский порядок, чтобы
расчистить место для своей собственной жизни — они уже изначально находились вне
Езропы. Напротив, они хотели соединиться с Европой, включить ее в
собственную жизнь и тем стабилизировать ее распадающуюся культуру. В поисках того,
что бы могло бы соединить их с Европой, славянофилы естественно обратились к
христианству. При этом христианство было понято ими не как определенное веро-1*
учение среди других вероучений, а как дорефлективный и внеисторичный образ жизни
русских крестьянских масс. Можно сказать, что русские мыслители теологизировали
само бессознательное — ход, который в таком виде практически не встречается
на Западе, так что привычное для западной мысли соотношение сознательного п
бессознательного здесь полностью переворачивается.
Русская мысль, как уже было сказано, с самого начала отреагировала на интерее
к иному, незападному, экзотичному, восточному, который возник на Западе в эпоху
романтизма. Но, как заметил уже Чаадаев, Россия так же мало относится к Восток
ку, как и к Западу: ее культура, не будучи западной, не воспринимается в то же время1,
по сравнению с западной, как самостоятельная и оригинальная. Именно эту
неопределенность русской жизни русские славянофилы и проинтерпретировали как ее
универсальность, которая должна соединиться с универсальностью западного
мышления, чтобы дать ему основание. Поэтому Киреевский или Хомяков, провозглашая
56
веру в Россию, постоянно критикуют русскую действительность там, где она, по их
мнению, оказывается слишком русской, слишком специфичной, слишком
индивидуальной. В этом смысле стратегия славянофилов не так уже сильно, как кажется,
отличается от стратегии их противников-западников, которые, подобно Герцену или
Бакунину, значительно более радикальны в критике России, но в то же время также
охотно противопоставляют себя, как представителей русской культуры, тому, что они
считают мещанством, ограниченностью и консервативными формами жизни,
присущими Западу. Теологизация подсознательного стала эксплицитной и стандартной
операцией русской философии особенно позднее, когда она познакомилась с теми
течениями западной мысли, которые принадлежат к той же парадигме, что и она сама.
3. В дальнейшем я приведу только несколько примеров этой операции. Владимир
Соловьев впервые наглядно демонстрирует соответствующий механизм, когда
осуществляет синтез философии Шопенгауэра и особенно "философии бессознательного"
его ученика Эд. фон Гартмана с традицией русского славянофильства. В своей
первой большой работе 1874 г. "Кризис западной философии. Против позитивистов"
Соловьев в основном принимает все философские выводы Шопенгауэра и Гарт-
мака, но критикует их за их чисто отрицательный характер: Соловьев не может
согласиться с тем, что бессознательное должно выступать только как слепая,
неразумная, разрушительная сила, и видит в нем, напротив, высшую ориентацию для
самого разума (5). Соловьев разрабатывает далее учение о преображенной материи,
или Божественной Софии, которая ассоциируется им с Россией и которая должна
родить "новое слово", т.е. нового Христа, будучи оплодотворенной западной
свободной мыслью (6). София есть для Соловьева материальный мир, который, однако,
не является только объектом научного исследования со стороны разума. Напротив,
разум сам материален, сам укоренен в софийности мира, которую он не может
полностью отрефлектировать — в этом отношении София выступает как имя для
бессознательного. Но София не только не подрывает претензий разума, подобно
неверному западному бессознательному, — она, напротив, служит единственной
гарантией действительного, материального исполнения этих претензий. Соловьев
критикует ранних славянофилов за их некритическое отождествление России и
Православия, указывая, что Православие есть чисто византийская религия, внешняя для
России: своей резкостью соловьевская полемика против русского национализма
часто напоминает чаадаевскую (7). Соборность славянофилов Соловьев заменяет софий-
ностью: сам космос, а не только русская жизнь, организован для него по принципам
христианской соборности — софийности. Благодаря шопенгауэровской философии
мировой воли, Соловьеву удается тем самым отчасти преодолеть провинциальность
славянофильской мысли и придать ей философскую всеобщность.
Философия Шопенгауэра претерпевает сходную трансформацию и у ряда других
русских авторов того же времени. Так, у Толстого шопенгауэровская тема отказа
от личной воли к жизни как средства для соединения с универсальной волей, или
с бессознательным, выступает не в форме отказа от жизни как таковой, а в форме
слияния с безличным, чисто материальным, не различающим между жизнью и смертью
бытом русского крестьянства. Среди прочего Шопенгауэр описывает время, убивающее
мгновение за мгновением, как убиение сыном своего отца, и призывает повернуть
время вспять, отказавшись от мира как такового и от инстинкта продолжения рода,
с тем, чтобы вернуться к бессознательному истоку мировой воли. Николай
Федоров реагирует на этот призыв своим проектом "общего дела", который также
обращен к началу мира. Но при этом мир у Федорова не исчезает, а, напротив,
восстанавливается во всех своих исторических фазах — все, жившие в нем прежде
поколения, материально воскрешаются средствами современной науки (8).
с Сходную рецепцию получает в России на рубеже двух веков Ницше. Уже Соловьев
пишет о ницшеанском сверх-человеке как об этапе на пути к Богочеловеку (9).
Полемика Ницше против христианства и, одновременно, против современной ему безре-
лцгиозной, научной и моралистически ориентированной цивилизации с точки зрения
"самой жизни" оказывается близкой традиционной русской мысли. При этом ниц-
шзвская дионисийская жизнь снова немедленно теологизируется русскими
учениками-Ницше: критика Ницше в отношении христианства понимается ими как
относящаяся,, в первую очередь, к западным католичеству и протестантству, так что Нипше
оказывается для них "самым русским" и, в то же время, самым христианским из
западных философов. Дионисийское начало у Ницше ассоциируется при этом с со-
57
ловьевской экстатической "софийностью", или с
Мережковский, Бердяев, Булгаков или Флоренский получают возможность в новых
терминах, позаимствованных у Ницше, говорить о дуализме двух начал — западном
аооллоновском и русском дионисийском — и о необходимости их высшего синтеза.
Характерно, что, например, Лев Шестов в своей книге "Учение о добре у гр. Толстого
и Фридриха Ницше" (10) отвергает рационалистические элементы в учении Ницше о
сверхчеловеке, оценивая это учение как, в свою очередь, моралистическое, так как
оно делает из сверхчеловека абстрактный моральный идеал. Подлинным
содержанием философии Ницше является, по мнению Шестова, искание Бога по ту сторону
любого рационализма и абстрактного морализма: только вера обещает реально
преобразовать действительность, обещает реальное, или жизненное, исполнение даже
самых неисполнимых человеческих желаний. И этим вера выше любой культуры,
которая, в конечном счете, всегда примиряется с действительностью.
Эту линию русской мысли можно легко проследить вплоть до Бахтина. Для
Бахтина любая понятая в самом широком смысле "идеология" является не просто
частью культуры, но всегда материализована, воплощена, имеет конкретного
носителя. И это материальное начало не разрушительно по отношению к чистоте
идеологии, а спасительно, поскольку чистое мышление не может обосновать само себя.
Другой выступает для Бахтина не столько как угроза, сколько как шанс быть
действительно принятым, оправданным и сохраненным извне, т.е. опять-таки теологически.
Диалогизм и карнавал противопоставлены у Бахтина "католическому" принципу
внешнего монологического авторитета и "протестантскому", буржуазному, атомизиро-
ванному и замкнутому индивидууму — как это уже имело место в случае
соборности у славянофилов. При этом негация замкнутости и изолированности
индивидуума в диалоге или в карнавале совпадает с утверждением этого индивидуума в
единстве "народной жизни", которая, по существу, понимается "софийно" — как
совпадающая со всей космической жизнью. Бахтин поэтому во многом завершает русскую
мысль XIX — начала XX веков, объединяя многие ее основные мотивы. Весьма интересна
в этом смысле также бахтинская интерпретация Фрейда, которая повторяет на новом
материале обычные приемы русской мысли в ее работе с западными концепциями
бессознательного: фрейдовское "невоплощенное" подсознательное снова
интерпретируется как абстрактное, и его подлинным носителем провозглашается реальный
другой, т.е. сам психоаналитик, который в результате этого становится лишь
участником диалога с больным и утрачивает свою аналитическую, научную, доминирующую
позицию (11).
Говоря о Бахтине, который так или иначе вступил в диалогические отношения с
марксизмом, следует отметить, что русский марксизм также нельзя полностью понять
вне традиции собственно русской мысли. Дело даже не только в том, что целью
русского марксизма снова стало реализовать в русской жизни то, что было только
теоретически сформулировано на Западе и таким образом стать источником
окончательного мирогзого единства. И не только в том, что многие русские марксисты, как,
например, Богданов и его группа, во многом переняли основные теоретические
установки русской философии. Сам ортодоксальный сталинский диалектический
материализм обнаруживает, при ближайшем рассмотрении, определенную преемственность
от традиционной русской мысли. Прежде всего "диалектически развивающаяся
материя" есть, в некотором роде, все та же "преображенная плоть" русской философии,
т.е. и не Дух как субъект, и не материальный мир как объект, а нечто третье, что изнутри
материально определяет их облик. И также считается, что эта материальная сила не
разрушительна в отношении человеческой культуры, а, напротив, дает ей жизненное
основание.
Далее, "диалектический материализм" отнюдь не есть какое-то чисто логическое,
рационально организованное учение, какая-то связная монологическая речь.
Напротив, в основе диамата лежит учение о единстве и борьбе противоположностей,
которое как раз полностью отрицает возможность логически непротиворечивого
формулирования истины. Кстати для Фрейда одновременное принятие
противоположностей является признаком сновидения или, что то же самое, специфической логики
желания, бессознательного, либидо. Далее критерием истины диамат провозглашает
саму практику, саму жизнь в ее целостности, а не какие-то формальные,
абстрактные или, как тогда говорилось, метафизические правила философского мышления:
аргументация диамата по существу чисто негативна и направлена против любых попы-
58
^^^^^^ научного или философского познания мира с тем, чтобы
вернуть теоретика на почву его собственной зависимости от общества и мира. (12). В
результате философские тексты диамата представляют собой причудливые мозаики из
философских аргументов, ссылок на решения партии и правительства по очередным
экономическим и политическим проблемам, на конкретные научные или
социологические теории, на произведения литературы и искусства, а также на примеры из
повседневной жизни. При этом, хотя в этих сочинениях и нет никакой внешне
идентифицируемой логической связи, они обладают единством стиля и ментальности,
которое легко опознается читателем. В определенном отношении этот стиль, в свою
очередь, унаследован от сочинений русской философии, которые также программно
написаны в нефилософской, неметодичной манере, чтобы подчеркнуть их жизненный,
реальный характер. Хотя здесь, конечно, следует подчеркнуть, что диалектический
материализм, в отличие от свободной русской философии, был ориентирован на
легитимацию режима в его специфических, исторически сложившихся формах.
И, наконец, характерной чертой советского марксизма является то обстоятельство,
что он подчиняет исторический материализм диалектическому материализму, или,
иначе говоря, историческая жизнь человечества подчиняется им космической жизни, и,
в частности, вся история классовой борьбы оказывается частью единого космического
процесса становления материального мира. Диалектика при этом оказывается не
столько динамическим описанием перехода от одного исторического этапа к другому,
сколько статическим описанием иерархического перехода с одного уровня космической
жизни на другой. Так что история мысли, в частности, оказывается гарантированной
внутренним устройством "самой космической жизни". Это описание больше
отсылает к неоплатоническим учениям древности и к натурфилософии Шеллинга и Гегеля,
нежели к западному марксизму. Специфические трансформации, которые претерпел
марксизм в России, еще ждут, впрочем, своего неполемического рассмотрения после
того, как история диалектического материализма теперь, в основном, завершилась.
В заключение можно сказать, что, по меньшей мере, начиная с Чаадаева, русская мысль,
поставленная перед вопросом о своей национальной идентичности, самостоятельности
и оригинальности, и в то же время не будучи в состоянии предъявить ничего
действительно экзотичного и гетерогенного по сравнению западной культурой, постоянно
отвечала на этот вопрос тем, что интерпретировала Россию как место реализации,
или материализации, западных дискурсов об Ином. При этом исторически
сложившиеся формы русской жизни обычно подвергались критике, а подлинная Россия помещалась
либо в предысторическое прошлое, либо в утопическую перспективу, которые
моделировались по образцу соответствующих западных теорий Иного. При этом эти
теории трансформировались таким образом, чтобы лишить их негативного, чисто
критического характера и таким образом теологизировать Иное, или, по меньшей мере,
придать Иному позитивную, аффирмативную окраску, В то же время речь здесь идет
лишь о довольно раннем варианте стратегии, которую в течение XIX—XX веков
использовали многие исторически неуспешные национальные культуры или
социальные субкультуры с тем, чтобы с помощью аппроприации различных дискурсов об
Ином смоделировать собственную культурную оригинальность и идентичность.
Вопрос, в какой мере эта стратегия является актуальной для сегодняшней русской
культуры, остается пока что открытым, хотя ситуация в России сегодня отчасти на-
р поминает чаадаевское время. После частичного преодоления в последние годы
; внешней, чисто политической изоляции от международной культурной ситуации,
русская культура снова оказывается перед вопросом, каким образом она может
определить на теоретическом уровне свою национальную идентичность и оригинальность,
с помощью каких самоинтерпретаций она может защитить себя от полного
растворения в более динамической западной среде. Определенный интерес, испытываемый
сейчас в России ко всевозможным современным дискурсам об Ином, о теле, о
желании и т.д., показывает, что результат этих поисков может снова оказаться
достаточно традиционным для русской мысли.
59
Примечания
1 См.; Aiexandre Koyre. "La philosophie et ie probleme national en Russie au debut de XIXe siecie".
Galiimard, Paris, 1976, 225 ft.
2 Цит. по. П.Я. Чаадаев. Сочинения. М., 1989, с. 15—34.
*И.В. Киреевский. Полное собрание сочинений в 2-х томах; reprint: Gregg International
Publishers Ltd., England, p. 174—223.
4 A.C. Хомяков. "Несколько слоь православного христианства о западных вероисповеданиях
по поводу брошюры г. Лоре ней1*. — Полное собрание сочинений. Прага, 1867, т. 2.
5 B.C. Соловьев. Собрание сочинений. Брюссель, 1960, т. 1, с. 149.
6Там же, т. 3, с. 218.
7Там же, т. 5, с. 181- -244.
' Н.Ф. Федоров. "Философияобщего дела" тт. 1 и 2; reprint: L'Age d'Homme, Lausanne, 1985.
9 B.C. Соловьев. Собрание сочинений, т. 9, с. 265—278.
10 Лев Шест о в. "Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше", YMCA—Press, Paris, 1971.
11 MM. Бахтин-В.Н. Волошинов. "Фрейдизм". Chaiidze Publications, New York, 1983.
12 О внутренней организации дискурса в диамате см.: В. G г о у s 'The Problem of Soviet Ideological
Practice" — In: Studies in Soviet Thought, N 33, 191—208.
60
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Трагедия великого мыслителя
(По материалам дискуссии 1890-х годов)
А.Л. ЯНОВ
1. Три этапа прижизненной дискуссии
о творчестве К.Н. Леонтьева
Константин Леонтьев умер 12 ноября 1891 года. И первым, почти еще
бессознательным ощущением у всех расположенных к нему людей, была при этом
известная обида, впоследствии отчетливо сформулированная Н. Бердяевым. Обида
на то, что этот по-своему замечательный мыслитель окончил дни свои, как начал,
"в духовном одиночестве", "неузнанным, непонятым, никому не пригодившимся"1.
Уже в декабрьском номере "Русского вестника" за 1891 г. брат Вл. Соловьева
знаменитый в свое время беллетрист Вс. Соловьев сетовал: "В этих наскоро
пишущихся строках, вызванных неожиданным известием о смерти человека, которого,
я знал давно и очень ценил, можно сказать о нем только кое-что, первое,
что придет в голову, и вот именно первое — это невольное, неизбежное
возмущение тем, что он так умер, не дождавшись должной себе оценки"2.
Естественно, что еще автор этой самой первой журнальной статьи о
покойном Леонтьеве должен был задаться вопросом, отчего судьба его сложилась
так странно. И вот что он об этом думает: "Леонтьев никогда не
принадлежал к какому-нибудь определенному "лагерю", он не был ни "славянофилом",
ни "западником", не мог ограничить себя определенными более или менее
узкими рамками"3.
"Поэтому, — заключает автор, — и немудрено, что его "Восток, Россия и
Славянство", где рядом с парадоксами, почти всегда неожиданными и
блестящими, очень много глубоких и замечательных своей правдой мыслей, но
поставленных прямо, резко, без каких бы то ни было церемоний — не могли
прийтись по нраву разным журнальным и иным котериям, которые и мстили
дерзновенному автору — упорным и злостным замалчиванием"4.
Скажем в скобках, что это скорее обывательское суждение о причинах "иеуз-
нанности" Леонтьева затрокуло тем не менее одну из острейших проблем леонтьев-
1 Бердяев Н. Sub specie aeternitatis, Спб., 1907, с. 305,
2"Русский вестник", 1891, N 12, с. 282.
3Там же, с. 284.
4Там же, с. 286.
61
ского наследия — и по сию пору нерешенную: пробЖму ¥гё?этёк екр
тийной принадлежности, другими словами, вопрос о месте его концепции в
истории русской общественной мысли. Впрочем, Вс. Соловьев не имеет ровно
никакого представления о масштабах и остроте затрагиваемой им проблемы, й он
заканчивает свою статью-некролог благими пожеланиями и пылкой надеждой
на то, что так же, как "замолчали при жизни Н.Я. Данилевского, а все же
труд его не умер", так и "труды К.Н. Леонтьева не умерли вместе с ним —
они оживут, как оживает все действительно искреннее, правдивое, проникнутое
настоящей любовью и освещенное талантом"5. Автор оказался прав —
неожиданно и парадоксально...
Ко в целом суждение Вс. Соловьева было настолько, скажем мягко,
приблизительно, что решительно искажало истинное положение вещей. На самом деле
все, происходящее вокруг Леонтьева при жизни, было значительно сложней.
И сама даже сердитая ссылка на "замалчивание" Леонтьева, была вовсе не так
проста, как могла показаться на первый взгляд. Она была по существу внушена
автору всей предысторией борьбы вокруг Леонтьева, особенно обострившейся в
канун его смерти, в самом конце 80-х годов.
Схематически можно разбить все эти события, составлявшие как бы социальный
фон литературной и политической судьбы Леонтьева, на три этапа.
Первый — с 1875 по 1885 год. В этот период в третьестепенном и
малочитаемом органе "Чтения в Императорском обществе истории и древностей
российских" было опубликовано основополагающее философеко-историческое сочинение
Леонтьева "Византизм и славянство".
Второй — с конца 1885 года, когда вышел первый том сборника его
статей "Восток, Россия и славянство", до 1888 г., когда в ряде номеров
издаваемой знаменитым тогда реакционером князем Мещерским газеты "Гражданин",
а затем и отдельным изданием вышла книга "Национальная политика как орудие
всемирной революции".
Третий период — до дня кончины Леонтьева — прошел под знаком этой
злосчастной книги, которую правые националисты и вся "патриотическая" накипь
старой России, оскорбленная в своих лучших чувствах острым леонтьевским
заключением, что "движение современного политического национализма есть не
что иное, как видоизмененное только в приемах распространение
космополитической демократизации"6 — не простила ему до конца его дней.
Различить периоды между собою можно было бы именно по степени и
интенсивности "отношения" к Леонтьеву обеих "журнальных, — по выражению Вс.
Соловьева, — и иных котерий", охранителей и либералов, славянофилов и
западников. Примечательно, что несмотря на сугубую малозаметность издания,
опубликовавшего "Византизм и славянство", работа была замечена и оценена сразу тремя
и очень крупными по тому времени критиками. Нечего и говорить, что все
трое были тогда славянофилами, причем не рядовыми, а видными идеологами
этого течения, оказавшими большую честь неофиту в журнальной публицистике.
Первым в петербургской газете "Русский мир" откликнулся Н.Н. Страхов,
так объяснивший читателям главную мысль Леонтьева: "Византизмом он
называет ту особую культуру, тот склад чувств, мыслей и всей жизни, который
ведет свое начало от Византии. Автор доказывает, что такая культура
существует, что ее влияние гораздо шире, чем обыкновенно полагают, и что мы,
русские, должны признавать в ней культуру, в подчинении которой мы
развились, продолжаем развиваться теперь и должны развиваться вперед"7.
Общее заключение Страхова было более чем благоприятно для Леонтьева.
"Автором руководили глубоко религиозное чувство и глубокая любовь к России...
Книга К.Н. Леонтьева есть одно из самых правильных, самых живых явлений
нашей литературы". Казалось, дебют предвещал быстрое возвышение престижа
5Там же, с. 287.
^Леонтьев К. Собр. соч., т.VI. М., 1912, с. 150.
7"Русский мир", 1876, N 137.
62
д,^щдщщеского. писателя. Тем более, что так же высоко, сразу возведя
Леонтьева в ранг классиков славянофильства, в частности, ставя его наряду
с самим Н. Страховым, отозвался о "Византизме" в 1884 г. Вл. Соловьев.
"Три замечательные писателя... — торжественно отметил он тогда, — более
всех других сделали для теоретического, наукообразного обоснования
славянофильских взглядов... Я разумею Н.Я. Данилевского ("Россия и Европа"), Н.Н, Страхова
("Борьба с Западом") и К.Н. Леонтьева ("Византизм и славянство")8.
И наконец, уже в 1885 году в работе "Смысл истории и идеалы
прогресса" превознес Леонтьева П.Е. Астафьев. Наиболее ярко и картинно, утверждал
П. Астафьев, выразил из известных нам русских писателей противоположность
идей развития и прогресса К.Н. Леонтьев в последних главах своей
замечательной книги... Далее он отмечал, что, сходясь в определении самого процесса
развития (как усложнения, дифференциации и т.п.) со всеми теоретиками развития
(как, например, Спенсер), становится совершенно оригинальным, показывая
противоположность этому развитию прогресса (эгалитарно-либерального, утилитарного,
космополитического и т.д.), который однако самим же процессом развития з
известный момент человеческой жизни вызывается, полагая конец дальнейшему
развитию и начало разложения, общественной и культурной смерти. Каковы
бы ни были недостатки в выражении и развитии этой мысли в книге "Византизм и
славянство", считал П. Астафьев, сама мысль настолько оригинальна и
глубока, что нельзя не пожалеть о том, что этаг замечательная книга у нас мало
известна.
Все три критика верно и глубоко нащупали некоторые существенные
основания леонтьевской концепции, во всяком случае, ее главные претензии.
Претензию на открытие принципиально нового культурно-исторического типа (Н. Страхов);
претензию на обоснование его противоположности "типу западноевропейскому"
(Вл. Соловьев); претензию построить новую "точную" теорию исторического знания,
опираясь на абсолютизацию модной тогда и довольно, признаться, плоской
аналогии между природными и социокультурными процессами. Впрочем, славу своих
открытий Леонтьев готов был великодушно разделить с Данилевским. Как писал
он уже в 1890 г., "Данилевскому принадлежит честь открытия культурных типов.
Мне — гипотеза вторичного и предмертного смешения"9. То есть, именно то,
что ставит ему в заслугу П. Астафьев. Как видим, понят и оценен Леонтьев
был сразу.
Трудно было и предположить тогда, что спустя всего несколько лет Вл,
Соловьев резко повернет фронт против тех, кто претендовал в его время на
монопольное распоряжение славянофильским наследием и именем, станет
язвительнейшим критиком покойного Данилевского и постоянным оппонентом его верного
паладина Страхова, и, соответственно, резко охладеет к Леонтьеву. Что еще резче
повернут против него фронт лидеры этого "неославянофильства" А. Киреев,
и, увы, тот же П. Астафьев, развязав тем самым форменную травлю
"замечательного писателя" со стороны самых темных сил — черной сотни из "Русского
дела" и "Московских ведомостей". Что и "Новое время" (судя по письму
Леонтьева к К.А. Губастову от 23 марта 1891 г.: "там на меня какой-то
щелкопер жестоко напал за то, будто я хочу восстановить крепостное право") вне-
; сет свою лепту в это "благое" дело...
Впрочем, все это произойдет через несколько лет. Здесь же мы лишь
заметим еще, что западники, либералы вообще никак не откликнулись на
"Византизм", видимо, и впрямь не обнаружив его в "Древностях российских" или просто
•сочтя недостойным внимания.
8Соловьев Вл. Собр. соч., т. 5, СПб., б.г., с. 60.
'Александров А.А. I. Памяти К.Н. Леонтьева. II. Письма К.Н. Леонтьева к А.
Александрову. Сергиев Посад, 1915, с. 96.
10 "Русское обозрение", 1897, N 7, с. 428.
63
Второй период, связанный, как я уже упоминал, с выходом двухтомника "Восток,
Россия и славянство", вызвал, напротив, жестокую реакцию со стороны
западников и некоторую настороженность со стороны славянофилов.
В последнем номере "Вестника Европы" за 1885 г. была опубликована
анонимная рецензия на первый том сборника, которую Леонтьев приписывал
впоследствии самому Стасюлевичу. Рецензия была в- высшей степени оскорбительна.
"Г. Леонтьев, бывший консул на Востоке, является горячим сторонником
славянофильства, доведенного до абсурда... — говорилось в ней, — он весь ушел
в византийские бредни, от которых веет чем-то совершенно затхлым, беспощадно
фантастическим... он мечтает о... разрушении западных государств и особенно
Франции с ее соблазнительным центром Парижем... Разрушение Парижа "сразу
облегчит нам дело культуры... в Царьграде" (проповедует он). ...Если это бред
больного ума, что в этом бреде видна система"11.
Как видим, главный штаб тогдашних либералов нисколько не утруждал себя
анализом леонтьевской работы, полагая, очевидно, что ее достаточно заклеймить
крепкими словами. Что же до "системы", которая виделась в этом "бреде",
то с точки зрения сиюминутной политической выгоды очень удобно было, — так,
вероятно, рассуждали редакторы "Вестника Европы", — как говорится, пристегнуть
ее своим противникам справа, лишний раз уколов их "бредовыми идеями"
"бывшего консула на Востоке".
"Турецко-византийские идеалы, связанные с умственным бесплодием" и с
"бедностью творческого духа", — заявляет "Вестник Европы", — составляют все
содержание того направления, которое иногда называют славянофильским, а иногда
даже "истинно-русским".,. Насажденное извне византийство и полная
национальная самобытность уживаются вместе в этих болезненных умах, которых дикие
теории нашли себе достойное выражение в печально курьезной книге г. Леонтьева"и.
И все же — такова ирония истории — даже этот легковесный камень,
пущенный из западнической пращи, задел славянофильского Голиафа. Во всяком
случае, публицисты неославянофильства, не порывая с Леонтьевым открыто, под
сурдинку открещиваются от него. Н. Волженский так рассказывал об этом:
"Славянофилы его своим не признают. Вот что, например, писал один из видных
представителей современного славянофильства А. А. Киреев в 1887 году: "он во многом
с нами сходится (... с большим недоверием смотрит на благодеяния
западного прогресса), но он не славянофил. И мы никакой ответственности за
высказываемые им мнения нести не можем"1*.
Таков был ответ "Вестнику Европы": славянофилы приносили Леонтьева в жертву
своей репутации и отрекались от него.
Впрочем, утилизировать его неприязнь к "благодеяниям западного прогресса"*,
его страстное антиевропейское красноречие и блестящее полемическое дарование им
все-таки очень хотелось. Поэтому демонстративно рвать с ним они не торопились.
Напротив, отказавшись от "ответственности за высказываемые им мнения", можно
было и сдержанно похвалить его, как сделал это, например, в том же 1887 г.
С. Шарапов.
"Г. Леонтьев не наш, — решительно объявляет он. — Слишком многое
отделяет его верования от наших, его мировоззрение от того, что мы привыкли
называть славянофильским. В двух словах это отличие можно выразить так:
г. Леонтьев — фанатический апостол византизма, а славянофилы стоят на
чистой православно-славянской почве... Как характеристику г. Леонтьева мы приведем
следующие нами лично от него слышанные удивительные положения. "Урядник
есть тоже немножко помазанник божий". "Цензура должна стеснять литературу, а не
помогать ей". "Я совершенно разделяю культ палки"14.
И тем не менее С. Шарапов пылко негодует вовсе не на Леонтьева, изрекшего
столь удивительные "положения", а на всю русскую печать: "во всяком случае
п "Вестник Европы*, 1885, N 12, с. 909—910.
12 Там же, с. 911—912.
13"Русское дело", 1887, N 20, с. 19.
!4Там же.
64
ощощщке х г. Леонтьеву нашей печати непростительно... Учение (а таковое
несомненно есть) г. Леонтьева известно, быть может, единицам, и весьма
замечательная книга "Восток, Россия и славянство" валяется неразрезанною. Среди
кучи современных журнальных и газетных пигмеев нет никого, кто был бы в
силах одолеть Леонтьева или даже помериться с ним"15.
Признаться, не совсем понятно, почему именно "пигмеям*-, хотя бы и
журнальным, следовало меряться с Леонтьевым. И отчего бы не попробовать
сделать это самому, например, С. Шарапову, к пигмеям, надо полагать, себя не
причислявшему? Но не будем останавливаться на этом, хотя бы потому, что все
его реверансы, перемежающиеся с отречениями, решительно бледнеют перед тем,
что сделал вскоре в третий прижизненный период полемики вокруг Леонтьева
тот же Шарапов, натравив на сей великий, по его собственным словам, ум,
вдохновленный "глубокою любовью к России", своего постоянного фельетониста,
грязное наемное перо — П. Аристова.
Фельетоном Аристова, который назывался "Леонтьев и его гадания," этот
третий период, собственно, и открывается. Как мы видели, второй период,
суть которого сводилась к политической конкретизации общетеоретических
положений, высказанных еще в "Византизме и славянстве", вызвал уже иное
сравнительно с первым отношение к Леонтьеву обеих враждующих сторон. Ни одна
из них "ответственность за высказываемые им мнения" принять на себя не
желает, а желает, напротив, утилизировать их во вред противнику и ка пользу
самой себе. Одним словом, отношение к Леонтьеву в этот период диктуется
скорее политической конъюнктурой, нежели научным интересом: либералы
приписывают националистам его "удивительные положения", националисты обвиняют
прессу, сиречь либералов, в "замалчивании великого ума" (то же самое
говорили они об Н.Я. Данилевском, К.П. Гилярове-Платонове, А.Д. Пазухине и т.д.).
"Любит ли г. Леонтьев свою родину? — грозно спрашивает с самого начала
П. Аристов. — Вот вопрос, который приходит на ум все чаще и чаще...
Затрагивать все великое, священное и резонировать, резонировать без конца, да ведь
это кощунство!" Другими словами, кощунство — сама рефлексия, сама критика,
само сомнение, когда речь идет о "священном предмете". И ке только
кощунство: "Сурово-несправедливая аттестация творчеству "русского духа" и сла-
зизма за целую тысячу лет — позор для русского писателя"16.
Даже открытые враги Леонтьева из "Вестника Европы" обошлись с ним корректнее,
чем эти вчерашние приятели и союзники по вражде к "европейскому
прогрессу".
"Г. Леонтьев читает отходную России, славянству и целому человечеству, —
продолжает Аристов, — нам-то что из того, что одному "любителю родины"
(именно не любящему родину, а любителю родины) не видно ее будущего? Страшен
сон, да милостив Бог! Истомилась жизненность не в России, не в славянстве,
а в старом честолюбце-неудачнике"17. Впрочем, без личных инсинуаций и обвинений
в крамоле патриоты из "Русского дела" обходиться не умели.
Знаменательно, однако, что к тем же призывам прибегнул вдруг уже не
профессиональный погромщик, а один из почтенных идеологов неославянофильства и,
кстати, недавний почитатель "крамольника" — П.Е. Астафьев, напечатавший в
"Московских ведомостях" огромную статью под откровенным названием
"Объяснение с г. Леонтьевым". Позиция П. Астафьева состояла в обычном для
славянофилов "признании национальной самобытности за самую основу и руководящее,
дающее самой культуре жизнь, форму и силу начало этой культуры" и
соответственно — в обличении Леонтьева как проповедника безнационального,
непатриотичного, так сказать, безродного византизма.
Ибо такого "значения за национальным началом г. Леонтьев никогда не
признавал и признать не может. Такое признание было бы с его стороны
отречением от всего своего литературного прошлого, слишком много сил, страсти
и дарования положил он в этом прошлом на проповедь византизма и
слишком хорошо знает, что дорогая ему византийская культура всегда была не на-
15Тамже.
16 "Русское дело", 1888, N 2, с. 14.
17Там же.
Вопросы философии, N 1 65
циональною (о византийской национальности никто и не слыхивал), да
эклектическою, искусственно выращенною. Для него и основа и формирующая сила
жизни лежат в самой культуре, для которой национальность только материал,
не более"18.
Но гораздо больше и гораздо больнее, нежели все эти теоретические выкладки,
обидел Леонтьева — как явствует из тогдашней его переписки — откровенный
намек на его безвестность и философский дилетантизм, а также презрительный
упрек в самохвальстве. "Г. Леонтьев мог удобно сам себе наговорить сколько
угодно комплиментов, что он и не оставил сделать", — заметил не без яда
Астафьев. Самодовольно утверждая, что у русского национализма "есть много
друзей и противников серьезнее и известнее г. Леонтьева", Астафьев — близкий
до того Леонтьезу человек — не мог не знать, что бьет в самое уязвимое
и незащищенное место в полемической броне оппонента, в его ахиллесову пяту,
в преследовавший его всю жизнь своеобразный комплекс писательской
неполноценности. "Его статья против меня (летом в "Московских ведомостях"), —
жаловался Леонтьев Ан. Александрову, — была до того бешеная, ядовитая,
невеликодушная, а по мнению В.С, Соловьева, и прямо хамская... Соловьев особенно
"хамским" находит укор его в том, "что я не особенно известен...1' И правда,
что это некрасиво... з больное место не бьют честные бойцы... Жена Боборыкина,
прочитавши ее, сказала: "Уж не пьяный ли он это писал?"19.
И здесь, кстати, в этом, постоянно жившем в душе Леонтьева сознании
своей ущербности, в отсутствии той, говоря его собственными словами, "иллюзии,
которую может дать только большой, невольно возбуждающий нас успех", "иллюзии,
которую может дать только огромная популярность"20, в ощущении своего рода
исторической несправедливости, заставлявшей его с горечью признавать: "Я имею
достаточно оснований, чтобы считать свою литературную деятельность, если не
совсем уж бесполезной, то во всяком случае преждевременной и потому не
могущей влиять непосредственно на течение дел"21, — именно в такой
психологической ситуации и могло, очевидно, созревать у этого несбывшегося властителя
дум и несостоявшегося серого кардинала русской политики ощущение своей
"пророческой миссии".
Ощущение это, как сказали бы, наверное, психологи, компенсировало
отсутствие столь необходимой Леонтьеву "иллюзии", оно нужно было ему для
самоутверждения, для замещения успеха, популярности, влияния на умы и политику.
В нем, можно сказать, сублимировалось это отсутствующее влияние. Подобная
сублимация была, очевидно, абсолютно естественна "у шестидесятилетнего человека,
давно уже утомленного, — как писал о себе сам Леонтьев, — молчаливым
презрением одних и недостойным предательством других"22, у человека, который
не мог сдержаться, чтоб не воскликнуть в сердцах: "хотелось бы знать,
наконец, стоют ли чего-нибудь твои труды и твои мысли или ничего не стоют!"23.
Спустя четверть^ века после его смерти в книге о нем не мог обойти это
молчанием и Н. Бердяев: "есть предел невнимания, — заметил он. — Писатель,
сознающий свое призвание, не может чувствовать себя в пустыне, не может
примириться с тем, что слов его никто не слышит". Но увы, продолжает автор,
"новые поколоения должны были прийти, чтобы К.Н. оценили и начали понимать
его"24.
Недаром пророческое ощущение развивается в Леонтьеве постепенно, по мере того,
как исчезает надежда на непосредственную реализацию в жизни его творческих,
потенций. Недаром достигает оно апогея к концу его дней. "Было время, —
говорит ок в письме к Фуделю в 1888 г., — лет десять, пятнадцать тому.
назад я еще мечтал своими статьями сделать какую-то "пользу"... Я верил
тогда еще наивно, что я кому следует открою глаза... Вспомните мои
пророчества о болгарских сербах"25.
18 "Московские ведомости**, 1890, N 177.
19Александров А.А. Ук.соч., с. 106—107.
20Леонтьев К. Соч., т. VI с. 149.
*'Леонтьев К. Соч., т. VI, с. 150.
22 Цит по: Бердяев Я. Константин Леонтьев. Париж, 1926, с. 160.
"Там же, с, 159.
Там же, с. 160.
25Леонтьев К. Соч., т. VI, с. 150.
66
тсъ1я&*т№*-<&'Я. Соловьеву в 3890 г. (косвенном ответе П. Астафьеву)
он приводит длинный список своих политических пророчеств, сбывшихся и
несбывшихся, приводит в укор Астафьеву. Ибо больше противопоставить его метким
и болезненным нападкам на себя Леонтьеву просто нечего: "пророчества" здесь
уже не только средство самоутверждения, они — аргумент в полемике, ответ
оппоненту, они — доказательства недоказуемого. "Примут мое мнение, — убеждает
он, — и другие позднее; поймут мои чувства, Придет время, когда и г, Астафьев
увидит ясно свою непонятную ему теперь ошибку и сознается в ней"2*5. Да разве в
одном Астафьеве было дело, а не в общей горечи несбывшихся надежд,
которые так неполно возмещала ему вера? "Может быть, после моей смерти, —
говорил он, — обо мне заговорят, а, вероятно, теперь на земле слава была бы
мне не полезна, и Бог ее мне не дал'"'7.
Как бы то ни было, оскорбительная статья Астафьева была опубликована,
а ответ Леонтьева — нет. И в 1889 г. в "Славянских известиях" (а в 1890-м и
отдельным изданием) выходит направленная против него работа генерала Киреева
"Народная политика как основа порядка", где 'национальная идея" весьма
воинственно защищалась от "нападений г. Леонтьева", сделавшего, оказывается,
эту дорогую генеральскому сердцу идею "козлом отпущения за все неустройства и все
беды Запада". О резком выступлении "Нового времени" мы уже говорили.
И становится постепенно ясно, что именно последние годы Леонтьева были
омрачены жестокою кампанией против него — со стороны правых, националистов,
славянофилов.
И напрасно метался в отчаянии в последний езой год затравленный Леонтьев,
жалуясь в письмах к друзьям и обращаясь к посредничеству врага, которого
случалось ему именовать "сатаною". Напрасно взывал ок (веря, впрочем, б
абсолютное благородство Вл. Соловьева, признаваясь со своею необыкновенной и
отважной откровенностью: "Возражая ему, я почти благоговею")2*: "я решаюсь
на поступок, кажется, небывалый в нашей литературе, быть может, даже и ни в
какой... Я ставлю Вас судьей над самим собой и над другим писателем, не
справляясь даже с тем, признает он вас со своей стороны пригодным судьей
или нет. Я хочу, чтобы Вы рассудили меня с г. Астафьевым, обвинившим меня
в нападении на национальный идеал"2',
Напрасно оправдывался Леонтьев от криминального обвинения в
"непатриотичности", восклицая: "Человек от избытка любви к этому русскому национальному
идеалу трепещет за него, быть может, и до неразумения. А другой человек,..
называет его противником этого идеала, уверяет и себя и других, что эта
боязнь эта защита, этот патриотический трепет называются нападением.
Непостижимо!"30
Напрасно он заклинал: "Доказать, что я сознательный противник культурного
национализма, никто не может... Я не желаю, чтобы меня считали противником
культурного национализма — и потому молчать мне нельзя"31. Напрасно он
старался казаться большим роялистом, чем сам король, утверждая, что "г. Астафьев,
по-видимому, удовлетворен той степенью национальных особенностей, которыми мы
теперь обладаем. Я же гораздо требовательнее его; я больше сто националист!"32 •
Все напрасно. Не успеть уже было ему отредактировать свои жалобы, не
успеть организовать третейский суд над собою и своим врагом-другом, не успеть
выпросить и дождаться помилования от свирепой славянофильской "хотерии". Не
суждено.
Так умер он, не прощенный ею. Так и не оправился от удара, нанесенного
ему астафьевской "уничтожающей меня, — как писал он,. — статьей". "После
этого второго его на меня нападения вокруг меня псе стало еще темнее...
До статьи "Московских ведомостей" я не понижал только его; после нее я
перестал и сам себя понимать... представления мои омрачились, все понятия
26Там же, с 293.
"Бердяев Н. Ук. соч , с. 159.
""Русское обозрение", 1897, N 3, с, 452.
29Леонтьев К. Соч., т. VI, с. 273-274.
30Там же, с. 294.
31Там же, с. 291.
"Там же, с. 350.
3*
мои спутались... Куда я принадлежу? Из националистов 'мёня'У!
росил; в космополиты я никак не гожусь"33.
Только и оставалось утешаться, что "придет время... когда поймут мои чувства,.,
примут мое мнение". Пророчество осталось единственно сколько-нибудь
твердой почвой, островом в зыбком политическом океане, убежищем в мрачном мире
черносотенной публицистики.
Стало быть, в действительности, гораздо .сложнее и даже драматичней обстояло
дело с отношением к Леонтьеву обоих лагерей при его жизни. Не было ничего
похожего на благостный образ дерзновенного пророка, вопиющего в глухой
пустыне и "упорно и злостно замалчиваемого", одним словом, на образ, который
преподнес публике в "Русском вестнике" Вс. Соловьев. Как раз в последние годы
жизни Леонтьев оказался в эпицентре назревавшего генерального спора между
лагерями, спора, к сожалению, трагически оборванного его кончиной.
И кончина эта сообщила едва начинавшей набирать силу дискуссии финал
преждевременный и неожиданный: правые скова круто повернули фронт. Не
отказывали мертвому в том, в чем так долго отказывали живому. Осенили его
белым знаменем казенного патриотизма. И канонизировали как одного из святых
славянофильства.
13 ноября 1891 г,, т.е. на другой день после смерти Леонтьева, "Московские
ведомости" поместили сразу два некролога. В одном из них Д. Языков
причислял Леонтьева к тем "писателям, которые, обладая светлым умом, обширными
знаниями... пришли к верному пониманию национальных задач России, остались
в своих важных трудах чисто русскими людьми и строго православными
христианами"34.
Автор второго, редакционного некролога фарисейски вздыхал: "Что делать?
Так у нас повелось издавна. Имена и книги наших замечательных романистов
и поэтов мы знаем с грехом пополам, но замечательные писатели наши в других
отраслях литературы должны выдерживать продолжительный искус "замалчивания"
и игнорирования прежде, чем дождутся своего времени. Так было со всеми
нашими славянофилами, с Киреевским, с Хомяковым, с Аксаковым, Самариным,
так было с Н.Я. Данилевским, так случилось и с примыкающим ко всем этим
писателям К.Н. Леонтьевым. Его замалчивали, его игнорировали..."35.
14 ноября похвальный некролог Леонтьеву поместило и "Новое время".
Схема была в общем известна. Старая схема, реставрирующая тональность
первого периода прижизненной полемики вокруг Леонтьева: он был наш человек,
истинно русский. Был славянофильский святой. А космополиты-западники, пользуясь
своим (неизвестно, правда, откуда взявшимся) превосходством в печати
извращают картину развития русской общественной мысли, злостно замалчивая всю ее
славянофильскую ветвь, которая, между тем, и есть — собственно русская
общественная мысль. Как видим, и усопшего Леонтьева не оставляли в покое,
обращали в орудие актуальной политической полемики, даром, что возразить он
уже не мог ни хуле, ни хвале.
Конечно, и канонизация Леонтьева в правом лагере проходила не гладко
и не просто. Еще в 1893 г. ортодокс А. Киреев грубо от него отмежевывался,
заявляя, что Леонтьев — "реакционер, изверившийся в славянстве и национальной
политике, проповедует аракчеевщину и не имеет ничего общего со славянофи-
лами""6. И тем не менее, процесс ассимиляции леонтьевской концепции русской
реакцией неуклонно продолжался и в XX веке. Во всяком случае, в 19J1 г.
один из влиятельнейших ее вождей, архиепископ Антоний Волынский мог — со
значительными, разумеется, оговорками — характеризовать Леонтьева как "одного
из лучших русских людей, одного из недюженных русских талантов, одного
из наиболее преданных Христу и Церкви православных христиан"37.
Что же до Вс. Соловьева, цитатой из статьи которого была начата эта
работа, то ясно, что акцентируя на пресловутом "замалчивании", он — несмотря
"Леонтьев К. Соч., т. VI, с. 295—296.
""Московские ведомости", 1891, 13 ноября.
35Там же.
36мВестннк Европы". 1894, N 8, с. 511.
37"Памяти К.К. Леонтьева". СПб., 1911, с. 322-321
68
Щ£^ вреуедышание объявил о своей и Леонтьева непричастности к той
или иной журнальной "котерии" — на деле подыгрывал одной из них, попросту
повторяя дежурный тезис славянофилов.
На них же работало и его неумение (или нежелание) предпринять хоть
самую скромную попытку не то что анализа — в такой статье, быть может,
и неуместного — но хотя бы простой характеристики взглядов Леонтьева.
Ведь и все правые в эту пору, еще никак не умея ассимилировать и
адаптировать эти взгляды к своему полицейско-прямолинейному охранительному
"патриотизму", предпочитали говорить лишь о неопределенной личности
"замечательного чисто русского писателя", "замалчиваемого и затравленного космополитами".
Хотя по справедливости, по крайней мере, вторую часть этого упрека им
следовало бы (тому свидетельством непреложные факты) адресовать самим себе...
Таковы в общих чертах были все три этапа прижизненной полемики вокруг
Леонтьева, как удалось нам теперь восстановить ее по материалам периодики
того времени. Таков ракурс русской общественно-политической жизни, в центре
которого стоял Константин Леонтьев.
2. Дилемма "византизма"
Зато выступивший тотчас вслед за Всеволодом в январском номере "Русского
обозрения" за 1892 г. Владимир Соловьев дает довольно полную и оригинальную
интерпретацию Леонтьеве кого учения, предприняв, пожалуй, впервые серьезную
попытку охватить его единым взглядом. Это, быть может, самая ценная по богатству
ш многообразию высказанных в ней мыслей, гипотез и предчувствий
дореволюционная работа о Леонтьеве, хотя мысли эти и не были в ней достаточно
аргументированы и развиты.
Примечательно, однако, что работа эта не была оценена впоследствии по
достоинству даже и столь очевидными противниками и антиподами, людьми
противоположных взглядов, как М.Н. Покровский и НА. Бердяев, писавшими о ней
15 и 35 лет спустя. "И как легкомысленно, — писал М.Н. Покровский, — было
отношение к Леонтьеву некоторых публицистов 80-х годов, вроде Владимира
Соловьева, видевших в апологете "византизма" только талантливого писателя
с некоторыми односторонними увлечениями и пристрастиями, пожалуй,
странностями, но вредными прежде всего для него самого. В этой оценке верного
было лишь признание литературной талантливости Леонтьева, во многом
напоминающего его родственника по духу Жозефа де Местра"38.
Сам М.Н. Покровский не отказывал Леонтьеву в даре "зловещего
пророчества", называл его "предтечей современной реакции"39 и утверждал, что его "судьба
была судьбой всякого писателя, опередившего свое время"4 . Но это не мешало
ему иронизировать над "социологией" Леонтьева (откровенно ставя ее в
кавычки), которая, по его мнению, "едва ли могла кого-нибудь убедить даже в
свое время"41.
Не менее суров был к статье своего учителя и Н. Бердяев, утверждая, что
"статья Вл. Соловьева о К. Леонтьеве, хотя и оценивает его довольно высоко,
но сдержанна и суха", она не проникает в глубь "проблемы Леонтьева"42.
Оценка обоими мыслителями работы Вл. Соловьева ("Памяти К.Н. Леонтьева")
кажется несправедливой хотя бы потому, что сбрасывает со счетов главное в ней —
то, что автор одну за другой, методично и во всеоружии беспощадной логики
вскрывает многие из непримиренных коллизий леонтьевского наследия, т.е. делает
именно то, что не захотели — или не сумели — сделать ни Н. Бердяев,
ни, увы, М.Н. Покровский.
Возьмем хотя бы простейшее. Человеку, исповедовавшему под видом
православия византийскую мистическую веру, которую со свойственным ему радикализмом
он называл "трансцендентальным эгоизмом" и которую почерпнул у старцев
38"История России в XIX веке". М., 1908, вып. XVIII, с. 71.
39Там же, с. 77.
40Там же, с. 71.
41 Там же, с. 78.
42Бердяев Н. У к. соч., с. 155.
69
Афона и Оптиной пустыни; иначе говоря, человеку, сделавшему Ц?дьн?ч -
своих действий и критерием всего своего поведения единственно и исключительно
спасение своей драгоценной и неповторимой души, — такому человеку просто
не подобало заниматься одновременно "спасением России". Да еще так
откровенно, яростно и тщеславно, как делал это Леонтьев, писавший, например, 25 февраля
1887 г. К. А, Губастову: "Насчет политики и социологии (то есть насчет "невозможности"
вести общество) я с вами не согласен. Вести не вести, а нельзя сказать,
чтобы было неприятно хоть, например, оказаться почти во всем пророком, как
я оказался!"43 Или 22 декабря того же года: "Я и теперь не прочь от славы,
от похвальных статей и т.п. Я их желаю, не стыжусь сознаться. Я человек"44.
Ведь писал же о Леонтьеве В. Розанов, очень близко сошедшийся с ним в
последний год его жизни: "Это был Кромвель без меча... Был диктатор без
диктатуры... Более Ницше, чем сам Ницше..."45.
А вот Вл. Соловьев отметил это противоречие и сказал о нем с большой
силой: "В этой политической философии религиозный элемент, очевидно, не имел
того безусловного значения и не занимал того центрального места, какое
принадлежало ему в личном чувстве автора, половину жизни мечтавшего о монашестве и
осуществившего эту мечту незадолго до своей смерти. Такое раздвоение между
простою субъективною религиозностью и объективным культурным идеалом
смешанного характера с преобладанием мирских элементов — отнимало всю силу
проповеди у Леонтьева. Если я утверждаю (как это делал Леонтьев), что
единственное существенное и важное есть отречение от мира и забота о душеспасе-.
нии, а асе остальное — суета сует и "частью тяжелое, частью очень
сладкое, но во всяком случае скоро преходящее сновидение", — то как я могу тут
же с убедительностью проповедовать такой идеал, в котором глазное значение
принадлежит этим суетным и "сонным" интересам?.. Если все земное, все
историческое есть только преходящее сновидение, то таким же преходящим
сновидением нужно признать и идеал сложной ново-византийской или ново-восточной
культуры. Это также есть сновидение и притом только предполагаемое,
следовательно, самое пустое из всех сновидений"46.
Впрочем, даже отдаленное знакомство с учением Леонтьева убеждает, что
такого рода аргументы вряд ли смутили бы его, ибо он никогда не видел
пропасти между проблемой личного душеспасения и проблемой социального
конструирования, пропасти, которую столь беспощадно обнажает в данном случае
Вл. Соловьев.
В самом делеу ведь можно, по-видимому, так сконструировать социум, чтобы
сама его конструкция принуждала людей жить наиболее благоприятным для
собственного душевного спасения образом. Во всяком случае, отвращала их от
мирских сатанинских соблазнов. И карала за приверженность к ним. Более
того, Леонтьев только и делал, что конструировал подобный социум. Увы,
конструкция эта скорее напоминала казарму, а вовсе не человеческое общежитие...
С религиозной стороны леонтьевская концепция, совмещавшая личное душеспасе-
ние и социальное конструирование, была еще более уязвима, ибо с точки
зрения христианской ортодоксии Леонтьеву трудно было бы возразить хотя бы
на такие доводы Бердяева, писавшего, что насильственное, принудительное,
внешнее устранение зла из мира, необходимость и неизбежность добра — вот что
окончательно противоречит достоинству всякого лица и совершенству бытия.
Творец не создал необходимо и насильственно совершенного и доброго космос
са, так как такой космос не был бы ни совершенным, ни добрым в своей
основе. Основа совершенства и добра, по Бердяеву, — в свободе... а этот
характер всякого совершенства и добра и всякого бытия делает неизбежной
мировую трагедию. Не зря же Бердяев так характеризовал леонтьевскую религиоз*
ную доктрину: "Его православие — не русское, а византийское, греческое,
исключительно монашески аскетическое и авторитарное, строго иерархическое"47;
43 "Русское обозрение**, 1897, N 1, с. 401.
44 "Русское обозрение**, 1897, N 3, с. 458.
45 "Русский вестник", 1903, N 4, с. 642—643.
*6 Соловье в B.C. Укхоч., т. 9, с. 404—405.
47 Бердяев Н. У к. соч., с. 225.
70
ой?Ш*а%глеонткевской доктрины слишком снисходительна;
ибо на самом деле доктрина эта походит скорее ка ортодоксальное мусульманство,
чем на православие, непогрешимой верностью которому Леонтьев так гордился.
Однако Вя, Соловьев разбивает конструкцию Леонтьева совсем с другой
стороны. "Вечно для нас, по мнению Леонтьева, только личное существование
за гробом, а оно ведь нисколько не связано ни с какими культурными
элементами — политическими, экономическими или художественными. Спасать свою
душу можно при всяких условиях, и для того, кто этим занят, такие вопросы,
как взятие Царьграда, возрождение русского дворянства и основание новой
охранительный цивилизации, — совершенно не нужны и не интересны...
Проповедуемый Леонтьевым идеал сложной принудительной организации общества не
имеет ни вечного достоинства, ни минутной приятности''48.
Здесь Вл. Соловьев ставит проблему более глубокую я значительную чем,
как явствует из его иронического тона, представляет он ее себе сам,
Проблему для конструкции Леонтьева в известном смысле розовую. В разных
модификациях пронизывающую ее всю — от постулатов до выводов.
В самом деле, если по его, Леонтьева, глубочайшему убеждению человечеством
и миром, а в том числе, естественно, и задачей личного душеспасеиия,
руководит "исторический рок, в незримой руке которого и великие умы, и самые
мощные души не что иное, как послушные и чуть-чуть не слепые орудий"49, то откуда
ему, Леонтьеву может быть известно, что "исторический рок" хочет не
предоставить каждую отдельную грешную душу ее собственной воле, а напротив,
организовать их все в некий принудительный социум, в некое каторжное
деспотическое чистилище?
Каким образом "исторический рок" информировал его, что спасать дуплу следует
не б пустыне, "вдали от шума городского", как принято было от века думать
в христианстве, а наоборот — на шумных перекрестках славяно-босфорской
цивилизации, в разноязычном Стамбуле, который не станет монастырским
подворьем, хоть тысячу раз назови его Царьградом? Нет на этот роковой вопрос
ответа в творчестве Леонтьева!
Но все это лишь один из аспектов большой коллизии, гигантской
фундаментальной трещины, раскалывающей его конструкцию сверху донизу. Все это
лишь противоречия между его социальным и эстетическим, между религиозным и
культурным идеалами, состоящие в том, что, говоря словами Вл, Соловьева,
"лично, как православный христианин, он исповедовал, конечно, абсолютную
истину: но его социально-политические и исторические взгляды не были ни простым
и прямым отражением этой истины, ни ее логическим к органическим
развитием"50.
Но при всей серьезности этих противоречий они, на наш взгляд, и в сравнение
не могут идти с другими противоречиями леонтьевского творчества, с
противоречиями, которые Вл. Соловьев отмечает лишь вскользь, никак не
предчувствуя их подлинного значения. Речь идет о том, что у Леонтьева "не было
одной господствующей и объединяющей любви, но была одна главная ненависть —
к современной европейской цивилизации"51. И что "этой ненавистной ему Европе
он противопоставлял то старый византизм, то еще несуществующую и неведомую
культуру будущего"52.
Другими словами, речь идет о противоречии б самом культурном идеале
Леонтьева.
В самом деле Леонтьев утверждал, что "византийский дух, византийские
начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь
великорусский общественный организм" 3. Ясно, что речь идет о византизме
древнем, корневом, исконном, историческом; о византизме, не только наличествующем в
окружающей его (Леонтьева) действительности, но и составляющем внутренний
смысл, мистическую душу этой действительности.
49 Леонтьев К. Соч., т. VI, с. 130.
50 Соловьев B.C. У к. соч., т. 9, с. 402.
11 Там же.
52Там же,
53Там же.
7!
А как же иначе, если именно они, "византийские идеи и?Ачувства^,, —и,^9
выражению Леонтьева, — сплотили в одно тело полудикую Русь. Византизм
дал нам силу пережить татарский погром и данничество... Под его знаменем,
если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и
целой интернациональной Европы, если б она,., осмелилась когда-нибудь и нам
предписать книль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве,
о земной радикальной всепошлоети"5*.
Как будто бы достаточно ясно?
И вдруг самым загадочным образом речь в то же самое время идет о каком-то
совсем ином, смутном и словно бы пригрезившемся одинокому мыслителю ви-
зантизме. О византизме, который лишь когда-нибудь (твердо став в Царьграде и
заколотив прорубленное Петром окно в Европу, подняв на нее полмира)
предпишет нечто человечеству: "Россия, имеющая стать во главе какой-то ново-восточной
государственности"55.
Оказывается, Россия не только еще имеет стать во главе новой
государственности, Россия сама еще не имеет в наличии этой культуры и этой
государственности, которую надлежит ей предписывать грядущему человечеству.
"Россия, — говорит сам Леонтьев, — ... мир, не нашедший еще себе
своеобразного стиля культурной государственности"56.
Значит, несмотря на несомненное наличие в России "сложной ткани нервной
системы", которая "сплотила", "дала нам силу", и т.п. — собственной "культурной
государственностью" она все же не обладает. Таковая должна явиться лишь ее
идеалом, причем это "должен быть самый высший, самый широкий и смелый,
самый идеальный, так сказать, из всех возможных идеалов"57.
Значит, возможны для России и другие идеалы, кроме "самого идеального"
византизма? й вся формировавшая прежде историческая "сложная ткань" вовсе
не предопределила однозначно ее византийскую судьбу? Значит, есть еще у нее
возможность выбора себе идеалов?
Нет, отвечает Леонтьев, такой возможности нет. Отчего же? От того, что
Византия не только, по его мнению, "должна быть нашим сознательным идеалом",
но и "вероятно, будет вашим роковым назначением". (Следует отметить это
"вероятно" рядом с "роковым". В этом соседстве все своеобразие мировосприятия
Леонтьева.) "Я употребляю здесь слово "роковой", — говорит он далее, — не в
исключительно мрачном его значении, а в смысле более широком, — в том смысле,
что свершение исторических судеб зависит гораздо более от чего-то
высшего и неуловимого, чем от человеческих и сознательных действий; сознательный
идеал необходим; ко он только тогда осуществим приблизительно, когда он хоть
сколько-нибудь сходен с неясной еще в подробностях картиной этого
рокового предначертания, когда он предугадывает ее общие черты"58.
Но гдо же, однако, у России ручательство — кроме, разумеется, честного
слова Леонтьева и его непоколебимой веры в свой "исторический фатализм" —
где у России объективное ручательство, что "роковым ее назначением" является
именно византизм? Откуда взять критерий совпадения неизвестной нам и не
контролируемой нами воли "чего-то высшего и неуловимого" с леонтьевским "сознательным
идеалом"?
Не сам ли Леонтьев беспрерывно внушает своим читателям ощущение обреченности,
трагического ужаса перед "дальнейшим ходом либерального гниения,
долженствующим разрешиться, вероятно, очень быстро торжеством нигилистической
проповеди (ибо нет народа, который нельзя было бы развратить"59)? Не он ли
прославился призывом "подморозить Россию, чтобы она не гнила"?60.
Что же выходит? Если его "сознательный идеал" совпадает с "роковым
назначением", то он покорен и послушен этому назначению и убежденно име-
54Леонтьев К. Соч., т, V, с. 137.
54Там же, с. 107.
56Там же, с. 380.
"Там же.
58Леонтьев К. Соч., т. V, с. 380.
59 Там же, т. VII, с. 502.
60Там же, т. VII, с. 124.
72
Щеп сеШ^Ш^офтёсиём фаталистом", А если нет? Он поднимает против него
мятеж?
Тут мы и вступаем на страною и зыбкую почву, в призрачный мир леонтьев-
ской грезы, где царствует неразрешимое противоречие между его олимпийским
спокойствием и мятущеюся душой, между его доктринерским "фатализмом" и
эмпирическим устремлением "спасать Россию", рекомендуя себя человеком, претендующим
"давать советы практической политики"61. Между постоянной проповедью повиновения
"всемогущему року" и не менее постоянным призывом к восстанию против него.
Между покорностью и мятежом, между рабством и бунтом — противоречие, не
обозначив которого, вообще нельзя говорить о философском наследии Леонтьева.
Но само это противоречие в свою очередь является следствием еще более
крупного и глубокого, еще более существенного и неразрешимого противоречия в
Леонтьеве кой концепции, его фатальной методологической прорехи, которой мы лишь
мимоходом коснулись выше. Состояла она в том, что обитая, борясь и работая
в мире, по его убеждению, дуалистическом, разорванном на две принципиально
отличные части — абсолютную и преходящую, совершенную и греховную,
вечную и земйую, он не позаботился подумать о способе сношения между ними.
О характере их взаимной связи, о соединяющих их каналах информации и
методах управления. Иными словами, в учении его не разрешена проблема "сво^
боды воли", или, говоря более современным языком, степени централизации
"рокового" управления.
Так надежно и непроницаемо отделив нижний мир от верхнего, он сам обрек
себя на хроническое, неискоренимое противоречие во всем своем социально-
политическом конструировании и прогнозировании. В частности, он ке может
даже аргументировать бесспорными историческими фактами — ке только что их
сомнительными истолкованиями — не может аргументировать византизмом прошлого
в пользу византизма будущего. Ибо кто может знать, какие повороты,
метаморфозы и революции входят в итоговый замысел рока? Кто отважится на
основании первых его ходов предугадывать последующие? Кто скажет, что разгадал
его глобальную стратегическую комбинацию?
В самом деле, ведь рок ведет одну игру, а мы. люди, — другую. Два
мира живут по разным законам. Играют по разным правилам. И поскольку не
ведаем мы даже, каковы правила игры того, другого, "высшего и неуловимого"
мира, придется нам отдаться на волю Божию, забыв про пустые и напрасные
"сознательные идеалы"...
Вот почему историческое предание, традиция, "сложная ткань нервной системы",
которая "давала нам силу" и на основании которой конструирует Леонтьев
"сознательные идеалы", теряет всякую тень резона перед лицом неразгаданного
рока, рока-деспота, на произвол которого некому жаловаться — ни в том мире,
ни в этом.
Леонтьев, как мы убедились, храбро приступил к выработке "сознательного
идеала" своего византизма, презрев элементарную, но, увы, общеобязательную
логику приведенного рассуждения.
Если Леонтьев, с одной стороны, как и положено историческому фаталисту,
прорицает, что "Россия, имеющая стать во главе какой-то ново-восточной
государственности, должна дать миру и новую культуру, заменить этой новой
славяно-восточной цивилизацией отходящую цивилизацию романо-германской
Европы"62, то с другой — им движет страх. Элементарный страх, что вовсе
не Россия вырабатывает новую культуру, а Европа навяжет ей свою, что
фундамент "славяно-восточной цивилизации" неотвратимо разъедается ржавчиной
европеизма, что вот-вот за ближайшим историческим поворотом откроется бездна.
Больше того, очевидно» что вся его концепция, вся социально-политическая
программа продиктована этим невыразимым ужасом перед наступлением на
Россию европейской культуры. Что бы ни писал Леонтьев, к чему бы ни призывал —
пером его водил ужас. Он же продиктовал ему и сам пресловутый
деспотический стереотип, ибо в этом стереотипе видел он единственное средство
спасения России. Не наступать на Европу, а спасать" от нее Россию — вот
действительный лейтмотив его писаний.
6*Там же, т. VI, с. 283.
108.
73
62Там же, т. V, с. 107—108.
Как видим, его "исторический фатализм" есть лишь одна ее сГторойа; с
доктркнгльная. догматическая. К едва только Леонтьев пытается применить ее к
исторической практике, так тотчас покидает он эту позицию, обрекающую его на
бесплодный квиетизм. Ведь он желает влиять на реальную политику, желает
спасать Россию. Не заметить згогс противоречия невозможно. Его заметил, истолковав,
конечно, по-своему, Н. Бердяев. Именно поэтому он недоуменно вопрошал:
"Как это умудрился он (Леонтьев) соединить исторический фатализм, уверенность
в натуралистически неизбежной гибели национальных культур на известном году
жизни с христианской мистикой? Тут страстная воля ослепляла его разум"6'.
"Скорая и несомненно (судя по общему положению политических дел) удачная
война, долженствующая разрешить восточный вопрос, — предсказывает он,
заметим, в 1882 г., — и утвердить Россию на Босфоре, дает нам сразу тот выход
из нашего нравственного и политического расстройства, который мы напрасно
будем искать в одних внутренних переменах. Раз вековой сословно-корпоративный
строй жизни разрушен эмансипационным процессору!, — новая прочная
организация на старой почве и из одних старых элементов становится невозможной" .
Так отрекался сам Леонтьев or всего, чем он раньше клялся, от всего
исторического византнзма, который "сплотил нас", "дал нам силу" и т.п. Новый
византизм, оказывается теперь вообще невозможен на старой почве, на той
самой, которую "проникают насквозь византийские начала и влияния".
Нет, новый византизм вообще не складывается из старо-византийских элементов,
которые вдобавок -~ к вящему прискорбию Леонтьева — оказываются
"разрушенными эмансипационным процессом". Вот почему "нужен крутой, — восклицает
Леонтьев, --- поворот, нужна новая почва, новые перспективы и совершенно
непривычные сочетания, и главное, необходим новый центр, новая культурная
столица"65.
"Само собой разумеется, что Царьград не может стать административной
столицей для Российской империи, подобно Петербургу. Он не должен даже...
быть частью или провинцией Российской империи. Великий мировой центр этот
с прилегающими округами Фракией и Малой Азией... должен лично принадлежать
государю императору... (Наподобие Финляндии или прежней Польши). Там само
собою при подобном условии, и начнутся те новые порядки, которые могут
служить высшим объединяющим культурно-государственным примером... для
1000-летней, несомненно уж$ устаревшей и с 61-ого года заболевшей
эмансипацией России"66.
Таким образом, старый., никуда не годный, "устаревший", "заболевший" византизм
должен уступить место новому. Старая Россия станет лишь почвой, лишь формою,
лишь пустым сосудом, предназначенным вместить в себя Россию новую, лишь
ареной для борьбы двух византизмов. Ибо "будут тогда две России,
неразрывно-сплоченные в лице государя: Россия-империя с новой административной столицей
(в Киеве) и Россия — глава Великого Восточного Союза с новой культурной
столицей на Босфоре"67. И "третьего пути быть тут не может"68, — грозно
заключает свое главное пророчество Леонтьев.
Ибо "Царьград нейтрализованный станет очень скоро столицей всесветного
нигилизма. Революция, которая не могла себе до сих пор найти живого центра
во всех этих старых и характерных национальных столицах, в Париже,
Берлине, Риме, Вене, Лондоне — обретет, наконец, юридически утвержденную и
политически оправданную резиденцию з этом городе, чуждом всему
национальном}/, всему священному для каждой нации у себя дома... Вот что
такое "нейтрализованный" Царьград!"69
Итак, либс-либо к третьего не дано. Либо Царьград станет столицей Великого
Восточного Союза, либо он станет столицей всесветного нигилизма. Либо "новый
порядок" в Европе, устанавливаемый Россией по ее византийскому усмотрению,
63 Бердяев И. Sub specie aeternitatis, с. 315—316.
"Леонтьев К. Соч.,т. VI, с. 321.
63Там же.
66Там же, с. 322.
Гам >*:£.
68Там же, с. 326.
74
''гибель ЕвропьГ. Другими словами, русское господство или смерть — вот
единственный выбор, оставленный Леонтьевым старой Европе.
Разве может быть какое-либо сомнение в том, что Царьград в качестве
центра Великого Восточного Союза означал именно господство русского царя
в Европе? Сошлюсь хотя бы на Энгельса. Царьград в качестве третьей российской
столицы, писал он, наряду с Москвой и Петербургом, — это означало бы..,
не только духовное господство над восточно-христианским миром, это было бы
также решающим этапом в установлении господства над Европой. Энгельс же
назвал это стремление к Царьграду "фантазией о мировом господстве".
Итак, отметим, что под псевдонимом "византизм" выступают у Леонтьева
два принципиально различных социально-политических явления, два социологических
прогноза.
Касательно византизма исторического — все более или менее ясно. Если не
формулировка, то описание его дано Леонтьевым еще в "Византизме и
славянстве". Вот оно: "... византизм в государстве значит — самодержавие В религии
он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от
западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире мы знаем, что
византийский идеал не имеет того высокого и во многих случаях крайне
преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю
германским феодализмом; знаем наклонность византийского нравственного идеала
к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной
чистоты, в способности нашей к полному нравственному совершенству здесь,
долу. Знаем, что византизм... отвергает всякую надежду на всеобщее
благоденствие народов; что она есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле
земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседоволь-
ства"70.
Таков "исторический" византизм Леонтьева 70-х годов.
Как видим, грирода его более нравственно-религиозная, нежели социально-
политическая. Если говорить предельно лаконично, она состоит в принципиальном
отвержении любого земного конструирования — философского, теоретического,
равно как и социального, эмпирического, нравственного или религиозною — какого
бы то ни было.
Как видим, леонтьевский византизм 70-х годов есть, собственно говоря, одно
обнаженное, неконструктивное отрицание, лишь нигилистическая реакция охранителя на
демократический нигилизм 60-х годов, по сути — парадоксально перевернутый,
поставленный с ног на голову нигилизм. Пожалуй, можно было бы назвать
эту форму византизма — "нигилистический византизм".
Однако, в том-то и дело, что между этим нигилистическим византизмом
и позднейшим, утопическим византизмом 80-х годов существует огромная разница.
Разница, которая сводится к тому, что суть утопического византизма как раз
в социальном конструировании и состоит.
По-видимому, поворот этот вызван был знакомством Леонтьева с
социалистической литературой, модным влиянием европейского социализма, необходимостью
дать ответ на этот новый исторический вызов, брошенный России Европой,
и как-то адаптировать езое учение к этому основополагающему идеологическому
факту.
В частности, A.M. Коноплянцев свидетельствует: "В последние годы жизни
Константин Николаевич очень интересовался социализмом, много читал по этому
вопросу, изучал Маркса, Лассаля, Луи Блана, Прудона и др. В будущность
социализма он верил, но не демократического социализма, а монархического:
царь наверху и община внизу с суровым укладом, вроде монастырского. Думая
написать о социализме обширную статью, он собрал много для нее материала,
но этим дело и ограничилось, дальнейшей обработке помешала смерть Константина
Николаевича'*'71.
Однако у нас есть основания предположить, что A.M. Коноплянцев ошибается,
потому что черновым наброском той "обширной статьи о социализме", которая
по его мнению, так никогда и не была написана, является найденная в бумагах
70Там же, с. 113—114.
71-Памяти К.И. Леонтьева", с. 136—137.
75
Леонтьева незаконченная рукопись, озаглавлённаяГ^им c
как идеал и орудие всемирного разрушения". Во всяком случае, для самого
Леонтьева связь между замыслом, упомянутым Коноплянцевым, и этой рукописью
несомненно существовала, о чем свидетельствует письмо Леонтьева в Вену к
К.А. Губасюву от 14 февр. 1889 г. "Можете ли вы каким-нибудь образом
доставить мне несколько запрещенных книг? Именно первое — все сочинения
Лассаля, второе — все сочинения Луи Блана, особенно позднейшие, предсмертные
и третье — все сочинения нашего Герцена, по-русски или по-французски — все равно"7^
15 марта 1889 г. Леонтьев снова просит Губастова раздобыть для него "Ласеаля
(хоть что-нибудь, в чем виден основной дух его) и Луи Блана мне очень
нужно бы иметь для одной большой работы, которая — будет ли окончена или
нет — но я надеюсь, что если она останется после меня и неоконченною, то
будет иметь ценность. Задача ее ясна из заглавия: "Средний европеец, как идеал
и как орудие всемирного разрушения". Без помощи социалистов как об этом
говорить?"73. Из письма к Губастову от 5 июня того же года ясно, что
просьба Леонтьева была удовлетворена.
Для того, чтобы стала ясна вся глубина метаморфозы, пережитой леонтьев-
ским мировоззрением в 80-е годы, чтобы стало очевидно различие между двумя его
"византизмами", достаточно, на наш взгляд, сопоставить всего лишь два
высказывания Леонтьева. Одно — из первой главы того же "Среднего европейца",
начатого в 1872 г. на Афоне. Второе — из "Записки о необходимости новой
большой газеты в Санкт-Петербурге", относящейся, по-видимому, к самому концу
80-х годов.
Оба касаются одного и того же вопроса — отношения к техническом} и вообще
экономическому прогрессу. Вот формулировка периода нигилистического византизма
начала 70-х годов: "Я полагаю, судя по разрушительному, ходу современной
истории, что именно высший разум принужден будет выступить, наконец, почти
против всего того, что так популярно теперь, то есть, против равенства и
свободы (другими словами, против смешения сословий, конечно), против всеобщей
грамотности и против демократизации познаний. Вероятно, даже против
злоупотребления машинами и против разных прикладных изобретений, "балующихся",
так сказать, весьма опасно со страшными и таинственными силами природы.
Машины, пар» электричество и т.п., во-первых, усиливают и ускоряют то
смешение, о котором я говорил в моих главах "Прогресс и развитие"74, и
дальнейшее распространение их приведет неминуемо к насильственным и кровавым
переворотам... Во-вторых, все эти изобретения выгодны только для того класса
средних людей, которые суть и главное орудие смешения, и представители его,
и продукт... выгодны только для буржуазии... Все эти изобретения невыгодны:
для государственного обособления, ибо они облегчают заразу иноземными
свойствами; для религии, ибо они увлекают... людей ложными надеждами на тот же
разум... они невыгодны привилегированному дворянству уже по тому самому,
что усиливают влияние и преобладание промышленного и торгового класса,
который по словам самого же Бокля, "естественный враг всякой аристократии".
Они невыгодны рабочему классу, который бунтовал при первом появлении машин
и непременно разрушит их и постарается даже, вероятно, запретить их
драконовскими законами, если только хоть на короткое время власть будет в руках
людей этого класса или под кх страхом и влиянием. Машины и все эти
изобретения враждебны и поэзии; надолго примирить нельзя утилитарную науку и
поэзию"75. Так думал Леонтьев — реакционер-охранитель, Леонтьев-нигилист
70-х годов.
А вот что думает он о том же предмете в конце годов 80~х? когда
формулирует иную цель, иной критерий, иной идеал, когда говорит: "этот идеал
должен быть, по нашему мнению, — прогрести о-охр&нителъиый... Или даже
вернее сказать, — ре&кцшнно-прогрессшным направлением", когда призывает:
"надо стоять на уровне событий, надо понять, что организация отношений меж-
72"Русское обозрение", 1897, N 5, с. 397.
73Леонтьев К. Соч., tVI. с. 3.
74 Имеются в виду главы IV и V "Византизма и славяне* &а*\ — А.Я.
75Леоктьев К, Соч., т. VI, с. 14,
76
^Щц0щ в том или другом виде есть историческая неизбежность",
когда дерзко — в письме, адресованном самому Победоносцеву, —
провозглашает: "Я скажу даже больше: если социализм, — не как нигилистический
бунт и бред самоотрицания, а как законная организация труда и капитала,
как новое корпоративное принудительное закрепощение человеческих обществ, имеет
будущее, то в России создать и этот новый порядок, не вредящий ни церкви,
ни семье, ни высшей цивилизации — не может никто, кроме монархического
правительства", ибо "все это возможно только при смелости власти к при
покорности общества и народа"76.
Как видим, в этот период думает он о прогрессе нечто совсем иное. "Я
сказал, что истинно русская мысль должна быть, так сказать,
прогрессивно-охранительной; выразимся еще точнее: ей нужно быть ре&кицонно-движущей, —
пишет он теперь, — то есть проповедовать движение вперед на некоторых пунктах
исторической жизни, но не иначе как посредством сильной власти и с
готовностью на всякие принуждения. На месте стоять нельзя".
Больше того, теперь он уверен, что "нельзя и восстановлять то, что раз
по существу своему утрачено (например, дворянские привилегии в прежней
их форме); но можно и должно, одной рукой -~ охраняя и утверждая
святыню церкви, могущество самодержавной власти... другою — двигать нацию
вперед... необходимо вступить решительным и твердым шагом на путь чисто
экономических, хозяйственных реформ, необходимо опередить в этом отношении
изношенную духом Европу, стать во главе движения... из "последних стать
первыми" в мире!"77
Неправда ли, различие между этими двумя взглядами столь велико и
принципиально, что если оставить в стороне яркую художественную
индивидуальность Леонтьева, можно было бы подумать, что высказаны они были попросту
разными людьми? Это очевидно было даже для такого реакционера, как Лев
Тихомиров, убежденного, что "Леонтьев не мог по идеалам своим требовать
застоя, потому что он сам признавал никуда не годным то место, на
котором мы стоим"'8.
Стало быть, тот же самый Леонтьев, который в 70-е годы требовал "застоя",
каковой застой был составной частью его тогдашнего византизма, в 80-е годы
требует уже "двигать нацию вперед". Тот же самый Леонтьев, который раньше
требовал запрета машин, требует нынче радикальных "хозяйственных реформ",
•даже не вспоминая о том, что они "выгодны только буржуазии". Тот же самый
Леонтьев, который уверял раньше, что техника и вообще "все эти изобретения"
"невыгодны для религии... ибо они увлекают" и т.д., теперь уверяет, что
"социализм", связанный с "чисто экономическими реформами" и "организацией
отношений между трудом и капиталом" и есть "новый порядок", "не вредящий
Церкви" и т.п. Короче говоря, тот же самый Леонтьев, вся
социально-экономическая программа которого сводилась в 70-е годы к печально популярной
формуле "тащить и не пущать", к охранению самодержавия и отрицанию
социального конструирования, теперь сам конструирует.
И что же он сконструировал? "Социализм", который, по его мнению, состоит в
"горизонтальном и вертикальном расслоении общества", в юридическом
оформлении этого расслоения — создании корпораций и принудительном "закреплении"
за ними людей. Конструирует "социализм", который дает, по его мнению,
возможность стремительно и жестко индустриализовать страну, "опередить в этом
отношении изношенную духом Европу", не создавая при этом буржуазии.
И средством для осуществления этого "нового порядка" оказывается теперь
захват Босфора, создание "второй России" и вселенского патриархата,
вознесенного над всем мировым православием, подобно римскому папе и т.д. и т.п.
Однако, признание принципиального различия между этими двумя византизмами
ставит нас перед новыми и кардинальными фактами первостепенной важности.
Во-первых, оно означает, что вообще нельзя говорить о леонтьевском учении как о
чем-то цельном, едином, раз и навсегда определенном.
76Там же, т. VII, с. 498—502, 506.
77 Там же, с. 498—499.
78 "Русское обозрение*', 1894, N 10, с, 880.
77
Во-вторых, означает это, что учение '
мировавшимся, завершенным и стабильным, что оно было текуче и подвижно,
что он эволюционировало. Но от чего эволюционировало оно? И к чему
направлена была эта эволюция? Ключ к ответу на этот вопрос указывает нам сам
Леонтьев, когда "давая советы практической политики", рекомендует ей в 80-е годы
не рс^кпиоино-о хранительное, а реакционно-dtfi/j^o'i/^ направление. И Вл. Соловьев,
писавший о Леонтьеве в 1892 г., почувствовал это "раздвоение" леонтьевского
идеала.
Однако, недостатком работы Вл. Соловьева была не только его мистическая
позиция, помешавшая ему критиковать Леонтьева в достаточной мере
обоснованно и аргументированно, но и то, что ок — так же, как и Вс. Соловьев —
полностью игнорировал вопрос о "партийной принадлежности" Леонтьева, чем по
существу закрыл себе путь к исследованию генезиса его теоретических взглядов.
Благодаря этому леоитьееекое учение предстает в его изображении как бы
возникшим на пустом месте. Этот пробел предназначена была заполнить дискуссия
о ивизантизме*\ развернувшаяся после статьи С. Трубецкого в "Вестнике Европы"
за 1892 г., откровенно названной "Разочарованный славянофил".
3. Дискуссия 90-х годов
Работа С. Трубецкого была бесспорно менее значительна, нежели статья
Ел. Соловьева. И прежде всего потому, что пронизана духом либеральной
партийности. "К. Леонтьев,., пользовался при жизни не большею известностью, как
и его предшественник Данилевский, — пишет С. Трубецкой. — Теперь о нем
много пишут* не которые газеты известного направления. В "Московских ведомостях"
имя Леонтьева было поставлено даже наряду с именами Пушкина, Гоголя,
Лермонтова, Толстого к Достоевского"''9.
Этот поворот к канонизации Лентьева в националистической охранительной
прессе, о котором мы уже говорили выше, представляется автору тем самым
уязвимым местом его политических противников, которое удобней всего было избрать
в сложившейся ситуации мишенью.
"Мы не думаем, — продолжает автор, — чтобы наша "охранительная" пресса,
или остатки наших славянофилов, могли особенно желать апофеозы Леонтьева".
Отчего же? Да оттого, что, по мнению С. Трубецкого, "он неудобен... для
нынешних ветеранов славянофильства: Леонтьев — разочарованный славянофил,
пессимист славянофильства"80. Другими словами, коли вы желаете зачислить по
своему ведомству такого противника "европейского прогресса", как Леонтьев,
говорит С. Трубецкой своим правым оппонентам, то вы пожалеете об этом.
Ибо я вам тотчас докажу, что Леонтьев — кость от кости и плоть от плоти
славянофильства — суть самый жесткий его враг, невольно — в силу своей
исключительной искренности и прямоты — подвергший уничтожающей критике
все славянофильские догматы, вдребезги разнесший всю вашу "священную
историю".
Вот в чем» оказывается, по С. Трубецкому, роль Леонтьева в истории
русской мысли: он — своего рода боевая труба, от звуков которой падут
стены славянофильского Иерихона. Именно "эти две черты Леонтьева — его
крайняя последовательность в проповеди реакции и мракобесия и его
реалистический пессимизм, столь отличный от радужного идеализма славянофилов — делают
этого enfant terrible его партии весьма любопытным для критического изучения"81.
Итак, интересы политической тактики все еще преобладают пока над
интересами научного анализа: достойным "критического изучения" делают Леонтьева
ке его взгляды сами по себе, а его взгляды как средство разоблачения
славянофильства.
Впрочем, некоторый интерес ок представляет и сам по себе, иронически
замечает С. Трубецкой, поскольку "имеет нечто вроде своей собственной
политической философии — совершенно своеобразной, слишком даже своеобразной...
'""Вестник Европы", 1892, N 10, с. 772.
80Там же.
81 Там же, с. 772—773.
<и продуманную апологию реакции", пригодную рут рассмотрения,
увы, все по той же причине, что "она представляется новым фазисом в
развитии славянофильского учения: в известном смысле это последнее слово
славянофильства"82.
Такое назойливое повторение одного и того же, на глазах становящегося
традиционным западнического мотива, предназначенного — по глубоким тактическим
соображениям "Вестника Европы" — возложить на славянофилов
"ответственность" за леонтьевские эксцессы, как бы они ни открещивались от них (впрочем,
мотив их славянофильских оппонентов о "замечательном истинно-русском
писателе", коварно "замалчиваемом" космополитами был не менее назойлив), — в
значительной степени обесценивает любопытную в других отношениях работу С.
Трубецкого.
Ко зато этот автор — в отличие от братьев Соловьевых — первый и со
всею серьезностью устанавливает, к какой "журнальной котерии" относился Леонтьев.
("Несмотря на значительные отклонения от первоначального славянофильства,
мы причисляем Леонтьева к новейшим славянофилам"83.) Тем самым решительно
ставя вопрос, не разрешенный научно и по сию пору. Признав "значительные
отклонения" Леонтьева от первоначального славянофильства, С. Трубецкой счел
их "результатом внутреннего различия или, точнее, внутреннего саморазложения
славянофильского учения... которое составляет первую попытку нашего
общественного самосознания"84.
Понятно, что станет он теперь делать, установив эту родственную генетическую
связь: он обратит всю леонтьевскую критику классического славянофильства против
славянофильства современного. И только тут, невольно и неожиданно для самого
себя (вспомним иронический тон, которым говорилось о "своеобразной
политической философии" Леонтьева еще в начале той же статьи) обнаружит он, как
удобно можно утилизировать для своих партийно-политических целей критическую
проницательность, заключенную в леонтьевских писаниях, просвечивающий в них
дар политического бойца, фанатическую силу его аргументации.
Аргументации, которой отныне широко будут пользоваться все западники в
полемике со славянофилами. Аргументации, которая с легкой руки П. Милюкова —
опубликовавшего в N 5 "Вопросов философии и психологии" за 1893 г., а затем
в сборнике "Из истории русской интеллигенции" свою публичную лекцию
"Разложение славянофильства" — станет расхожей монетой во всех либеральных
изданиях. Так, нежданно-негаданно, благодаря оригинальному повороту ситуации,
пришлось и Леонтьеву сослужить свою посмертную службу ненавистному ему при
жизни "либерально-эгалитарному прогрессу".
Отныне немыслимо станет говорить о Леонтьеве, не говоря об Аксаковых,
Хомякове или Самарине. Отныне всякий,.спор о Леонтьеве будет превращаться
в спор о славянофильстве. Отныне Леонтьев будет существовать для западников
лишь в одной, так сказать, упряжке, в одном идейном ряду со славянофильством
как продукт идейного его распада, "саморазложения", продукт опасный, но в то же
время полезный и даже необходимый в качестве острейшего оружия против этого
самого славянофильства.
Спор о принадлежности Леонтьева к славянофильству будет бушевать с тех пор,
не утихая, до самой революции85. Не решен окончательно спор этот и поныне.
Современный американский историк Э. Таден считает, что "различия., отделяющие
Леонтьева от таких людей, как И. Аксаков, Страхов и Победоносцев, не
меняют того факта, что Леонтьев был самым блестящим й самым одаренным
82Там же, с. 773.
"Там же, с. 784.
84Там же, с. 775.
85 В нем выступили в качестве диалектиков-диспутантов Лев Тихомиров ("Русское
обозрение'*, 1894, N10) и Вас. Розанов ("Русский вестник",!903, N 4); Вл. Соловьев и Б. Грифцов
("Русская мысль", 1913, NN1,2,4); М, Чадов ("Славянофилы к народное представительство",
Харьков, 1906); В. Чуйко ("Наблюдатель", 1890, N 1), Н. Бердяев ("Sub specie...", СПб., 1907;
"А.С. Хомяков", М., 1912; "Константин Леонтьев", Париж, 1926); М. Таубе ("К
характеристике славянофильства как политического учения", Харьков, 1906); Н. Соколов ("Об идеях
и идеалах русской интеллигенции", СПб., 1904); А. Киреев ("Протоколы славянского
благотворительного общества", 1894).
79
продолжателем традиции славянофильства*^6. ?3ато
А. Валицкий находит, что Леонтьев не был славянофилом ни в историческом,
ни в этимологическом смысле этого слова, хотя и признает сопоставление его
со славянофилами методологически небезосновательным, если рассматривать его
учение как "продукт распада русского консервативного романтизма**. Но какова
бы ни была степень правоты открывшего эту дискуссию С. Трубецкого, вне связи
со славянофильством учение Леонтьева понято, вероятно, быть просто не может.
Так же, как, допустим, не может быть понят протестантизм вне связи с
католичеством.
Наивно было бы, конечно, утверждать сейчас, что протестантство — лишь
вариация католичества, как пытался утверждать это в свое время А. Хомяков,
или что Кальвин был разочарованным католиком, как утверждает применительно
к Леонтьеву и славянофилам С, Трубецкой. Протестантизм был самостоятельной
церковью и самостоятельной идеологией. Даже, если перейти на жаргон марксистов,
идеологией другого класса, нежели современное ему католичество. И в то же время,
он без сомнения умещался наряду с ним в рамках одной церкви, одной метаидео-
логии — христианской.
Стало быть, уместно, по-видимому, говорить — в отличие от марксистов —
не об идеологиях классов, но о классах идеологий.
Очевидно, в частности, что христианство в целом, включающее в себя
несколько церквей и сект, было на самом деле идеологией более высокого класса,
нежели взятые в отдельности католичество, протестантизм, православие или
англиканство. Было своего рода пучком, древом идеологий. Древом, необходимость
в котором (несмотря на огромные различия отдельных его ветвей) не отпадала
тогда, когда оно противостояло другому, аналогичному древу, например, исламу
или буддизму. Даже в разгаре жесткой -борьбы между ветвями одного древа
идеологий иноверец всегда был для ее участников отличен от "неверного". Католик
не понимал "схизматика'* — православного, но тем более непонятен был ему
"бусурманин". Шиит мог ненавидеть суннита, но тем более странен был ему "гяур"...
И если мы теперь подойдем к занимающему нас вопросу о связи Леонтьева
со славянофильством под таким углом зрения, то придется признать, что как
"народность", идиллический союз земли и власти славянофилов, так и "визан-
тизм" Леонтьева были консервативными утопиями, отвечавшими различным
моментам исторического бытия страны и в то же время находившимися между
собою е отношениях преемственности и родства — одинаково принадлежа к
единому древу русского консерватизма.
И поэтому анализу эволюции леон гьевского "византизма" С. Трубецкой
резонно пытается предпослать анализ его, так сказать, "материнской идеологии",
классического славянофильства. Прежде всего ок, вслед за Леонтьевым,
устанавливает глубочайшее противоречие самого классического славянофильства, его
"двойственность", которая, по мнению автора, заключалась в том. что в "их учении
были прогрессивные, высокогуманные, универсалнстические тенденции, — и
консервативный, ретроградный национализм". Леонтьев говорит точно то же, лишь
давая обоим полюсам славянофильского противоречия прямо противоположные
оценки. "Идеал славянофилов, — продолжает автор, — всеславянская
православная культура будущего, обновляющая мир, и в то же время — допетровская
Русь в ее своеобразном костюме, в ее быте, верованиях, в ее отчуждении от
Европы". Й в самом деле, славянофильская логика в изображении Трубецкого
получилась довольно странной: "культурные начала обособляли допетровскую
Русь от Европы, даже от западных славян, а потому эти же самые
культурные начала должны были послужить основанием для новой всеславянской и
всемирной культуры"87.
Ясно, что построенная на столь противоречивых культурологических основаниях
политическая программа должна была быть не менее двойственной и
утопической. Ясно, что и здесь "славянофилы естественно впали в то же
противоречие между национализмом и универсализмом, между русским консерватизмом и
прогрессивным либерализмом... С одной стороны — русификация окраин, деятель-
Thaden E. Conservative nationalism in nineteenth century Russia. Seanie. 1964, p. 179—180.
"Вестник Европы**, 1892, N 10, с. 777.
80
йг лютеранством, охранение политических и
религиозных основ, протест против всей западной культуры; с другой —
освобождение крестьян, земское самоуправление, широкое развитие народного образования
и целый ряд либеральных, демократических реформ, задуманных чрезвычайно
смело и радикально. С другой стороны — призыв "домой", в допетербургскую
Москву; с другой — либеральные реформы в духе современного государства"8 .
Все остальные противоречия, пронизывающие славянофильское миросозерцание,
словно бы из семени вырастают из этой порочной социально-политической
модели. Но "нигде, — признается Трубецкой, — внутреннее противоречие
славянофильского учения не выступало так ярко, как в славянском вопросе. Нигде
разочарование в славянофильстве не было так сильно, так оправдано событиями, как
именно здесь, в области славянского вопроса. Леонтьев прав, говоря об ошибках
первых славянофилов по этому поводу*'89. f
Оказывается, как видим, что и Леонтьев может быть прав в глазах либерала.
Но этого мало. С. Трубецкой признает еще и "пророческое дарование" Леонтьева
(конечно, в узких пределах изобличения славянофильского "славянолюбия", но ведь
и сам Леонтьев, как мы помним, не претендовал тогда на большее), он еще
скажет: "События последних лет оправдали Леонтьева и, хотя многое изменилось
с тех пор, как он писал, статьи первого тома его сборника сохраняют большое
значение"90.
Вот как много воды утекло с тех пор, как (всего семь лет назад) редактор
"Вестника Европы" рекомендовал статьи того же первого тома как "бред
больного ума'*, восклицая: "вот до чего можег договориться мистик на грубой
хищнической подкладке!"
Значит, время учило не только славянофилов. Оно учило и либералов. И "Вестник
Европы" в 1892 г. был уже вовсе не тот, что в 1885.
Все это, конечно, не похвалы Леонтьеву-законоучителю, пророку, автору
нового консервативного евангелия, на худой конец — самостоятельному мыслителю
европейского ранга, которого — придет время — вполне серьезные люди будут
сравнивать с Ницше и Ренаиом, с Уайльдом и Флобером, со Шпенглером и
Тойнби. Последние сравнения этого рода относятся к 1964 и даже к 1968 году91.
Нет, в этом смысле "византиец" Леонтьев остается для С. Трубецкого
противником, человеком по ту сторону баррикады, а не предметом объективного
изучения. Он стремится разгромить его учение, а не объяснить его. И
соответственно понимает его плохо. Он насмешливо, но увы, достаточно
поверхностно полемизирует с "византизмом". Конечно, далеко не так неуважительно,
как позволяли себе западники раньше, ко и далеко не так уважительно и глубоко,
как, например, Вп. Соловьев.
G. Трубецкой снисходительно цитирует известные строки Леонтьева, которыми
нажил он себе стольких свирепых врагов: "национализм есть идея космополитическая,
антигосударственная, противорелигиозная, имеющая в себе много разрушительной
силы и ничего созидательного". С. Трубецкой очень одобряет Леонтьева за
подобные утверждения: "Эта оригинальная мысль Леонтьева резко отличает его не
только от Каткова, но и от славянофилов. Из наших консерваторов... он один
восстал против национализма во имя охранения"92.
Но "что же однако, — тут же спрашивает автор, — сам Леонтьев
противополагает этому "национализму"? Универсализм, истинное служение вселенскому
единству, всемирному братству?.,. Мы видели, что нет! На самом деле,., он до
конца дней своих оставался., испуганным националистом, который тем более
взывал к насилию и реакции, чем сильнее он робел и сомневался"93.
Другими словами, Леонтьев хорош как критик славянофильства и дурен как
философ. Хорош как писатель, угадавший в либеральном консерватизме
славянофильства комплекс идей, представляющих пеструю смесь из "европейничающего
88Там же, с. 780—78!.
89Там же, с. 782—783.
90Там же, с. 791.
91 См. ВалкцкийА. В кругу консервативных утопий; Аверин ц ев С. Морфология культуры
О, Шпенглера.
92 "Вестник Европы", 1892, N 10, с. 794.
93Там же.
81
либерализма" и средневековых греческих культурных реминисценций ("ф
и дурен как проповедник этого византизма. Хорош как враг национализма и дурен
как испуганный националист.
Таково заключение С. Трубецкого, резюме его первой статьи о Леонтьеве.
Что же до мрачных леонтьевских прорицаний, до его туманных "византийских"
пророчеств о том, что "есть основание думать и надеяться, что осуществленная...
аграрно-рабочая идея оказалась бы не чем иным, как новой формой феодализма,
т.е. новым особого рода закрепощением лиц к разным корпорациям, сословиям,
учреждениям, внутренне-принудительным общинам и отчасти даже и другим
лицам", то С. Трубецкой откровенно над ними смеется. Так же, как над
предсказаниями "насильственных и кровавых катастроф" в результате
"физико-химического прогрессивного баловства" и вообще "либерально-эгалитарного прогресса"...
Впрочем, эта была естественная для русского либерала 90-х годов позиция.
Позиция либерала-западника конца прошлого "мирного" века, уверенного в
триумфальном и безмятежном шествии европейского прогресса, фетишизированного
и объявленного М. Ковалевским "основным законом социологии"94. Позиция
западника, убежденного, что социальные катаклизмы, сословия, корпорации,
закрепощения, тотальное насилие и яростная борьбка за мировое господство под личиной
новых религиозно-идеологических мировых войн, словом, все средневековые, "до-
цивилизованные" ужасы, напророченные "испуганным националистом" Леонтьевым —
не более, как звук пустой.
При всей своей спорности и очевидной поверхностности, интерпретация С.
Трубецким места леонтьевского творчества в развитии славянофильской доктрины
была по тому времени явлением значительным. И полемизировать с нею было
непросто. Тем более непросто было это для тех, так сказать,
законсервировавшихся консерваторов из Славянского благотворительного общества, которых
сам Леонтьев презрительно в свое время аттестовал как "полулиберальных
славянофилов неподвижного аксаковского стиля", возглавлявшихся после смерти
Ив. Аксакова генералом А.А. Киреевым.
Их рабское копирование славянофильских догматов 40-х годов производило
в несравненно усложнившейся ситуации годов 90-х впечатление скорее комическое,
их гневные манифестации весьма напоминали пародию и благообразный их лидер
так же походил на Хомякова, как черносотенец Сергей Шарапов на Ивана
Аксакова.
Но именно эти славякофилы-аксаковцы и считали себя прямыми и
законными наследниками классического славянофильства и клялись на всех перекрестках
именами Хомякова и Самарина, тем более, что дети и внуки этих апостолов
славянофильства состояли в их рядах неукоснительно. К ним же примыкали и
П. Астафьев, и С. Шарапов, редактор "Русского дела". Если сопоставить эти
совпадения, у нас, пожалуй, появятся все основания полагать, что травля Леонтьева
в конце его дней была инспирирована именно этими кругами Славянского
благотворительного общества, благотворительность которого в данном случае, очевидно,
следовало истолковывать как спасение России от леонтьевских инсинуаций в адрес
"русского духа".
Так или иначе, кому же, как не им, было выступить в первую очередь
против либералов-западников С. Трубецкого и П. Милюкова, строивших все
свои рассуждения о "разложении славянофильства" именно на причислении
ненавистного Леонтьева к их ортодоксальному, дистиллированно-славянофильскому
партийному стану?
4. С. Трубецкой и Л. Тихомиров
Дружное возмущение славянофильского стана и предназначена была выразить
речь его лидера А. Киреева на торжественном заседании Санкт-Петербургского
Славянского благотворительного общества 19 декабря 1893 г., озаглавленная
"Каши противники и наши союзники". Это была та самая речь, в которой
А. Киреев от имени славянофильства торжественно отрекся от Леонтьева, намере-
94Сафронов Б.Г. Ковалевский как социолог. М., I960, с. 102.
82
йас псГ рецепту графа Аракчеева", и1 от 8л. Соловьева,
забывшего силу православия и предлагавшего лечиться по рецепту Пия IX.
Если же обоим отказывалось в причислении к лику славянофилов, если вообще
к лику этому причислялись лишь соратники генерала по благотворительному
обществу, которые с энтузиазмом, как и 20 лет назад, повторяли ортодоксальную
формулу "православие, самодержавие, народность" — то какова же
тогда цена всем либеральным толкам о разложении славянофильства? Не ясно ли,
что как только вышеупомянутые писатели будут официально отлучены, а генерал
признан твердокаменным ортодоксом — "все толки о "разложении" славянофильства,
основанные на анализе идей этих писателей, падают сами собой"95.
По мнению генерала, все обстояло как раз наоборот: славянофильство год
от году росло и крепло, и находило себе все новых союзников. Например,
40 лет назад на славянофилов косилась администрация. А нынче это печальное
недоразумение можно считать разрешенным, и самоё, между прочим, правительство
можно отнести к числу "наших союзников". И вообще "мессианкческое
значение России относительно Запада не подлежит сомнению, это не химера, не
утопия: одно только славянофильство может избавить Европу от парламентаризма,
анархизма, безверия и динамита..."96.
Естественно, что отвечая в августе 1894 г. ка эту знаменитую речь статьею
"Противоречия кашей культуры", С. Трубецкой должен был взять тон иронический.
Он очень удивился, отчего это А. Киреев выбрал для своей защитительной
речи таких малых противников, как он или г. Милюков, тогда как у
славянофильства есть поистине великие враги, например, те же К. Леонтьев и Вл.
Соловьев. "Во всяком случае, — добавляет он, — иг. Милюков, и я в
значительной степени пользовались их аргументами"97.
И суть дела вовсе не в том, был или не был Леонтьев славянофилом, как
кажется генералу, а в том, что леонтьевская критика славянофильства была
сокрушительной критикой. И уж как критику славянофилов Леонтьеву нельзя
давать отвод на том лишь основании, что он "проповедовал аракчеевщину" и т.п.
Здесь следовало отвечать по существу дела, какового ответа генеральская речь,
увы, не содержала...
И хотя Н. Бердяев вовсе уж пренебрежительно впоследствии отозвался о
либеральном характере разбираемой работы, решительно заявив, что "статьи С.
Трубецкого и П. Милюкова... представляют типический либеральный и
малоинтересный подход к Леонтьеву"98, А. Киреев был разбит в этой работе наголову.
Несколькими искусными ходами (оставаясь притом вполне в рамках цензуры).
С. Трубецкой разрушил логический бастион, за которым надеялся отсидеться
ненаходчивый славянофил.
С. Трубецкой, опираясь на Леонтьева, формулирует здесь свои претензии к
славянофильству более определенно. "Леонтьев, — говорит он, — правильно указал на
большую неопределенность славянофильского учения и на внутренние
противоречия... между их византийским идеалом допетровской культуры и их
либеральным панславизмом. Эти противоречия, эта неопределенность понятий
продолжают сказываться и в речи генерала Киреева. Мы постараемся это показать,
чтобы защитить себя и К. Леонтьева от незаслуженных нападений"99.
Дальнейший ход рассуждений Трубецкого таков. Первый пункт, ка котором
он настаивает, заключается в том, что славянофилы сами не замечали
неоднородности собственных суждений об истоках "русской самобытности", каковые
состоят из двух элементов, настолько отличных друг от друга, что один из
них ("либеральный панславизм") вообще представляет собою нечто
фантастическое и несуществующее. Зато другой ("византизм") — есть печальная, но тем не
менее — реальность.
Во-вторых, эту двойственность славянофильского представления об истоках
русской культуры как раз и вскрыл Леонтьев, изобличив фантастичность, а стало
быть, и вр'ед панславизма и показав тем самым, что единственной реальностью
95"Русское обозрение", 1894, N 10, с. 869.
96"Вестник Европы", 1894, N 8, с. 510.
*7Там же, с. 511.
98 Бердяев Н. Константин Леонтьев, с. 265.
""Вестник Европы", 1894, N 8, с. 512.
83
славянофильской утопии был все тот же византизм, староверчество ^
допетровской Руси. J
В-третьих, таким образом, "истинным" славянофилом, т.е. человеком,
открывшим истину славянофильства, был именно Константин Леонтьев.
В-четвертых, все это, конечно, решительно не доказывает "истинности" самого
славянофильства. Напротив, это есть отрицание славянофильства как учения,
имеющего что-либо общее с истиной. И в этом смысле Леонтьев вовсе не был
"истинным славянофилом".
В-пятых, наконец, подлинное своеобразие русской культуры состоит в том,
что она действительно противоречива и слагается из двух элементов, только
элементы это — другие. Впрочем, одним из них и вправду является открытый
Леонтьевым "византизм". Но зато другим вовсе не какой-то панславизм, а
введенный Петром ("но не случайной прихотью, а провиденциальной исторической
необходимостью") европеизм.
Следует обратить внимание, что буквально на глазах, начав с иронического
намерения "защитить себя и К. Леонтьева от незаслуженных нападений", С.
Трубецкой, влекомьщ логикой собственного рассуждения, приходит не только к вполне
серьезному оправданию Леонтьева, но и — несмотря на то, что называет его
проповедь "цинической", такой, что "славянофилы 50-х годов могли бы только
с отвращением протестовать" против нее — к тому, что критика леонтьевской
конструкции парадоксальным образом преображается в ее апологию.
Слишком легкая победа над эпигонами классического славянофильства обернулась
теперь, когда С. Трубецкой заявил о своей позитивной позиции, победой пирровой.
Тем более, что в спор вступает новый и гораздо более опасный, нежели прямодушный
генерал Киреев, оппонент. Я говорю о знаменитом в свое время идеологе "Народной
воли7', бывшем главном редакторе ее партийного органа, еще более знаменитом,
впрочем, своим ренегатством, своей геростратовски-покаянной проповедью
православия, самодержавия и народности — Льве Тихомирове. В октябрьском номере
"Русского обозрения" за тот же 1894 год Тихомиров, претендовавший теперь, после
смерти Леонтьева, на роль первого идеолога российской реакции, выступил против
С. Трубецкого со статьей "Русские идеалы и К.Н. Леонтьев".
Л. Тихомиров, так сказать, ловит Трубецкого за руку. "Князь Трубецкой признает
проницательность критики Леонтьева, — констатирует он, — и считает ее настолько
окончательной, что и он, и г. Милюков прямо пользуются аргументацией Леонтьева100.
Мало того, Трубецкой принимает даже, что византизм действительно составляет одну
из основ "противоречивой нашей русской культуры". В этом для Л. Тихомирова суть
дела.
Он, испытанный в идеологических турнирах боец, не дает сбить себя с толку
рассуждениями об "аракчеевских рецептах" и т.п. Это, стало быть, признание, — логически
продолжает он последнее рассуждение Трубецкого, — что русская культура все-таки
представляет нечто своеобразное, нечто, имеющее задачи, отличные от задач Западной
Европы.
Л. Тихомиров не просто подхватыает, но и, так сказать, развивает ошибку С.
Трубецкого. Тот говорит: "европеизм" является одной из основ русской культуры. А.Л.
Тихомиров развивает: пусть "европеизм", но не чистый, не тот, что в Европе, смешанный
с "византизмом", следовательно, задачи русской культуры "отличны от задач Западной
Европы".
Прием, разумеется, абстрактный, спекулятивный, терминология до крайности
отвлеченная. Ведь из того, что русская культура, как и любая иная, содержит в себе
"нечто своеобразное", зовсе не следует, что задачи ее (да и что вообще означает
выражение "задачи культуры"?) отличны именно от задач Западной Европы. Не от задач
Англии или Испании, Германии или Франции, а — Европы! Но не С. Трубецкому же,
который и сам оперирует такими метафизическими абстракциями, как "европеизм"
и "византизм". не ему же упрекать за эту спекулятивную схоластику Тихомирова...
Последуем, однако, за оппонентом С. Трубецкого дальше. "Признание, — продол?
жае! он, — имеет свою цену и может быть поставлено на "кредит" Леонтьева. Но вообще
нельзя не сказать, что определяя его значение, должно стать на гораздо более широкую
точку зрения, чем толки о "реакционности" или даже об "истинном" и "не истинном"
славянофильстве К.Н. Леонтьева"101.
100 "Русское обозрение*', 1894, N 10, с. 869.
101 Т а м ж е.
84
-ЙО'З^ЭГШП, О8.ТЭЗИП38СК1.В SA™-< <- '] ' '
UI. Тихомиров откровенно жертвует обветшавшей символикой славянофильства
и вообще ищет такой аспект проблемы, при котором само — решающее для С,
Трубецкого — противопоставление Леонтьева классическому славянофильству утратило бы
всякий смысл. "Что, собственно, — спрашивает он, — для нас, для русских, каких бы
то ни было направлений может быть жгуче интересно в вопросе о славянофильстве?
Только то — есть ли русские идеалы и в чем они состоят?.. Оно составляет важное
историческое явление лишь в той мере, в какой выражает голос русского самосознания.
В Леонтьеве точно так же может быть интересна только связь его с исторически
растущими показаниями русского самосознания"102
Ясно, что с згой точки' зрения Леонтьев должен не повторять славянофилов,
чего требует от него А. Киреев, а развивать их, что он, по мнению Тихомирова, и делает.
Это во-первых.
А во-вторых, в самом славянофильстве важно, жизненно и, если угодно, "истинно"
лишь то, что развивает в нем Леонтьев, а не весь его либеральный антураж, на котором
настаивает А. Киреев. Таким образом из сомнительного славянофила Леонтьев
парадоксально-объединенными усилиями Трубецкого и Тихомирова преображается
не только в "истинного славянофила*', но и вообще в судью славянофильства, в эталон,
которым следует поверять его "истинность", поскольку он, Леонтьев, - - вторая, высшая
и уже в силу этого более истинная ступень "русского самосознания". Л. Тихомиров
так и говорит: "В Леонтьеве русский человек резче, яснее, отчетливее, чем в ком бы то
ни было, сознал свое культурно-историческое отличие о г европейца, и именно поэтому
увидел, какой страшной опасностью грозит ему тип европейский. Сознание высоты
русского типа у Леонтьева дозрело до полной ясности".
Но как только учение Леонтьева признано критерием русского самосознания,
Л. Тихомирову уже сравнительно легко разделаться со своим либеральным соавтором
по апологии Леонтьева. В самом деле, если С. Трубецкой признает, что
"современная русская культура смешанная и соединяет в себе внешним образом два различные,
отчасти противоположные начала: византийское и европейское" и "ни от одного из них
Россия не хочет и не может отречься, не отрекаясь от себя самой", а выход из столь
неестественного положения заключается единственно в том, чтобы и славянофильство
и Россия "примирилась с западничеством принципиально", то и Л. Тихомиров вправе
спросить: "где гарантия, что такое "примирение", во-первых, возможно, а во-вторых,
правильно?"
"'Само собою, — восклицает он, — такой исход, такое "примирение" наших
противоречий не могли представляться уму Леонтьева в виде чего-нибудь желательного.
Он понимал, что совместное действие двух начал, устоев по существу различных,
может кончиться или тем, что одно вытеснкт другое — или, если этого нет, - го лишь
взаимной парализацией, обесцвечением, разложением. Никакого органического
слияния тут быть не может. Это и логический и исторический нонсенс. Не органическое
слияние, а разложение в некоторую социальную протоплазму только к может
предвидеться"'0 . Понятно, что Леонтьев как идейный вождь России в грядущей борьбе
отечественного "византизма" против "гниющего" европеизма, как единственный
мыслитель, который "отчетливо осознавал, что в наших современных противоречиях
России ставится дилемма: или иметь самую жалкую будущность бесцветнейшей
из наций, или выдержать жесткую борьбу противоречивых основ своих, между
которыми нет примирения", как добрый гений России, который "к этой борьбе звал
с тем большей страстью, что сознавал себя борцом за общечеловеческую культуру" —
понятно, что такой Леонтьев никак не укладывается в рамки убогих либеральных
толков о реакционности .
Разве мог такой человек, развивает успех Чихомиров, быть охранителем?
Реакционером? Да он-то как раз и был подлинным прогрессистом. Потому что "он, по
существу, звал к будущему, к развитию, к "прогрессу" того типа, который мы получили
от рождения. Никакой "реакции", никакого "ретроградства" тут быть не можег. Реакция
и ретроградство еще может быть у "западников", у "европейцев", но никак не у
"русских", у которых есть только начало, которое или вовсе должно погибнуть, или требует
шТам же, с. 869-870.
103 "Русское обозрение", 1894, N 10, с, 877.
504 Т а м же, с. 878,
85
продолжения, развития, прогресса"105. "Реакция призывает к прошлому. А Леонтьев
звал к будущему"106.
Так же, как на наших глазах С. Трубецкой разгромил А. Киреева,
воспользовавшись его методологической ошибкой, так Л. Тихомиров громит теперь Трубецкого,
пользуясь его собственной методологией, ее вопиющей неконкретностью, ее
спекулятивной схоластикой, й оба они — один невольно, другой сознательно — создали
апологии Леонтьева.
Впрочем, для Тихомирова Леонтьев издавна, еще при его жизни, был объектом
восхищения. Он преклонялся перед ним, жалел его, завидовал ему. Под 31 октября
1889 г. в дневнике Тихомирова записано: "Ни Россия и ни что большое без меня
не пропадет, а если суждено пропасть, то не я спасу погибающее... Взять хоть Леонтьева,
что он? Нуль по влиянию, по последствиям. А ведь я ему в подметки не гожусь по таланту
и силам"107. Вот и здесь, в "Русском обозрении", он восклицает с восхищением:
"У Леонтьева всегда найдется что-нибудь, против чего будут спорить. У него, однако,
и такой принципиальный противник, как князь Трубецкой, находит драгоценные
указания, которые принимает как несомненные. Вообще в Леонтьеве еще не скоро,
повторяю, разберутся"108.
Как Александр III был для Тихомирова идеалом русской государственной
мудрости, так Леонтьев был для него идеалом русского политического мыслителя. Иначе
говоря, Леонтьев был для него человеком, разгадавшим подлинное культурное
строение, архитектонику "русского самосознания", его историко-генетический код.
Но и Тихомиров еще не решается поручиться за научность идей Данилевского и
Леонтьева, он специально оговаривается: "Собственно, как теорию научную, я не могу
принять ни того, ни другого. Это не более как наброски идей, несомненно верных
по существу, но с точки зрения научной точности не обоснованных, не развитых и не
выдержанных".
Зато такие яростные апологеты Леонтьева, как В.В. Розанов или редактор "Русского
обозрения" А.А. Александров не останавливались уже и перед объявлением леонть-
евского учения эпохальным переворотом в науке. "Именно он первый, — утверждал
в "Русском вестнике" Розанов, — понял смысл исторического движения в XIX веке,
преодолел впервые понятие прогресса... указал иное, чем какое до сих пор считалось
истинным, мерило добра и зла в истории". Но и этого Розанову мало. "С тем вместе, —
продолжает он свою великолепную тираду, — уже почти по пути, он определяет
истинное соотношение между различными культурными мирами и преобразует совершенно
славянофильскую теорию, отбрасывая добрую половину ее требований и воззрений,
как наивность, коренным образом противоречащую их основной идее"109.
Цитируя известную леонтьевскую дефиницию, гласящую, что "высшая точка
развития... есть высшая степень сложности, объединенная некоторым внутренним
деспотическим единством", Розанов восторженно прокламирует, что она "устраняет из
научного исследования вмешательство страстей и вообще всякого субъективного
чувства..., сложность не сливающихся в одно признаков, как критериум развития —
это дело почти арифметического счета, это открыто для всякого внешнего наблю-
дения"110.
Другими словами, Леонтьев оказывается под пером Розанова первооткрывателем
не только философии, но и социологии истории, самого способа ее измерения,
количественных методов в социологии!
Еще "ученей" и претенциозней выступил в том же "Русском вестнике" Ан.
Александров, взявший на себя труд описать, обобщить и классифицировать вклад
Леонтьева в мировую науку. И вот что, оказывается, внес он в нее — по А,А. Александрову.
"Первое. В области политической: а) определение характера югославян; б) протест
и предостережение против либерального панславизма; в) идеал нашей восточной
политики... Второе. В области истории философии: а) требование новой культуры; б)
указание, где должно искать для нее начал; в) разъяснение противоположности идей развития
!и5Та м же, с. 880—881.
""Там же, с. 880.
м"Воспоминания Л. Тихомирова". М.—Л., 1927, с. 370—371.
ш "Русское обозрение", 1894. N 10, с. 870.
!С9"Русский вестник", 1892, N 1, с. 167.
||0Та м же, с. 168.
86
W Прогресса; указание триединого процесса, д) открытие закона смешения или
вторичного смесительного упрощения; е) теория долговечности государств... Третье.
В области религии: а) указание и разъяснение важности и необходимости страха
Божьего; б) о том, что христианство всеобщего благоденствия на земле не обещало;
в) общий взгляд на истинное христианство... Четвертое. В области общественной:
требование — большей сословности. Пятое. В области литературы: требование
чистоты языка и эстетическое возмущение некоторыми современными литературными
оборотами и приемами".
Само собою разумеется, что подобная апология-способна была бы
скомпрометировать даже самого серьезного мыслителя. Среди всего перечисленного "множества
открытий" — общим числом четырнадцать — были и такие мирового класса "открытия",
что апологет не находил даже, с чем бы можно было их сравнить. "Указание триединого
процесса, например, и открытие закона вторичного смесительного упрощения должно
быть или опровергнуто, или признано одним из замечательнейших открытий — всех
времен" (подчеркнуто, разумеется, автором).
5, Итоги дискуссии
Подводя итоги рассмотренной нами дискуссии 90-х годов, мы можем сказать,
что она прошла для памяти Леонтьева под знаком спора о степени и форме
причастности его к славянофильству. Самого факта этой причастности никто уже, пожалуй,
кроме самых крайних ортодоксов вроде А. Киреева и не оспаривал. Зато позиции
и мотивы спорящих сторон сплелись в чрезвычайно сложный и запутанный клубок,
в котором любопытно разобраться.
Например, такие апологеты Леонтьева как Ан. Александров, Б. Розанов и Л.
Тихомиров, по существу, присоединялись к мнению его врагов, либералов С. Трубецкого
и П. Милюкова, отстаивавших принадлежность Леонтьева к славянофильству, —
против реакционера и ортодокса Киреева. У нас нет здесь надобности анализировать
это подробно, но в общих чертах позиции и мотивы спорящих сторон можно было бы,
видимо, истолковать следующим образом.
Славянофильство, вполне к 90-м годам выродившееся и адаптированное к нуждам
поднявшей голову реакции, стало в последний период царствования Александра III
идеологией господствующей, официозной. Поэтому причисление к ней Леонтьева
означало для либералов возможность бросить зловещую тень его парадоксального визан-
тизма на господствующую идеологию и выразить свою оппозиционность режиму.
Этой же цели отвечало и противопоставление Леонтьева „первоначальному"
классическому славянофильству — как продукт его "саморазложения'7, как
"разочарованного славянофила" — поскольку давало возможность открыто свести идеологию
современного адаптированного славянофильства к николаевской формуле
"православие, самодержавие, народность". Другими словами, показать, что духовные корни
современной реакции не в благородном консерватизме раннего славянофильства,
а в вульгарном охранительстве уваровской триады.
Именно поэтому С. Трубецкой с особенным удовольствием разъяснял А. Кирееву,
упорно настаивавшему, что суть славянофильства в "священной формуле" и заключена,
что "как бы ни было высоко то место, которое занимала в славянофильстве помянутая
формула, оно ею не исчерпывалось, и не в ней состояла его оригинальность...
Славянофильство заключало в себе целую философию, целую политическую и религиозную
программу, которая могла казаться опасною правительству 50-х годов"111. Иначе
говоря, классическое славянофильство (в противоположность тому, что отстаивается
ныне достопочтенным генералом) было идеологией оппозиционной --- вот что
утверждает Трубецкой.
Но далеко не все идеологи возродившейся реакция были так негибки, как А. Киреев
и его твердокаменные единомышленники из Славянского общества. Напротив, наиболее
дальновидные из них, как, например, Л. Тихомиров, причислением Леонтьева к
славянофильству добивались целей противоположных тем, что преследовались либералами.
А именно — они старались оплодотворить возродившееся "православие,
самодержавие, народность" новым и богатым содержанием, почерпнутым из его
сочинений, утилизировать все возможные и поддающиеся немедленной утилизации элементы
"Вестник Европы", 1894, N 8, с. 513.
87
его "зизантизма", чтобы придать стихийной и прагматической реакции 80—90-х годов
целеустремленный и осмысленный теоретический характер, сделать византизм, так
сказать, научной базой бестолкового реакционного реформаторства. Другими словами,
византизм в той форме, какую он принял в 80-е годы, предназначен был в качестве
высшей формы "русского самосознания" сделаться идеологической платформой и
политической программой нового александровского деспотизма.
И в этом смысле леонтьевская критика славянофильства не только безоговорочно
реабилитировалась, но и превозносилась как необходимое его исправление, коррекция,
адаптация к новым задачам "русской культуры". Отныне была она не ревизионизмом
славянофильства, как утверждал А. Киреев, и не его "разложением", как утверждали
либералы, а законным его развитием, прогрессом (даром, что Леонтьев терпеть не мог
этого слова) — если угодно, его увенчанием.
Однако, в конце концов, эти самозванные идейные душеприказчики Леонтьева
лишь исполняли — - истово и пунктуально — его предсмертную волю. Вот что говорил
он о себе и о своей задаче незадолго до кончины: "Ошибались старые славянофилы.
Зачем же младшим ученикам их подражать им во всем так просто? Нет! Не просто
продолжать надо дело старых славянофилов, а надо развивать их учение, оставаясь
верными главной мысли их — о том, что нам по мере возможности необходимо
остерегаться сходства с Западом; надо видоизменить учение там, где оно было ни с чем
несообразно. Надо уметь жертвовать частностями этого учения — для достижения главных
целей — умственной и бытовой самобытности и государственной крепости... Почему
же они (младшие ученики славянофилов. — А. Я.) держатся за всю теорию сполна до сих
пор так упорно? Зачем они хотят быть только "послушными адептами" учения о русской
самобытности... Что за неумение узнавать свой собственный идеал в новых и
неожиданных формах; не в тех, к которым приучила нас заблаговременная теория! Истинная
социальная политика есть та, которая не жизнь развивает из учения, а учение из
жизни"112.
Как видим, Леонтьев желал быть реальным политиком, а не отвлеченным
доктринером, желал быть лидером начавшейся реакции, а не послушным адептом
обветшавших догм и их хранителей, о которых писал он Губастову 5 июня 1889 г.: "Я перерос
их моею мыслью"11 , желал продиктовать правительству хотя бы первый и решающий
тактический шаг в осуществление своей программы — захват Босфора и образование
"второй России", как добавлял он в другом письме: "Если только в должную минуту
произойдет прежде всего внезапный захват Константинополя (а все "остальное
приложится само"), то самый пламенный патриот будет вправе воскликнуть: "Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром"И4, желал
функционировать не в роли обычного литератора, а спасать Россию, если не на официальных
верхах, куда уж было ему не пробиться, то хоть в качестве "серого преподобия" при
главном вожде русской реакции: "...какое-то отвращение от литераторства. Очень
хотел бы надолго бросить... подавал бы государю секретные записки", — писал он уже
за полгода до смерти115.
Иначе говоря, Леонтьев жаждал, чтобы грядущая жизнь России строилась по его
плану, чтобы она была реализацией его программы.
Однако анализ леонтьевской программы переустройства России — иная тема,
далеко выходящая за рамки этой работы.
112 Л е о н, т ь е в К. Соч., г. VII, с. 434, 437.
113"Русское обозрение", 1897, N 5, с. 406.
И4Та м же, с. 411.
115Та м же, 1897, N 7, с. 425.
-88
Времявластие
(О Валериане Муравьеве и его философии)
Г.П. АКСЕНОВ
Великая книга человеческой культуры состоит из имен и своего рода "формул",
по которым можно расшифровать личность каждого, независимо от масштабов
сделанного. Мыслитель и публицист Валериан Муравьев должен быть записан вместе
с кодовыми словами "Овладение временем". Таково название и тема его
единственного напечатанного при жизни философского трактата, посвященного великому
будущему человечества, проективной и преобразующей роли культуры1.
Даже сегодня, когда история нашей философской мысли обретает персональные и
тематические очертания, имя и работы В, Муравьева можно отнести к одним из самых
глухих ее страниц. Но его многозначный неологизм "времявластие" — как бы сразу
и власть времени над нами и неподвластность ему — все же начинает привлекать
внимание. Появились первые упоминания о В. Муравьеве, первые еще малодоступные
исследования его наследия''.
Судьба Валериана Муравьева глубоко трагична. Во-первых, тем, что в ней
индивидуализировалась судьба всей русской интеллигенции, не сумевшей совладать с
безразумным временем и сгинувшей в историческом провале. И, во-вторых, тем, что в
дошедших до нас "из глубины", из-под обломков рухнувшей жизни, созданных силой
творчества формулах, прозрениях и произведениях мы его не узнаем и не знаем. Мы
и не подозреваем, как много в духовном климате целого исторического периода
содержалось его идейных построений.
Валериан Муравьев происходит из "тех самых" Муравьевых. Кого бы мы ни
вспомнили — когорту декабристов Муравьевых-Апостолов, знаменитого дипломата
Муравьева-Амурского, усмирителя Польши Муравьева-Варшавского (прославившегося
изречением, что он не из тех Муравьевых, которых вешают, а совсем наоборот — из тех,
кто вешает) или генерала Муравьева-Карского — все это представители одного
разветвившегося рода. В "Советском энциклопедическом словаре" им посвящена целая
колонкам
А в дореволюционных словарях числился еще и известный юрист, судебный деятель
и министр юстиции Российской империи с 1894 по 1905 год Николай Валерианович
Муравьев.
Сын, родившийся у него и супруги Евгении Ивановны в 1884 (по другим сведе-
1 Муравьев В. Овладение временем как основная задача организации труда. М„ 1924.
Издание автора, 12? с. (Далее в тексте. — ОВ.)
2См. главу о Муравьеве в книге: М. Hagemeister. Nicolay Fedorov. Studten zu Leben. Werk
und Wirkung. Munchen, 1989. См. также: Игумен Геннадий (Эйкалозич). Овладение
временем. — "Вече**, 1987, N 25, с. 69—85; Г. Эй халович. "Федоровиана". — "Новый журнал', N 163,
с. 259—274.
89
киям — в 1885) году и названный в честь деда — псковского губернатораш ,с|
Валериана Николаевича Муравьева — получил замечательное домашнее воспитание.
Английским и французским языками владел, во всяком случае, наравне с родным.
Валериан с золотой медалью закончил привилегированный Александровский лицей
и был отправлен на два года в Париж для совершенствования в Школе политических
и общественных наук.
После ее окончания он поступает на традиционное семейное поприще
государственной службы и становится секретарем русского посольства во Франции. Затем
служит в Гаагской мирной конференции ~- предшественнице Лиги Наций и ООН, —
снова в посольствах в Гааге и Белграде. В годы мировой войны возглавляет
Балканский отдел в Министерстве иностранных дел, а после Февральской революции гам же
занимает пост начальника политического кабинета.
Накануне и во время войны начинает писать и печататься — юношеские стихи,
статьи в различных сборниках и журналах. В 1912 году в Новгороде выходит из
печати его первый труд по государственному праву "Мелкая единица самоуправления
в русском законодательстве", где прослеживаются древние корни земских
учреждений вплоть до новгородской верви-общины.
Уже первые произведения показывают сложившиеся убеждения Муравьева как
государственника, цивилизованного (весьма цивилизованного) патриота. Его идеал —
непосредственная демократия, народоправство. И не случайно в период между двумя
революциями 1917 года он начинает печататься в еженедельнике того же названия,
издававшимся известным публицистом Н.В. Устряловым. Каждый номер
"Народоправства" открывался статьей Н.А. Бердяева.
Грянувший Октябрь сделал за Муравьева выбор между литературой и
государственной службой, и в начале 1918 года он оказывается в Москве и входит в группу
публицистов, объединившихся вокруг устряловской газеты "Утро России", еще
издававшейся и терпевшейся большевиками. Эта большая ежедневная газета давала
обильную и точную информацию и вместе с тем в трагических тонах, без злорадства
комментировала полет России в бездну, происходивший у всех на глазах:
головотяпские и невыполнимые декреты центральных и местных властей, фантазийные речи
главных большевиков, разрушение народного хозяйства национализациями и
конфискациями, введение государственного контроля над всем и вся, безудержное печатание
необеспеченных денег, невиданный никогда ранее рост числа посаженных на шею
народа чиновников, соглашение с Германией и выход из войны. Все эти вещи
назывались своими именами.
В марте 1918 года большевики закрыли "Утро России", но она возобновляется
под именем "Заря России". Чуть ли не в каждом номере газеты на первой странице
появляются статьи Валериана Муравьева: трезвый анализ международных дел,
положение Германии, иногда — живые зарисовки московских событий, но чаще всего —
пронзительные по чувству, выразительные статьи об утраченной России, как бы
уходящей, тающей. Любое государство — это территория и власть. Территория
захватывается врагом (как раз осуществляются положения Брестского мира), власти нет,
ибо она заявляет себя не национальной, а одним из отрядов международного
пролетариата. От России осталась одна идея, и приходится только верить, ч го в дальнейшем
национальное мученичество и одно общее страдание выразится и возродится в
государственных формах. "Теперь всем ясно, — писал Муравьев, — ученому так же, как
прохожему на улице, что социалистическая власть есть просто плохая буржуазная
власть, что за напыщенными фразами скрываются действия, не отвечающие ни одному
из данных обещаний" ("Заря России", 24 мая 1918 г.). t4^
* "Заря России" добросовестно отмечала и возлагала надежды н# л&6о$ -р^кзблеск
здравого смысла властителей, отзывалась на любую нормальную попытку государе
ственной работы. Но логика цепляния за власть не имевших никакого народоправства
большевиков вела их к развязыванию войны и краху. Они могли править только
в чрезвычайных обстоятельствах и успешно их создавали. (В это же время Вернадский
тонко заметил, что большевизм держится исключительно расстройством всех сторон
жизни, при нормальной работе он должен немедленно исчезнуть, измениться.) Мирный
период закончился закрытием последних органов свободной печати, в том числе и
"Зари России".
Заключительным аккордом осмысления интеллигенцией происшедшей трагедии
стал сборник "Из глубины" (1918), тематически и персонально завершивший вышедшие
90
за. десять нлеш до этого "Вехи''. Им закончилось легальное и началось нелегальное
бытование русской общественно-политической мысли, поскольку сборник был не
только запрещен, но и уничтожен. Сохранились считанные его экземпляры.
Помещенная в сборнике статья В. Муравьева "Рев племени" пронизана ощущением
рвущегося на глазах исторического времени .
Но Валериан Муравьев не был бы русским интеллигентом, если бы не принял вину
за происшедшее на самого себя, не взвалил бы на себя ответственности. Во время
гражданской войны в нем постепенно вызревает сплетенное из высших идейных
соображений и логики решение остаться в стране и, мало того, активно работать на
государственном поприще. Он стал самым первым сменовеховцем, еще до известной
кампании Устрялова. И по выражению последнего, "Муравьев стал большим
большевиком, чем сами большевики".
Сохранилось несколько писем Муравьева Троцкому, из которых было отправлено,
вероятно, только одно4. Они и показывают непосредственный повод его "обращения".
Работая в комиссии по изучению опыта войны при комиссариате иностранных дел,
он побывал на каком-то собрании, где выступал Троцкий с изложением плана создания
милиционной системы, всеобщего вооружения народа и т.п. По всей видимости,
Муравьев воспринял эти планы как задачу государственного строительства и,
раскритиковав сам замысел, оценил порыв и как бы начал за них, за большевиков,
решать эти задачи. Т.е. воспринял их как логическую проблему, отвлеченно от
моральных соображений.
Он встречается с Троцким и критикует утопичность этой самой милиционной
системы в крайне отсталой стране. А вскоре начинает служить "на советской работе"
в должности эксперта, специалиста по междунароным отношениям. Никаких
ответственных постов он никогда не занимал.
Итак, все действительное — разумно. Сепаратный мир Муравьева с советской
властью отнюдь не выглядел предательством идеалов, а, напротив, развитием все тех же
государственных взглядов, которые несколько позднее привели к аналогичному
решению Устрялова и других ведущих публицистов "Зари России", ставших советскими
профессорами и даже теоретиками государственного и международного права.
Муравьев руководствовался примерно следующей логической схемой. Что
случилось, то случилось. Большевизм победил. Нет смысла теперь искать виноватых.
Масштабы разрушения объясняются ожесточением гражданской войны. Теперь она
кончилась, начинается устроение жизни.
Несмотря на огромные потери и эмиграцию, в стране сохранилось еще немало
умственных сил. Должен возникнуть какой-то компромисс и сотрудничество духовных
сил интеллигенции с теми из властителей, которые осознают необходимость не походов
за освобождение международного пролетариата, а создания национального государства.
Но в альянсе Муравьева с новой властью сказалась не только его позиция
государственника, но и более идеальные соображения. Продолжавшаяся все эти годы
собственная духовная работа привела его к убеждению в справедливости космокра-
тических и воскресительных идей Н.Ф. Федорова. И он предлагает как бы начать
с чистого листа переход в новый порядок бытия путем планомерной организаторской
работы. Впервые история как бы ставит живой эксперимент — возможность
создания единой организации в масштабах страны-континента, с огромными
людскими и природными ресурсами. Позади остались конкуренция и разъединение
экономической жизни. Если государственное планирование соединить с наукой и упор
сделать не на социальной, а на природной революции, то последняя может обрести
космическое измерение.
Через несколько лет в письме к другому последователю Федорова, Н.А. Сетниц-
кому, он до некоторой степени объяснил свои мотивы. "Можно критиковать наш
бюрократизм, сетовать на отсутствие свободы, жаловаться на Главлит за то, что
не выпускает наши книжки, — но надо глядеть шире и выше, с этой точки зрения
нельзя не признать, что мы присутствуем при величайшей в истории мира
героической попытке изжечь зло старой культуры и построить новую культуру на истинно
трудовых и общечеловеческих началах. Вы помните наши разговоры и тот
парадоксальный вывод, к которому мы пришли, что революция для нас недостаточно
3См.: Вехи. Из глубины. М., 1991. (Приложение к журналу "Вопросы философии").
4Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В.И. Ленина, ф. 189. оп. 1, п. J4.
91
революционна, что она слишком замыкается на общественных
хотели бы мировой, космической Революции*'5.
Решение Муравьева не было поколебимо даже арестом и судом. Летом J920 года
ЧК начало процесс над так называемым "Тактическим центром", — первое из
политических шоу, имевших не утилитарно-охранительное, а устрашающее,
пропагандистское и "воспитательное" значение. Оно было полностью сфабриковано6. Показной
характер процесса проявился в приговоре: 28 человек присуждены к расстрелу, который
тут же был заменен различными сроками тюрьмы, в том числе такими экзотическими,
как "до окончания гражданской войны". Еще через несколько месяцев все
осужденные были "прощены".
В ноябре 1920 года Муравьев был уже на свободе, и здесь прекращается собственно
публицистическое творчество его и начинается совершенно новый период. Процесс
показал, что со свободой слова покончено, просто собраться и поговорить по
интеллигентской московской привычке стало опасно.
Но главное, — Муравьева увлекают совсем иные, новые и неожиданные идеи.
Если бы понадобилось поставить философское творчество Валериана Муравьева
в какой-то родственный ряд, то, несмотря на множество перекличек с другими
течениями мысли, лучше всего его определяет близость и сходство с представлением
о ноосфере. Становление этой идеи произошло буквально в несколько лет
одновременно во Франции и России. В 1924 году в Париже вышла книга В.И. Вернадского
"Очерки геохимии", где геологическая оболочка планеты, подвластная человеческому
разуму, выделялась в особую сферу, а через два года, основываясь отчасти на этих
представлениях, отчасти на идеях А. Бергсона, Эдуард Леруа в лекциях в Коллеж
де Франс впервые назвал эту оболочку ноосферой. Причем он подчеркивал совместное
авторство с Пьером Тейяром де Шарденом. Так впервые была осознана как целое
реальная и действенная мировая структура — человеческая мысль и основанная на ней
практика. Она же была понята как этап эволюции, на котором вместо биологических
форм идет взрывное накопление знания и духовных ценностей.
Начало века стало, по выражению Вернадского, временем взрыва научного
творчества, на порядок увеличившего мошь человеческой цивилизации на планете. Впервые
культура предстала не как нечто случайное и наносное, но как закономерный результат
космического развития.
Валерьян Муравьев в те же годы создал свое — оригинальное, цельное и социально
ориентированное — учение, осмысливающее этот процесс. Центральные темы его
размышлений — культура как целое и взаимоотношения человечества и временя.
Уже в ранних публицистических статьях данная проблема притягивала его:
"Историческое прозрение таинственно расширяется в минуты истинного вдохновения таланта,
переходя в прозрение биологическое и геологическое. История людей становится
историей земли и мира"7.
Культура, согласно Муравьеву, явление не только антропоморфическое, она
представляет собой часть природы и обладает космическим смыслом. Культура выражает
собой положительное направление мирового процесса, имеющего ярко выраженную
тенденцию к организованности. Если есть в мире, как об этом говорит наука,^
тенденция к обесцениванию и рассеянию энергии, значит, есть и противоположный
процесс собирания и концентрации энергии, что еще не выделяется в естественный^
мировой процесс, но проявляется в организующей (каталитической, по выражению^
5ОР, п. 21, д. 3, лл. 4—5. у
Правдивая история "Тактического центра" еще не написана. Из официальной чекистской
версии (Голи к ков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР, кн. 2. М., 1978) можн#
почерпнуть только самые общие сведения. Подробнее см.; СП. Мельгунов. Суд истории наД
интеллигенцией (К делу "Тактического центра"), — "На чужой стороне*'. Вып. III. Берлин-Прага,
1923, с. 137—163. Известный профессор-историк Мельгунов был сокамерником Муравьева Ш''
Лубянке. -• ,
7 Муравьев 8. Восприятие истории. - "Народоправство'*, 1917, N 7. с. 11. (Судя по таким
пассажам в публицистических работах» Муравьев в те годы писал и что-то более отвлеченнбе.
Однако в его архиве нет ни рукописей, ни документов до 1920 года. Возможно, они были изъяны
при аресте.)
92
людей. Культура есть, таким образом, природное явление,
интенсивно захватывающее в себя, вовлекающее все новые и новые элементы и в конце
концов овладевающее всей природой.
Аналогично этому и сфера разума понимается В. Муравьевым не как случайно
возникающее, но как заложенное в самом порядке вещей организующее начало. "Разум
имеет способность зажигать сознание в разных местах мира или, иначе, создавать
индивидуальные силовые центры. Вместе с тем он интегрирует разрозненные
действия — собирает все окружающие вещи вокруг этих фокусов, центров. Тем самым
создаются фокусы эктропического действия через интенсификацию деятельности
элементов системы"8.
Рефлексирующие центры сознания объединяют или, точнее сказать, организуют
в определенном порядке вокруг себя предметы внешнего мира в процессе
целесообразной деятельности. Это напоминает процесс кристаллизации и "организации"
раствора вокруг "затравок". "Нервная энергия есть в таком случае не что иное, как особое
состояние мировой энергии, действующее в случаях проявления сознания
каталитическим способом. При этом энергия сообщается окружающему посредством
символов и слов, числовых знаков или языка имен"9.
Слово есть реальность этой второй природы, наиболее значимое и таинственное
орудие функционирования культуры и накопления знаний. Высшая и лучшая степень
слова — имя, принадлежащее самому думающему, действующему и страдающему
органу мира — личности. Мир личностей есть мир имен10.
Имяславие Муравьева имеет не богословский, и, тем более, не мистический
оттенок. Оно вполне реалистично, как и вся его философия, что не помешало ему сочинить
поэтичнейший афоризм: "Жизнь — есть печать имени над бездной".
Имя есть печать, код, им запечатлена пустота, скреплена распадающаяся материя.
Ничто не имеет смысла, кроме имени, только оно есть показатель восходящего
смысла на фоне нисходящего энтропийного потока, умирания. Только личность
своим творческим актом спасает, одушевляет материальный мир, сам по себе
стремящийся упасть в бездну. Человек противостоит времени. Куда бы мы ни шли в
лабиринтах мысли Муравьева, мы обязательно увидим ариаднину нить — проблему
времени, которая в конце концов обязательно выведет нас к его ключевому понятию,
к "главной печати" — овладению временем.
В космических балансах сил и потоков человеческая активность есть время-
образующий фактор. Вот его главный тезис. Время — не объективно, не субъективно,
а проективио. В сущности, это побочный продукт деятельности. Наша часть Вселенной
подвластна организующей, мощнейшей деятельности человечества. Идеальные
ценности, созданные культурным творчеством, проходя через различные слои, масы-
8Муравьев В. Софья и Китоврас. — ОР,' п. 15, д. 6„ л. 45. Сходство муравьевеких рассуждений
о новой реальности разума с идеями основателей учения о ноосфере столь явно, что трудно
удержаться от цитирования. Э. Леруа* "Возьмем биосферу. Вообразим на ней несколько четко
локализованных точек, откуда выбрасываются струи. Вначале они едва взбухают над средним уровнем
поверхности, но затем внезапно струи поднимаются, распускаются, соединяются вершинами и,
расстилаясь как пелена, облекают всю землю. 8 конце концов напластованная на более
примитивный слой и пересеченная многочисленными потоками пелена, оболочка — это уже ноосфера,
эманация биосферы, хлынувшая из нее и завершившаяся тем, что приобрела тот же объем и
значительность** (Е. L e R о у. Les origines humaines et revolution de rinteliigence. P., 1928, p. 46). П. Тейяр
де Шарден: "Вокруг искры первых рефлектирующих сознаний стал разгораться огонь. Точка
гбрения расширилась. Огонь распространился все шире и дальше и дальше. В конечном итоге,
пламя охватило всю планету. Только одно истолкование, только одно название в состоянии
выразить этот великий феномен — ноосфера. Столь же обширная, но, как увидим, значительно
более цельная, чем все предшествующие покровы, она действительно новый покров, "мыслящий
пласт", который, зародившись в конце третичного периода, разворачивается с тех пор над миром
растений и животных — вне биосферы и над ней" (П. Тейяр де Шарден. Феномен человека.
Мм 1987, с. 148—149).
"/Муравьев В. Всеобщая производительная математика. — "Вселенское дело", 2-й вып. Рига,
1934, с. i 16- 140. Статья предназначалась для сборника "Трудоведение", составлявшегося
исследователями и последователями Н.Ф. Федорова в 1923 году, но запрещенного цензурой.
*!° В категориях "имяславия" мыслил, например, П. А. Флоренский (Символическое описание. —
В кр.: Феникс. Кн. 1. М., Костры, 1922, с. 80—94): скрупулезно разработал диалектику "смысловой
энергии" А.Ф. Лосев в книге "Философия имени" (М., 1927). Недавно состоялось переиздание
этих рабог в приложении к журналу "Вопросы философии": П. А. Флоренский. Соч. в 2-х томах,
т 2. М., 1990, с. 109—124; А.Ф. Лосев. Из ранних произведений. М., 1990.
93
щаются энергией действия, становятся частью
Без человека этого целого нет.
После Вернадского легко говорить о космичности жизни и сознания. Муравьев
самостоятельно проходит ноосферный путь, преодолевая царящий в его дни позитивизм
и эволюционизм, согласно которым жизнь и человек суть продукты недавней эволюции.
Он в некотором смысле возвращается к древней идее, высказанной еще Августином
Блаженным: мир, действительность созданы не во времени, а со временем. Без жизни
говорить о времени бессмысленно. Человек и человечество имеют к нему
непосредственное отношение.
Проблема времени, утверждает Муравьев в предисловии к единственной своей
вышедшей в свет книге, решается не теориями только, хотя бы и такими
остроумными, как теория относительности и теория Минковского. Течение времени есть то,
что человек из него делает. В деятельности сам субъект выступает в качестве объекта,
и потому проблема времени не гносеологическая, а прагматическая.
Обычно фраза "время — это жизнь" воспринимается как метафора» образ,
поэтическая вольность, не имеющая действительного смысла. Между тем речь Муравьева
обескураживающе проста, серьезна и реалистична. Человек преодолевает, "делает"
время не в образном, а в самом прямом, природно-объективном смысле, поскольку
его сознание имеет космический характер.
Что же в таком случае понимается под временем? Время, говорит мыслитель,
есть результат, индекс интегрального мирового множества. Мыслятся предметы
отдельно, в действии же любого ранга заключено все мировое множество элементов.
Все связано со всем.
Но в любом множестве есть активные и пассивные элементы. Тогда для одних
время будет внешним, и они будут участвовать в мировом действии принудительно.
Для активных элементов, обладающих самопричиной и потому организующих вокруг
себя все мировое множество, время имманентно. Оно — неотъемлемый атрибут только
действующей, активной природы.
Тут, в сущности, и кроется центральный пункт понимания времени Муравьевым:
это не всеобщность времени, как привыкли мы думать, не время вообще. Время присуще
не всем категориям или, лучше сказать, слоям бытия. Оно есть атрибут, свойство,
показатель отношения, — но только тех вещей, которые обладают ростом,
изменением, становлением, стремлением к повышению организации. Естественно, таковым
свойством в полной мере обладает только человеческая культурно-преобразующая
деятельность, иначе, — времяобразующая деятельность.
Мир — океан действия. Но есть узлы, стяжки, гребни волн на его поверхности.
Поэтому действие проходит через индивида как через центр определенной системы.
Только этим центрам и присуще свойство создавать время. "Время создается
сознательными существами в том смысле, что только там, где есть обособленное
индивидуализированное действие, можно говорить о длительности существования чего-
либо"11.
Этот тезис мог бы вызвать в памяти Бергсона, его осуществление "длительности"
интуитивным усилием личности, однако Муравьев придает этой идее дополнительный
смысл. Индивид есть лишь потенция времяобразующей деятельности. Она
актуализируется групповым (но не всяким, а соборным, т.е. согласным и согласованным)
действием, выходящим в мировое множество. "Максимум индивидуации есть вместе
с тем максимум объединения. Индивид расширяется до пределов все больших и больших
включающих его коллективов и отождествлением с ними утверждает свое
существование в большей мере, чем это было возможно в узких пределах маленькой лич-»
кости"12.
Личность есть единство трех горизонтов: индивидуального, исторического и
космического13. Ни одним из этих уровней нельзя пренебречь, и ни одним из них нельзя
ограничиться. Только сознание принадлежности к социально-исторической группе
дает смысл человеческим индивидуальным стремлениям, но только космический
уровень рассмотрения придает цель деятельности социально-исторической группы,
"ОВ.с. 56.
12 Т а м же, с. 66.
Такие же горизонты и Тейяр считал тремя последовательными стадиями персонализации
человека. См.: Тейяр де Шарден П. О счастье. — "Человек", 1991, N 2.
94
$утя ложной. Таких неверно направленных действий возникает множество.
Действие вообще — реальность природы. Человек вначале включен в него, и только
затем его осознает и освящает целью. Слишком часто действие еще основано на
фантастических предположениях, содержащихся у него в голове. Человечество еще
несовершеннолетнее, повторяет Муравьев тезис Федорова, оно еще играет, вместо того,
чтобы осознать свою ответственность и включенность в мировое множество, создает
созерцательную и даже мистическую культуру. Необходимо от образноподобия
в искусстве, которое является первой ступенькой деятельности, перейти к проективной
деятельности.
Преображение и строительство нового будущего нельзя понимать как некий
запланированный заранее поток действия. На самом деле, без сознательного усилия
человечество не обходится. Его единственный (и доступный) объект — собственное
прошлое, над ним оно непрерывно и работает.
Во временном смысле прошлое есть единственная реальность. Оно уже
свершилось, и одно оно имеет логику, логическую достоверность. Разбирая и
разрабатывая прошлое, мы освобождаем и очищаем его от лжи, заблуждений, ошибок
и преступлений на основании своего идеального представления. Тут прошлое и будущее
сливается в проекте, но не смешивается. Несовершенство прошлого есть
побудительная причина самого действия. "Если бы прошлое было освящено, не было бы
никакой нужды в действии, создающем будущее, не было никакого проекта.
Греховность мира сказывается в неочищенном его прошлом. Надо покаяться, т.е. осознать
примесь смерти к жизни в ее прошлом"14. (Неподвижность и заклиненность нашей
истории, с этой точки зрения, объясняется отсутствием национального покаяния,
осуждения своего прошлого.)
Преодоление времени в пределе — преодоление смерти, розни и раздора между
сознательными элементами действующей системы. Таков скрытый федорианский воск-
ресительный пафос книги Муравьева "Овладение временем". Он понимает
воскрешение предельно широко — как спасение мира от падения, от увлечения в бездну
энтропии всей его неодушевленной, а за ней и одушевленной части мира. Этот воекре-
сительный пафос есть то внутреннее напряжение, которое движет его философским
поиском. "Надо не надеяться на готовую вечность, а делать ее. Всякий человеческий
акт, стремящийся быть разумным, есть восстание против смерти"15.
Но, как это обычно бывает в духовной области, цель движения еще не создает истины.
Зато она служит сильнейшим побудительным мотивом в создании подлинных духовных
ценностей, имеющих несколько иное значение, чем думает автор. Так и тема времени,
разрабатываемая в свете идей воскрешения и восстановления тварной природы
с целью ликвидации необратимости, позволяет Муравьеву найти новые повороты
в самой проблеме. Его концепция попадает в разряд тех непризнанных и стоящих
особняком построений, которые можно объединить в формуле "Время — это жизнь".
Сегодня все они находятся в тени тех философских представлений, которые
инициированы теорией относительности и потому считаются "странными",
метафоричными и непонятными. Там находится и философия Бергсона с его представлением
о времени как потоке жизни, о творчестве, каждый акт которого как бы маркирует,
отмечает моменты времени, и последнее оказывается соотношением одновремен-
ностей.
Муравьев развивает далее эту концепцию, согласно его взглядам, творческий
акт и организованное коллективное действие (а не просто индивидуальное, как
у Бергсона) создают реальное мировое время. Он различает время, протекающее
как бы автоматически, спонтанно, в бессознательном процессе, и его обращение,
восстановление, воскрешение сознания. "Для нас важно отметить единство мирового
процесса времяобразования везде, где есть признаки жизни и постоянное, по мере роста
сознания, преодоление случайного и слепого времени и замена его временем
намеренным и разумным. Максимум такого преодоления должно дать и максимум
жизни"16. Это дальнейшая дифференциация слоев бытия по отношению ко времени и разная
степень его проявления (или, если угодно, эволюция) составляют наиболее яркую
черту представлений Муравьева о времени.
Уже не в философии, а в науке данная концепция продолжена Вернадским, который
14Муравьев В. Заметки на философские темы. — ОР ГБЛ, ф. 189, п. 14, д. 2. лл.
15 ОВ, с. 120.
!6ОВ, с. 63.
95
ввел вместо неопределенного и слишком богатого коннотациями слова пжизкь"
понятие "живое вещество", что позволило ему анализировать биологическое время.
Оно принадлежит биосфере, а его преодоление, по Муравьеву, совершается в ноосфере.
Человек преодолевает слепой ход времени и соединяет времена своим творческим
познавательным и действенным актом.
Таким образом, Муравьев оказывается посередине между Бергсоном и Вернадским
как необходимое соединительное звено и момент развития всей данной концепции.
Его идеи окажутся настоятельно необходимыми, когда эта умственная традиция
будет осознана как преодоление односторонности физико-астрономического
истолкования времени, С точки зрения Бергсона — Муравьева — Вернадского, как раз
теория относительности и основанное на ней понятие о времени с большим основанием
можно считать метафорой, тогда как "время—жизнь" — более реальное представление,
чем кажется на первый взгляд.
Однако идеи Муравьева остались непонятыми. Первые рецензии (они же последние)
на его книгу появились в эмиграции. Автор одной из них, 8. Сеземан, назвал философию
Муравьева дилетантской, упрощающей17. Возможно, с точки зрения бывшего приват-
доцента Петербургского университета, так оно и есть. Спор между дилетантами
и профессионалами бесконечен.
Специалист воспринимает философскую проблему как учебную, а дилетант как
откровение, как непосредственную жизненную истину. Первый всегда прав, но его
правота частична, второй или прав, или неправ целиком. Его можно принимать или
не принимать.
Конечно, философия Муравьева несистематична. Он — мыслитель пророческого
типа. Он "считывает" своп идеи с "небес" путем творческого углубления, а не строго
логическим построением. Зато добытое таким способом совершенно неповторимо.
У Вернадского есть изумительный разбор картины Дюрера "Четыре апостола",
где рассмотрен обычный, но не замечаемый нами путь любой идеи. Она рождается
как откровение бескорыстного искателя Истины. Следующий за ним, более
прозаический мыслитель (специалист) сопрягает добытое первым знание с уже известным
и усвоенным, делает его более понятным людям. Третий — борец за эту идею, за
внедрение ее в сознание масс уже не только книжным путем, а организацией. И наконец,
четвертый уже не борется за эту идею, а утверждает ее любыми средствами. Это
холодный и керассуждающий палач, карающий инакомыслие. Мысль первого почти
неузнаваема в четвертом, но этот последний социально наиболее могуществен.
Такова, к сожалению, логика "овладения идеи массами", ее драматический и
страшный путь в "системе социальной необходимости"*.
Мир движется увлеченными и бескорыстными людьми, за счет них мы живем,
освящая их формулами и прозрениями спонтанный поток жизни. В нашу культуру
часто неузнаваемо и безымянно вплетены идеи безвестных искателей истины.
К первому разряду мыслителей принадлежит и Валериан Муравьев. Его философия
есть цельное знание, еще не оформленное в строгих понятиях и не соотнесенное
с наличными концепциями. Но разнообразными и тайными путями оно вошло в
идейный обиход и выступало порой в таких одеяниях, которым сам Муравьев никогда бы
не принял. Чего стоит, например, идея о покорении и преображении природы, которая
стала пропагандистским оправданием насилия над природой, осуществлявшегося
на шестой части суши. Трудно в ней узнать федорианскую и муравьевскую мысль
о преображении "смертной природы" человека и восстановлении рассыпающейся
под действием энтропии материи. Но не освящала ли эта мысль своей мерцающей
метафизической глубиной жуткую практику "великого преобразования природы"
в нашей стране?
Равно и идеи научной организации труда, нового искусства или науки как
производительной силы (производительной математики) могли быть почерпнуты из книги,
"Овладение временем", чтобы затем в опошленном до расхожих демагогических
лозунгов виде с помощью всевозможных идеологов, раствориться в социальной
фразеологии и практике.
17 См.: "Версты", 1928, N 3, с. 172—175.
♦Выражение принадлежит А.С. Романову.
С 1926 по 1929 год Валериан Муравьев работал ученым секретарем в гастевском
Центральном Институте Труда. Без сомнения, его книга сыграла решающую роль
в приглашении на эту должность. Алексей Гасгев. поэт и ученый, певец "рабочего
удара", создавший институт и задумавший на свой лад придать смысл пролетарской
революции, не мог не заметить такой книги.
Работая в ЦИТе. Муравьев перевел и отреферировал множество книг по
организации и повышению производительности труда, он постоянно печатался в
специальных журналах. Но, судя по оставшимся от него бумагам, проблемы организации
труда в их утилитарном значении не столь уж занимали ум Муравьева. Главным
для него оставалось философское творчество. Причем тематика его размышлений
все более смещалась в сферу отвлеченных вопросов.
В архиве Муравьева сохранились главы большого философского романа в диалогах
"Софья и КиюврасЛ который он сам перевел на английский язык, философ-
ско-исторический роман "Остров Буян'* (о новгородской жизни накануне принятия
христианства), пьеса, рассказы, а также множество заметок, незаконченных набросков,
философских афоризмов.
Судя по наследию, его творчество набирало силу. Между тем время
относительного идейного плюрализма 20-х гг. заканчивалось. Грянул переворотный 1929 год.
И начался он с "советизации" Академии наук, шумной кампании против "буржуазной"
науки, с разгрома неофициальных научных школ, закрытия научных обществ и
издательств, ликвидации краеведения и чистки во всех научных учреждениях. Дошла
чистка и до ЦИТа.
Институтская комиссия, по всей вероятности, "вычистила" Муравьева. Его лишили
избирательных прав, вменяя в вину происхождение и должностную карьеру при
царизме. В архиве сохранился черновик письма в Ташкентский университет, в котором
Муравьев предлагает свои услуги в качестве преподавателя по научной организации
труда vt производства, сообщая, что в течение трех лет состоял ученым секретарем
ЦИТа. Черновик помечен 8 августа 1929 года, и это последняя дата на сохранившихся
документах,
Вероятно, вскоре его арестовывают. Дальнейшие сведения о нем противоречивы.
Неизвестны точно ни дата приговора, ни время и место смерти. Муравьев сгинул
в ГУЛАГе18.
Несомненно, что все факты его жизни будут выяснены. Как будет исследовано
в полком объеме и усвоено нашей философской мыслью творческое наследие
Муравьева. Время не властно над именем.
Из архива Валериана Муравьева
В.Н. Муравьев — Л.Д. Троцкому*
В результате разговора с Вами я пришел к некоторым мыслям, которые
считаю необходимым Вам представить, Я не находил бы возможным
злоупотреблять вновь Вашим вниманием, если бы не полагал, что формулирование
18 Архивное дело сообщает о его смерти на Соловках в !930 г. 16 июня 1931 года в парижской
газете "Возрождение" появилось траурное извещение о смерти В.Н. Муравьева на Соловках, без
даты. Однако в некрологе сборника "Вселенское дело" говорится, что Муравьев был выслан
3 Нарымский край, работал на метеостанции и умер от гифа в 1932 году.
*В архиве В. Н. Муравьева сохранилось несколько черновиков его писем к Л.Д. Троцкому. Они
представляют собой правленные от руки и подписанные автором машинописные копии.
Первое письмо содержит критический анализ милиционной системы Троцкого. Печатающееся
здесь второе письмо, как видно из со/держания, написано после их встречи и беседы. Третье и
четвертое письма — варианты второго или его отдельные части. Видно, что Муравьев придавал
ему большое значение, тщательно отделывая текст.
В архиве нет сведений, было ли отправлено второе письмо, а также о реакции адресата.
4 Вопросы философии, N 1 97
моих разногласий с Вами имеет и некоторое общественное значение. Я невольно
в известном смысле являюсь представителем части русской интеллигенции, той
бесправной части, которую суровый пролетарский режим не только лишил
возможности выражать свои мысли, но лишил даже самой способности
мысли, заставив ее заняться исключительно насущным хлебом.
Между тем речь идет о разногласии необычайно глубоком и чреватом
последствиями для всего будущего. Я ясно ощутил, говоря с Вами, что это
не есть столкновение двух различных политических взглядов. Это встреча двух
совершенно различных масштабов мысли, суждение об одной и той же
действительности в двух совершенно различных плоскостях. Вопрос сводится
к следующему: должны ли мы применить к окружающему масштаб новой
всемирной эры, которая захватит века, а может быть и тысячелетия, или же
происходящее постигнет судьба всех подобных ему революционных
потрясений?
Прежде всего несколько слов о Вашей Концепции и Вашем масштабе.
Я вполне оценил его значительность, На меня большое впечатление произвела
грандиозная нарисованная Вами картина будущего. Я принадлежу не к тем
работникам, которые довольствуются планом своей отдельной колонны при
постройке здания. Меня интересует идея всей постройки, и моя колонна
имеет для меня смысл только как часть целого. И вот вдумываясь в широкие
линии Вашей мысли, я нахожу в ней все черты великих общественных
идеалов прошлого — построений Пифагора, Платона, Бэкона, Кампанеллы,
Моруса и т.д. Но что особенно для меня интересно, — Вы не мыслите только. —
Вы вместе с тем осуществляете. Это особенно важно, так как несомненно,
что величайшим злом нашей культуры является отдельность мысли от действия.
Мы должны вернуться к отдаленным временам, когда в юном опыте народов
не было этого разделения, обусловившего все наши кризисы, между прочим
и кризис социальный. Разделение на классы произошло вследствие отхода
верхов культурного творчества человечества от народных низин, питавших
его своими стихийными истоками. Необходимость освобождения и поднятия
трудящихся, соответственно, не есть только вопрос социальной
справедливости, но есть прежде всего вопрос жизни и смерти для самой культуры,
которая иначе отсохнет и выродится, как это и происходит на наших глазах.
Выход из кризиса — в перемене метода культурного творчества, в слитии
мысли и дела, в принятии на себя ответственности не только за содеянное,
но и помысленное. В большевизме я нахожу многие из искомых черт. Он
несомненно нечто большее чем теория, так же как его государственная идея
есть нечто большее чем идея чисто государственная. Она — идея,
приближающаяся к теократической. В этом правильный путь. Философия должна
стать делом, Мыслители должны стать деятелями, а деятели должны стать
пророками-строителями по образцу вождей древности, полагавших основы
древних культур и царств.
Ваше действие есть историческое действие. Меня оскорбляло в нашей
революции отсутствие в ней историзма. В стихийном ее движении соединилась
антиисторичность русских интеллигентов, воспитанных в подполье, вдали от
практической жизни и антиисторичность невежественных масс, живущих
только сегодняшним днем. Тут не столько было даже ненависти к прошлому,
сколько просто абсолютное отсутствие к нему интереса. Между тем, как это
правильно отмечает марксизм, без истории нет будущего. Но сам марксизм
слишком узко и слишком нецелостно, схематично понимает историю. Нельзя
отклоняться от всей совокупности прошлых фактов, личностей и явлений,
Всякий практик, всякий истинный строитель знает цену истории как резервуара,
из которого черпается материал для построения будущего. Я заметил с
большим .интересом, что Вы стоите именно на такой точке зрения. Вопреки
взгляду узких социалистов, которые боятся истории как чего-то чуждого
98
и враждебного, Вы ищете преемственности и для всех Ваших начинаний и
понимаете, что она не только не ослабляет Вас но, наоборот, безмерно Вас
усиливает. Те сравнения с Петром, те аналогии с процессами древней русской
истории, которые мы, писатели и мыслители другого лагеря, привыкли
выдвигать в виде отправных точек для суждения о большевизме, его корнях
и последствиях — оказывается, эти связи для Вас также представляют живой
материал и Вы в них черпаете назидания и уроки. Это дает Вам корни в
истории, и Вы как бы в нее врастаете, приобретая от этого новую
действенность и силу.
Из совокупности этих свойств — действенности и историчности вытекает
значительная реальность Ваших начинаний, та их жизненность, которая так
поражает людей, считающих большевиков мечтателями и постоянно
удивляющихся тому, что им "так везет". Вы мечтатели, но вместе с тем Вы практики.
Главное, Вы связаны с жизнью изнутри, сознательным участием в известном
процессе. В этом и в некотором смысле осуществляется задание социальной
науки, искомое социологами, —■ предвидеть в области социальных фактов
так же, как можно предвидеть в области химических явлений. И потому
в значительной мере, в некоторой своей части создаваемое Вами царство
есть рождающееся, а не зачатое только в мечте.
Я не могу тем не менее удовлетвориться таким строительством. В мысли
моей я иду дальше. Я нахожу глубокое внутреннее противоречие в
материалистической основе Вашего миропонимания. Вы приглашаете людей
ставить себе исключительно цели личного материального благополучия,
ибо всякие другие исключаются Вашим материализмом. Вместе с тем и в
полном с этим противоречии Вы зовете их ради идеала жертвовать собой, отдать
ради него свою жизнь. Вам могут ответить то, что ответил солдат
Керенскому в знаменитом диалоге. Керенский побуждал солдата идти в наступление.
обещая ему землю и волю. "На что мне земля и воля, если я буду убит'5, —
ответил солдат и рассуждал глубоко логично. Жертву нельзя обосновать
материалистически, исходя из личного интереса. А других побуждений у Вас
быть не может. Правда, Вас спасает то, что коммунисты поступают против
логики и идут в огонь в религиозном энтузиазме, оправдывающем мои,
а не Ваши теории.
Подобного противоречия нет в более совершенном идеале общечеловеческой
организации, в идеале теократическом. Он имеет над Вашим то преимущество,
что захватывает всего человека, не только телесного, но и духовного, и всю
конкретную историю, а не взятую искусственно одну только экономическую
схему. Такой вселенский всеобъемлющий идеал мелькнул в Русской Истории,
когда инок Филофей в послании Великому Князю Московскому хотел сделать
из него наследника Всемирной империи Рима. Это был не грубый захватный
империализм политического завоевателя, но попытка обосновать завоевание
духовное — объединить человечество в единой Церкви — Царстве Правды.
Я вам говорил о формуле, провозглашенной в прошлом голу иронически
в московских консервативных кругах: Мы ждали Третьего Рима, а получили
Третий Интернационал. В этой формуле есть очень глубокий смысл и отнюдь
не только отрицательный. Можно противопоставлять Третий Рим Третьему
Интернационалу, как я сейчас делаю, но можно указать и ка известную
родственность этих идеалов. Ведь не случайно же, что в большевизме
соединились русская национальная и европейская социалистическая стихии. Первая
имела вселенский идеал, искала его издавна в Церкви, и этим объясняются
в значительной мере быяпя религиозность русского народа и связь религии
его с созданной им государственностью. Русский народ искал Новый
Иерусалим, сказочное Царство истины, где господствует вечная справедливость.
И предвестники Ваших идейных коммунистов были, быть может, паломники
наших средних веков, схимники и святители, над которыми в Вашей печати
и в Ваших кругах принято теперь так грубо издеваться. Русская
интеллигенция вследствие реформы Петра отошла от народа и его религиозности и,
сохраняя национальные черты, пошла искать Царство Правды в науке и
социализме, Там она проявила ту же твердость и подвижничество, что
схимники в своих скитах. И в конце концов она вернула нам идеал Третьего Рима
в виде Идеала Третьего Интернационала. Ленин оказался духовным
преемником старца Филофея. Я думаю, что Третий Рим шире и глубже Третьего
Интернационала и в конце концов его поглотит. Третий Рим идет снизу,
от народа, и Интернационал есть только разновидность идеи о Всемирной
Организации, т.е. часть идеи Третьего Рима. Я хочу оговорить, что говоря
о Третьем Риме как о теоретическом идеале, я понимаю последний
чрезвычайно широко, считая отличительным признаком теократии охват всех
сторон человеческой жизни, организацию всех его проявлений.
Замечу далее, что и ваши виды на Азиатскую революцию далеко не
случайны. Напомню, что в наших средних веках была чрезвычайно популярна
легенда о Царстве Пресвитера Иоанна, по которой русский народ искал
Царство Правды именно в Азии. Если же взять историю Туркестана, где Вы
хотите создать свою базу для проникновения в Азию, мы найдем в нем в эпоху
перенесения туда из Аравии мусульманства поразительные аналогии с
большевизмом в движении крайних магометанских сект. В этих движениях
завязалась вся последующая история востока с очень большой культурой.
Так было, впрочем, и в Европе в религиозных исканиях богомилов, гуситов,
Реформации, английского пуританизма и т.д. Но Азия нам ближе не только
потому, что мы стоим на рубеже двух материков, но Азия больше и глубже,
и масштабы ее движений значительнее: в конце концов вся Европа вышла
из Азии. И здесь я должен сказать, что я не боюсь упреков в склонности
к азиатчине ив том, что в ней "потонет наша культура". Культура не может
ни в чем утонуть, и только те, кто не чувствует в себе способности нового
культурного творчества, цепляются за старые формы и боятся, что их
захлестнет окружающее. Культура может как зародыш быть и в некультурной среде.
Вот то здание, которое мне мерещится иногда в тумане будущего.
Очертания его не меньше границ Вашего плана и в некоторых отношениях их
превосходит. Я думаю, что когда-нибудь мы к этим идеям придем, и что
социализм сыграет роль в этом процессе. Вообще коммунизм, вероятнее всего,
представляет собой идею еще свернутую, из которой в последующем могут
развиться самые неожиданные новые идеи.
Размышляя об этих идеалах и меряя, следовательно, действительность
первым из двух указанных, большим масштабом, я часто себя спрашиваю,
не есть ли он единственно правильный. Не глупо ли и даже преступно цепляться
за маленькие исторические преграды и разделения, когда открывается такая
сияющая ширь,-такие безбрежные и волшебные горизонты.
Но, увы, человек XX века должен уметь размышлять в нескольких
плоскостях одновременно в зависимости от характера и объема предмета.
Сочувствие широкому и отдаленному идеалу не должно мешать трезво оценивать
окружающую действительность и мерить ее мерилом возможного для
завтрашнего дня, для известного предстоящего промежутка истории. Здесь, когда
я так ставлю вопрос, я коренным образом расхожусь с Вами и буду скептиком,
пока мне не докажут на практике, что я ошибаюсь. Я далек от мысли отрицать
успехи Советской Власти, их значение и размеры. Но если поставить вопрос
о глубине сделанного, я вынужден буду высказать большие сомнения. Да,
политическая победа Советской Власти полная. Но ведь не это нужно, чтобы
можно было говорить о строительстве в том, большом масштабе. Для этого
нужно чтобы изменилась вся подпочва жизни, чтобы произошел в самом деле
глубинный переворот всех отношений, всех представлений, всех способов
жизни. Что достигнуто в этом смысле? Думаю, очень мало. Ведь важно не из-
100
менение принадлежности тех или других предприятий, не перераспределение
благ, не новые данные права и новые наложенные обязанности. Все это
важно как точки отправления, как та экономическая и социальная статика,
которая явится основой динамики. Важна не новая форма отношений, а
жизнь этих отношений в этих новых формах. Пока я вижу кругом себя как бы
войско, готовое к бою, но стоящее на месте. Надо видеть его в бою. Пока
я вижу искусно созданный механизм. Надо, чтобы она зажил собственной
жизнью, превратился бы в организм. Тогда можно будет сказать, родился он в
самом деле или нет, действительность он или только видимость.
И я не могу, конечно, высказаться окончательно и в отрицательную сторону.
Я жду и слежу с большим вниманием за признаками зарождения в связи с новым
строем политическим (который налицо) нового строя
социально-экономического (которого я еще не вижу). Весь вопрос сводится к результатам новых
производственных процессов во всех областях. Пока страна живет либо
старыми запасами (и в смысле материальном, и духовном — культурного
богатства), либо ценностями вновь вырабатываемыми, но при помощи старых
производственных процессов. Это значит, новый политический строй
кормится старыми производственными отношениями. Вот этому, дяя того чтобы
можно было говорить о новой эре в Вашем смысле, должен быть положен
конец. Центр тяжести вопроса для меня лежит сейчас в предпринимаемых
Вами реформах, связанных с организацией труда, введением трудовой
повинности, милиционной системой и проч. От результатов этих начинаний будет
зависеть все будущее в гораздо большей степени чем от побед Красной Армии
или от исправления транспорта. Важно, конечно, иметь боеспособную армию
и налаженный транспорт, но это нисколько не предрешает вопрос об изменении
строя. Последний должен родиться от одного какого-то удачного опыта как
новая химическая комбинация от нового сочетания элементов. В социальной
области должно произойти нечто вроде опытов ученых, пытающихся найти
тайну жизни, создать новую протоплазму. Если это удастся как прием в одном
каком-нибудь месте, при одинаковых условиях это произойдет везде. Если Вам
удастся найти органические формы трудовой повинности, при которой она
не будет наложена искусственно на население, как это безобразно
практикуется сейчас в нарушение всех экономических законов, но, наоборот, будет
естественно вытекать из процесса новых отношений, — если организм гак
построенный задвигается и заживет. — тогда Наша победа обеспечена, и
в самом деле мы вступили в новую эру.
Пока же этого нет, я считаю себя вправе видеть в окружающем лишь
результаты переворота в малом историческом смысле, т.е. так, как понимает
его большинство русской интеллигенции. Я считаю себя вправе применить
к этому перевороту известные мне из истории аналогии и предсказывать
его будущую судьбу на основании законов известных мне исторических
революций. И стоя на этой точке зрения, я беру из программы Советской
Власти то, что соответствует в ней именно такой точке зрения, т.е. не
сверхгосударственную программу, а программу государственную. И так как
государственность имеет свои объективные законы, я готов защищать ее
требования против всей остальной Советской программы, если это окажется
нужным. Пока Вы не создадите органического милиционного строя, я буду
защищать против механического милиционного строя постоянную армию.
Пока Вы не замените принуждения сознанием, я буду защищать
принуждение. И в каждой государственной задаче можно будет провести такую
линию: то, что оправдывается большим масштабом, и то, что оправдывается
малым. Но пока у меня нет возможности применять большой, пока он для
меня еще только теория, я должен работать, чтобы быть добросовестным,
в рамках малого.
Эти два порядка суждений очень глубоко расходятся, и разногласием их
101
обусловливается взаимное непонимание Советской Власти и части-интелли^
генции. Советская Власть требует постоянно работы в обоих масштабах от
людей, которые сознательно и чистосердечно могут применить свои силы
только зо втором. И когда эта часть интеллигенции ставит перед властью
вопрос о политических уступках, об отказе от крайних коммунистических
идей, она хотела бы перевести власть в этот малый масштаб. Наоборот,
коммунисты часто поступают обратно, причем многие из них вообще
антигосударственны и живут только в одном большом масштабе.
В чем же выход из этого положения. Я думаю он не заставит себя долго
ждать. Либо новые формы производственного процесса будут в самом деле
найдены и осуществлены, и тогда всем будет ясно, что новая эра началась,
что надо строить в большом масштабе, Либо встретятся при первых же
попытках создать новую социально-экономическую динамику настолько
серьезные препятствия, что Вам, повинуясь жизни, придется отказаться от
осуществления больших линий Вашего плана и ограничиться действием
гораздо меньшим, способным вместиться в рамки исторической
государственности. Это будет ожидаемая многими эволюция Советской Власти. И в том и
в другом случае, понятно, для блага страны необходима совместная работа
двух нып& расходящихся течений: в первом случае второе поднимается до
первого, во втором будет обеспечено между ними соглашение на почве
реальной государственной работы,,
Валентинов*
6-го января 1920 г.
Публикуется впервые ОР ГБЛ, ф. 189, п. 14, д. 9, лл. 5—8.
Глава I. Последние вопросы.
В минуты, когда внешняя жизнь выпускает нас из своих цепких объятий
и мы получаем возможность сосредоточиться и уйти в себя, перед нами
неизбежно, в том или ином виде, встают вопросы, которые лучше всего можно
назвать "последними вопросами*'. Тогда мы думаем о ценностях и смысле
жизни, о загадке нашего появления в мире и странностях предуготовленной
нам судьбы. Тогда нас охватывает жуткий страх при мысли об
единственности нашего существования, о преходящем необратимом, незаменимом
характере прохождения ее во времени. Тогда нас поражает глубокое
разнообразие и различие существующего вне нас и не меньше удивляет
необходимость признания связи всех этих особых индивидуальных проявлений
б каком-то изначальном, причинном и сущностном единстве. Тогда мы ощу-
*Н. Валентинов — псевдоним В.Н Муравьева. Первое письмо от 31 дек. 1919 года подписано:
"сотрудник-составитель Комиссии по изучению и исследованию опыта войны 1914—1918 гг.".
Под этой фамилией Муравьев помещал в трудах Комиссии отчеты, а также статьи в журнале
"Военное дело** в 1920 году.
"•"•"Внутренний путь" — незаконченный этюд В.Н. Муравьева — сохранился в его архиве в виде
машинописной копии с правкой авюра. Рукопись не датирована. Предположительное время
написания — начало 1920-х гг.
102
щаем в самых глубоких наших одиноких размышлениях, что мы ничто и
вместе с тем, что мы все, что весь мир в нас и вместе с тем, что мы не что иное,
как одно из проявлений этого мира. Сильнее же и могущественнее, чем все
эти представления, колеблющиеся между живым реальным ощущением к
высшими абстракциями философского разума, — одна мысль, исполненная для
нас грозного и несравненного значения, — мысль о нашей предстоящей Смерти,
неотвратимой, неумолимой, беспощадной. "Ты умрешь!" — вот
заключительный аккорд всякого размышления и перед этим сознанием бледнеют
радужные идеалы, заволакиваются как бы саваном безнадежности все самые
яркие, живые картины, рисующиеся воображению, Воистину каждый из нас
подобен приговоренному к казни, ч весь вопрос в длине предоставленного
ему срока для ее совершения. По большей же части срок этот нам неизвестен,
и в этом кроется одинаково основание для утепления и для страшных
ежеминутных ожиданий.
На этом фоне развертывается человеческая жизнь с ее успехами и
неудачами, с ее бурными страстями, соблазнами, искушениями, минутами
наслаждения и счастья, часами горести и печали. Как верно изображает наше
положение восточная легенда, мы тянемся к капле меда, в то время как
неустанно мыши времени подтачивают корни дерева, }/держивающего нас от
падения в пропасть. И вот, лишь мы начинаем задумываться над такого рода
вопросами, — естественно начинают казаться тщетными и безумными все
наши земные стремления и надежды. Перед нами встают тщета удовольствий,
наслаждений, утех, радости, честолюбия, гордости, богатства, славы. Что мне
до мнения других людей когда я знаю, что из меня вырастет лопух. И мы
повторяем вместе с Экклезиастом: "Суета сует — все суета. Что пользы
человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит
и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце,
и спешит к месту своему, где оно восходит. Ветер кружится, кружится
на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои... И ничего нет нового
под солнцем... Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все —
суета и томление духа,.. И узнал я, что одна участь постигает... всех. Мудрого
не будут помнить вечно, как и глупого. И увы, мудрый умирает наравне с
глупым... И возненавидел я жизнь, потому что стали противны мне дела, которые
делаются под солнцем: ибо все суета и томление духа! И возненавидел я весь
труд мой, которым трудился под солнцем... И обратился я к сердцу моему,
чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым трудился
я под солнцем,.. И это суета и зло великое!" Здесь, в этих скорбных словах,
написанных за два тысячелетия до нашего времени, вся та последняя
философия, к которой приходит человек, когда он в минуты наиглубочайшего
размышления становится лицом к лицу со своей неотвратимой Судьбой.
Здесь, в таинственном мраке могильного склепа, потухают все светильники,
в ужасной тишине замолкают все звуки, раздающиеся наверху, в беспечном
мире существ, живущих только потому, что они не осознали еще мысли
о Смерти.
Правда, на протяжении человеческой истории было придумано много
утешительных идей с целью если не устранить окончательно, то во всяком
случае уменьшить значение этого зловещего сознания. Находки в раскопках
погребений доисторических эпох свидетельствуют о том, что на самых ранних
ступенях культурного развития люди верили в жизнь человека после смерти.
Впоследствии в большинстве религий так или иначе признавалось такое
загробное существование. Ярче всего эта вера выразилась в индусском учении
о метампсихозе, или о превращении душ в христианской вере в бессмертие.
Но в настоящее время возможность такой веры для многих поколеблена,
и современное сознание в большинстве случаев занимает в отношении ее
двойственное положение: с одной стороны, люди признают себя христианами
юз
и поэтому как будто должны были бы верить в бессмертие; но, с другой
стороны, наука, как она понималась преимущественно в XIX веке, поколебала
это верование, И большинство образованных людей нашего времени
оказались по отношению к проблеме смерти приблизительно в том самом
положении, в каком находились скептически настроенные умы Греции и Рима.
Или люди эти вовсе не ставят себе вопроса о смерти или, если ставят, —
отвечают на него чем-то вроде эпикурейского или стоического ее приятия.
Как известно Эпикур учил, что смерти, собственно говоря, мы никогда не знаем:
или мы умерли, и тогда мы не можем ее знать, или мы живы, и тогда нет смерти.
Вообще же современная культура имеет своей отличительной чертой
покорность смерти, признание ее неотвратимой и неизбежной. На заре этой
культуры мы находим в распространенном в средние века международном
сказании "Прении Живота со Смертью" легендарное олицетворение ее
могущества. Правда, в русской версии этого сказания, связанной с
деятельностью богатыря Аники, — Аника не поддается смерти. Он ругает ее
бранными словами, называя "безмозглой старухой", "из-под винной бочки
шлюхой'*, намекая на два ее основные свойства — долговременность и везде-
сущность. Он вызывает ее на бой и мужественно против нее борется. Но он
погибает в неравном бою. И вся культура, занявшая место Средневековья,
воздвигнута на мысли о необходимости и неизбежности смерти. В.
Кожевников з замечательной книге "'Философия Н.Ф. Федорова"* дает потрясающую
картину того, как такое признание проникает все современное искусство,
литературу. И только в самое последнее время начинает пробуждаться в этом
отношении новое сознание — сознание неестественности смерти и
возможности борьбы с hgk>. Идея эта упорнее всего возникает у представителей
естественных наук, приходящих постепенно к выводу, что смерть не является
естественным событием (Вейсманн, Мечников, Фино). В связи с этим находятся
интересные современные опыты в области оживления органов, омоложения
и попытки создавать в лаборатории протоплазму. В философии идея
необходимости не приятия смерти, но борьбы с ней выражена с замечательной
силою в произведениях великого русского мыслителя Федорова и является
краеугольным камнем его плодотворного и многознаменательного учения
о воскрешении, которому, несомненно, суждено громадное будущее.
Однако для отдельной личности этот небольшой свет, брезжущий вдали,
далеко еще недостаточен, ибо каждый из нас знает что он, пока что, обречен
во всяком случае на смерть. И не большим утешением звучит уверение такого
мыслителя как Фино, который указывает, что под землей в могиле жизнь, в виде
возникшей из разложения трупа, более богата и более разнообразна, чем наше
надземное существование. Для нас остаются в силе мрачные слова
Экклезиаста: все проходит и следовательно все земные утехи и всякий труд есть
суета сует. "\
И не только одно явление смерти приводит размышляющего человека к
таким печальным заключениям. Как известно, обраадение Гатамы состоялось
после того, как он увидел кроме мертвого человека еще больного и старого.
Иногда зрелище одряхления и постарения или болезни с ее ужасными
страданиями ужаснее еще действует на нас, чем полная смерть человека, ибо в
последней возможно все же видеть ""вечный покой". Здесь же мы присутствуем
при страшной карикатуре жизни, при отвратительном ее саморазложении.
И это еще не все. Действительность наша изобилует другими явлениями,
способными питать такие тяжкие думы. Там где нет ни смерти, ни болезни,
ни старости, может быть бедность или суровые условия существования,
сопряженные с нравственными страданиями, возникающими от унижения,
*В.Н. Кожевников. Н.Ф. Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным
произведениям, переписке и личным беседам. М., 1908.
104
сострадания, несвободы, связанности, обиды, одним словом, от тысяч причин,
возбуждающих в человеке боль и страдания. Бедность, порок, социальные язвы
на каждом шагу раскрывают перед нами свою отвратительную зияющую
пасть. Но и это не все. Там, где нет ни одного из отрицательных явлений,
там, где человек является во всех отношениях баловнем судьбы, где судьба
услужливо расстилает перед ним на выбор все богатство, красоту и
наслаждения жизни, — он находит за улыбкой счастья застывшее лицо Медузы
в виде усталости, отвращения и скуки, возникающих от самого изобилия
благ, встающих как мстители из недр его души, пресыщенной этими
предоставленными ей богатствами. И не спасет его умеренность в пользовании благами
жизни, ибо там, где есть осторожность в расходовании, убивается самый
порыв радости и счастья, остается в глубине души неудовлетворенное
желание, гложущее сердце счастливца, удерживающего себя над пропастью
и не вкушающего поэтому вовсе дурмана наслаждения. Одним словом, как
не повернуть нашу жизнь, везде нас стережет в той или иной форме мучение
и печаль, и остается, быть может, только вместе с индусскими мудрецами
и Шопенгауэром [искать] счастья не в чем-нибудь положительном, но в одном
только избавлении от страданий. Если же мы откажемся от такого счастья
и будем искать радости в любви и служении другим людям, от этого только
возрастут в тысячи раз наши мучения, ибо мы должны будем присутствовать
при болезни, страдании, смерти близких и дорогих нам существ и проливать
слезы в бессильном лицезрении разнообразных их мучений. Если же прибавить
к этому картину природы, так как мы ее теперь знаем, страшное зрелище
борьбы, насилия, ярости и злЬбы, ее наполняющей, если вдуматься в
потрясающую несправедливость и жестокость совершающегося вокруг нас процесса
взаимного истребления и поглощения одними существами других, если
воспринять и в человеческой истории отражение именно такой слепой и безумной
борьбы всех против всех, вытеснение сильными слабых, поедание обреченных
служить пищей другим существам, калечение и уничтожение худшими лучших,
распятие всего, что выше уровня бессмысленной массы, сладострастное
издевательство над священными верованиями и возвышенными идеями,
попирание нежных порывов, загрязнение чистоты, извращение истины,
уродование красоты, обезображение всего, что носит образ и сколько-нибудь
осмысленный лик, — воистину картина зга будет такова, что мыслящий
человек содрогнется в ужасе и негодовании и захочет подобно Ивану
Карамазову "вернуть билет", данный ему для участия в такой жизни.
Таковы итоги размышлений каждого из нас, кто взглянет на себя и
окружающее с точки зрения более глубокой, чем обычное беспечное и
легкомысленное отношение к нашему земному существованию, й неудивительно
тогда, что попытка разрешить последние вопросы упирается всегда не столько
в глубокомысленно неразрешимые философские проблемы, сколько в эти
страшные подробности ежедневного нашего опыта жизни без прикрас поэзии,
без комментариев поседелой над книгами мудрости..
Разочарование, печаль, возмущение, отчаяние — вот первые этапы
самоуглубления, вот первые неизбежные плоды стремления понять и осмыслить
нашу жизнь. Первое нахождение искателя есть нахождение безмозглой старухи
"из-под винной бочки шлюхи**, восседающей в качесгв.е вершительницы наших
судеб вместо прекрасных богинь древнего Олимпа.
Глава II. Пределы личности
Однако если первая ступень самоуглубления приводит, таким образом,
к безнадежному выводу, который может быть лучше всего выражен в словах
"все проходит, и я обречен исчезнуть", дальнейшее самоуглубление раскрывает
нам новые неведомые первому стороны этого "последнего вопроса". Наше
сознание в этом углубленном состоянии все пристальнее останавливается
105
на мысли, что все приведенные выше печальные заключения верны лишь
при одном условий — при строго очерченном и вполне определенном
понятии "я", противостоящем миру. В самом деле, лишь мы начнем сомневаться
в содержании этого "я5\ ясная постановка вопроса об его существовании
и затем исчезновении во всяком случае несколько затуманится.
Другими словами, очевидно, что мы имеем дело здесь с какой-то большой
самостоятельной и предварительной проблемой: раньше чем бояться за свою
личность или даже говорить о ней, надо сперва задуматься о том, что она
такое из себя представляет. Если есть в самом деле обречение, то что именно
обречено?
Где должны быть проведены пределы нашей личности? Можно ли сказать,
что есть физические ее пределы? Наше тело есть облако электронов,
соединенных не взаимным касанием, но притяжением на расстоянии, причем
расстояния между отдельными ядрами и электронами сравнительно с их
величиной достигает расстояния между солнечными системами и их планетами.
Поэтому и по существу между этими составляющими нас частицами и всем
внешним миром, с которым мы находимся во взаимодействии, нет не-
переходимой грани. Наше тело все время выделяет часть своего состава и все
время, наоборот, вбирает в себя вещества из внешнего мира. Это означает,
что дело не в физической границе моего тела как системы, а в том, что
оно представляет собой особое объединение, из которого части выходят
и к которому элементы присоединяются извне, Можно отрезать часть моего
тела и, тем не менее, это "я" остается неприкосновенным. Возможен даже
случай, как это имеет место, например, у сиамских близнецов, когда две
различные личности имеют общие физические органы (кровеносную систему).
Итак, не в физическом теле должен я искать грани моей личности. Тело мое
способно расти, и уменьшаться. Кроме того, я могу делать к нему различные
физические добавления, начиная с искусственных органов и членов и'кончая
машинами и приборами, которыми я вооружаюсь и которые представляют
не что иное, как части нового тела, как его продолжение, несущее опре-
дежмиую службу, подобное службе веществ, которые я поглощаю.
Но еще менее можно сказать, что мое духовное, моральное и умственное **я"
имеет границы. С точки зрения его, я включаю весь мир. Личное сознание
все видит через себя, и потому для него последовательно нет ничего вне него
находящегося,, Но даже с менее глубокой точки зрения, несомненно, все
содержание наших внутренних представлений и мыслей, также как и отуш^пШ,
есть нечто возникаюодее из взаимодействия нашего с внешними вещами,
Пусть есть область трансцендентального, пусть вещи в себе лишь
воздействуют на наш умственный и аффективный аппарат, — если я начну извлекать
из моего духовного я все, что в него привнесено внешним миром, я останусь
в конце концов безо всего, даже без этих пресловутых основных форм,
ибо форма ощутима, когда она чем-нибудь наполнена. Вдумаемся во все
содержание нашей моральной или умственной жизни, и мы увидим, что оно
заключается исключительно [в] результате процесса такой связи с другими
существами и вещами. Мое я, которым я горжусь, было бы ничем, если йы
до него не было истории, из которой я черпаю мои богатства, если бы вокруг
него не было внешнего мира, воздействующего на него разнообразными
способами, Поэтому и в духовной области я не могу точно и определенно
сказать: это я, а это не-я.
Если же стоят?* на точке зрения объединения в понятии действия всех
одинаково физических и духовных проявлений человека, окажется, что я
существую только в действии. Действие же мое объединяет меня с действием
всего мира. Логически я не могу определять себя в полкой конкретности
иначе, как перечислением не только моих свойств, но и всех моих отношений
с другими вещами, являющихся также моими признаками. Другими словами,
106
мое действие связывает меня с окружающими вещами. Ко каждая окружающая
вещь связана со всеми остальными вещами мира. От меня до самой
отдаленной звезды есть определенная иепь причинных связей. Следовательно,
с функциональной точки зрения я не могу быть оторван от мира — я мир,
также как и во внутреннем моем сознании. Ко тогда становится ясным,
что на самом деле у моей личности нет пределов иных., чем пределы этого
мира. В результате самоуглубления, таким образом, мое понятие о моем **я"
значительно расширилось. И скоро становится ясным., что самоуглубление,
по существу, и есть процесс нахождения таких новых границ моего мям.
Ибо я не могу, конечно, удовлетвориться туманным сознанием, что я — весь
мир. Согласно вышеприведенному рассуждению, каждая вещь есть весь мир.
Надо понять, каким образом каждая вещь есть весь мир, т.е. одно и то же, и,
вместе с тем, они разны. Очевидно, надо найти какие-то возможности раз-
линий в мире, которые построили бы некоторую сложную иерархию явлений,
занимающих место между маленьким житейским "я" и беспредельным
космическим "я". Надо понять, когда я есть микрокосм и когда макрокосм. Надо
постигнуть, какие "я" бывают в мире или, вернее, какими "я" оно бывает.
Для нас же особенно важно, что такая новая точка зреыня — нахождение
расширенного "я", даже без более точного определения его сущности и
возможностей, существенным образом меняет построения вышеочерчекнего круга
последних вопросов. Теперь мы не- можем так просто говорить об уничтожении
личности, о смерти, ибо истина эта имела смысл лишь для первого
маленького "я". Поскольку я [есть] проявление мира., я могу измениться и стать
другим проявлением, но исчезнуть всецело я уже не могу.
Таким образом, главный результат второй ступени самоуглубления
существенно отличен от результата первых фазисов размышления. Там мы сразу
как будто уперлись в темный тупик — в могилу уминающего, Здесь, наоборот,
перед нами начинают вырисовываться бесконечные просторы. Есть куда
самоуглублягься, куда идти в поисках за истинным знанием. Наоборот,
новый взгляд наш страдает новым недостатком, сменившим первоначальную
узость, Охват нашего "я" оказался таким огромным, что мы тонем и
расплываемся в этом внезапно сверкнувшем перед нами внутреннем океане, И задача
наша должна заключаться в том, чтобы пос^игн>ть если ее границы его,
то по крайней мере идущие по нему пути, могущие привести нас к таким же
громадным берегам, но с более ясными и определенными очертаниями.
На самом деле, искание таких берегов является задачей всех видов
человеческого действия, знания и творчества, и поскольку для того, чтобы искать
берега, надо сперва найти простор и пуститься по нему в плавание, --
самоуглубление является таким плаванием, является необходимой стадией всякого
такого действия или творчества. Расширение, им даваемое для личности,
есть первый выход ее. Это путешествие, целью которого является
исследование с самых различных точек зрения ее собственных границ. Но не только
одно такое познание имеется в этом движении. В нем заключено и
активное даю — прокладка путей там, где еще их не было, Путем внутренней
работы мы не только открываем себя и мир, но в еще большей степени делаем
себя и окружение, реально и действительно преобразуем вселенную. Из этого
ясно, почему можно проследить корни всякого творчества к глубинам
внутреннего подвига личности. Одинаково в области умственной... художественной,
эмоциональной самоуглубление есть основа и всякого переживания и всякого
делания. И для того чтобы пенять высказыванья и поступки отдельных
выдающихся личностей или культуру целой исторической эпохи, надо дойти
до истоков создающих эти проявления родников, до каких-то глубинных
переживаний, обусловивших все внешнее, имеющее для вас какую-нибудь
ценность. Все великое зародилось из мистического опыта. Религиозные
искания и религиозные нахождения лежат в основе всех великих истори-
107
ческих течений, обусловливают собой все культурные перевороты, создают
все культуры. Мы вернемся в дальнейшем к этим шагам самоуглубления,
к внешнему выявлению выращенных в нем семян. Здесь же нам важно было
отметить значение основного отмеченного нами свойства самоуглубляющейся
личности — ее расширения. Если прибегнуть к математическому сравнению,
можно упоцобить его индукции или свойству математического ряда бесконечно
умножаться и расширяться.
Это сравнение в особенности важно» так как именно подчеркивает вместе
с тем, что здесь мы имеем только половину задачи. Для операций над числами
и для самого их существования требуется, чтобы действующий закон индукции
постоянно ограничивался тем, что Кантор назвал действием второго закона
порождения чисел, а именно способности нашей ограничивать каждое число,
постигать его в его способности как некую целостную сущность.
Также бесконечное плавание в глубинах личности мира» должно, как мы
сказали выше, приводить к вычерчиванию в ней определенных
индивидуальных областей-берегов,, иерархия которых и составит содержание вечных
форм или проявлений мира.
Глава III. Стадии самоуглубления
Огромны, многообразны я многосложны переживания души, вступившей
на путь самоуглубления. Для нее открывались невидимые двери там, где еще
недавно окружала глухая и темная стена. И лить oHfi приотворились, за ними
развернулся невиданный простор бесконечных далей, овеянных дыханием
чудесной жизни, освещенных лучами нездешних немеркнущих солнц. И вместе
с тем этот мир не есть мир вечного мертвого ленивого покоя —- пристань,
искомая усталыми. Это область жизни и борьбы, борьбы превосходят^ей
по страстности своей и интенсивности все самые оживленные человеческие
взаимные столкновения. Душа там ощущает в себе новые небывалые силы,
и силы эти отдаются ею надело великого подвига — завоевания этого
открывшегося ей волшебного царства. И не все там победы и радости, но каждое
восхождение на светлые вершины имеет радом с собой возможное падение
в темную бездну. Как говорит один католический исследователь мистических
состояний» "трагическая повесть любви, честолюбия и жажды славы не имеет
более драматических и исполненных страсти моментов, чем история
отношений души и Бо* а, которого она улавливае г, с коюрым она входит в общение
ь мимолетных встречах илр в более продолжительном общении**.
Обычно мистики описывают свой опыт в виде пути, во время которого
они проходят через ряд определенных и глубоко различных состояний.
Сперва — обращение или открытие этого пути. Здесь происходит для ищущей
души обнаружение новой реальности в виде раскрытия ей неведомых сторон
старой действительности, за которыми внезапно она видит неожиданную
дорогу вместо прежнего узкого безнадежного тушка. Обращение всегда
долго подготавливается, но совершаемся вдруг в вад^ следствия какого-
либо случайного толчка. Толчок може? быть самым разнообразным, иногда
глубоко внутренним, иногда чисто внешним. Но всегда-это как бы гвоздь,
который вбивается в поверхность сознания, гвоздь, который служит началом
целой огромной иногда дальнейшей постройки. Как будто внезапно
пришедшая весна развязывает скрьпую в душе силу, пробуждает от зимнего
холода, поднимает к жизни спящие в свернутом состоянии в семени зародыши
действия и творчества. Сущность же обращения как первой стадии
самоуглубления есть согласно уже сказанному выше движение в сторону
расширения сознания, ощущения себя как большая чем прежде реальность.
Но всякие пассивные или активные действительные состояния подчиняются
всегда закону определенного ритма. В нем чередуются моменты распрост-
!08
ранения и собирания, расширения и вбора в себя, дифференциации и
интеграции. На первых порах этот ритм создает движение между полюсами —
минимальное индивидуальное "я", от которого отправляется человек, и
максимальное космическое "я", к которому он устремляется. Соответственно,
то чувствует он себя снова уменьшающимся, то наоборот, бесконечно
растущим. Он становится ничтожной точкой и он увеличивается до пределов
мира. Первое состояние сопровождается при этом нестерпимым ощущением
одиночества, покинутости, оставленное™. Это то, что мистики называют
"темной ночью души" (Арсеньев). Сознание такой отделенности, являясь
непосредственно после моментов наивысшего ощущения связанности со всеми
остальными существами, исполнено жестоких мучений. Ранее душа,
пребывавшая в таком одиночестве и отъединенное™, не ощущала так остро
бессмысленность и ужас своего положения. Но после того, как она вкусила
блаженства истинной соборности с другими душами и со всем миром, после того,
как она окунулась в океан преизбыточествующей любви и пила от
неисчерпаемых и животворных его вод, — она не может уже переносить узость и
тесноту своей духовной тюрьмы. Отсюда великие страдания созерцателей,
проходящих через эту "темную ночь" и вглядывающихся просветленным взором в ее
зловещие глубины. Душа искала и нашла сверх своих ожиданий, нашла свет,
радость, блаженство —- и вдруг все это исчезло. Осталось одно
первоначальное, маленькое, себялюбивое **я*\ ничтожество человеческой личности,
внушающее лучшей ее части ужас и отвращение. И требуется величайшая
духовная крепость и глубокая вера, чтобы не погибнуть в этой пустыне и
победоносно пройти ее и выйти к новым простирающимся за нею цветущим
долинам духа.
Но многие борцы и подвижники твердо и непоколебимо движутся далее и,
пройдя это состояние, вступают в охраняемую мрачной пустыней местность —
в землю обетованную, ожидающую прилежного искателя. Тогда наступает
следующая стадия прохождения — состояние просветления, нового, более
длительного и близкого, чем ранее, общений души с искомой лучшей
действительностью.
Чаще всего прохождение из светлого состояния в состояние мрака и оттуда
снова в состояние просветленности не бывает однократным, но много раз
душа поднимается, падает и поднимается вновь. Но в этих чередованиях
противоположных восприятий все же происходит глубокий необратимый процесс —
приближение к совершенно новым, неповторимым ощущениям. Как будто
мы подходим к какому-то предмету и, не будучи в состоянии его перейти,
срываемся, возвращаемся вспять, чтобы снова, когда собрались силы, пытаться
перейти эту заветную грань, й вот, наконец, внезапно мы ее переходим. И тогда
оттуда уже не может быть полного возврата назад. Человек духовно
обновился, внутренне воскрес. Это состояние можно назвать вторым рождением,
также как предшествующее ему состояние полного отчаяния и гибели может
быть названо прохождением через смерть, ибо оно сопровождается сознанием
тщеты всего существующего, а следовательно; гибели для мира. Первым
признаком наступления этой смерти была отмеченная нами в самом начале
первая стадия самоуглубления — постановка последних вопросов и решение их
в духе крайнего пессимизма, Bcq последующие прохождения через "темную
ночь" были ничем иным, как развитием этого состояния — установление
обреченности малого "я" и соответственные его похороны. Но затем с
победоносным выходом в область большого "я" оказалось, что смерть эта для
последнего не идет в счет, что здесь раскрывается тайна новой неведомой жизни.
Это и было началом нового рождения — пробуждения к новой жизни: "Аще
не умрете, не оживете".
Всегда пробуждение души есть вместе с тем ее просветление. "Потоки
света" излучаются на душу обретшую этот путь. Она "ослеплена" яркостью
109
новых ее горизонтов. Но есть дальнейшие состояния еще более высокие, где
свет уже не нужен, где царит мрак и где Бог видим в этом мраке... (На этом
рукопись обрывается. — Г.А.).
Публикуется впервые. ОР ГБЛ. ф. 189, п. 11, д, 13, ял. 1—12
Философские заметки, афоризмы'
34. Все есть вечный акт воскрешения. Идея воскрешения полнее идеи
творчества, включает его. Воскрешение требует внутренней связи прошлого
с будущим через настоящее. Воскресение имеет степени ■— чем больше мы
воскресаем, тем больше мы живем. Но можно умереть в одном и
воскреснуть в другом. В этом тайна "аще не умрете — не воскреснете". Смерть,
таким образом, связана с воскресением.
36. Нужно преодолеть не время, а тленность, .результат пожирающей
силы времени. Она всегда есть следствие розни. С другой стороны, всякое
воскрешение всегда имеет своей основой восстановление соборности.
Здесь имеются два момента: I) изоляция данных элементов от внешних
разделяющих, нейтрализующих сил (вроде, например, тяготения,
привлекающего к одному месту) и 2) соборный акт соединения двух предметов.
Но надо помнить, что силы разделяют в одном случае только потому,
что они соединяют в другой связи, по другому закону или в другом ряду.
Тяготение соединяет все тела, но вместе с тем отъединяет их другу от друга,
ибо его закон есть закон, масс. Задача сохранения соборности
следовательно заключается в том, чтобы найти такой всеобъемлющий закон,
который создал бы соединение без разделения.
37. Различные времена различных систем суть не что иное, как
различные степени и состояния множественности. Поскольку последняя путем
разумной деятельности сознательных существ переходит к высшим формам
коллективной организации, время побеждается и дает место
сознательному труду, направленному к усовершенствованию жизни, к созиданию
и воскрешению ценных личностей и ценных вещей, т.е. к
преобразованию мира в формах уже не символической, а реальной культуры.
63. Коли Бы не готовы для встречи с другим человеком, лучше
уклонитесь от общения с ним, уйдите куда-нибудь й сторону, переждите
в отдалении, й только тогда, когда Вы будете во всеор>жии Вашей
духовкой мощи, вступите в бой с этим противником. Ибо всякая встреча
есть битва двух дут. Но если Вы и в самом деле сильны, Вы сумеете
победить рознь и превратите столкновение в сближение, вражду в союз.
83. Внутренний стержень чисто действенного миросозерцания есть
отношение ко времени. Отвлеченная мысль искала вневременности и
связанное с ним постоянство, обязательность и необходимость времени.
Мысль эта пыталась от последнего уйти, обособить себе иную сферу.
На самом деле можно уйти от времени, только войдя в него, став его частью.
*В архиве В.И. Муравьева хранится отдельная папка объемом 258 страниц. В ней собраны
машинописные листки с краткими заметками, мыслями, афоризмами. Они пронумерованы,
однако не подряд, а с пропусками, подчас большими. Вероятно, этот труд автор готовил
к печати и выбрал из некоей несохранившейся рукописи отдельные заметки, Они не датированы,
но судя по содержанию, написаны во второй половине 1920-х п.
Здесь печатается небольшая часть собрания, Нумерация сохранена.
ПО
Вневременность достигается либо там, где вовсе отсутствует сознание,
т.е. там, где царствует неподвижность и смерть. Либо там, где есть высшее
сознание — сознание действия в нем самом. Мир прикреплен к
конкретному и рамки объективного все время раздвигаются или сдвигаются в
зависимости от приливов и отливов действий. Пределы зтого действия
и есть пределы мира.
Очевидно такая точка зрения отводит совершенно исключительное
значению разумению прошлого. Все прошлое есть совершенно и свято.
И есть только одно прошлое. Когда мы чувствуем, что нечто существует,
и чувствуем это всем нашим существом, мы имеем в виду одно только
прошлое. Всякий образ, всякая определенная мысль, самая мысль "есть",
относится исключительно к находящемуся во времени к прошлому.
Но вместе с тем мы ощущаем реальность также простирающейся куда-
то вперед, в то, что есть пока еще будущее, вне времени. Для нас
действительность жива только если у нее есть способность захватить и эту область,
приобщить и ее к своей определенности. Жизнь, в сущности, и
заключается в этом действии. Прошлое умерло, застыло б богатстве законченных
форм, будущее туманно и расплывчато в очертаниях различных
возможностей. Живо только настоящее, т.е. таинственное сочетание двух граней,
перелив одной в другую. Ибо одинаково верно сказать, что прошлое
выливается своей неисчерпаемой еще силой в будущее, или сказать, что
неоформленное будущее твердеет, кристаллизуется в прошлое.
85. Вопрос не в том, "что есть", а в том, "что делать". Бытие само по себе
есть иллюзия и имеет смысл, только поскольку оно подходит к "то делать"
через "как делать",
88. Время есть другое название для жизни,
115. Всякое имя стремится стать личностью и всякая личность
стремится получить имя, в этом внутренний смысл всякого превращения, роста
и эволюции. Имя есть самый совершенный вид личности. Личность есть
имя. сознавшее себя таковым. Становясь личностью, имя реально и
объективно заживает собственной жизнью, создает из себя свою причинность,
становится уже не просто "этим", а "я". Личность есть живое имя. Я могу
назвать половину стола именем, сам стол именем, но живое существо
есть уже имя, ставшее личностью. Можно возразить, но ведь имя дается
извне, другими существами. Как связать его с внутренней его
принадлежностью данной вещи? Имя имеет двоякую природу; оно не только
указывает на особность вещи, оно вместе с тем связывает ее со всеми другими
вещами, это заложено уже в том, что имя выражает совокупность всех
свойств вещи. Если же начать искать полноту признаков вещи, мы найдем,
что всякая вещь связана со всеми другими вещами вселенной, есть на
самом деле весь мир, ибо всякая другая вещь ее определяет. Иначе можно
сказать, что каждое имя имеет вселенскую природу. В каждом имени
сосредоточен весь мир. Ни одно имя нельзя иначе как искусственно
или в отвлечении отделить от всех других имей, ибо только наряду с ними
и в сопоставления с ними оно обнаруживает и провозглашает свою
особность. Эта связь раскрывается в том. что рождение имени есть всегда
двухстороннее действие, в котором участвуют, с одной стороны, именуемый
предмет, выращивающий свои свойства и отделяясь от окружающих вещей,
с другой же стороны, участвуют совокупность этих вещей, определяющих
совместно данную личность. При этом в зависимости от большей или
меньшей степени личностности имени оно больше себя создает илм наоборот
больше создается окружением...
121. Если взять как идеал движение, рост, процесс перехода к лучшему,
все должно представляться в виде не останавливающегося течения жизни.
Бесконечное следует искать в развитии и вечном обогащении, а не в растяже-
111
нии мертвого и пустого пространства. В этом смысле вероятно следует
понимать Гераклита — его единство не есть единство сферы Парменида,
но целостность акта, связи моментов времени, единство живой и вечно
преображающейся субстанции. Лучшее всегда предполагает обновление и
творчество, и воскресение прошлого в более совершенных формах.
126. Быть может, следует установить связь трех моментов времени —
прошлого, настоящего и будущего с тремя видами психических
переживаний - познанием, ощущением, волей. Прошлое есть только познание,
и познание есть только уразумение прошлого. Настоящее есть только
ощущение, и ощущение живет только в настоящем. Будущее есть только
воля, и содержание воли есть только будущее.
141. Мы не задумываемся над странным характером чувства любви,
над тем что оно как будто не соответствует ничему другому в нашей
действительности й, наоборот, противоречит многому, побуждая нас к
парадоксальным и нелогическим поступкам. Оно не признает наши земные пределы
и запреты, оно не может быть измерено нашими масштабами, оно
проявляет необычайную для наших маленьких критериев мощь. Если вдуматься
во все это, то нам станет ясно что любовь есть в нашем темном, отсталом
и непросветленном мире частица мира преображенного, пронизанного
неведомыми нам лучами, рожденными в совершенстве и вечности.
154. Уйти в себя, углубиться в открывающиеся там просторы иного,
более совершенного бытия... Но туда надо уйти не в одиночестве, но увлечь
за собой весь мир внешний, всю человеческую культуру, всех людей и все
существа вселенной. Надо открыть им эти двери и войти туда вместе с ними.
Вот подвиг, который ожидается от нас в то время как раньше было
достаточно личного созерцания, личного блаженства и покоя в удалении от жизни
мира. Теперь нужно спасать не свою душу только, но весь этот
погибающий и утопающий в грязи и повседневности мир.
157. О личности можно говорить только в аспекте вечности, т.е.
поскольку она причасгна к целому. О целом можно говорить только поскольку
оно временно, т.е. распадается на личности.
159. Вечность является нормальным законом всего существующего.
В физике закон сохранения энергии указывает, что потеря энергии происходит
от трения, т.е. oi затраты ее на преодоление других вещей. Не будь этого
сопротивления, этой розни вещей — работа продолжалась бы вечно. Таким
образом, преходяшность, недолговечность связаны с раздором и
преодоление его согласием должно восскановить вечность.
176. Один из укоренившихся предрассудков — это убеждение в
необратимости времени. На самом деле время не только обратимо в принципе,
но мы постоянно сами его обращаем, совершая те или другие
целесообразные превращения окружающего и воскрешая по нашей воле бывшие его
состояния. Каждый разумный акг есть пример такого акта, ибо он может
быть по желанию повторен,
200. Надо говорить не столько о миросозерцании, могущим быть
пассивным, но о мироотиошении, включающем действие целостного
человека,
212, Забудем на мгновение внушенное нам с детства убеждение, что
Христос — Бог. Представим себе что он только человек. Тогда, быть
может, подвиг его, не подкрепленный возможным содействием легионов
ангелов, будет еще больше. Если же представить себе, что у него были
минуты сомнения, когда он не верил буквально в ожидающий Его престол
"одесную Отца", но погружался также как и все люди в нх смертный час
в темное море неизвестного, — акт его в наших глазах будет еще выше
и еще прекраснее. Наоборот, чем больше мы возвеличиваем Иисуса,
превращая его в божество, тем больше мы умаляем значение Голгофы. Жизнь
же его как человека достаточна, чтобы признать в нем Сына Божия.
112
242. Правильное действие человека в такой даже ограниченной области,
как область общественная, требует космической идеологии. Для того, чтобы
наметить цепь социальных движений и дать оценку их, надо стоять вне
исторического потока, надо глядеть на него сверху, с высот мировой
истины.
244. Всякая философия, достойная этого имени, стремится быть
философией творчества. Творчество — наивысшее понятие. Выше идеи творчества
нет ничего, и творчество всему предшествует и все включает. В основе
всех категорий лежит категория творческой мощи, создающей все
существующее в виде сочетаний единства и множественности. И жизнь человека,
и всякое его действие могут быть сведены к творчеству. Мое действие,
моя мощь и сопротивление, ею встречаемое, — единственное, что составляет
содержание моей жизни.
250. Будущее — это недовоскрешенное прошлое.
254. Когда мы мыслим будущее, мы все время мыслим понятиями,
составленными из элементов прошлого. Но когда мы доходим в нашей
мысли до Бога, понятие либо остается пустым (непознаваемое апофати-
ческого богословия, свобода у Гегеля и т.п.), или же оно наполняется
конкретным содержанием и становится историческим именем. Но лишь
это произошло, Бог оказывается уже не в одном будущем, но и в прошлом.
Будущее каким-то образом подошло к прошлому и начинает с ним
сливаться. Бог есть наше собственное состояние в наибольшем восхождении,
в С1ремлении нашем к наисовершенной цели. Вместе с тем он — наша
причина, то, откуда мы исходим, проистекаем. Цель сливается с мотивом.
Тем самым, время исчезает, ибо время прошлое есть причина, время
будущее — проект или цель.
264. Проникновение до корней прошлого, до зарождения нашей
способности самосознания и разума будет вместе с тем проникновение до
конца времен., до полного охвата действительности нашим сознанием.
Самое давнее воспоминание будет вместе с тем самым последним
предвидением. Самое старое имя будет самым новым. Бог нареченный,
явленный, изъявивший свою волю словом в творчестве мира — будет и Богом
непознаваемым и неизреченным. И если мы сомневаемся в конце разума,
мы должны сомневаться и в его начале. Но тем самым мы признали
бы вечный круг, т.е. то, к чему веде! слитие начала и конца, т.е. вечность.
279. Молитва Манассии (конец 2 Парал.): "Господь связал море словом
повеления своего, заключил бездну и запечатал страшным и славным
своим Именем"*. Но каждый из нас носит имя, и имя это должно быть
тоже страшным и славным и ими, всеми нашими именами, должна быть
заключена и запечатана бездна мира.
289. Рассуждения о природе времени, о свершении его, о вечности
кажутся метафизичными и лишенными практического смысла. Однако так
можно было говорить до последних успехов техники. Сейчас с
головокружительной скоростью происходит завоевание человеком пространства,
а следовательно и времени. Мы стоим накануне таких передвижений в
пространстве, которые создадут приближение к вездесущности. Для
вездесущего нет уже времени.
308. Вечно то, что воскрешается вечным соборованием. Соборование
есть объединение каждого индивида в самом себе посредством
организации внутренних его элементов и обмена посредством организации внутрен-
♦Точный текст начала молитвы Манассии: "Господи Вседержителю, Боже отцев наших,
Авраама и Исаака и Иакова, и семени их праведного, сотворивший небо и землю со всем
благолепием их, связавший море словом повеления Твоего, заключивший бездну и
запечатавший ее страшным и славным именем Твоим..." (Ветхий Завет, 2-я кн. Паралипоменон, гл. 36).
ИЗ
них его элементов и обмена ценными и нужными материалами с другими
индивидами. Таким образом, каждая личность развивает свое своеобразие,
черпая необходимые элементы из запаса принадлежащего не ей одной,
но всей совокупности общающихся существ. Вместе с тем ничто не пропадает.
ибо отпадающие части от одного индивида используются другими.
316. Все сводится, в конце концов, к задаче создания из
разъединенных личностей Единой Высшей Личности. Высшая Личность эта постоянно
себя воскрешает, разделяясь на множество своеобразных отдельных
личностей, которые потом снова воссоединяются. Вечность заключается в
этом непрестанном рождении неисчерпаемых богатств, а не в
статическом и косном пребывании чего-то. Бог воскресает посредством роста
нашего разума, расширения и углубления нашей любви и объединения
наших действий в общем деле. Мы восстанавливаем этим божественное,
встающее в нашей памяти и обнаруживающееся в нашем разуме. С точки
зрения Бога, путь, проходимый нами, есть путь Его собственного
творчества и обогащения. Бог вечно обогащается и воссоздается из самого
себя. Все это происходит для нас во времени, ибо время есть ничто иное,
как каждый из этих отдельных процессов. Для Бога же время — вечно.
Оно отлично от разорванного на прошлое^—настоящее—будущее время
человеческое, поскольку Он всемогущ, а мы ограничены в своих
возможностях.
335. Основная проблема есть проблема вечности. Ни в чем нет смысла,
если в мире нет никакой вечной сущности,
Пу бликуется впервые. ОР Г ЕЛ, ф. 189, п. 14, д. 2.
Публикация Г.П. Аксенова
Редакция журнала и публикатор выражают благодарность
сотрудникам отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина
за помощь в публикации «материалов из архива В. Я. .Муравьева.
114
ФИЛОСОФСКИЙ АРХИВ
Л.А. ГОГОТИШВИЛИ
Михаил Михайлович Бахтин (1895-1975) прожил долгую и сложную как в чисто
биографическом, так и в научном отношении жизнь1. Долгая и, по всей видимости,
не менее сложная судьба ожидает его и в памяти культуры, во всяком случае —
если судить по нашему, начальному, этапу этой судьбы. Максимальная, почти
массовая популярность некоторых бахтинских категорий, ставших нарицательными
и, по сути, обезличенными терминами (карнавализация сознания, смеховая
культура, монологизм, диалог, полифония и др.), соседствует сегодня с
максимальным же разнобоем общих оценок М.М. Бахтина; от страстного персоналиста —
до адепта вульгарного социологизма, от христианского мыслителя — до неоязыч-
ника, от неокантианца — до классика русской мысли, от традиционалиста — до
ультрамодерииста, от абсолютного релятивиста — до "нашего общего учителя9'2.
Все нарастающее дискуссионное напряжение делает самым острым на сегодня
вопрос о наличии или отсутствии в текстах М.М. Бахтина единой — меняющейся
в деталях и форме выражения, обогащающейся, но единой —-
общеконцептуальной основы.
'Наиболее полно с жизнью М.М.Бахтина можно познакомиться по единственной пока
обстоятельной его биографии, — Kiark К., Holquist M. Mikhael Bakhtin. Cambridge (Mass),
L,, 1984. В наших целях необходимо пить напомнить глазные труды М.М. Бахтина, на основе
которых написана статья. Это — цикл ранних философских работ, прежде всего — "Автор и
герой в эстетической деятельности" и "Философии поступка*'; "Проблемы творчества
Достоевского" (1929; второе переработанное издание вышло в 1963 г, с измененным названием —
"Проблемы поэтики Достоевского"); серия работ 30-х годов по истории романа ("Слово
в романе", "Формы времени и хронотопа в романе", "Из предыстории романного слова");
"Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса" (S965) и поздние работы
("Из записей 1970-197! годов", "К методологии гуманитарных наук"). В меньшей степени,
но все же использованы в статье и книги "Формальный метод в литературоведении" (3928;
вышла под именем П.Н. Медведева) и "Марксизм и философия языка" (1929; вышла под именем
В.Н. Волошинова), которые входят в "девтероканонический", по выражению С.С. Аверинцева,
корпус текстов, создавших в бахтинистике сложную и до конца не проясненную проблему
их принадлежности в той или иной мере перу М.М. Бахтина,
2Литература о М.М. Бахтине сегодня практически необозрима, но в концентрированном
виде see многообразие этих оценок можно найти в двух подготовленных в ИФ АН СССР
сборниках: "М.М. Бахтин как философ" (М., 199!) и "М.М. Бахтин и проблемы культуры"
(в печати), среди авторов которых — С.С. Аверинцев, Л.М. Баткин, В.В. Бибихин, B.C. Библер,
П.С. Гуревич, Ю.Н. Давыдов, Н.И, Николаев, М.К. Рыклин, В.Н. Турбин, И.Н. Фридман и др.
Не менее антиномичны и оценки Бахтина ка Западе.
115
Основной, наряду с общеознакомительной, целью статьи является попытка
обрисовать контуры такой общеконцептуальной основы бахтинской позиции,
попытка кайти тот стержень, на который можно было бы "нанизать" все
многообразие бахткнских тем и который позволил бы свести мозаичность восприятия
Бахтина, вызванную преимущественным вниманием к какой-либо одной его теме
или книге, к единой картине. Острота этой проблемы усиливается тем
обстоятельством, что сами тексты Бахтина (по разным — как историческим, так и научным
причинам; к некоторым из них мы еще вернемся ниже) не дают исследователям
"прямо в руки" чакой концептуальной основы; напротив — выводы разных
работ Бахтина (например, его книг о Рабле и Достоевском) находятся иногда
не в скрытом, но — в обнаженном противоречии. Встречаются у Бахтина
и случаи прямого изменения в толковании тех или иных категорий или в оценке
тех или иных исторических фактов.
Все это, несомненно, является одной из так называемых "объективных" причин
разноречивых оценок Бахтина, но вместе с тем эта же дразнящая "обнаженность"
бахтинских антиномий свидетельствует отнюдь не о его философской наивности
и о нашей исследовательской прозорливости, но, скорее, об обратном. В целом
ситуация сегодня складывается так, что единство концептуальной основы всего
творчества Бахтина — если принимать тезис о ее существовании — приходится
реконструировать, заранее соглашаясь на все связанные с любой реконструкцией
последствия (схематичность, условность, отвлечение от некоторых аспектов темы
и т.д.).
Мы, в частности, отвлечемся здесь от двух содержательных и одного
технического аспекта. Прежде всего — от желания "с ходу" установить "адрес" Бахтина
в общем историко-философском процессе: прежде чем будет установлен факт
содержательного единства его позиции, — а это сегодня как раз и ставится под
вопрос, — такое желание преждевременно. Несмотря на то, что здесь есть очевидные
и бесспорные параллели (главная из которых, конечно, с неокантианством, но
также и с феноменологией, "понимающей" психологией Дильтея, экзистенциализмом,
философией жизни и, с другой стороны, с некоторыми тенденциями русской
философии, особенно — с ее персоналистической линией), сопоставительный
историко-философский анализ Бахтина чаще всего приводит к таким же
внешне-противоречивым выводам, так как частокол бесконечных частных сравнений (по
отдельным темам и мотивам, по используемым логическим и гносеологическим процедурам,
а иногда и просто по изолированно взятым терминам) еще более затемняет общую
позицию Бахтина, заглушая своеобразие его индивидуального "голоса",
вынужденно хаотичными стали бы - без анализа общей позиции Бахтина — и явно
напрашивающиеся здесь сопоставления с Бубером, Хайдеггером, Сартром, Гадамером
и с западной философией и герменевтикой середины века в целом. Все это — впереди.
Отвлечемся мы, по тем же причинам, и от всего круга вопросов, связанных
с проблемой авторства книг, вышедших под другими именами, так как при их
обсуждении неизбежным стало бы погружение в общем-то периферийную
проблему адаптации Бахтина к ситуации конца 20-х—начала 30-х гг. И, наконец, если
говорить о техническом самоограничении, в статье практически отсутствуют
цитаты и весь обычный в таких случаях ссылочный аппарат: они не только увеличили
бы объем статьи, но — и это главное — породили бы дополнительные сложности
при сопоставлении разновременных тем Бахтина, создавая внешнетерминологи-
ческий смысловой диссонанс. С другой стороны, мы старались максимально
насытить текст специфически бахтинским "языком", во многом способствовавшим
автономной, хотя и прозрачной, замкнутости его общеконцептуальной позиции.
Целевая доминанта ранней бахтинской философии, ее, говоря кантовским языком,
регулятивная идея может быть с некоторой долей условности обозначена как
поиск критериев для обособления '"нравственной реальности", т.е. того вида бытия,
который, по Бахтину, единственно есть, но с другой стороны — еще не был реально
"дан" в истории культуры, а был лишь ей "задан" в качестве
одновременно истока и цели. Практически все категории, разработанные Бахтиным
впоследствии в рамках частных гуманитарных наук, также
ориентированы на этот эксплицированный лишь в ранних работах поиск, и вся внутренне-
116
целевая структура этих категорий, часто интерпретируемая в релятивистических
тонах, как раз и была направлена на обоснование особых параметров
"нравственного бытия", т.е. принципиально антирелятивистична (о понимании
Бахтиным релятивизма см. ниже). Сложность состоит в специфике толкования области
"нравственного", которая, по Бахтину, мвне-эгична'\ т.е. не может быть ни помыслена.
ни истолкована в традиционных рамках этики как части философского знания.
"Нравственная реальность" Бахтина — это область бытия исключительно
религиозного сознания, и как таковая она становится исходной категорией искомой
Бахтиным "первой философии". Взягое же вне религиозных координат, в частности —
в философско-этическом аспекте, понятие нравственного, по Бахтину, истощается
до рационализированных схем формальной или материальной этики, сводясь к
абстрактной морали и пи к установлениям закона, не имеющим реальных корней
в нравственном бытии. Нравственный поступок "отбрасывается" в теоретический
мир с "пустым" требованием моральности и законности. Редуцированные схемы
нравственности составляют для Бахтина еще не специфицированное познанием
содержание будущих наук о логике социального бытия, но они не могут
составлять предмет религиозной философии и представлять собой действительный закон
внутренней жизни религиозного сознания, Преодоление этого глубокого разрыва
между заложенной в христианстве идеей нравственного бытия и тем обедненным
содержанием, которое приписывается области нравственного как в философски
ориентированных этиках,, так и в имеющихся религиозно-философских системах,
и стало сверхзадачей философских поисков Бахтина.
Конкретная спецификация Бахтиным области нравственного связана с
центральной для всей его позиции идеей персоналистического дуализма, которая, с нашей
точки зрения, и выполняет роль того стержня, на который последовательно
и непротиворечиво как бы "нанизывались" впоследствии все новые и новые
круги тем и категорий. Используя эту идею, Бахтин вводит координаты, образующие
пространство нравственного бытия. Имеется в виду не только персональное
отношение к персональному Богу, что является, по Бахтину, конститутивным
признаком религии, т.е. не только взаимоотношение "я*' с Абсолютным другим, но и та
"бездна", которая лежит для христианского сознания между "я" и здешним "другим"
и которая описывается Бахтиным в ее специфике с помощью категорий "я-для-себя",
"я-для-другого" и "другой-для-меня". Именно эта последняя область составляет
исходный предмет бахтииской нравственной философии, так как взаимоотношения
"я" с Абсолютным Другим в их принципиальной чистоте входят в предмет
философии религии, искаженные же формы этих взаимоотношений вызываются замут-
ненностью в отношениях человека к себе самому и к здешнему "другому", i.e.
являются эпифеноменом искажения нравственного бытия. Первопричина этого исход-
ного искажения состоит, по Бахтину, в том, что "я" и здешний "другой" находятся
в исторически многообразных формах взаимного одержания и подавления, а
разделяющая их абсолютная нравственная гранила ("бездна") размыта суррогатами
их иллюзорного (физиологического, психологического, идеологического,
социального и т.д.) единства. Цель нравственной философии должна состоять, по Бахтину,
в распознавании этих суррогатов и в поисках ростков тех обще культурных
тенденций, в которых эти суррогаты начинают преодолеваться. Согласно Бахтину,
абсолютная нравственная граница между "я" и "другим" незыблема для христианства,
За фактической, социальной, закономерной, экономической и другими личинами
истории необходимо увидеть и раз-лнчить те формы и тенденции обще
культурного развития, которые способствуют или» наоборот, противоборствуют
взаимному смешению "я" и "другого" (этот специфический бахтинский ракурс видения
истории резко сместит, как мы увидим ниже, многие привычные оценки
исторических этапов и тенденций). Этой цели служат все введенные Бахтиным
впоследствии категории, эта цель подспудно определяла и его выбор исторических тем, и
их оценку.
Прежде чем перейти к конкретным выявленным Бахтиным формам
некритического смешения "я" и "другого", оговорим лишь один существенный нюанс:
"бездна" между "я" и "другим" не отрицает, но, напротив, повышает в бахтинской
философий их взаимную нужду друг в друге. "Я" и "другой" взаимно конституируют
друг друга, один является условием другого, без этой пары не будет смыслового
пространства и для самой идеи персональности, так как личность может быть
117
противопоставлена (и сопоставлена) только личности же, но не природе, не идее,
не факту, не смысл}/ и т.д. Изолированные "я" и "другой" так же недостаточны.
как и формы их некритического смешения, более того — сами формы смешения
к есть исторические проявления тенденций к изоляции либо "я", либо "другого".
Искомое Бахтиным нравственное бытие предполагает "чистоту" самооткошеиия
и отношения к "другому" одновременно.
Бахтиным опксакы многообразные формы некритического смешения "я" и
"другого" (фактически им задействован для этого весь местоименный спектр — я, ты, он,
мы, вы, они), ко эти описания не были собраны воедино и взаимоскоординированы.
Кроме того, сама эта цель часто им дезавуировалась, облекаясь в форму
литературоведческих, лингвистических или общих историко-культурных исследований. Нине
мы постараемся дать сводную (и перечислительную, и квалификационную) схему
•■-гих. форм смешения,
В ранних работах дано глобальное разделение на два основных типа смешения,
внутри которых можно выделить стилизованные вариации и самостоятельные
варианты. Исходя к? утверждаемого им положения, что в истории
господствовала монистическая идея "человека вообще", не учитывающая принципиальный пер-
сонологический дуализм бытия, Бахтин выделил два предела в понимании такого
"человека вообще": с установкой на преобладание "л" ("другой" имманентиз?*рован
в "я", "другой" — это "я", такой же, как "я**) и, соответственно, с установкой на
преобладание "другого" ("я" поглощено "другим", "55" — такой же, как "другой").
Первая установка свойственна, по Бахтину, идеализму в целом (в частности -—
"*гноееол«гизму" последних веков), неоплатонизму к вообще всем эманациопным
теориям, экспрессивной эстетике (т.е. эстетике "выражения") и др. В качестве
адекватной этому типу сознания словесной объективации Бахтин рассматривал самоотчет
(исповедь), который в пределе предполагает полный отказ автора от роли здешнего
"другого", но в котором — 1ак как в ценностной пустоте, в абсолютной самоизо-
лянии невозможно никакое высказывание и вообще сознание — функции "другого"
при соответствующей установке самоотчитываюшегося сознания начинает выполнять
Абсолютный Другой. Богоборческие или человекоборческие мотивы приводят этот
тип сознаний к молчанию или юродству. Какие бы то ни было строй, форма
п ригм (необходимые компоненты словесной объективации) возможны только
при доверий к какой-либо внешней позиции, силами которой можно оплоткить
свой дук. Так, на ранней стадии формирования исповеди дух "наивно"
предвосхищает чцесь свое оплотненче в Боге ("религиозно наивны", по Бахтину, псалмы,
некоторые христианские гимны ч молитвы. "Поздние" формы религиозно-исповедаль-
июго сознания Бахтиным не анализировались).
Противоположная установка — преобладание "другого" над "я" — свойственна,
о.о Бахтину, материалистическому типу сознания в целом (в частности —
натурализму); в качестве выразительного примера приводится сознание классической
античности (в эллини'ше это сознание начинает разлагаться). В эстетике этому
типу соответствуют импрессивные теории, а в качестве адекватной формы
словесного выражения называется биография (и ее разновидность — автобиография),
з коте рой автор строит высказывание с позиции авторитетного для него "другого",
предающего описываемой индивидуальной жизни не только строй и форму, но и
мировоззренческое и целевое наполнение.
Каждая глобальная тенденция имеет свои пределы и промежуточные формы,
свои "нормальные" (органические) и болезненные проявления, но вместе с тем
они имеют и общую территорию, в которой их крайности сходятся, создавая
пространство для того фшюсо&еко-мировоззренческого типа сознания, который
станет главьым оппонентом балтийской мысли. Но сначала — о специфических
.проявлениях этих тенденций.
Преобладание позиции "я** над "другим" ведет в своем предельном выражении
к постановке во главу угла абстрактной безличной идеи, воспринимаемой как
всеобщий смысл. Человек становится "одержим" идеей, его мыслью движет
л*?бо имманентная необходимость смысла той или иной частной области культуры,
либо -- в глобальных концепциях — имманентная необходимость саморазвора-
чи£ающейся Абсолютной Идеи, распространяющей свое зманационное влияние
на все области культуры. В сознании, ориентированном на преобладание "другого",
одержимости безличной идеей противостоит одержимость бытием или "другостью"
(безответственное самоотдание бытию), при которой человек движим в своих
действиях и ментальных реакциях критически или некритически имманентизирован-
ной позицией "другого". Эта позиция "другого", вобранного самосознанием и
обескровливающая его, может иметь разные формы: от индивидуальной авторитетной
другости какого-либо конкретного "другого" до (через промежуточные стадии
рода, нации, семьи, класса и т.д.) человечества в целом.
Каждая тенденция имеет "органичные", т.е. жизнестойкие и культурно
обработанные формы. В первом случае это социально закрепленное представительство
и культурная специализация, которые предполагают акт ответственного признания
человеком того целого, представителем или спецификатором которого он
становится в своей деятельности. Во втором случае — это оправданные формы
приобщения к другости, при которых она не пассивно воспринята и не навязана,
а действительно авторитетна и активно подтверждена человеком в ответственном
акте-поступке (в частности, в родовом или национальном типе сознания). Отметим,
однако, что, признавая органичность, жизненную устойчивость и историческую
оправданность этих типов сознания, Бахтин рассматривал их не как искомую
уравновешенность позиций "я" и "другого", но как временные и промежуточные
этапы на пути к ней.
Крайние (болезненные) проявления описываемых глобальных тенденций, на
практике часто взаимоперехоцящие друг в друга, специально не дифференцировались
Бахтиным, но все же можно выделить их специфические формы: это "самозванство"
для первой ш "паразитизм" для второй тенденции. Самозванство характеризуется
как попытка понимать всю свою жизнь как скрытое представительство и каждый свой
акт как ритуальный, что в пределе может привести к маниакальным состояниям
сознания. Паразитизм же появляется тогда, когда, выпуская под влиянием
властных требований авторитетной позиции "другого-в-себе" свою внутреннюю
персональную цель-заданнссть, человек теряет органическое единство своего сознания
и вынужден паразитически "приютиться" в сочиненном "другом" (так как реальные
формы другости не обладают действительным авторитетом) и изнутри этой
корыстна созданной позиции чужими выдуманными силами собрать в единство свое
распадающееся "я". Особое место среди болезненных следствий вэаимозамутнен-
ности "я" и "другого" занимает эффект "двойничества", т.е. формирования в одном
сознании двух противоборствующих друг с другом центров, происходящего как
в случае подспудного сопротивления сознания забвению "другого" (первая
тенденция), так и в случае искусственного подавления внутреннего "я-для-сябя" (вторая
тенденций). И самозванство, и паразитизм, и двойничество свойственны не только
индивидуальному сознанию: в той или иной превращенной форме они могут
проникнуть и в культуру, либо разлагая ее, либо активизируя скрытые в ней
защитные механизмы.
В частности» в каждой из описываемых тенденций можно выделить не только
линию их соответствующего главкой установке развития, но и мощный вектор
самоотрицания. Тенденция к преобладанию "я" самоотрицается в идеологизме,
т.е. в перенесении источника главенствующей Содержащей") идеи, выпестованной
в рамках все из себя порождающего самосознания, сначала — в позицию
авторитетной коллективной другости, а затем — в тоталитарно-принудительную
абстрактно-всеобщую позицию, требованиям которой и все другие, и я сам обязаны
подчиниться. В истоках тоталитарных идеологий, т.е. неорганических форм
коллективизма, лежит, по Бахтину, гносеологический индивидуализм. Нарастание же
самоотрицающего вектора тенденции с установкой на преобладание "другого",
т.е. сферы органических форм коллективизма, приводит, в частности, к разновидности
индивидуализма — к наивному индшиЛьа.шзму, при котором индивид, уверенный
в своем месте в мире благодаря имманентизированной и авторитетной другости,
начинает эксплуатировать эту свою обеспеченность, "капризничать" в ней (Бахтин
приводит здесь аналогию с грехом как капризом в Боге). Наивная
индивидуальность с ее неоправданной гордостью, с ее перенесением ответственности на "другого"
и присвоением его прав, вся! зиждется на уверенности в хоровой поддержке,
убрав которую, мы тем самым обескровим и сам этот тип индивидуализма.
Именно таков буржуазный индивидуализм — в его истоке лежат органические
119
формы коллективизма. Давая свое объяснение генезиса индивидуализма и
тоталитаризма, Бах-тин, как видим, смещает привычные оценки. И дело тут не столько
в самих явлениях тоталитаризма и индивидуализма, сколько в общем недостатке,
содержащемся, по Бахтину, во всех типах сознания, если они строятся на
различных формах смешения "я" и "другого".
Здесь как раз и возникает проблема общей территории, на которой сходятся
крайности обеих тенденций и где складывается тот тип культурного сознания
Нового времени, который станет основным объектом критики Бахтина. Если в двой-
ничестве образуются два противоборствующих сознания внутри одного реального
сознания, то в этом центральном дпя Бахтина случае, наоборот, вместо реального
персоналистического дуализма бытия, вместо абсолютного разделения на "меня"
и "другого" появляется искусственно образованное одно единое и единственное
сознание. Ничье сознание. Сознание вообще. Сознание без носителя, без субъекта,
имеющее своим объектом все бытие и — часто — само себя. В ранних работах это
единое всеобщее сознание обозначалось как "роковой теоретизм" или "гносеологизм"
последних веков Европы, впоследствии этот тип сознания был устойчиво
закреплен в термине "монологизмч\
Монологйзм закономерно возникает на исходе обеих тенденций, так как они
обе ориентированы на монистическую идею "человека вообще", только в одном
случае это фиктивное, по Бахтину, "сознание вообще" понимается по аналогии
с "я", во втором случае — по аналогии с "другим". У Бахтина нет
эксплицитного разделения двух типов монологизма соответственно двум описываемым здесь
тенденциям, но имплицитно это разделение, как нам кажется, присутствует: моно-
логизм, имеющий своим прообразом "я-для-себя", строится в основном по
вертикали; стремится к статичности, хотя и может учитывать временные аспекты
(например, при провозглашении приоритета прошлого), а точнее — стремится
к снятию времени посредством "погашения" его в вечности; склонен к идеализму
и т.д. Второй тип мснологизма, имеющий своим прообразом категорию "другого",
строится в основном по горизонтали; подчеркивает динамично-временной аспект
бытия (например, подчеркивает ценность будущего часто в ущерб прошлому и
настоящему); материалистически ориентирован и т.д. (Мы продолжим список различий
и смысловую спецификацию двух типов монологизма по мере развития сюжета
статьи.) Наиболее сложными, с точки зрения их преодоления, оказываются
разнообразные исторические варианты эклектического сращения этих типов монологизма,
эксплуатирующие по мере надобности то одни, то другие установки из "чистых"
типов монологизма. Хотя и эта тема не была специально "проговорена"
Бахтиным, но есть основания полагать, что, с его точки зрения, в конце XIX—начале
XX вв. сложился именно такой монолог изм-кентавр, поместивший, в частности,
вертикальные ценности в конец горизонтального течения времени (все варианты
достижения "Царства Божия" на земле) к, если воспользоваться введенными
терминами, поставивший в качестве цели полное взаиморастаорение "я" и "другого".
Создавая иллюзию возможности ответственно поступать, i.e. жить в мире "других",
достигая при этом целей из области "заданного", т.е. из автономного мира
"я-для~себя'\ такой монологизм-кентавр соответствовал культурным потребностям
конца XIX века. Он давал временное облегчение глобальному общему кризису
культуры. Такова, например, доктрина экономического материализма и такова
же, только с другим знаком, западная доктрина эгалитаризма, при которой
в качестве цели ставится всеобщее благо, а в качестве средства ее достижения
(мотива конкретного поступка) допускается следование корыстным
индивидуальным целям (т.е. создается иллюзия возможности жигь из себя, достигая при этом
блага для других).
Общим условием преодоления всех, в том числе и гибридных типов монологизма.
проявившихся к концу Х!Х века, является, по Бахтину, своего рода высветление
отношений между фундаментальными для нравственного сознания категориями
"я-для-себя" и "я-для-другого", которые к тому времени, с одной стороны, достигли
максимума изолированного саморазвития (каждая в рамках соответствующей ей
тенденции), но между которыми остались, с другой стороны, некритические,
не поднятые вровень с качеством осознанности самих категорий отношения.
К началу XX века, по Бахтину, друг против друга встали даа мира, мир жизни
(восстановим пропущенное самим Бахтиным звено — мир, выработанный в катего-
120
рии "другого") и мир культуры (выработанный в категории "я~для-себя"), между
которыми образовалась пропасть. Вместо "бездны" между реальными "я" и "другим" —
пропасть между "я-для-себя" и "я-для-другого". Вместо чисюты само- и друго-отно-
шения — культивируемое культурой двойничество сознания. Для преодоления
этого двойничества в сознании поступающего человека необходимо дать ему
возможность укоренить свой поступок в обоих мирах (и во внутреннем "я" и в мире "других"),
обеспечив его мотиваиионную и целевую согласованность. В русле первой
тенденции человечество вызвало к жизни "призрак объективной культуры", который
мы теперь не в силах заклясть, в рамках второй тенденции оказались
расшатанными все органичные формы другости, дававшие устойчивость и уверенность
человеческому поступку. И культура, и жизнь стали самопроизвольными. Человек может
либо отдаться бытию (но тогда он лишается цельного "я~для~себя"), либо выпасть
из жизни (что лишит его органического отношения к реальному "другому" и
к "другому" в себе). Распад бытия на несообщающиеся культуру и жизнь — это
плата за смешение "я" и "другого", за иллюзию их слияния в единое монологическое
сознание.
Констатировав и описав существо общего кризиса культуры в терминах пер-
соналистического дуализма, Бахтин не стал углублять негативно-критический
пафос: во всех его последующих работах на первый план выдвигаются те
исторические силы, которые в самом своем ядре несут антимонологический заряд
и обещают тем самым будущее преодоление кризиса.
Прежде чем представить результаты бахтинского анализа антимонологических
сил в истории культуры, необходимо сделать еше один шаг — установить
связь между зафиксированным выше каркасом общефилософской позиции Бахтина
и теми частнонаучными терминами, в которых осуществлялся этот анализ. Уже
в ранних работах философско-историческая проблематика рассматривалась в основном
в общеэстетическом аспекте, впоследствии добавились литературоведческий и
лингвистический ракурсы. Этому было много причин: влияли, конечно, и привходящие
исторические обстоятельства (не о них сейчас речь), но были и прямо
содержательные причины, непосредственно связанные с существом бахтинской позиции.
В частности, эстетический ракурс был введен в ранних работах на том основании,
что эстетическое событие, не будучи прямым аналогом события бытия, несет в себе
все же, согласно Бахтину, существенные (и удобные для конкретного анализа)
черты сходства с ним. Эстетическое сознание, ло Бахтину, изначально дуалистично:
это "сознание сознания", т.е. та или иная форма взаимоотношений "я" и "другого".
Функция эстетического прямо детерминирована этой абсолютной персоналисти-
ческой границей: сберечь преходящее, прекрасный мир данности в его мгновениях,
освободить мир от нудительности заданного, любить его вне смысла и цели. Это то,
что возможно только как мой дар "другому", либо как его дар мне, ко что ни "я",
ни "другой" изнутри себя, в своей изоляции или своем смешении обеспечить
не могут. В одиночестве мы живем лишь по направлению к заданности (в
отношении к себе нет времени и пространства, нет моего тела и души, которые
я получаю в дар от другого, есть только дух и его цель-заданность). В
монологическом сознании "я" и "другой" так же одиноки, как и в своей полной изоляции.
Это сближение качеств бытия и эстетического события позволило Бахтину
рассматривать исторически меняющиеся формы взаимоотношений фундаментальных
эстетических категорий "автора" и "героя" в качестве специфических отражений
меняющихся форм взаимоотношений "я" и "другого" в бытии. Категория жанра,
фиксирующая устойчивые позиции автора и героя по отношению друг к другу, вбирает
в себя тем самым типические формы бытийственных взаимоотношений "я" и "другого".
Язык же, будучи основным социализованным средством объективации эгих
взаимоотношений и области смысла вообще, рассматривался Бахтиным не только как их
внешняя знаковая оболочка, но и как творящая эти отношения естественная для
них субстанция. (К бахтинской философии языка мы еще вернемся ниже)
Смена философско-историческ.ого ракурса на эстетический при всей, казалось бы,
очевидности имеющихся здесь параллелей привела к усложнению и обогащению
бахтинской позиции. "Я" и "другой" получили не однозначные, а скользящие
соотношения с понятиями автора и героя. В принципе автором может быть и "я"
121
по отношению к "другому", и "другой" по отношению к "я". Однако, есл¥раШМа?кивать1
эстетическое событие изнутри творческого акта, то автором однозначно
становится "я", героем — "другой". Но и этот взгляд "изнутри" творческого акта на поверку
также оказался двойственным: вследствие того, что, как говорилось выше, позиции
"я" и "другого" не дифференцированы (смешаны), по Бахтину, в самих исторических
типах бытийного сознания, это смешение отразилось и на позициях автора и героя.
Они не получили устойчивых координат и вынуждены "скользить" по позициям
"я" и "другого" в зависимости от исторических изменений в бытийных формах
сознания. В частности, монологические тенденции проявляются в эстетике в виде
сближения автора и героя, а в крайних случаях и в виде их полного слияния в одно
самоизображающее сознание, что разрушает эстетический акт, дуалистический
по своей природе, и превращает его в суррогат теоретического, эстетического
или религиозного поступка.
Можно выделить различные формы монологического слияния автора и героя
в эстетическом акте. Для первой выделенной выше глобальной тенденции, в которой
идея "человека вообще" строится на преобладании категории "я", в общем случае
характерен тот тип смешения, при котором автор подавляет героя, внутри второй
противоположной тенденции — герой подавляв}?! автора. На практике такое
монологическое стягивание автора и героя в одно сознание деэсгетизирует высказывание
либо в направлении к исповеди-самоотчету (первая тенденция), либо в направлении
к биографии (вторая тенденция), т.е. эстетическое событие трансформируется
в социально-этический, религиозный или познавательный акт. Уже в этом органичном
для второй тенденции общем случае наблюдается частичное смещение авторской
позиции с категории "я": здесь говорящий сам является героем, а та авторская
позиция, из которой ведется высказывание, целиком заимствуется у имманентизиро-
ванного авторитетного "другого" (выше мы уже описывали эти адекватные обеим
тенденциям формы словесной объективации).
Более сложные случаи скольжения авторской позиции проявляются при
наращивании описываемых тенденций не по линии их естественного развития, но по вектору
самоотрицания (см. выше). Для первой тенденции неизбежен этап, когда под сферу
влияния исходной категории "я" попадает и герой ("другой"), начинающий в таком
случае культивировать в себе качества внутреннего "я-для-себя", которые
оказываются слепком с авторского, не способного к самозавершению внутреннего
"я". Чтобы получить возможность оплоткить новое внутреннее "я" героя, повторяющее
собственное авторское самосознание, автор вынужденно перемещается на позицию
"я-для-другого". Но и с этой точки полного оплотнения достичь не удается, и герой
начинает демонстрировать "дурную бесконечность" лишенного авторитетной другости
самосознания. Появляется бесконечный герой, по отношению к которому автор
становится лишь пассивным медиумом, т.е. фактически здесь (в противоположность
"нормальной" формуле этой тенденции) герой подавляет автора, а точнее — автор
подавляет сам себя. Предоставленное само себе сознание, одинокое и изолированное
сознание, не только эстетически бесплодно, ко и "несчастно" с этической точки
зрения, и "аморфно" с гносеологической точки зрения, т.е. ке поддается оформлению,
так как отнести форму к самому себе невозможно, это может сделать только "другой".
Эти квалификации "одинокого" сознания переходят и на "единое" монологическое
сознание.
Для второй тенденции, основывающейся на преобладании "другого", неизбежен
этап самоотрицания, когда автор, полностью отказавшись от внутреннего "я"
в пользу имманентизированной авторитетной другости, начинает обобщать эту
авторитетную позицию до безличной абстрактной всеобщности, Из "я-для-себя"
автор становится всеобщим "другим", все привилегии "другого" приватизируются
автором, "герой" лишается своих прав. Из ранее авторитетной для автора позиции
герой превращается в частную, индивидуализированную форму проявления
представляемой автором абстрактной всеобщности, т.е. в форму, которую автор, с
захваченной им позиции всеобщей правды "другого", получает возможность
критиковать. Автор становится всеобщим "другим", герой — частным "другим", тенди-
рующим к беззащитному "я". В противоположность "нормальной" для второй
тенденции формуле здесь не герой подавляет автора, но — автор героя.
Однако и в рамках второй тенденции победа автора над героем неустойчива,
так как занятая автором позиция в конечном счете более органична для героя
122
-далшнает сопротивляться этой узурпации, отказывая автору (как и
"бесконечный герой" романтизма) в его праве овнешнять себя. В рамках первой тенденции
автор на протяжении XIX века стремился укрепить свою позицию за сче? абстракт
кого этического (сентиментализм) или познавательного (реализм) избытка, т.е
стремился использовать для оплотнения героя взятые из безличного абстрактно
всеобщего сознания смысловые категории, что не только деэстетизирует
художественный акт, но низводит героя ("другого") до безгласой вещи, до состояния объекта.
К этому же результату привело и развитие художественного метода в рамках
второй тенденции: если в первом случае индивидуальный бесконечный герой
обобщался ("подавлялся") в категории "характера", то здесь герой типизируется,
т.е. рассматривается как представитель какого-либо типа коллективного само-
сознания, являющегося частным подчиненным случаем абстрактно-всеобщей другостн.
В первом случае герой "усмиряется" за счет вертикально иерархизирошшиого
и идеалистически ориентированного монологического сознания, во втором случае
герой овнешняется как представитель того или иного среза социального
(горизонтального) бытия. В обоих случаях герой лишается голоса, "овеществляется".
Теперь мы можем перевести бахтииское понимание кризиса культуры на язык
эстетики. К концу XIX—началу XX вв. в результате разнообразных форм смешения
"я" и "другого", в том числе и их монологического слияния, в эстетике сложилась
ситуация, которая с ее двух сторон может быть описана как "бунт героя44 и "кризис
автора". Герой сопротивляется всем формам овнешнения, автор сомневается в свое 8
позиции вненаходимости, начиная подходить к жизни и герою изнутри. Место
искусства в целом культуры расшатывается, эстетическое бытие смешивается
с этическим и гносеологическим, а те. в свою очередь, эстетизируются — таковы,
по Бахтину, неизбежные следствия проникновения монологических тенденций во
все поры культурной жизни.
Ключевыми темами бахтинского анализа антимонологических тенденций культуры
стали романный жанр, народная смеховая культура (прежде всего категории
карнавала и смеха) и глобальные изменения в языковом самосознании исторических
эпох. Центральные фигуры — Достоевский и Рабле. Мы не можем здесь входить
в детали бахтинской разработки этих глобальных тем и узловых, с его точки
зрения, эпох и фигур в истории культуры, нашей целью является лишь доказательстве
единства его общей позиции. Уже говорилось, что в рамках привычных для нас
исследовательских парадигм бахтинская мысль часто воспринимается и, главное,
действительно может быть воспринята как глубоко противоречивая,
самоотрицающая, неустойчивая (достаточно хотя бы формально сопоставить "предельные"
ценности мира Достоевского и мира Рабле, как они даются Бахтиным: христианство,
личность, ценность мгновения и вертикальной картины мира, с одной стороны,
и язычество, родовое тело, ценности времени, смены и горизонтального среза
бытия, с другой стороны). Однако эти противоречия отнюдь не являются
результатом внешнего анализа бахтинских текстов, они резко обозначены и подчерке}'-
ты самим Бахтиным, причем настолько настойчиво, что преодолевают всякую
настроенность читателя на гладкое, формально-логическое восприятие. Бахтин,
конечно же, предполагал второй план за внешней сюжетной канвой его книг,
на котором эти резко обозначенные противоречия приобретают внутренний смысл,
И дело тут не только в некоторой философской недосказанноеги бахтинских
текстов по историческим причинам: они, с одной стороны, очевидны, с другой —
не столь уж и существенны. Релятивизация формально-логических
исследовательских парадигм входила, вероятно, в состав целей Бахтина, а не была только
стилистическим или риторическим приемом вынужденного умолчания. И тексты,
и сама мысль Бахтина амбивалентны: они требуют отказа от некоторых
привычных приемов мысли, в частности — от установки на однозначную систему оценок.
Попытаемся вскрыть амбивалентную структуру узловых, с точки зрения Бахтина,
моментов истории культуры и пробивающихся сквозь них и с их помощью
антимонологических тенденций. Это предполагает своего рода биполяризаоию внимания,
его одновременную направленность на противоположные пределы каждого
анализируемого Бахтиным явления или тенденции, на их "верх" и "низ*4, качало и конец,
на их начинающий и умерщвляющий импульсы. Применение Бахтиным этого биполя-
ризованкого ракурса станет очевидным, если мы надстроим поверх (или — увидим
на втором плане) бахтинских текстов, в частности — его книг о Рабле и
Достоевском, ту опорную схему, которая была выявлена выше при анализе ранних работ
(т.е. взаимоборство двух глобальных тенденций в восприятии человека — с
установкой на преобладание либо "я", — либо "другого").
Достоевский и Рабле, воспринимаемые обычно в одном ряду — как "оппоненты"
монологизма, окажутся сразу по разным сторонам: Достоевский —■ внутри линии
развития первой тенденции. Рабле — второй. Раздвоится и их формально единый
противник — монологизм. Антимонологические потенции каждой фигуры получат
три измерения: противостоя инвариантным компонентам монологизма (первое
измерение), и Достоевский и Рабле вместе с тем оспаривали и монологизм,
сформировавшийся в русле противоположной тенденции (второе измерение), а также —
крайние монологические проявления внутри своих тенденций (третье измерение).
Сначала - о Рабле (хотя Бахтин начал с Достоевского), поскольку такой
порядок рассмотрения позволит нам параллельно иметь в виду и историческую
последовательность событий. И сразу же скажем, что Рабле отнюдь не был для
Бахтина однозначно "позитивной" фигурой, его оценка амбивалентна: Рабле не только
"разрушитель" средневекового монологизма, но и источник того нового типа
монологизма., который сложится в своих зрелых формах к XIX в. Творчество Рабле —
сильнейший из прозвучавших в литературе аргументов против монологического
отвердения ценностной вертикали, основанного на преобладании категории "я",
но исторически воспоследовавшее развитие этого аргумента, его разложение,
рационализация его пафоса и ценностей привели к усилению основанного уже
на господстве "другого" монологизма, контраргументом против которого (но, конечно,
ке только его одного) и станет полифония Достоевского.
Оспаривание моиологизма противоположной тенденции выразилось у Рабле,
в частности, в "опрокидывании" ценностного мира с вертикальных на
горизонтальные координаты, в перенесении целевого момента из прошлого (или выросшей
из этого установки на "вечное") в будущее, в пафосе роста и смен в
противоположность статическим ценностям и др.; но главное — в преодолении внутренне-
телесного одиночества человека средневековья3. Человек Рабле впервые после
классической античности получил точку опоры в "здешнем" другом; он весь оказался
вовне, в нем нет ничего внутреннего, что не было бы выражено внешне.
Однако эта внешняя, поверхностно содержательная характеристика антимоноло-
гизма Рабле не была действительным импульсом бахтинского интереса к этой
фигуре, как фактически не интересовала Бахтина и позитивная содержательная
программа Достоевского. В центре внимания Бахтина — их новаторство в области
художественной формы, которое зафиксировало в себе происшедшие в истории
культуры сдвиги в формах соотношения "я" и "другого". Хотя в книге о Рабле Бахтин
специально не эксплицирует эту сторону вопроса (причина этого — особая тема),
но фактически все необходимые компоненты для того, чтобы попытаться здесь
определить новаторство раблезианского художественного метода в терминах
"автора" и "героя", были им заготовлены
Специфика метода Рабле состоит, но Бахтину, как представляется, в том, что для
оспаривания монологизма противоположной тенденции (первое измерение) он приме-*
няет монологические потенции собственной тенденции (второе измерение), особым
образом их модифицируя. Выше мы обозначили монологическое самоотрицание
второй тенденции как подавление автором, вобравшим в себя
обобщенно-всеобщую другость, героя, ставшего частным, индивидуализированным "другим". Рабле
гасит огонь огнем: он не стремится развести автора и героя, сблизившихся
3 Здесь нет смысла принимать или оспаривать бахтинскую оценку самоощущения
внутреннего "я" в средневековом типе сознания, как и анализировать другие бахтинские оценки тех или
иных исторических реалий, — речь идет о структуре позиции Бахтина в ее целом, где эти оценки
превращаются во взаимосвязанные элементы смыслового целого, а не о точности частных
исторических квалификаций. Подчеркнем также, что у Бахтина в таких случаях имеется
в виду архетипический срез с исторических типов сознания, глобальные судьбы их глубинных
составляющих, а не тонкости религиозно-философских теорий или индивидуальных сознаний.
С таким подходом можно соглашаться или не соглашаться, но при анализе бахтинской
концепции его необходимо учитывать как факт.
124
под влиянием монологических сил, а, напротив, до конца примиряет их в категории
"родового тела". У них теперь общая позиция — карнавальная плошадь, между
ними нет рампы, они стали коалиционным автором, стали "мы". Но и коалиционный
автор не мог остаться без всякого героя: функцию героя стала выполнять у Рабле
средневековая идея в ее "оголенном", отчужденном от человека виде. Бывшие
автор и герой объединили свои усилия против стремящейся к подавлению телесного
человека средневековой идеи (т.е. против монологизма первой тенденции) и
противопоставили ей категорию вечного "родового тела". Идею, ставшую героем, но не
получившую воплощения в человеке, можно рассматривать со всех сторон, перемещая
ее верх и низ, ее лицевую сторону и изнанку и т.д. — она бессильна без выражающего
ее человеческого голоса.
Впрочем, Рабле не мог до конца достигнуть эффекта отторжения идеи от
человека, иначе он создал бы не художественную прозу, а полемический
философский трактат. Идея-герой частично соединилась у Рабле с читателем, и з этом
вторая сторона его художественного новаторства. В ранних работах Бахтина
читатель объединялся с автором, а не героем, Рабле же, осуществляя
релятивистическую "игру" с отвлеченной идеей, ведет эту игру на внутренней территории
читателя, для него, с целью релятивизовать тем самым монологическую
однотонность его сознания (для объединенных автора и героя Рабле такая релятивизация —
уже свершившийся факт). Хотя персонаж Рабле приближен к автору, но он все же
несет в себе заряд "чужого" сознания, и хотя читатель сближен с героем (идеей),
он также заявлен здесь в своих автономных правах, следовательно, в
художественном пространстве Рабле действуют уже три сознания. За счет условного
примирения бывших автора и героя в коалиционном "мы" обнажился конфликт
с читателем, невозможный в открытой форме для монологических жанров в русле
первой тенденции. Этот конфликт, кстати, не разрешен и поныне.
Наконец, о третьем, инвариантном, измерении антимонологизма Рабле.
Принципиальным в этом отношении является тот факт, что единое "родовое тело"
не становится у Рабле носителем какого-либо единого, завершенного и
статичного сознания. Напротив, смысловой мир Рабле максимально для эпохи децентри-
рован, и прежде всего за счет диалогического скрещения различных встретившихся
в ту эпоху "лицом к личу" языковых мировоззрений (имеется в виду и встреча
с "чужими" языками, и социально-территориальная стратификация внутри единого
языка, и процесс эмансипации национальных языков). Смысл у Рабле принципиально
нестатичен, единство бытия обеспечивается не им, а телесной субстанцией.-
Средством разрушения статичности смысловых образований является язык. Это
обстоятельство (релятивизация языкового сознания) имеет в концепции Бахтина особый вес,
так как установка на однозначную языковую выраженность статично понимаемых
смыслов является, с его точки зрения, основной инвариантной особенностью
всякого монологизма, его альфой и омегой.
Немаловажно для Бахтина и то, что само "родовое тело" Рабле не столь уж
едино: аналогично используемому "двутонному" слову, "двутелы" и образы Рабле
("беременная старуха"). Раблезианский образ — это "уже не одно, но еще не два
тела". Здесь выражена не только идея вечной смены, но и неизбежность
разрозненно-индивидуального телесного бытия. Рабле подчеркивает многомерность
сознания и при телесном единстве его носителя, а не только — при телесной
раздробленности на одинокие изолированные друг от друга организмы.
И все же внутренний монологический импульс в творчестве Рабле, отразившего
монологическую идею второй тенденции в ее максимальной "чистоте"
(абсолютное преобладание '^другого" над "я"), оказался сильнее его диалогических
потенций. Если у самого Рабле монологическая струя относительно приглушена за счет
того, что она использовалась им для подавления конкурентного монологизма,
что создавало диалог между ними, то впоследствии на почве второй тенденции
сложился и окреп новый вариант монологизма, назовем его "телесным*' моно-
логизмом (в противоположность "духовному" монодогизму первой тенденции),
в котором все, в том числе и диалогические по своей функции у самого Рабле,
элементы его художественного новаторства получили сугубо монологическое
звучание. Так, идея горизонтали, введенная Рабле на фоне обостренных контактов
с современностью ("настоящим"), будет гипертрофирована до полного непризнания
всякой значимости за "настоящим": все ценное станет помещаться в будущее.
(Мы уже говорили, что на этом элементе монологизма второй тенденции основано
125
большинство политизированных экономических доктрин.) Восстановленное Рабле
в своих правах "внешнее" тело редуцируется в "организм**, от которого остается
лишь нескольхо шагов и до биологически окрашенных эстетизированных
философем, и до категории "естественного права" (а при включении этого элемента
в гибридные формы монологизма — и до демократических ценностей). "Родовое
тело" распадется на социально-классовые идеологемы, человек начнет
восприниматься как функция среды и т.д. Именно в русле этой тенденции окрепнет
и новоевропейский индивидуализм. Что касается коалиционного "мы" автора с бывшим
героем, направленного против нового героя-читателя, то из него разовьются
догматические жанры с их монументальным стилем (подавление слушателя в XX веке
сменит предшествующую установку на подавление героя). Мы вынуждены
ограничиться этой беглой зарисовкой "телесного" монологизма, его полный анализ
потребовал бы специальных исследований (напомним, что у Бахтина эта тема не получила
эксплицитного выражения).
Антимонологизм Достоевского также имеет три измерения. Оспаривая "чистую"
форму монологизма противоположной тенденции (к тому времени это был "телесный"
монологизм). Достоевский возрождает вертикальную картину мира, но уже не в
статическом варианте, а с учетом временного фактора: мир берется им в разрезе
фактической и смысловой равнозначности всего существовавшего, существующего
и готовящегося к существованию (мы уточним это положение ниже). Если Рабле
преодолевал телесное одиночество человека средневековья, то Достоевский
преодолевает телесный тоталитаризм натуралистических, биологических,
социально-политических и др. концепций, противопоставляя им вновь возрожденное внутреннее
"я-для-себя". Описание первого измерения аитимонологиэма Достоевского может
быть продолжено по всему представленному выше спектру "телесного"
монологизма, но нам здесь важнее его второе измерение, т.е. преодоление Достоевским
крайностей "духовного" монологизма. Внутреннее "я-для-себя" у Достоевского иное,
нежели в средневековье и, главное, у романтиков, первыми, по Бахтину,
открывших в Новое время внутреннюю бесконечность субъекта на фоне открытой Рабле
бесконечности внешнего мира. Достоевский стремится преодолеть одиночество
внутреннего "я", оторванного и от "духовкой" ценностной вертикали, и от "родового
тела" и лишенного тем самым реальной пары. Между одиноким бесконечным
самосознанием и общим "родовым телом", или — общим смысловым целым,
диалога, т.е. поля для нравственного соотношения, быть не может. Такой герой
неизбежно вступает в конфликт с автором. Достоевский, по Бахтину, преодолевает
кризис автора и причину бунта бесконечного героя тем, что дает герою права
полнокровной личности, имеющей не только тело и душу (как монологические
герои), но и дух ("я-для-себя"). В качестве нравственной "пары" цельной личности
может быть противопоставлена только личность же, и Достоевский
отказывается от авторской функции завершения героя, давая ему возможность вступить
в незавершимый диалог по "последним" вопросам с другими героями и с собой.
Герой из "он" стал "ты". Все коалиции автора (либо с читателем, либо с героем)
распались; образовалось реальное пространство для нравственного бытия, для
со-бытия полноценных и равноправных "я".
Такое понимание художественного новаторства Достоевского, и прежде всего —
проблема авторской позиции в полифоническом романе породили многочисленные
споры. Полифоническая идея обычно не принимается на том основании, что в ней
как бы нет места для абсолютных ценностей, что она предполагает лишь
нескончаемый диалог эгоцентристов, диалог бесцельный и никого не спасающий, но лишь
погружающий мир в стихию неупорядоченной индивидуальности. Но так ли это?
Действительно ли структура бахтинского полифонического романа ценностно аморфна?
Достоевский так же, как и Рабле, ставит автора рядом с героем, ко в отличие
от Рабле он ставит их рядом не на карнавальной площади с ее амбивалентностью
и относительностью, а в ценностно организованном и топографически замкнутом
смысловом пространстве "последних" (предельных) вопросов бытия. Если у Рабле
герои и автор отрицают внеположную их сознанию ценностную структуру, то
у Достоевского ценностная структура заложена в самих голосах героев, она
имманентна их сознанию; автору нет необходимости накладывать ее извне, Эта
ценностная структура равно предполагается всеми героями, принимают они ее или нет, так как
и оспаривать можно только то, что имеется. Если бы никакой ценностной
структуры не было, не был бы возможен и диалог героев, им не о чем было бы "спорить",
126
не" в * чем "соглашаться". Мы не касаемся здесь вопроса о характере смыслового
наполнения этой структуры (это не просто отдельная, но глобальная тема,
мы лишь наметим некоторые ее моменты по дальнейшему ходу статьи), нам важно
почеркнуть сам факт наличия ценностной структуры в полифоническом романе.
Не следует также формально понимать связанный с этим бахпшски» тезис
о диалоге автора с героями. Их рядоположенность предопределена единством
ценностной структуры их внутренних "я-для-себя", а не реальным диалогическим
контактом. Автор в полифоническом романе не имеет своего "голоса", он облечен
в молчание, ведь для того чтобы воплотиться, т.е. объединиться с образом
человека, необходим взгляд с позиции "другого**, а для автора полифонического
романа такого "другого" нет, он весь — чистое самосознание. ("Образ автора",
различные авторские маски "рассказчика" и т.д. — это технические приемы
облеченного в молчание первичного автора.) Возможности "молчащей" авторской
активности не следует недооценивать: автор дарует "другому" возможность воплотиться
в "голосе", не вмешивается в него, дает звучать ему в полную силу, но, с другой
стороны, его активность проявляется и в том, что он действительно "слышит*'
эти голоса и по-своему дирижирует ими, композиционно облекая их в сюжет.
Принципиальной особенностью ценностной структуры полифонических романов
является то, что, в отличие от монологических вариантов вертикальных ценностных
структур, она не может быть иммакентизирована внутрь абстрагированного от
реальных личностей единого "всеобщего" сознаний. Ценности полифонической
структуры реализуются в точке соприкосновения двух или нескольких сознаний;
их бытие не ^^-индивидуально, ко идеж-индивидуально. Персоналистичесхкй
дуализм — условие восприятия такой структуры, ведь само ее существование задано
доверием к наличию Абсолютного Другого.
Полноправным "ты" является в полифоническом романе и читатель: он ке
втягивается ни в коалицию с автором, ни в коалицию с героем. Единственность
его места в бытии сохраняется в неприкосновенности, но он приобретает к&к бы
дополнительные силы для того, чтобы "слышать" чужие голоса (Бахтин называл
это эффектом "расширения" сознания читателя полифонического романа).
Инвариантное (третье) измерение антимонологизма Достоевского
целесообразней рассмотреть через общую для Достоевского и Рабле призму: через сравнение
их места в становлении романного жанра, который оценивался Бахтиным как
историческое средоточие усилий культуры к самопреодолению монологизма.
Специфика романа описывается Бахтиным через противопоставление
прозаического и поэтического слова. Эта пара не содержит в себе полного соответствия
стержневому, с нашей точки зрения, у Бахтина разделению на две глобальные
тенденции культуры, но тем не менее это разделение и здесь, как мы >видим,
помогает уточнить некоторые детали. Прозаическое слово формируется и зреет в
русле становления романного жанра, но сам пот жанр в своем становлении
также расслоен на две линии развития: "софистическую", идущую от
монологического, по Бахтину, греческого романа, и диалогически-прозаическую, идущую
от нероманных античных жанров, вобравших в себя диалогический импульс
народной смеховой культуры. Всякий роман знает реальное разноречие жизни,
но реакция на это разноречие и отличает две романные линии. Первая линия
склоняется к монологической стилизации ощущаемого разноречия, т.е. к тому,
чтобы подчинить разнообразие языковых акцентов одному центру (одному сознанию),
вторая —- впускает з себя разноречие как реальную данность и использует его в своих
жанровых целях. Здесь и вступает в силу наше разделение на две глобальные
тенденции культуры: и Рабле, и Достоевский представляют вторую линию романа.
но используют при этом антимонологические потенции емеховой культуры и
исконной диалогичности языка по-разному, в соответствии со своей принадлежностью
к противоположным культурным тенденциям. Но прежде чем описать это различие,
коснемся еще одного принципиального вопроса.
Тема языкового релятивизма, смеха, карнавала — это один из iex пластов
бахтинской мысли, который вызвал мощную волну несогласия и даже протеста.
При этом и сам Бахтин часто начинает восприниматься как абсолютный
релятивист, т.е. не только в частно-научном, но в прямо философском и даже
религиозном аспектах; к примеру, как мы уже видели, зто иногда связывается
с проблемой авторской позиции в полифоническом романе. Обобщим этот пласт
127
тем в условном названии "релятивизм" и попытаемся определить его место в
реконструируемой здесь общей позиции Бахтина.
Эта тема возникла у Бахтина отнюдь не под влиянием его занятий Рабле,
зависимость здесь скорее обратная. Релятивизм интересовал Бахтина уже на рубеже
Ю—20 гг.4, но не как самоцель, не как источник философских построений, а как
один из возможных механизмов (средств) для преодоления общего кризиса
культуры. Напомним, что существенным показателем этого кризиса был для Бахтина
разрыв между развивающейся по своим имманентным законам "объективной"
культурой и реально живущим человеком, между "смыслами" культуры и мотивами
творческих поступков, направленных на развитие этих "смыслов". Бахтин искал
в истории культуры формы возможного преодоления этого разрыва, подчеркнем —
не "предлагал от себя", не вырабатывал умозрительных рецептов, а "искал" в самой
культуре. И релятивность уже тогда, в 20-е гг., стала рассматриваться как одна
из возможных самозащитных форм культуры. Не бытие, не культура, не человек
и не ценности сами по себе — объекты применения механизма релятивизации,
но — кризисные типы соотношения между человеком и культурой. Релятивизовалась
не онтология, а модальность, и прежде всего — господствовавшая, по Бахтину,
ценностно^монологическая установка человека по отношению к бытию и культуре.
Обратимся к введенным выше терминам. Чтобы разрушить монологическую
установку сознания, нужно устранить разнообразные формы смешения "я" и
"другого", что предполагает, в частности, — ослабление напряжения как в отношении
одинокого "я-для-себя" к миру "заданного", так и в отношении изолированно
воспринимаемого "другого" к миру "данного". Монологическое напряжение
отношения "я" к своей "цели-заданности" (следствие забвения "другого-в-себе") ведет
в пределе к имманентизации Бога, т.е. к иллюзии вобранности в "я" мира высших
целей, к стиранию граней между "я" и ими; напряжение же отношения к "другому"
(следствие забвения его "я") ведет в пределе к его полной овнешненности, к
превращению его в "объект". Бахтин искал средства для разрушения той "позы", которую
принял под влиянием монологизма человек по отношению и к миру ценностей,
и к себе, и к другому, и к бытию в целом.
Смех и карнавализация сознания и стали в концепции Бахтина средством
разрушения этой монологической "позы" человека. При этом, конечно же, Бахтин
не имел в виду биологический аспект смеха (все его негативные стороны, его "эксцессы"
были Бахтину ведомы); не подразумевался и социальный аспект смеха
(использование смеха как средства социального угнетения отмечается в его работах: см.,
напр., описание опричнины в публикуемых ниже архивных, материалах). Бахтина
интересовал смех как культурный феномен, в его философской функции, в которой
он предстает в превращенном, очищенном от биологических и социальных
проявлений виде. В таком "очищающем" подходе нет ничего необычного: негативные
последствия в биологическом и социальном отношениях есть у всех форм
модального отношения человека к миру и к себе, в том числе и у самых "высоких" (например,
религиозных). Онтологичен, направлен на само бытие "сатанинский" смех, бах-
тинский смех — исключительно модален.
Возможно, что поиск средств релятивизации монологизма не привел в начале 20-х гг.
к смеху, но сам поиск велся несомненно, а к концу десятилетия выбор уже был
сделан. Философские мотивы в текстах Бахтина к этому моменту были приглушены,
и поэтому в них нет философии смеха как таковой, но и детально описанный
Бахтиным прагматический ("релятивизирующий") аспект смеха дает достаточно
оснований для общих выводов. У нас нет возможности останавливаться на всех
этапах постепенного включения, нарастания и угасания смеховой культуры в
становлении романа (отметим лишь происшедшую в Новое время редукцию смеха,
его рационализацию и приватизацию, его постепенное отнесение лишь в область
"низкого" и "вульгарного"), дадим эту проблему сразу в ее поворотных, по Бахтину,
пунктах — в творчестве Рабле и Достоевского.
У Рабле смех сохраняет универсально-космические качества, как они были
4Об этом свидетельствуют опубликованные и прокомментированные НИ Николаевым
архивные материалы из наследия Л.В. Пумпянского (см., напр., Пумпянский Л.
Гоголь. — "Ученые записки Тартуского государственною университета. Труды но знаковым
системам". Вып. 664 Тарту, 1984)
сформированы в народной смеховой культуре. Важные для нас аспекты этого
смеха — всеобщность, т.е. отсутствие разделения на субъект и объект смеха
(нет "претерпевающего" чужой смех, это "наш" смех над "нами") и праздничность,
т.е. особый смеховой аспект мира, в корне меняющий нашу установку ("позу")
по отношению к нему, но не сам мир. Смех выполняет у Рабле функцию разрядки
критического напряжения между одиноким "я-для-себя" и миром целей,
препятствуя имманентизации этого мира, в пределе — Бога, т.е., по нашей терминологии,
релятивизует "духовный" монологизм первой тенденции. "Я-для-себя" начинает
смотреть на себя как на "другого" в мире "других". Существенно для нас и то,
что раблезианский смех оппозитивен не "серьезности" (как часто понимается
бахтинская позиция), а страху. Страх как установка монологического сознания
неизбежно ведет к определенным формам "официальной" однотонной серьезности
(частные виды такой серьезности — патетика и истошность), но, конечно, не всякая
серьезность, по Бахтину, восходит к страху.
Необходимо также хотя бы вкратце коснуться проблемы "онтологических
аспектов" раблезианского смеха, который, по Бахтину, вовлекает в свою орбиту
и саму вертикальную структуру средневековых ценностей, что рассматривается
Бахтиным как позитивное следствие карнавализации сознания. Здесь нужно иметь
в виду в общем-то тривиальную, но почему-то "пугающую" в данном частном
применении гносеологическую установку, в частности, кантианства: наше
восприятие предмета "участвует" в создании его воспринимаемой структуры. В отношении,
скажем, к смыслу художественного произведения это понимается, но так же для
Бахтина обстоит дело и с религиозными ценностями: официальная средневековая
картина мира содержала в себе, по Бахтину, элементы, привнесенные от
модальной установки следующего этим ценностям человека. Эта установка
("официальная" модальность) была, по Бахтину, монологичной, монологичной стала и
картина мира. Чтобы релятивизовать монологическую установку сознания, необходимо
релятивизовать и связанную с этой модальностью картину мира, что и делает,
по Бахтину, Рабле, опрокидывая вертикаль на горизонтальные координаты,
сближая или меняя местами ее верх и низ и т.д. Все это, однако, не означает,
что сами религиозные ценности как "вещи в себе" тоже опрокинуты: форма их
бытия для себя остается неприкосновенной, меняется лишь их бытие для нас.
Да, Бахтин отрицал возможность полного, адекватного и однозначного
воплощения религиозной истины в какой-либо устойчивой, созданной человеком картине
мира, в какой-либо затвердевшей языковой форме (возможность этого есть для
него тезис монологический), но это отнюдь не означает отрицания самого
существования такой истины. Здесь уже начинается конфессиональная проблематика,
которая в бахтинистике остается до сих пор не только не решенной, но даже
практически и не осознанной Оставим эту область и мы.
У Достоевского функции смеха иные, чем у Рабле. Смех уже не звучит здесь
как таковой (имеются в виду поздние романы), он редуцирован, но именно
им предопределена структура образов и само существо авторской позиции в
полифоническом романе. Бахтин восстанавливает сложную историю редукции смеха
в Новое время, приведшую к формированию особой авторской позиции у
Достоевского (в частности, им проанализированы в качестве промежуточных форм от
монологической авторской позиции к полифонической маски шута и дурака в
романной прозе, имеющих не реальное, но лишь отраженное бытие).
Полифоническая позиция автора — это результат эстетической обработки смеха и
транспонирования карнавализованных форм сознания на язык литературы. Смех в качестве
релятивизирующего средства у Достоевского снят, но не потому, что он
отказывается от цели релятивизации монологического сознания, а потому, что эта
цель достигнута в новых взаимоотношениях автора и героя ("я" и "другого"),
отражающих в превращенной эстетической форме структуру нравственной
реальности и принцип персоналистического дуализма. Релятивизация, напомним, не
самоцель, а средство, и Достоевский, опираясь на обработанные к тому времени
культурой релятивизованные формы сознания, т.е. опираясь в конечном счете
на потенции "смеха", создает новую "неофициальную" серьезность, выражающую
глубоко обоснованный, по Бахтину, протест индивидуальности против ее
растворения во всеуничтожающем пафосе абсолютного "телесного" историзма. Этот
тип серьезности, противостоя, с содержательной стороны, телесному монологизму
5 Г 129
Рабле, с другой, условно-"формальной" стороны подготовлен именно
раблезианским релятивизмом. Если Рабле ослабил напряжение в отношении "я" к его
внутренней "цели-заданности", то Достоевский разряжает критическое напряжение
в отношении "я" к "другому", к миру "данности".
Субстанцией воплощения специфики нравственного бытия стал у Достоевского,
по Бахтину, язык. Философия языка составляет массивный, детально
разработанный пласт в общей позиции Бахтина, и именно в этой области становится
яснее существо авторской позиции в полифоническом романе. Дадим краткую
формулу реконструируемой здесь общей позиции Бахтина в терминах его философии
языка.
Чистое "я-для-себя" внесловесно, это область трезвения и тишины. Язык,
по Бахтину, не является формой общения внутреннего "я" с миром заданных
ему ценностей и с Богом, язык — это субстанция взаимоотношений "я" со здешним
"другим", это привилегия внешнего "другого" и "другого-во-мне". Прямого слова
у внутреннего "я" нет, оно может лишь опираться на различные (оправданные
и неоправданные) формы имманентизированной другости. При монологической
установке "я" имманентизирует либо себя в "другого", либо "другого" в себя,
затем абстрагируется от персоналистического дуализма в категории "всеобщего
сознания", создавая тем самым иллюзию возможности говорить о другом и о себе
на едином общем языке. Репрезентативные возможности языка при этом
абсолютизируются: считается, что язык может в непосредственно направленном на предмет
слове выразить не только меня и "другого", но и суть нашего взаимоотношения,
"истину", "последнюю правду" и т.д. По Бахтину, высшие сферы смысла могут
быть выражены, но не в "прямом" слове, а через различные формы "непрямого
говорения", которые исторически складываются в русле становления прозаического
слова, в частности — в полифоническом слове Достоевского. Непрямое говорение —
это говорение не "на" языке, а "через" язык, который здесь как бы отодвинут от уст.
Бездна между "я" и "другим" трансформируется в дистанцию между мной и языком
как привилегией "другого". Автор ("я") выражает свой смысл через изображение
говорящих-"других" и через монтаж этих голосов. Автор здесь не пассивный медиум,
но событийный инициатор: он не просто вслушивается в бытие и язык в надежде
"подслушать" и выразить "последнюю истину", но приводит в контакт, оборачивает
лицом друг к другу разные бытийные "голоса", в точке соприкосновения которых,
инициированной автором, как и в точке нравственного соприкосновения двух
сознаний в бытии, и рождается искра смысла. Истина, по Бахтину, не вмещается
в одно сознание; она рождается в диалогической встрече нескольких сознаний,
она "событийна" по природе.
Это, конечно, условный каркас бахтинской философии языка, не учитывающий,
как минимум, исторического аспекта. В частности, Бахтин отнюдь не принижал
достижений монологической культуры слова: непрямое говорение — это не абсолют,
но форма, органично соответствующая новым историческим условиям
(релятивизации языкового сознания, вызванной, в свою очередь, изменениями во
взаимоотношениях "я" и "другого"), как соответствовало своим условиям и прямое
монологическое слово, предписывающее автору соблюдение жанровых и
ситуативных ограничений. Более того, Бахтин допускал, что для частных сфер культуры
в ее специализации прямое использование монологических потенций языка остается
предпочтительным при условии сознательного ограничения претензий на
окончательность и всеобщность выражаемого.
В зоне бахтинской философии языка можно также точнее выразить его отношение
к проблеме релятивизма. Уже ясно, что данный термин не имел у Бахтина
того отрицательного оттенка, который мы обычно вкладываем в это слово.
"Релятивность" в нашем негативном смысле описывалась Бахтиным в иных
координатах. В частности, при описании становления монологической линии романа
Бахтин фиксирует на одном из ее этапов образование такого своеобразного
явления, как "литературный" ("облагороженный") язык. Именно этот язык, играющий,
кстати, значительную роль и в нашей культуре, ведет, по Бахтину, к тому, что
обычно имеется в виду при негативном понимании релятивизма. Это понятие
содержит возможность полного отрешения языка от материала, т.е. формы
выражения от выражаемого и выражающего. Отсюда получила толчок к развитию
мощная в XX веке лингвистическая традиция, объединенная понятием единой
"системы языка" в ее либо идеологически нейтральном (глоссематика), либо
130
монологически окрашенном идеологическом виде (нормативный язык). Язык здесь
понимается как нейтральная к бытию, "надбытийная" стихия, в нем все
конвенционально и сглажено. Любой материал считается равно ему доступным. На нем
можно выразить все: и индивидуальное и всеобщее, причем в стилистически
единообразном ("приглаженном") виде. Остается лишь шаг до абсолютизации языка,
и он был сделан в русле второй глобальной тенденции культуры. Если эпическое,
поэтическое и, скажем, символическое слово абсолютизировалось за счет сил
"духовного" монологизма, то абсолютизация конвенционального литературного языка
шла за счет сил "телесного" монологизма. В первом случае постулируется особый
язык для выражения высшего (особого же) смысла, во втором — общий язык
для всех без исключения типов смысла. В первом случае требуется
индивидуальное нравственное и умственное усилие, во втором — лишь пунктуальное соблюдение
норм, требующее самоустранения "я" и переложения всей полноты ответственности
на язык, воспринимаемый как замещенный абстрактный образ некоего всеобщего
коллективного "другого". В первом случае в философии языка преобладает
отвлеченный идеологизм, во втором — отвлеченный формализм, в обоих случаях
формируется монологическое понятие единого языка, который отрешается и от
разноречивости реальной языковой жизни, и от персоналистического дуализма
бытия. Если при этом поэтическое и эпическое слово лишь частично релятивны,
так как сами отказываются от выражения "низких" пластов бытия, то второй
случай (конвенциональный язык) и ведет, по Бахтину, к полному релятивизму
в нашем негативном смысле этого термина, так как здесь утверждается
абсолютная граница между выражаемым и выражением. Язык становится пустой
оболочкой, направленной на выражение всего и, значит, не выражающей ничего.
Этот разрыв между языком и материалом произошел в некарнавализованной
ветви становление романного слова, преодоление этого разрыва также произошло
в русле становления романа, но уже в его карнавализованной ветви. В наиболее
полном виде этот разрыв преодолен, по Бахтину, в полифоническом романе.
Каждая идея (материал) сращена здесь со своим выражением (языком), каждый
герой имеет свой голос, свою индивидуальную интонацию, и это соответствие
не случайно и не условно, а связано с самим существом выражаемого. В отличие
от поэтического слова, также постулирующего явленность смысла в выражении,
полифония предполагает не единство исходного смысла и потому — единственность
выражения, а разнообразие персонифицированных смыслов и потому —
разнообразие их выражающих языков, вступающих в диалогический контакт и
порождающих тем самым новый смысл. Бахтин не признавал "голого" смысла, смысла
"вообще" — он во всем, даже в отвлеченной научной позиции, слышал конкретные,
мировоззренческие и даже жизненно выразительные "голоса".
Публикуемые ниже архивные материалы, кроме обогащения уже достаточно
развитых в изданных работах идей, позволяют уточнить и некоторые остававшиеся не
до конца ясными моменты бахтинской позиции. В частности, проведенный здесь анализ
творчества Шекспира расширяет наши представления о понимании Бахтиным народных
форм мировосприятия и места в становлении романного жанра Рабле и Достоевского.
Шекспир — это оппозитивная пара к Рабле: первый должен быть отнесен
к тенденции с установкой на преобладание "я", второй — к противоположной
тенденции. Если Рабле активизирует смеховой аспект народно-карнавального
мировоззрения, то Шекспир восстанавливает его трагический аспект (хотя у обоих
отражена и исходная амбивалентность народных форм восприятия мира). Этот
момент — наличие в народном мироощущении трагического аспекта — не был,
несмотря на многочисленные, но в большей мере чисто констатационные оговорки
Бахтина, отчетливо осознан в бахтинистике, где преобладает мнение о понимании
Бахтиным народных форм мировосприятия исключительно в смеховом, "снижающем"
аспекте. Что дает это уточнение для нашей попытки восстановить контуры общей
позиции Бахтина?
Граница между амбивалентными полюсами единого народного мировосприятия
проходит там же, где и граница выделенных выше глобальных тенденций культуры:
трагический полюс соответствует тенденции на преобладание "я". Трагизм
интерпретируется Бахтиным как неизбежное самоощущение индивидуальности в атмо-
5* 131
сфере "родового тела" с ее торжеством вечных смен и обновления. Имеется
в виду не столько неизбежность гибели индивидуальности (собственная смерть —
вне нравственного самосознания субъекта), сколько безвыходность ее нравственной
позиции в этой атмосфере: любое самоутверждение жизни здесь безнравственно,
всякая индивидуальная активность — преступна. В предельно жесткой форме это
звучит как неизбежность для индивида "убийства" и отца и сына. Индивид не может
здесь надеяться на освобождение от этих нравственных тисков даже в смерти:
смерть не обеспечена и там, где вечно "родовое тело", а не только в
противоположном мировосприятии с его установкой на личностное бессмертие.
В амбивалентном народном мироощущении эти два аспекта — трагический
и смеховой — не разорваны, не разведены, они являются двумя полюсами одного
и того же типа сознания. Смеховой аспект не может здесь подавить (релятивизовать)
трагический полюс сознания, так как, будучи по своей природе не онтологичным,
но модальным, он может освободить человека от всякой внешней одержимости,
но не от самого себя, не от своей амбивалентной пары: самим собой одержимым
быть нельзя (эгоизм — это не "самоодержание", а одержимость тем другим,
чьими глазами я смотрю на себя). Вероятно, в амбивалентности народного сознания
Бахтин видел прообраз освобожденного от монологизма (условно —
"полифонического") нравственного сознания, но прообраз именно структурный, а не
содержательный. Языческое по своему содержанию народное сознание, чтобы
"христианизироваться", должно, как минимум, поменять знаки на своих амбивалентных
полюсах: смеховой аспект должен быть отнесен к себе (к "я"), трагический — к "другому".
Отвращение к нравственно безысходному бытию, которое испытывает "простая"
душа в редкие моменты освобождения от "подкупленности" бытием, должно
смениться, по Бахтину, на "чистый тон любви", которого еще нет в культуре,
монологические формы которой препятствуют освобождению внутреннего "я"
от разнообразных форм одержания ("подкупленности") бытием, будь то "телесный"
или "духовный" тоталитаризм.
Шекспировские мотивы в архивных материалах дают также и новые параллели
к Достоевскому, который, в рамках исходной для него тенденции на
преобладание "я", воссоздает не только "вертикаль" Данте, но и шекспировскую
"топографическую схему" мира. Используемое здесь понятие "топографической схемы" —
это рационализированный терминологический эквивалент к понятию той "ценностной
структуры", об имманентном присутствии которой в "голосах" героев
полифонического романа мы говорили выше. Теперь уже можно с достаточной долей
уверенности утверждать, что чистой "вертикали" и чистой "горизонтали",
неприемлемым из-за их монологической однотонности, Бахтин противопоставлял
"топографическую схему" мира, совмещающую обе координаты. Топография создает
особое "объемное" единство бахтинского мира, единство его ценностных и
временных измерений. И дело тут не в банальном постэйнштейновском образе
времени как четвертого измерения пространства; бахтинская топография в ее ценностном
единстве строится на скрещении двух принципиально различных направлений
нравственных усилий субъекта: направления к "другому" (горизонталь, время-
пространство, данность мира) и направления к "я" (вертикаль, "большое время",
сфера "заданного"). Это придает миру не просто физическую и не только смысловую,
но персоналистическую объемность.
Частным следствием идеи персоналистически объемной топографической картины
мира является бахтинское понятие хронотопа как "ворот" в этот ценностно-
смысловой мир. Хронотоп — это культурно обработанная устойчивая позиция,
из которой или сквозь которую человек осваивает нравственное пространство
топографически объемного мира. Хронотоп принципиально не может быть единым
и единственным (т.е. монологическим): персоналистическая многомерность мира
ускользает от статичного взгляда, фиксирующего какую-либо одну, застывшую
и абсолютизированную его сторону. Не может, по Бахтину, обеспечить
персоналистическую объемность и диалектика, являющаяся "абстрактным продуктом
диалога", своего рода условным помещением реплик разных субъектов из,
соответственно, разных хронотопов в одно, абстрактное "всеобщее" сознание.
Рельефной иллюстрацией к топографической идее является описанная Бахтиным
в архивных материалах разница художественных методов Рабле и Шекспира:
у первого смещается сама ценностная вертикаль (ее "верх" и "низ") перед статичным
132
"взглядом" коалиционных автора и героя, у Шекспира — "те же качели", но смещается
не сама схема, а управляемое автором с помощью смены хронотопов движение
взгляда читателя по устойчивой топографической схеме: в ее верх — в ее низ, в
начало — в конец и т.д. У Достоевского же, если продолжить эту параллель, сам
взгляд, бывший ранее внеположным картине мира, помещается внутрь нее, получая
возможность передвигаться по ее внутренним — персоналистическим — осям.
Полифонический прием, отражая персоналистическую многомерность мира, как бы
воспроизводит эту многомерность во внутреннем мире читателя и создает тот
эффект, который был назван Бахтиным "расширением сознания".
Подчеркнем, однако, что наша почти метафорическая и чисто иллюстративная
по своим целям реконструкция топографической идеи Бахтина направлена лишь
на то, чтобы сфокусировать все бахтинские темы в одной точке, доказать скрытое
в самих текстах управляющее влияние этой идеи, а не на полное раскрытие
ее смыслового и религиозно-философского наполнения.
Принципиальным качеством реконструированной здесь общеконцептуальной
основы бахтинской позиции является ее открытость (как изнутри ее
содержательного наполнения, так и извне, с точки зрения ее комментирующего описания).
Внутренняя открытость связана не только с бахтинской установкой на незавер-
шимость культурного смысла как такового, на его способность возрождаться
и обновляться в "большом времени", но и с отмеченной выше исторической
амбивалентностью культивируемого Бахтиным типа исследовательского сознания.
Как неоднозначно место Рабле, так и полифонизм Достоевского не является
окончательным штрихом в бахтинской истории культуры: "непрямые формы"
говорения, персоналистическая объемность мышления и т.д. лишь подготавливают
возможные формы проникновения культуры в "нравственную реальность", но не
предсказывают смысла ожидающей там человека жизни. Бахтин вообще не ценил
исторические прогнозы за их склонность к монологической рационализации истории
и предпочитал говорить о будущем в категориях "сюрпризности" и даже "чуда".
Внешняя же, исследовательская незавершенность концептуальной основы
бахтинской позиции связана с так и не написанной Бахтиным, хотя и предполагавшейся,
философией религии. Кроме констатации факта, что Бахтин мыслил внутри
христианской традиции, возможно сделать лишь несколько более или менее очевидных
выводов, в частности, о том, что "монологизм" — это для Бахтина "языческая"
сторона европейской культуры и что его "духовная" разновидность, будучи в меньшей
степени распознана в этом своем качестве, представляет тем большее препятствие
для достижения "нравственного бытия" (спокойная благожелательность Бахтина
к язычеству раблезианского типа от того и идет, что его резкие опровержения
ведутся, по Бахтину, с не менее "языческих" позиций). Для язычества, по Бахтину,
характерна склонность к восприятию как "готового" не только бытия (это
неокантианский импульс бахтинской мысли), но и оценка как окончательно-
завершенных, "готовых" всех познавательных квалификаций этого бытия и, главное,
той позиции, из которой производится эта оценка, т.е. возведение ее в ранг
монологически всеобщего сознания (это уже антикантианский мотив). Именно последнее
чревато, по Бахтину, тем, что можно назвать "смысловым пантеизмом", т.е. своего
рода фетишизацией как самих абстрагированных от своего хронотопического
и личностного источника смысловых категорий, так и, одновременно, фетишизацией
форм их выражения, в частности — языка. Возможно также предположить некоторую
близость Бахтина к исихазму. Однако собственно "позитивная" сторона
религиозной позиции Бахтина остается во многом неясной (в частности, практически
нет данных для реконструкции бахтинского понимания сферы отношения "я-для-
себя" к Абсолютному Другому). Определенные надежды остаются на полную
публикацию архивных материалов, но в целом — восстановление смыслового
объема религиозной философии М.М. Бахтина потребует уже не "реконструкции"
и "комментария", но — диалогического сотворчества (неизбежность которого
для каждого "понимающего" постоянно подчеркивалась М.М. Бахтиным) и прежде
всего — разгадки "тайны" бахтинского историзма, по-своему обновляющего
фундаментальную для христианства проблему сложного переплетения в нем
различных типов исторического сознания.
133
От публикатора*. "Дополнения и изменения к Рабле" — черновик, полностью написанный
рукою М.М. Бахтина. Это — 13 двойных листов (52 стр.) размером 30X21, сильно
пожелтевших, с обтрепанными краями, с небольшими утратами. Текст воспроизводится полностью,
но без помет на полях, преимущественно относящихся к более позднему времени. Круглые
и квадратные скобки принадлежат автору, угловые — публикатору; авторские
подчеркивания выделяются курсивом и полужирным шрифтом. В отдельных случаях сохраняется
орфография и пунктуация автора: "на изнанку", например, или "на всегда". Текст хранится в
архиве Бахтина, принадлежащем наследникам. В оригинале текст не подписан.
Первая попытка опубликовать труд М.М. Бахтина о Франсуа Рабле была предпринята
его друзьями в конце 1940—начале 1941 гг. Тогда предполагалось, что книга может быть
напечатана в Ленинграде. В архиве Бахтина хранится часть его переписки по этому поводу
с А. А. Смирновым, крупным специалистом по истории западноевропейской литературы,
профессором Ленинградского университета. Сам Бахтин в это время живет на ст.
Савелово Ярославской ж.д., практически без средств, без постоянной работы, связывая
возможность продолжения научной работы с изданием книги о Рабле.
Вторая попытка относится как раз к 1944 году, т.е. ко времени создания публикуемого
текста. Но этот раз появляется надежда издать книгу о Рабле в Москве. Основные хлопоты
берет на себя Б. В. Томашевский; он, а чуть позже и А. А. Смирнов рецензируют рукопись для
московского Литиздата. В конце 1944 года ситуация представляется еще благоприятной,
но уже в феврале 1945-го все меняется. На прямой вопрос Бахтина о причинах неудачи
Смирнов отвечает так: "Думаю, что причины две: возможно, что они все же побоялись специфики
некоторой части материала, хотя и не хотят в этом признаться. Но еще важнее второе —
что приняли к изданию <...> книжонку о Рабле Е. Евниной из Инст. Мировой Литературы,
а две книги о Рабле пустить в один год они не решаются ".
Книга М.М. Бахтина о Рабле была напечатана, как известно, в 1965 г. "Дополнения и
изменения" лишь в очень небольшой степени использованы автором при подготовке этого
издания.
Опубликованный целиком текст позволяет получить некоторое представление и о
психологии творчества мыслителя, который не любил раскрывать себя в своих произведениях.
Комментарий к тексту по необходимости представляется делом будущего: сектор теории
литературы ИМЛИ им. A.M. Горького готовит сейчас Собрание сочинений М.М. Бахтина
в 6 томах.
Дополнения и изменения к «Рабле»
М.М. БАХТИН
18/VI 44 г.
К истории смеха (гл. II). Смех и зона контакта с незавершенным
настоящим. Смех впервые открывает современность, как предмет изображения.
Фамильяризация мира, предпосылка бесстрашия подготовляют
исследовательскую установку в отношении к миру и свободный опыт. Прошлое (в да-
левом образе) не может быть предметом смеха. Смех и будущее. Открытие
личного бытового и мемуарного.
Экскурсы: 1. Рабле и Гоголь; 2. значение менипповой сатиры в истории
романа.
Современность ("моя современность") — объект брани по преимуществу.
Современность, наше время всегда бранят, это стало ходячим речевым
штампом. Достаточно ознакомиться с отзывами современников величайших эпох
(по журналам, мемуарам, дневникам), чтобы убедиться, что тогда современ-
*Для журнала публикуемый текст подготовила Л.С. Мелихова.
134
ность только бранили (во времена Пушкина современники жаловались на
отсутствие литературы). Официальный характер чистой хвалы.
Однотонность и одностильность всего официального. "Веселое бесстрашие"
в известной мере тавтология, ибо полное бесстрашие не может не быть
веселым (страх — конститутивный момент серьезности), а подлинная веселость
не совместима со страхом. Бесстрашный образ = веселый образ (смеховой).
Фонд этих бесстрашно-веселых образов — народно-праздничное веселье,
фамильярная речь, жестикуляционный фонд (вот где нужно искать этот фонд
бесстрашно веселых образов, а не в официализованной системе хмурого мифа;
трагедия плюс сатирова драма восстановляют амбивалентность и цельность
народного образа).
Реальное физическое заражение (причастие) родовым человеческим и
национально-народным ("наши") бесстрашием в карнавальной толпе.
Веселое бесстрашие как предпосылка познания (новое понятие
вылупливается из сократического диалога).
"Пентеево рагу" и комический Дионис (брат Жан).
Две линии развития менипповой сатиры; одна из них — однотонно-ок-
сюморная — завершается Достоевским.
Официализация образа и связанная с нею однотонность его. Образ из
амбивалентной сферы переводится в чисто серьезный план, становится одно-
смысленным, черное и белое, положительное и отрицательное разделяются и
противопоставляются. Это — процесс затвердевания новых границ между
смыслами, явлениями и вещами мира, внесение в мир момента устойчивости
(стабилизация новой иерархии), увековечивания (канонизации); это — процесс
осерьезнения мира (его образов, мыслей о нем, оценок его), внесение в него
моментов угрозы, устрашения, страха. Но этот процесс затвердевания и
осерьезнения образов мира совершается только в официальных сферах, но
эта официализованная культура — островок, окруженный океаном
неофициального.
Физический контакт, контакт тел, как один из необходимых моментов
фамильярности. Вступление в зону физического контакта, в зону
господства моего тела, где можно тронуть руками и губами, можно взять, ударить,
обнять, растерзать, съесть, приобщить к своему телу, или быть тронутым,
обнятым, растерзанным, съеденным, поглощенным другим телом. В этой
зоне раскрываются все стороны предмета (и лицо и зад), не только его
внешность, но и его нутро, его глубина. Это зона пространственно-временная.
Кроме серьезности официальной, серьезности власти, устрашающей и
пугающей серьезности, есть еще неофициальная серьезность страдания,
страха, напуганности, слабости, серьезность раба и серьезность жертвы
(отделившейся от жреца). Особая наиболее глубокая (и в известной мере
свободная) разновидность этой неофициальной серьезности. Неофициальная
серьезность Достоевского. Это — предельный протест индивидуальности
(телесной и духовной), жаждущей увековечения, против смены и
абсолютного обновления, протест части против растворения в целом, это —
величайшие и обоснованнейшие претензии на вечность, на неуничтожимость
всего, что однажды было (непринятие становления). Вечность мгновения.
Чистое проклятие, которое должно смениться в финале чистой хвалой
(осанной).
Мудрость обезличивающего целого у Толстого (Ерошка, Платон
Каратаев и др.). Однотонность амбивалентности и Гете (он считал, что только
в стихах можно выразить противоречивую амбивалентность, так как не
владел смеховой алогической прозой).
Не осанна, а гомеровский "вечный (неуничтожимый) смех" богов.
Фауст народного романа и Фауст Гете. Образ Фауста народного романа
родился (как чертёнок Пантагрюэль) из неофициальной, фамильярной, чер-
135
тыхающейся, всепрофанирующей (амбивалентно-кощунственной) стихии
средневековой студенческой богемы, это — верный бурш с головы до ног,
кутила-сквернослов (вроде брата Жана), внеиерархическая личность
фамильярного общения, для которой нет ничего святого и заветного,
порождение карнавально-масленичных шуток и мистификаций, и космизм его —
карнавально-масленичный. В основе образа и сюжета лежит реализованное
ругательство — "чорт побери!" (христианизованная однотонная форма
благословляющего проклятия, пожелания обновляющей смерти).
Реализованная брань лежит и в основе романа Рабле и в основе спусков в
преисподнюю. Это — мениппова сатира, переведенная в однотонный регистр. Смех
Мефистофеля. Пережиток парности (двутелости) образа. Своеобразное
использование парности в сцене любовного свидания Фауст — Гретхен,
Мефистофель — Марта (то появляется лицо, то зад, хождение колесом).
Мениппова сатира и здесь оказывается ведущей к первофеномену романа.
Термин "мениппова сатира" так же условен и случаен, так же несет на себе
печать одного из второстепенных моментов своей истории, как и термин
"роман" для романа.
Все такие мировые образы, как Фауст (и органически связанные с ними
сюжеты и типы построения целого произведения, т.е. жанровой
разновидности), должны быть пересмотрены в свете народно-праздничной,
карнавальной подосновы мировой литературы. Их анализ окажется несравненно
сложнее, их смысл несравненно глубже и, так сказать, предельнее в свете
их подлинной традиции и ее сложной истории. Здесь — противоборство
амбивалентных хвалебно-бранных образов, охваченных процессом официа-
лизации, переводимых в однотонный (и односмысленный) регистр,
характерный для последних веков европейской культуры.
["Мир вечный праху твоему". Представление о мире, вечности,
небытии и уничтожении. Случайность, ничтожность уничтожения и смерти;
ничего нельзя сказать; смерть — что-то преходящее и в сущности ничего не
говорящее, нет никаких оснований для ее абсолютизации; абсолютизируя
ее, мы превращаем небытие в дурное бытие, отсутствие — в дурное
присутствие; смерть во времени и она временна, ибо мы знаем ее действие
только на самом маленьком отрезке времени и пространства (плоти <пир>,
коробка-воровка).]
Характерная для менипповои сатиры (и всех ее порождений) тяга к
предельности, к космизму, к последнему целому, ее топографизм, ее вражда к
среднему, среднетипическому, натурально-реалистическому
(ординарно-среднее, не исключительное не имеет права появляться за рампой).
Сделать образ серьезным значит устранить из него амбивалентность и
двусмысленность, нерешенность, готовность изменить свой смысл,
вывернуться на-изнанку, его мистифицирующую карнавальную сущность, значит
остановить хождение колесом, кувыркание его, отделить лицо от зада
(остановить в момент, когда лицо находится на первом плане), отделить
хвалу от брани, обрубить все выходящие за его пределы отростки и
ответвления.
Идея неискупимости и непоправимости у Достоевского и ее
художественное значение.
Связанное с осерьезнением отделение смерти от жизни, хвалы от брани,
объявить устойчивым и неизменным. Слияние в быстром кружении лица и
зада и в быстром качании (подъеме-падении) — верха и низа (неба и
преисподней). Остановить кружение и взлеты-падения, поставить на ноги лицом к
публике. Праздничность образа, его изъятость из прямолинейности
практической серьезности жизни и продиктованных этой серьезностью норм и
запретов.
Необходимо найти новый миросозерцательный подход к хвале и брани
136
как к исключительно важным миросозерцательным, культурным и
художественным категориям. Их роль в создании образа человека. История
хвалебного (прославляющего) слова и история брани (посрамляющего слова).
Фольклорные корни того и другого. Хвалебно-бранное прозвище.
Самопрославление восточных деспотов и богов в истории хвалы.
Апологетика загробных молитв. Формы увенчаний (героев, императоров).
Формы монументализма и героизации. Ощущение могущества и силы
(власти) как конститутивный момент их. Отношение к врагам. Философия
хвалы (и прославления). Момент увековечивания и неизменности,
тождественности (враждебный смене); роль памяти. Отношение прославления к
прошлому (отцам) (мотив брани — убийство отца); эпическое прославление.
Отношение хвалы к смерти. Хвала (прославление, увенчание) и идеализация,
сублимация. Топографический момент хвалы (высота, верх, даль, лицо,
перед). Отношение к размеру (большой, увеличение, в противоположность к
уменьшающей хуле). Гиперболизм и его двоякое значение. Роль и значение
превосходной степени, ее типы и разновидности. Именно здесь, в области
чистой хвалы создавались формы завершенной и глухой индивидуальности,
преодолевалась двутелость.
Жажда славы и увековечения в памяти потомков, своего имени (а не
прозвища) в устах людей; забота о своем памятнике. Говорящие камни.
Почему придаем мы такое значение категориям хвалы и брани? Они
составляют древнейшую и неумирающую подоснову основного человеческого
фонда языковых образов (серьезных и смеховых мифов), интонационного
и жестикуляционного фонда (обертоны индивидуализованной и
экспрессивной интонации и жестикуляции), они определили основные средства
изображения и выражения (начиная с материала). Они определяют топографию
мира и топографическую акцентуацию, проникающую весь образный и
жестикуляционный фонд (т.е. основные архитектурные формы, а не поверхностный
орнамент на них) — верх, низ, зад, перед, лицо, изнанка, нутро,
внешность и т.п. Обертональный характер всего того, что кажется нейтральным
к хвале и брани, что определяет меняющиеся направления и стили
(классицизм, романтизм и т.п.), что только поверхностно перекрывает и вуалирует,
как орнамент в архитектуре, основное движение больших (несущих)
архитектурных форм (ведь орнамент не участвует в их движении, он не несет
тяжестей, не выдерживает сопротивления).
Победы, титулы, награждения, — все то, что определяло и определяет
жизнь, что строит (иерархический) образ человека.
Миф о загробном суде и его громадная формообразующая роль в
истории создания образа человека. Устрашение как необходимый момент
монументального стиля. Подчеркивание иерархической бездны между
человеком и человеком (властителем и трепещущими рабами). Самоутверждение
неотделимо от уничтожения врагов, возвеличение неотделимо от принижения
всех остальных людей.
Проблема хвалы-прославления у Шекспира: подавляющее и
уничтожающее самоутверждение в "Короле Лире", "Ричарде III" и в "Макбете".
Продление жизни (сверх положенного ей предела) и увековечивание ее возможно
лишь ценою убийства (в пределе — убийства сына, убийства детей, мотив
избиения младенцев); амбивалентное дополнение к отцеубийству. Проблема
замещения-смены (смерть отца, наследство). Проблема увенчания-развенчания
у Шекспира (вообще проблема венца).
Жестокость и пролитие крови как конститутивный момент силы и жизни.
Однотонное (не карнавальное) растерзание, не ритуальная (или
полуритуальная, без возрождения и обновления) жертва.
Нас захватывают и поражают именно основные тона Шекспира, но
осознаем, осмысливаем и обсуждаем мы пока только обертоны. (Макбет на
137
уровне современной криминалистики, Лир и феодальные представления о
делимости государственной территории). Макбет не преступник, логика всех
его поступков — необходимая железная логика самоувенчания (и шире —
логика всякого увенчания, венца и власти, и еще шире — логика всякой
самоутверждающейся и потому враждебной смене и обновлению жизни). Начинает
Макбет с убийства отца (Дункан — замещение отца: он родственник, он
седой и т.п.), здесь он — наследник, здесь он приемлет смену; кончает он
убийством детей (замещение сыновей), здесь он — отец, не принимающий
смены и обновления (развенчания). Это — надъюридическое преступление всякой
самоутверждающейся жизни (implicite включающей в себя как свой
конститутивный момент убийство отца и убийство сына), надъюридическое
преступление звена в цепи поколений, враждебно отделяющегося, отрывающегося от
предшествующего и последующего, мальчишески попирающего и
умерщвляющего прошлое (отца, старость) и старчески враждебного будущему (к сыну,
к юности), это — глубинная трагедия самой индивидуальной жизни,
обреченной на рождение и смерть, рождающейся из чужой смерти и своею смертью
оплодотворяющей чужую жизнь (если здесь можно говорить о психологии,
то о глубинной психологии самой жизни, психологии индивидуальности, как
таковой, психологии борьбы сомы и плазмы в душе человека). Но эта трагедия
(и преступление) самой индивидуальной жизни вложена в потенцирующую
форму трагедии венца-власти (властитель, царь, увенчанный — предел и
торжество индивидуальности, венец ее, реализующий все ее возможности); и здесь
все поступки Макбета определяются железной логикой всякого увенчания и
всякой власти (враждебной смене), конститутивный момент ее — насилие,
угнетение, ложь, трепет и страх подвластного и обратный, возвратный страх
властителя перед подвластным. Это — надъюридическое преступление всякой
власти. Это — первый глубинный план образов (ядро их); но трагедия
индивидуальности и потенцирующей ее власти вложена в трагедию узурпатора,
т.е. властителя-преступника (это уже юридическое преступление); здесь уже
железная логика преступления (не случайного преступления) и психология
(в обычном смысле) преступника. Юридическое преступление (перед людьми и
общественным строем) необходимо, чтобы раскрыть (эксплицировать), ак-
туализовать (вызвать из глубин бессознательного) и конкретизовать глубинное
преступление (потенциальную преступность) всякой самоутверждающейся
индивидуальности, всякой рождающейся и умирающей жизни (другой жизни,
жизни вечной, мы не знаем и только постулируем и должны постулировать
ее). Усмиренный законом человек, т.е. не преступник, volens-nolens принимает
смену, резиньирует перед законом смены, его поступки определяются страхом,
его мысль и слово подчинены цензуре сознания; он терпеливо дожидается
смерти отца, искренне ее боится и оплакивает ее, искренне любит
сына-наследника (и преемника) и искренне живет для сына; такой человек не годится
в герои трагедии, он не актуализует глубин, скрытых за нормальным (т.е.
обузданным и усмиренным) ходом жизни, не может раскрыть внутриатомных
противоречий жизни. Существенная формообразующая роль преступления в
литературе (особенно наглядно у Достоевского). Поэтому трагедия (и
преступление) всякой власти (т.е. и самой законнейшей) раскрывается на образе
узурпатора (преступного властителя). Это — второй план образов Шекспира.
Далее идет третий план, конкретизующий и актуализующий образы уже в
разрезе его исторической современности (этот план полон намеков и аллюзий);
этот план непосредственно сливается, переходит в орнамент (всякие
фиктивные, нарисованные и барельефные, не несущие никакой тяжести колонны,
фиктивные окна, ложное, не соответствующее действительному движению
архитектурных масс, движение орнаментальных линий и т.п.), смягчающий и
вуалирующий соотношение сил и движение основных архитектурных форм.
[В новых драмах, наприм. драмах Ибсена, все дело в орнаменте (почти зло-
138
бодневном к тому же), налепленном на картонный, бутафорский и лишенный
всякой архитектурной сложности каркас] Шекспир — драматург первого
(но не переднего) глубинного плана. Поэтому он мог брать любые сюжеты,
любых времен и народов, мог переделывать любые произведения, лишь бы
они были хотя бы отдаленно связаны с основным топографическим фондом
народных образов; он актуализовал этот фонд; Шекспир космичен, пределен
и топографичен; поэтому его образы — топографичные по природе своей —
способны развить такую необычайную силу и жизненность в
топографическом и сплошь проакцентуированном пространстве сцены. [Наша сцена —
пустой ящик без топографии и акцентов, нейтральный ящик; в нем могут жить
только образы второго и третьего плана, жить мелкой, жидкой, далекой от
всяких пределов жизнью, на этой сцене можно только суетиться, но не
существенно двигаться <вперед, назад, вверх и вниз — только практически
осмыслены вещами так, а не иначе поставленными>*, ее пустоту и безакцент-
ность приходится загромождать натуралистическими декорациями,
реквизитами и аксессуарами.]
Все существенное у Шекспира может быть до конца осмысленно только
в первом (топографическом) плане. Здесь осмысливается то, что у Макбета нет
ни отца, ни детей (переход из второго плана в первый), что он довлеет себе;
здесь осмысливается и мотив "нерожденного женщиной" (Кесарева
сечения) и др.
Другие стороны той же проблемы в "Короле Лире". Самый сюжет
замечателен: передача наследства при жизни, умереть до смерти, подглядеть свою
собственную посмертную судьбу, произвольная (а не добровольная)
преждевременная смена (своего рода самоубийство), наивное неверие в то, что
дети-наследники по природе своей убийцы отца (почему здесь дочери,
восполненные сыновьями в параллельной истории Глостера), попытка
проверить это; испытывая их "благодарность" (наивно веруя в истинность
поверхностной подцензурной логики чувств, мыслей, слов, в подцензурную,
хотя бы и искреннюю, любовь и уважение, пиетет к отцу детей,
подцензурную преданность и пиетет подданных), он сам дает им в руки оружие для
убийства. Ослепленный властью царя и отца, он всерьез принимает созданную
собственной же властью и устрашением подцензурную ложь детей и
подданных; он проверяет незыблемость поверхностной (внешней) подцензурной
иерархии, проверяет официальную ложь мира (дети и подданные любят и
уважают царя и отца, облагодетельствованный благодарен благодетелю
и т.п. официальные истины); он терпит крушение, мир выворачивается на
изнанку, он впервые коснулся подлинной реальности мира, жизни и человека.
Проблема венца и властителя здесь глубже, мудрее и сложнее раскрыта, она
здесь менее однотонна, чем в "Макбете", здесь все проникнуто народной
амбивалентной мудростью сатурналий и карнавала. Тема безумия.
Другие стороны той же проблемы в "Цезаре" и в хрониках. Но
исключительна сложность ее постановки в "Гамлете". Ложная игра сил в орнаменте
здесь глубоко завуалировала действительное движение основных
архитектурных масс. Это — сдвинутый, смещенный "Царь Эдип": Креонт (если бы он был
братом Лая) убил отца Эдипа и женился на его матери; что делать Эдипу,
который знает, что потенциальный, подлинный, убийца по природе — он;
вместо него убил другой; мститель здесь оказывается убийцей-соперником
(сопоставление с Достоевским: кто из братьев действительно хотел убить и
кто действительно убил). Месть за отца оказалась бы на самом деле просто
устранением соперника: не ты должен был убить и наследовать, а я. Измена
матери. Офелия оказывается потенциальной заместительницей матери на кро-
*В оригинале здесь — вставка автора, вероятно, недостаточно согласованная с
первоначальным текстом. (Л.М.)
139
восмесительном ложе (в образе женщины мать и любовница слиты, одно и то
же лоно и рождает и оплодотворяется в coitus'e). Гамлет не принимает
отцеубийственной роли наследника. Убив Клавдия (который тоже ведь
разыгрывает любящего отца), Гамлет должен погибнуть и сам, как соубийца
(потенциальный). Преступление заложено в самую сущность самоутверждающейся
жизни, и, живя, нельзя не запутаться в нем. Как и Лир, Гамлет
соприкоснулся с подлинной реальностью мира, жизни и человека; вся система
официального добра, правды, пиетета, любви, дружбы и пр. — рухнула. Глубоко
наивно сводить все это к психологии нерешительного, заеденного
рефлексией или чрезмерно щепетильного человека. Сместились и слились верх и низ,
перед и зад, лицо и изнанка, но это раскрывается в однотонном
трагическом плане. Такова жизнь. Она преступна по своей природе, если ее
утверждать, если упорствовать в ней, если осуществлять ее кровавые задачи и
настаивать на своих правах, следовало бы покончить самоубийством, но и смерть
сомнительна. Но и здесь время от времени звучат освобождающие тона
сатурналий и карнавала. [Для идеолога последних четырех веков
европейской культуры характерна смесь детской наивности с лукавым шарлатанством,
иногда к этому присоединяется своеобразная духовная одержимость. Любить
и жалеть одинокое и покинутое, наивно-жалкое бытие и с беспощадной
и бесстрашной трезвостью всматриваться в окружающую его холодную
пустоту.]
Влияние народной хвалы и народной площадной рекламы на жанр "о
собственных произведениях" (рекламирование продукции) и вообще на формы
официальной однотонной хвалы.
Основные перипетии как в "Царе Эдипе", так и в "Гамлете"
определяются выяснением вопроса, кто же убил; необходимо найти убийцу, чтобы
спасти Данию от несчастья (чумы); тень отца соответствует оракулу.
К "Макбету".
"fair is foul and foul is fair" (прекрасное — дурно, а дурное — прекрасно).
(Действ. I, сцена I, заключительное двустишие — первая его строка — ведьм).
Боденштедт замечает, что слово "bloody" (кровавый) встречается почти на
каждой странице "Макбета".
Сцена 3 (диалог ведьм): 1-ая ведьма: где ты была, сестра? 2 ведьма: душила
свиней. 3 в.: сестра, откуда ты? 1 в.: у жены моряка были каштаны в переднике,
она чавкала (mounch'd), чавкала, чавкала. — "Дай мне", — сказала я. —
"Убирайся, ведьма", — крикнула туша, откормленная огузком. Муж ее
отплыл в Алеппо капитаном Тигра, а я поплыву бесхвостой крысой за ним в
решете. Поплыву, поплыву, поплыву! ...Я иссушу его, как былинку; сон не
отяготит его век ни днем, ни ночью. Будет он жить проклятым человеком.
Девятью девять недель будет он чахнуть, хиреть и томиться Смотрите,
что у меня! ...Большой палец матроса, утонувшего, когда он возвращался
домой. ...Все три: Рука в руку, роковые сестры, что разносят гибель по
земле и по морю. Кружитесь, кружитесь! Трижды тебе и трижды мне и
трижды еще, чтобы вышло девять...
Макбет, входя, говорит (та же 3-я сц.): "So foul and fair a day I have not seen"
(такого плохого и прекрасного дня я никогда не видал).
Сц. 4: Кавдорский тан, по словам Малькольма, умер спокойно "as one that
has been studied in his death" (как человек, который изучил смерть). Изучение
уничтожает страх.
Сц. 4: Слова Дункана: "я начал тебя садить и буду работать, чтобы ты
пополнел от роста" (обращение к Макбету).
Слова Банко в ответ на объятия Дункана: "если я вырасту здесь (т.е. на
груди Дункана), то жатва будет ваша".
Слова Дункана: "моя полная радость, своевольничая от избытка, хочет
скрыться под каплями печали" (амбивалентность).
140
Его же слово о Макбете: "in his commendation I am fed. It is a banquet to me"
(хваля его, я питаюсь; это пир для меня).
Непристойные шутки привратника (шута) в 1-ой сц. П-го действия
непосредственно следуют за трагической сценой убийства Дункана; это —
надгробные шутки. В "Ромео и Джульете" после мнимой смерти Джульеты в ее
комнате появляются музыканты и шутят в присутствии тела умершей.
Lie — лгать и lie — лежать; у Шекспира обычная игра слов с этими
омонимами.
Действие 3, сц. 4: слова Макбета к призраку Банко: во избежание восстав
ния мертвецов из могил, он желает им быть исклеванными коршунами и
орлами, которые, скрыв в себе их тела, сделаются для них как бы
надгробными монументами.
Д. IV, сц. 3: Малькольм: "I should pour the sweet milk of concord into hell"
(я вылил бы сладкое молоко мира в ад).
Там же Макдуф о благочестии матери Малькольма: "She died every day she
lived" (она умирала каждый день, пока жила).
Макбет занимает место живого (как он думает) тана Кавдорского. "Но тан
Кавдора жив!., зачем же облекаете меня в чужую вы одежду?"
Он хотел бы, чтобы венец достался ему без его активности (неизбежно
преступной). По поводу устранения Малькольма (как законного наследника)
он говорит:
"Поступков злых невольно глаз боится...
Но если б мог поступок сам свершиться!"*
Призрак Банко занимает место Макбета на пиру. Через всю трагедию
проходит борьба живого с мертвыми, чье место в жизни занимает живой.
В образах (сравнениях, метафорах и др.) Шекспира всегда даны оба
полюса — и ад и рай, ангелы и демоны, и земля и небо, жизнь и смерть, и верх и
низ (они амбивалентны тематически, но не по тону); они топографичны;
они космичны, в их игру вовлекаются все стихии мира, вся вселенная.
Образ у Шекспира всегда чувствует под собою ад, а над собою — небо (т.е.
действительную топографию сцены), он глубоко топографичен и пределен.
Сравнения его или материализуют-отелеснивают (телесная топография) или окос-
мичивают (мировая топография) явление, раздвигают его до пределов мира,
от полюса до полюса, игру их сводят к игре стихий (как у Эсхила), все
малое они раздвигают до большого, предельного (в отл<ичие> от сравнений,
где оба члена одинакового размера). Примеры:
Макдуф: "Вставайте все! стряхнете ваш
На смерть похожий сон: здесь перед вами
Сон смерти настоящей! Образ верный
Последнего суда! — Малькольм и Банко!
Зову я вас, как мертвых из могил.
Чтоб с лицами, страшнейшими чем лица
У Мертвецов, явились вы сюда
Смотреть на этот ужас! ("Макбет" Д. II, сц. 3).
Макбет: О, если б умер
За час я перед этим — встретил я
Тогда бы смерть с восторгом!.. Что же верно,
Что свято после этого? Весь мир
Один обман!... (там же)
Леди Макбет:
"Приди, о ночь! — обволоки себя
Чернейшей адской мглой, чтоб острый нож
♦Против этой строки справа пометка рукою М.М.: (Иван Карамазов). (Л.М.)
141
Мой не видал готового удара
И чтоб прорвать завесу тьмы не мог
Небесный свод внезапным громким криком:
"Остановись!..'\(Д. I, сц. 5).
Макбет: Смерть его
Должна наполнить громким звуком трубы
Архангелов, чтобы проклясть навек
Презренного убийцу! Состраданье
На крыльях урагана, как младенец,
Вскочивший на ретивого коня,
Иль херувим, несущийся по вихрю,
Поступок бросит страшный мой в глаза
Вселенной всей и сделает, что слезы,
Пролившись хлябью волн, в себе потопят
Тот вихрь и ураган!.. (Д. I, сц. 7).
Макбет: Теперь полмира
Объято сном, как смертью; злые грезы
Тревожат сон людей....
... Не выдай же, земля,
Моих шагов, куда бы их направить
Ни вздумал я!.. Не возопите, камни,
От ужаса
Будь глух, Дункан! не слушай этот звон,
В рай или в ад тебя отправит он!... (Д. II, сц. 1).
Леди Макбет говорит, что она сама бы убила Дункана, если бы во сне он
не был так похож на ее отца.
Бывают эпохи, когда дети угнетают и убивают отцов (ренессанс, наша),
и эпохи, когда, наоборот, отцы угнетают и умерщвляют детей (все
авторитарные эпохи).
Через все трагедию проходит также игра: жизнь — сон — смерть.
Макбет в Д. V, сц. 3 предлагает врачу вылечить государство и сунуть нос
в мочу государства.
Макбет: Поздней бы должно
Ей умереть! Для этаких известий
Всегда найдется время! — Завтра, завтра!..
Все завтра без конца, и так плетется,
Чуть видным шагом, время до минуты,
Когда сказать придется нам: "прощай"
Всему, что было — и глупцы не видят,
Что все, чем занимались мы вчера,
Служило только факелом, светившим
В пути к могиле нам!.. Прочь, глупый факел!..
Довольно ты горел! Вся наша жизнь —
Пустая тень! актер, что корчит рожи
На гаерских подмостках!.. Минет час
И нет его! Жизнь — сказка, что бормочет
Глупец другим глупцам!.. Из всех он сил
Старается занять их, иль встревожить.
И ничего в конце не выйдет, кроме
Глупейших пустяков. (Д. V, сц. 5).
Эти и подобные обобщения касаются не только жизни преступника, а
всякой человеческой жизни.
В известной мере "Макбета" можно назвать и трагедией страха (страха,
свойственного всему живому). Нет обеспеченности в жизни, нет спокойного
(и вечного) обладания. Всякая активность преступна (в пределе это всегда
убийство). Идеал — внутриутробное состояние.
142
К "Отелло".
Ночь с адом сговорится,
Чтоб мог на свет скорее он (план Яго) родиться. (Д. I, сц. 3).
В разговоре Дездемоны с Яго о женщинах, Яго дает образ женщины в духе
готического реализма (но без положительного полюса). Снижающие
сравнения в речи Яго. "Кажется губы с руками опять складываются в поцелуй".
"Желаю твоим пальцам (Кассио в момент свидания с Дездемоной,
подозревая поцелуй — губы и руки) быть клистирными наконечниками" (Д. II, сц. 1).
Отелло: Как я дивлюсь, как счастлив я, что вижу
Тебя уж здесь!.. Блаженство моих дней!..
Когда б всегда нас ждал, за бурным вихрем,
Такой покой — пусть пробудил бы ветер
Смерть яростью! пусть мой корабль взлетал бы
До облаков! пусть до вершин Олимпа
Плескали б хляби вод и вновь свергались
До глубины, на столько же далекой
От неба как и ад!.. О, если б смерть
Пришла теперь сразить меня — сказал бы
Я ей в лицо, что умираю в самый
Блаженный миг!.. (Д. II, сц. 1).
Яго говорит о том, что англичанин перепьет всякого (амбивалентная
хвала). (Д. II, сц. 3.)
Снижающие шутки музыкантов в начале Ш-го действия: место духовым
инструментам под хвостом.
В речах трагических (высоких) героев (наприм., Отелло) преобладают
образы космической топографии (земля, небо, ад, рай, жизнь, смерть, ангел,
демон, стихии); в речах же шутов (привратник в "Макбете") и таких героев,
как Яго, преобладают образы телесной топографии (лицо — зад, совокупление,
зверь о двух спинах, еда, питье, постель, испражнение и т.п.), т.е. снижающие
образы.
Проблема жеста в Шекспировском театре. На сцене, топографичность
которой ощущается, жест неизбежно сохраняет какую-то степень топографи-
чности (символичности), так сказать показывает на верх и них, на небо и
землю (как при клятвах, вообще при ритуальных жестах), экспрессивный
(в нашем смысле) психологический жест вписан в оправу топографического
жеста (ведь и слова облекают переживания героя в топографические образы,
а не в поясняющие сравнения в новом духе); ведь и комната (дворец,
улица и т.п.), в которой действует<,> жестикулирует герой, не бытовая комната
(дворец, улица), ведь она вписана в оправу топографической сцены, она на
земле, под нею ад, над ней небо, действие и жест, совершаясь в комнате,
совершаются одновременно в топографически понятой вселенной, герой все
время движется между небом и адом, между жизнью и смертью, у могилы.
Бытовая реалистическая декорация стирает все следы топографичности, в ее
условиях шекспировский жест вырождается, а словесные топографические
образы начинают звучать почти комически. Топографический жест особенно
ясен в комическом (смеховом) театре и до сих пор еще жив в балагане и на
цирковой арене (в ином плане — в церкви); спуск комических героев в
преисподнюю.
В топографических сравнениях и образах Шекспира мы прощупываем
логику клятв, проклятий, ругательств, заклинаний, благословений.
Отелло: Когда ее
Ты оболгал!.. Когда такую пытку
Зажег во мне — так не молись же больше!
Забудь на век, что совесть есть в сердцах!
Твори дела, каких страшней и хуже
143
На свете нет! Как горы громозди
Ряд ужасов! Заставь заплакать небо
И вздрогнуть шар земной! — Ты не прибавишь
Ни атома к жестокому проклятью,
Какое ждет тебя! (Д. III, сц. 3).
Отелло: О, для чего не сорок тысяч жизней
Дано мерзавцу этому! — одной,
Чтоб мстить ему, мне мало!.. Правда все!..
Сомнений нет! Взгляни сюда: подул*
На воздух я — исчезла с этим вздохом
Моя любовь! Месть черную зову я
Из адских недр! Пусть свой венец и трон
Любовь отдаст неукротимой злобе!
Грудь разорвись!.. Гнетешь меня ты ядом
Змеиных жал!.. (Там же)
Эмилия: Не в год, не в два узнаем
Мужчину мы! Ведь мы для них лишь корм!
Готовы съесть они нас с голодухи,
А сыты раз — так палец в рот и вон! (Д. III, сц. 4).
Отелло: О, дьявол! Если б стала
Беременной земля от этих слез,
То каждою слезинкой в ней бы зачат
Был крокодил! (Д. IV, сц. 1).
Отелло: Что сделала? — На небе отврагят
От дел таких лицо! Луна сокроет
От них свой взгляд! (Д. IV, сц. 2)
Отелло: Преддверница, что занимаешь должность
Обратную со стражем райских врат —
Стоишь у адской двери ты... (к Эмилии) (там же)
Отелло: О пытки час! час мук невыразимых!
Покрылись тьмой и солнце и луна
В глазах моих!.. Дрожит весь мир!.. Готов
От ужаса распасться он в обломки! (Д. V, сц. 2).
Отелло: Сюда, сюда, рой демонов! гоните
Меня от глаз небесной чистоты!..
Пусть буду я развеян бурным вихрем!
В поток огня низвергните мой прах!
Туда, туда! в поток горящей серы!
Где дым и смрад... Мертва ты Десдемона!
Мертва!., мертва!.. О!... (Д. V, сц. 2).
Трагедия необеспеченности, сомнения, страха возможности (возможность,
отравляющая действительность; доверие — недоверие к человеческой при-
роде<)>.
Рождение и формирование нашего экспрессивно-психологического
индивидуального жеста. Он развивался по мере потускнения и стирания
топографических координат действия и жеста, по мере превращения словесных
топографических образов в условные речевые штампы (с соответствующей мо-
дерацией их, смягчением). Ставший речевым штампом словесный
топографический образ утрачивает всякую связь с конкретным топографическим
жестом и даже с самым представлением о таком жесте; еще раньше
утрачивается амбивалентность образа и жеста (штампы топографического верха
живут в официальных, высоких пластах речи, а связанные с ними выражения
топографического низа сохраняются только в фамильярных пластах).
Например, "на небе отвратят от дел таких лицо" — здесь двойной
топографический образ (что весьма обычно): небо — космический верх и лицо — телесно-
*Справа от текста пометка рукою М.М.: Заклинающий жест (Л.М.)
144
топографический верх; "отвратить лицо", "отвернуться от человека" — один из
наиболее устойчивых топографических жестов (живущий еще и поныне); ему
соответствует жест показывания зада (или предложение поцеловать в зад)
или смягченный жест — повернуться спиной. Жест телесного низа жив до сих
пор в фамильярном общении, особенно в форме показывания кукиша
(т.е. фалла, телесного низа); в официальном же быту сохранилось только
требование "вежливости" — не садиться спиной к другому человеку (т.е. не
отвращать от него лица, не показывать ему зада); но в высоких
официальных сферах речи сохранился отрешенный от жеста (и даже от всякого
представления о жесте) речевой штамп "отвратить лицо", отвернуться". Нужно
вообще сказать, что в низших пластах фамильярного общения еще живы и
ярки топографические жесты телесного низа, и потому эти пласты
представляют громадный научный интерес. Их же высокие амбивалентные дополнения
остались лишь в обедненной и редуцированной форме речевых штампов
официальной речи. У Шекспира словесные топографические образы и жесты
распределены между героями и персонажами высокого и низкого (шутовского)
плана и иногда между разными состояниями одного и того же героя,
переходящего из одного плана в другой. Так, топография космического (и отчасти
телесного) верха господствует в речах и жестах Отелло, Дездемоны, Кассио, —
топография же телесного низа у Яго, Эмилии и, конечно, у шутов. Но когда
Отелло охвачен "безумием" ревности (традиционное прохождение
героя-солнца через фазу затмения и временной смерти-безумия), когда образ Дездемоны
в его воображении переходит из высокого космического плана небесной
чистоты, рая и ангела в план телесного низа — развратницы ("ложь" и
"лежание"), его речь (и его жесты) наводня<е>тся образами телесного низа и
временами сближается с речью Яго. Мы наблюдаем это и у Лира в стадии
"безумия", где он переходит на роль короля-шута. Особенно интересно
проследить это на образе Гамлета: в состоянии фиктивного безумия мир
раскрывается для него в аспекте телесного низа, образы которого сочетаются в
его речах с сохраняющимися образами высокой топографии (восстановление
амбивалентности).
Поблекли и стерлись топографические координаты действия, слова и жеста,
они оказались в плотном (непроницаемом) бытовом и
отвлеченно-историческом плане, сквозь который перестали просвечивать пределы и полюсы мира.
Сохраняющиеся топографические элементы (низы и верхи, переды и зады)
становятся относительной и условной, неощущаемой формой. Действие, слово
и жест получают практически-бытовое, сюжетно-прагматическое и
отвлеченно-историческое (рациональное) осмысление, но главным и решающим
становится их экспрессивное осмысление: они становятся выражением
индивидуальной души, ее внутренних глубин. Если раньше жест воспринимался,
"читался" экстенсивно в отношении к конкретным (и зримым)
топографическим пределам и полюсам мира, между которыми он был простерт,
вытянут (он показывал на небо или на землю, или под землю — в преисподнюю,
показывал перед или зад, благословлял или уничтожал, приобщал жизни или
смерти; см. характеристику сюжета "Фауста" у Гете), если, читая его, наш
глаз должен был двигаться от полюса к полюсу, от предела к пределу, чертя,
вычерчивая топографическую линию, осевые координаты жеста и человека,
локализуя действующего и жестикулирующего с его душою в целом мира,
то теперь жест читается интенсивно, т.е. только в отношении к одной
точке — самому говорящему, как более или менее глубокое выражение его
индивидуальной души; самая же эта точка — говорящая жестом душа — не
может быть локализована в целом мира, ибо нет (осевых) координат для
ее локализации. Единственное направление жеста — к самому говорящему,
место же самого говорящего в последнем целом мира непосредственно,
зримо не определяется жестом (линия его ведет внутрь, в глубины глубин
145
его индивидуальной души), если это последнее целое и предполагает<ся>,
то оно опосредствовано сложным мыслительным процессом, рукой его не
покажешь (что именно и делал топографический жест). Непосредственно и
зримо локализуется и осмысливается жест и положение, место человека лишь
в ближайшем целом — семейно-бытовом, жизненно-сюжетном, историческом;
он в большинстве случаев далек от полюсов жизни и смерти (отодвинут от
них обычным, благоустроенно-безопасным бытом штатского буржуазного
человека 19-го века). Типичность экспрессивного комнатного жеста, что-нибудь
вроде дрожания руки, раскрывающей портсигар и достающей папиросу:
типично именно сочетание бытовой практической осмысленности с
индивидуальной внутренней экспрессивностью жеста, причем последняя, как всякая
субъективность, раскрывается именно в нарушениях, отклонениях жеста от
нормального (практически целесообразного, практического, технического)
пути, в его торможениях и ошибках.
Эта внутренняя интенсивность индивидуальной души ищет новых
интенсивных же координат в этом новом бесконечно осложненном, временно и
пространственно относительном мире. Предельная глубина внутреннего,
говоря словами Августина, internum aeternum человека, у Достоевского снова
оказывается на топографической мистерийной сцене (своеобразный этап этого
пути у Гоголя). За комнатами, улицами, площадями, несмотря на их
сгущенную реалистическую типичность, снова сквозят (просвечивают) полюсы,
пределы, координаты мира. Каждое действие, слово, жест исполнены
напряженной предельности. При анализе топографических образов — мифических
и народно-праздничных — все время учитывать воплощенный в них родовой
страх и преодолевающий его смех.
Гнусливый голос неаполитанских инструментов в "Отелло" (Д. III, сц. 1) —
аллюзия шута на сифилис.
Wretch — "девчонка" — бранное для женщины — слово употребляется
одновременно в уменьшительно-ласкательном смысле.
"Have you scored me" — дословно — "так вы меня сосчитали" — значит —
покончили со мной, схоронили меня.
Комната Раскольникова, такая типичная петербургская комната в таком
типичнейшем петербургском доме, — это — гроб, в котором
Раскольников проходит через фаЗу смерти, чтобы возродиться обновленным. Сенная
площадь, улицы — все это — арена борьбы бога с дьяволом в душе
человека; каждое слово, каждая мысль соотнесены с пределами, с адом и раем, с
жизнью и смертью. Но характерно, что жизнь и смерть здесь даны
исключительно во внутреннем плане, касаются только души, физическая гибель
никому (из главных героев) не, угрожает, борьбы между жизнью и смертью в
земном плане здесь вовсе нет; живут герои в мире вполне безопасном. Но как
проблемны эти полюсы и координаты, определяя человека, они сами
нуждаются в определении, они сами втянуты в борьбу (требуются какие-то
координаты координат).
Имя и прозвище. Для имени характерна неосознанность его этимона;
корни имен не принадлежат к живым языкам и значение их не может
ощущаться. Расшифровки греческих или древнееврейских (реже —
старославянских) корней имени дают однотонные и односмысленные прославляющие
характеристики ("мужественный", "победитель", "славный" и т.п.). Но,
конечно, не этим значением определяется выбор и эмоционально-смысловая
окраска имени, а характером того святого, который освятил и канонизовал это
имя, или того лица (отца, деда, вообще предка, друга, исторического
деятеля), в честь или в память которого выбрано данное имя (самый выбор
чаще всего определялся по святцам датой рождения', см. замечательный по
глубине амбивалентный образ выбора имени для рожденного человека у
Гоголя "Шинель"). Имя может получить эмоционально-смысловую окраску неза-
146
висимо от всего этого по своему звуковому образу ("красивое" имя) обычно
по сходству с какими-либо звуковыми образами родного языка (иногда,
наоборот, иностранного). По звуковому сходству с каким-либо словом
родного языка имя может получить характер прозвища, переродиться в прозвище
(например, имя Акакий ("какать") связано по звуку с образом материально-
телесного низа (испражнения), также Хоздазад). См. имена Видоплясова,
снижение имени (фамилии) в материально-телесный низ путем подбора
соответствующей рифмы у Достоевского (недопустимость произвольного выбора
имени). Все это — эмпирика имени, она различна у разных народов, в разных
культурах и исповеданиях, за которой встают более существенные фило< оф-
ские проблемы имени. Собственное имя (человека, города, страны и т.п.)
является наиболее глубоким и существенным выражением (по своей функции,
конечно, а не по эмпирике своего конкретного происхождения)
прославляющих, хвалебных, число благословляющих, увечняющих (увековечивающих)
начал языка. Оно связано с рождением, началом, и благословляет на жизнь, и
оно связано со смертью и приобщает памяти (в пределе — вечной
памяти). Его сущность — благословение и хвала. С другой стороны имя выделяет,
индивидуализует и одновременно приобщает к традиции (роду, истории),
связывает, укореняет, приобщает индивидуальному же, но объемлющему
целому рода, нации, истории, целому чисто положительному, чисто хвалебному,
прославляемому (к божьему миру). Имя по сущности своей глубоко
положительно, это — сама положительность, само утверждение (назвать —
утвердить на веки вечные, закрепить в бытии на всегда, ему присуща
тенденция к нестираемости, несмываемости, оно хочет быть врезанным как можно
глубже, в возможно более твердый и прочный материал и т.п.), в нем нет ни
грана отрицания, уничтожения, оговорки (особая сторона имени — это "я" в
чужих устах, я для другого в положительном аспекте). Поэтому вокруг
имени сосредоточиваются все положительные, утверждающие,
хвалебно-прославляющие формы языковой жизни (оно глубоко эпично, с другой стороны
и эпос (также трагедия) не могут быть анонимными или псевдонимными или
неисторичными, т.е. о заведомо вымышленном, типическом, только
возможном лице, как роман). Если что-либо отрицается, должно быть уничтожено,
то прежде всего нужно забыть, нужно вычеркнуть из списков бытия его имя.
Так Август в своих "Gesta" не называет имен своих врагов, врагов народа
и государства. Пока сохраняется имя (память), сохраняется (остается) в
бытии именуемый, продолжает еще жить в нем. Поэтому так страшны всякие
посягательства на имя (на "доброе имя", шутки с именем и т.п.). Отсюда и
всякие виды табу, связанные с именем (вплоть до живого и в наши дни
запрета "nomina sunt odiosa"). Это исключительное значение имени в жизни языка,
как предельного хвалебно-прославляющего полюса этой жизни, определяет и
объясняет такие явления, как локальные именные мифологемы (см. их
пародирование у Рабле), как прославляющая игра с именами, лежащая в основе
хвалебных од Пиндара, такие явления, как мистика имени и имен, как в той
или иной степени мистически окрашенные философии имени, такие явления
как имяславие и т.п.
В противоположность имени прозвище тяготеет к бранному, к
проклинающему полюсу языковой жизни. Но подлинное прозвище (как и подлинное
ругательство) амбивалентно, биполярно. Но преобладает в нем
развенчивающий момент. Если именем зовут и призывают, то прозвищем скорее
прогоняют, пускают его вслед, как ругательство. Оно возникает на границах
памяти и забвения. Оно делает собственное нарицательным и
нарицательное собственным. Оно по-особому связано с временем: оно фиксирует в нем
момент смены и обновления, оно не увековечивает, а переплавляет,
перерождает, это — "формула перехода". Оно, как и имя, связано с рождением
и смертью, но оно их сближает и сливает, превращает колыбель в гроб и
гроб в колыбель. Оно делает прозываемого определенным, исчерпанным,
разгаданным и больше ненужным ("пора на смену"). (Разгадывание прозвища
в сказке приводит к гибели разгаданного.) Имя связано с топографическим
верхом (оно записано на небесах, оно связано с лицом человека);
прозвище связано с топографическим низом, с задом, оно пишется на спине
человека. Имя освящает, прозвище профанирует; имя официально — прозвище
фамильярно. Прозвище в известном смысле типизует прозываемого, имя
никогда не может типизовать; страх, мольба, преклонение, благоговение, пиэтет
и соответствующие им языковые и стилистические формы тяготеют к имени;
имя серьезно и в отношении к нему всегда существует дистанция;
ослабление дистанции есть уже начало перерождения имени в прозвище; поэтому
словесные формы ласки, если в них есть момент интимности, а тем более
фамильярности, не совместимы с именем: уменьшительно-ласкательные
формы собственных имен есть уже выход имени в иную сферу языковой
жизни, начало перерождения его в прозвище (-кличку); имя втягивается в зону
контакта и перерождается в ней; подлинно интимная и фамильярная ласка
пользуется не уменьшительными именами (в них сохраняется еще
некоторая степень официальности и, следовательно, дистанция), а создает свои
особые прозвища-клички (от названий предметов, частей тела и др.) в уменьш.
форме (амбивалентные) и очень часто пользуются для этого ругательствами. Имя
эпично: в эпосе Гомера — только имена и к ним чисто прославляющие
(утверждающие) постоянные эпитеты; в поэме "Война мышей и лягушек" — только
прозвища с отчетливо осознанным этимоном (также в "Маргите"). Прозвище
связано с настоящим и с зоной настоящего. В романе (и во всех
профанирующих и работающих в зоне контакта жанрах) нет имен: здесь либо
типические фамилии, либо фамилии прозвищного типа — Обломов,
Раскольников и т.п., либо прямо прозвища — Лебезятников, Лужин, или аллюзии на
действительные фамилии (Болконский, Друбецкой), этим им придается
момент типичности и заведомой вымышленности; заведомо и открыто
вымышленный персонаж не может иметь имени, ведь имя его приобретает оттенок
чего-то типически характерного, своеобразного, это уже не имя, а
название персонажа. Во всех этих явлениях имя переходит в иные сферы
языковой жизни, приобретает иные функции, начинает стремиться к пределу
прозвища или названия (нарицательного). Момент отрицания, уничтожения,
умерщвления в прозвище: оно метит в ахиллесову пяту прозываемого. Оно не
благословляет на жизнь и не приобщает к вечной памяти, но посылает в
телесную могилу для переплавки и нового рождения, это как бы особый
штемпель изношенности и брака.
Благословляющий и топографически высокий жест поэтической метафоры
(вообще тропа), она приобщает к высшему, и она дистанциированна. Пер-
вофеномен поэтического слова — имя. Первофеномен слова прозаического —
прозвище. Свойственная поэтическому слову тенденция к увековечиванию,
прославлению связь с памятью. Увековечивание имени, слава имени как основной
центр прославляющих и увенчивающих энергий словесной жизни. Можно
сказать грубо и упрощенно так: если слово лишено непосредственных
практических коммуникативных целей, т.е. если оно не исчерпывается своей
непосредственной службой действию, то ему остается только либо прославлять
(хвалить), либо ругать (проклинать) мир и его явления.
Каждому слову официальной сферы соответствует слово-прозвище
вульгарной, фамильярной сферы.
Наша, европейская, теория литературы (поэтика) возникла и развивалась
на очень узком и ограниченном материале литературных явлений. Она
слагалась в эпохи стабилизации литературных форм и национальных
литературных языков, в эпохи, когда большие события литературной и языковой
жизни — потрясения, кризисы, борьба и бури — были уже давно позади, когда
148
самая память о них уже изгладилась, когда все уже утряслось и отстоялось,
отстоялось, конечно, только в самых верхах официализованной литературы и
языка. Место Аристотеля, Горация, Буало, позитивного литературоведения
19"го в. Литературная жизнь таких эпох, как эллинизм, позднее Возрождение
(конец ренессанса и начало барокко), не могла найти отражения в теории
литературы. Она слагалась в эпохи преобладания поэзии (в официализо-
ванных верхах литературы), в эпохи, когда Шекспир был дикарем и варваром,
Рабле и Сервантес — литературой для занимательного (легкого) чтения масс
(и детей). Романтики (расширение ими пространственного и временного
кругозора литературоведения очень значительно) по существу мало могли
изменить это положение вещей. За порогом канонизованной литературы с ее
жанровой системой всегда, а особенно в такие эпохи, как эллинизм, позднее
средневековье, раннее барокко, существует масса, так сказать, неприкаянных
жанров (в большинстве своем мелких, но не только мелких). Это либо
обломки, либо зачатки. Взаимоотношения между ними своеобразны.
Вся, всё и все втягивались в сферу фамильярного общения. Разрушение
иерархической дистанции в отношении мира и его явлений.
Итальянские поэты XIV века (современники Данте).
Фольгоре ди Сан Джиминиано: народный простой язык (полемика с
ученой поэзией), воспевал любовь, наряды, еду, напитки, любовь.
Чекко Анджольери: из биографических фактов характерна его ненависть
к родителям и благочестивому укладу родного дома: его стихи насыщены
радикальнейшим бунтарством, организующую роль в них играют проклятие и
брань, отвращение ко всему официальному, ко всякому порядку. Бранные
вызовы миру и всему человечеству (универсалиям): он все хотел бы спалить и
уничтожить (карнавальным огнем). Его основные темы: женщина, кабак и
кости. Традиции вагантов в его поэзии.
Еретическая культура итальянских городских коммун. В ней есть
существенный момент внеофициальности. Громадная историческая роль этой
еретической культуры. Высший (или — точнее — низший) предел этой
еретической культуры — народная карнавальная площадь.
ч Данте о вульгарном языке в "Пире": "Это — ячменный хлеб, которым
будут насыщаться тысячи... это будет новый свет, новое солнце, которое
взойдет тогда, когда закатится старое. Она будет светить тем, кто
находится во мраке и потемках, ибо старое им не светит".
В латинском трактате "Об итальянском языке" Данте исходит из различения
языка "условного" (латинский) и живого народного. Он ставит, далее, вопрос,
какой итальянский volgare нужно считать литературным или "высоким"
(собственно "придворным") volgare: это язык, переработанный под
влиянием сицилийской придворной традиции Гвидо Гвеничелли, Гвидо
Кавальканти, Чино да Пистойя и им (Данте). Это — первый в Европе лингвистический
трактат, и его тема: выбор языка, взаимоориентация языков и диалектов.
Определение языка истинного.
Вокруг каждого великого писателя создаются народные карнавальные
легенды, переряживающие его в шута. Так, Пушкина эти легенды превращали
в придворного шута Балакирева. Существует даже карнавальный Данте.
Ряд анекдотов о нем: как он разбросал инструменты у кузнеца,
перевиравшего его стихи, как он назвал "слоном" докучавшего ему почитателя. Ряд
анекдотов изображает его саркастические ответы Кан Гранде (т.е.
превращающие его в род шута при тиране). Многие анекдоты о Данте Поджио
Браччьолини включил в свои "Фацетии".
Мотивы загробных хождений есть и у Лукана, у Стация, у Овидия.
Слова Гейне из одного из его автобиографических произведений:
"Если, читатель, ты хочешь сетовать на разлад, то сетуй на то, что мир сам
раскололся надвое. Ведь сердце поэта — центр мира, поэтому оно с воплем
149
должно было разбиться в наши дни. Кто кичится тем, что его сердце
остается цельным, тот признает, что у него прозаическое обособленное сердце.
Через мое же сердце прошла великая трещина мира, и потому я знаю, что
великие боги щедро одарили меня милостями перед другими людьми и
удостоили меня мученического ореола поэта. Мир был цельным в древности и в
средние века, тогда и поэты были с цельной душой. Но всякое подражание им
в наше время — это ложь, которая ясна всякому здоровому взору и которая
не может поэтому уйти от насмешки".
Гейне о своей юношеской драме "Ратклифф" пишет:
"На очаге честного Тома в "Ратклиффе" закипает уже великий "суповой
вопрос", который ныне размешивает ложками тысяча плохих поваров и который
ежедневно, накипая, бежит через край. Изумительный счастливчик-поэт, он
видит дубовые леса, которые еще дремлют в желудях, и он ведет диалоги с
поколениями, которые еще не родились".
"Лирическое интермеццо" Гейне. Оно было названо так, потому что было
издано между двумя драмами ("Альманзор" и "Ратклифф"). В письме к
издателю (Дюммлеру в Берлин) он характеризует их, как "крепкий цикл
юмористических писем в народном духе".
В письме к Мозеру Гейне пишет: "Моя душа — гуттаперчевая, она часто
растягивается до бесконечности, и часто сокращается до крошечных
размеров". К теории фамильярного образа (сравнения); движение не к имени, а
к прозвищу (ср. "Мою любовь, широкую, как море").
В 1830 г. в Вандсбеке Гейне увлекается чтением "Тьера и милосердного
господа-бога" (т.е. увлекается историей французской революции и библией).
Здесь — профанирующая фамильяризация имен, превращающая их в прозвища.
Гейне на Гельголанде получил известие о революции 30~го года:
"То были солнечные лучи, завернутые в газетную бумагу, и они произвели
в душе моей самый дикий пожар. Мне казалось, что я мог зажечь весь океан
до Северного полюса тем огнем вдохновения и безумной радости, который
пылал во мне..," (к теории фамильярного образа в зоне контакта).
Александр Дейч "Гейне":
"Поистине хаотичность "Атты Тролля" вполне оправдана подзаголовком
"Сон в летнюю ночь", где наряду с благовестом часовни звучит звон
погремушек шутовского колпака:
Это мудрое безумье!
Обезумевшая мудрость!
Вздох предсмертный, так внезапно
Превращающийся в хохот!...
Не даром критики любят сравнивать эту сатиру Гейне с большими
фантастическими комедиями Аристофана, а Брандес прямо утверждает, что со
времен классической древности не рождалось еще поэта, обладавшего более
сходным умом с Аристофаном, чем Гейне. "Глубина бесстыдства и полет
лирика" — вот основные сходства сатирической поэзии Гейне и Аристофана,
по мнению Брандеса.
Действительно, силою своей фантазии Гейне, подобно Аристофану,
выворачивает мир наизнанку, смешивает границы логичного с нелогичным. Гейне
пользуется романтикой как оружием, но это не мешает ему сокрушать эту
романтику, взрывать ее изнутри. Поэтому удары, нанесенные Аттой
Троллем, достались и немецкому либерализму, и мелкобуржуазному
радикализму, и "политической поэзии", и "тевтонствующей глупости" — но заодно и
романтике. (Стр. 167).
Роль оксюморных словосочетаний (однопланных и двухпланных) в
поэзии Гейне.
Проблема комической фантастики (проблема "менипповой сатиры").
150
В предисловии к "Германии" Гейне говорит, что звон погремушек юмора
кое-где сглаживает серьезные тона, а фиговые листки, прикрывавшие
наготу кое-каких мыслей, в нетерпении сорваны поэтом.
Heinrich Heines Briefwechsel hg. von Friedrich Hirth, Munchen, 1914-1920,
Bd. 1-3.
G. Karpeles. Heinrich Heines Memoiren. Berlin, 1909.
Herbert Eulenberg. Heinrich Heines Memoiren. Berlin. (Это — сборники
автобиографических материалов).
Сатиры. Перевод и вступительная статья Юрия Тынянова. Л. 1927.
"Германия'*. Перевод Ю. Тынянова. "Звезда" 1931 г. кн. 10.
Замечательное высказывание Данте в его "Пире":
"Ах, если бы владыка вселенной устроил так, чтобы и другие не были
передо мною виноваты, и я не терпел кары несправедливой, кары изгнания
и бедности! Ибо было угодно гражданам прекраснейшей и славнейшей дочери
Рима, Флоренции, исторгнуть меня из сладчайшего ее лона, где я родился и
был вскормлен, пока не достиг вершины своей жизни, и где я хочу от всего
сердца с миром для нее успокоить усталый дух свой и окончить дни, мне
отмеренные. И пошел я странником по всем почти городам и весям, где говорят
на нашем языке, чуть не нищенствуя, показывая против своего желания
следы ударов фортуны, которые очень часто и несправедливо ставят в вину
потерпевшему. Поистине стал я кораблем без ветрил и без руля, которого
противные ветры, раздуваемые горестной нуждой, гоняют к разным берегам, устьям
и гаваням. И казался я низким взору многих, которые, быть может, по
некоей молве обо мне представляют меня другим. В мнении этих людей не
только была унижена личность моя, но потеряли цену и творения мои, как уже
написанные, так и предстоящие. Причина этого (не только в отношении
меня, но и в отношении всех), чтобы указать ее здесь вкратце, заключается
в том, что слава, когда приходит издалека, раздувает заслуги выше
действительных размеров, а присутствие уменьшает их больше, чем по
справедливости следует". (Цитирую по А.К. Дживелегову "Данте").
Heines Werke in zehn Randen Insel-Verlag 1910-1915.
Семитомное издание Ernst Elster (Leipzig 1887-1890 и поел. изд. 1916).
Площадь св. Марка в Венеции. Эта площадь тесна. Между статуей
(медной) св. Федора и крылатым львом св. Марка — место вольности: здесь
можно было играть в кости и в другие запрещенные игры.
Любовь Фридриха Великого к застольным беседам (в "Сан-Суси").
Галилей читал лекдии по топографии дантовского ада, измерил форму
адской воронки, пользуясь геометрическими и архитектурно-механическими
категориями (это работа по. поручению флорентийской академии художеств
в 1584 г.).
Исключительная любовь Галилея к комическому, притом к гротескному.
Особенно он ценил Франческо Берни и Руццанте (Анджело Беалько).
Комические хвалы Берни (блазоны), создавшие целую школу, представители
которой прославляли сифилис, штаны, слюну, различные блюда (колбасу) и овощи.
Сам Берни прославлял чуму (болезнь). Подражая Берни, Галилей сочинил в
1589 г. шуточные стихотворение на тему о тоге (профессорской).
Руццанте — автор деревенских комедий. В 1604 г. Галилей вместе со Спи-
нелли написал в стиле Руццанте диалог о новой звезде (беседа двух пастухов).
Высмеивание схоластических противников и изложение в шаржированном
виде только еще зарождавшихся идей Коперника.
Диалог Антонио Франческо Дони "Мраморы" (1582 г.). Здесь во втором
диалоге коперниканскую систему защищает шутник (шут) Карафулла,
пользующийся самыми шутовскими и нелепыми аргументами. Интересна эта
фигура шута, выступающего с пропагандой новых революционных идей в науке.
151
Комический элемент у Бруно. Николай Кузанский и представитель народа и
площади, как протагонист его диалогов.
Высвобождение движения из аристотелевской иерархической системы мира,
релятивизация движения, предполагающая релятивизацию центра мира.
Слияние хвалы и брани, двутонность слова и образа, — решающий
(определяющий) стилистический фактор. Во всех официальных системах
литературы и во всякой (в какой бы то ни было мере) официализованной речи
хвала и брань разъединены и противопоставлены. Чем дальше от последнего
целого, чем ближе к сфере частного и временного, тем дальше от слияния
хвалы и брани.
К анализу "Короля Лира".
Значение мотива безумия. Соломенный венец и соломенный скиптр Лира.
"Смелое сочетание сумасшедшего человека с человеком правды и милости
принадлежит к одному из тех чудес поэзии, какие можно найти только в
Шекспире" (А.Л. Соколовский, т. I, стр. 247).
Мотив незаконного сына (неустроенного официальным порядком, неимею-
щего законного отцовства).
[Простая и просто любящая душа, не зараженная софизмами теодицеи,
в минуты абсолютного бескорыстия и непричастности поднимается до суда
над миром, над бытием и виновником бытия. Эти минуты редки, потому что
человеческое сознание подкуплено бытием. Добро этой судящей души лишено
всякого положительного содержания, оно все сводит<ся> только к
осуждению бытия, к отвращению. Это голос небытия, судящий бытие, в нем самом
нет ни грана бытия, ибо бытие все отравлено ложью. Но бытие, раз
возникнув, неискупимо, неизгладимо, неуничтожимо; нарушенную абсолютную
чистоту и покой небытия нельзя восстановить. Ни искупления, ни нирваны.
Не дано измерить страдания (оно доступно лишь в <частной> форме; наркоз).
Новый аспект правды. Она никого не осуждает, не разоблачает, не унижает,
не отнимает, не уменьшает, ничего не требует, в ней нет ни грана насилия
и серьезности, она только сияет и улыбается, хотя она и полна милующей
жалости. Она — абсолютная доброта. Элементы насилия и шарлатанства.
Физическая жизнь с любовью вступает в новую сферу бытия. Жизнь
получает признание извне, вне себя. Проблема бессмертия. Ад как жизнь вне
любви.]
..."Вперед тебе
Я больше не отец!.. Навеки будешь
Ты мне чужой!.. Последний варвар, Скиф т
Иль людоед, что жадно рвет зубами
Труп собственного сына — встретит больше
В моей душе участья и любви,
Чем ты, когда-то бывшая родной
Мне дочерью!...*' (Д- I» сц. 1).
К теории романа. Обзор старейших теорий романа (Юэ и др.), любовь,
частные безымянные сферы истории, роль женщины в истории, восприятие
прошлого на уровне современности.
Изучение пространственно-временной топографии (хронотопа) мира в
литературе. Основные значащие места этой топографии. Художественное
значение человек, его поступок, его слово и его жест приобретают только, когда
он находится в одном из этих мест. За всяким реальным бытовым местом
должно просвечивать его топографическое место, чтобы оно могло стать
ареной существенного художественно-значимого события, оно должно быть
вписано в топографическое пространство, должно быть соотнесено с
координатами мира. Наш понимающий глаз совершает сложное движение от
полюса к полюсу, проходящее и через точку говорящего и действующего.
В игру вовлекается весь мир; искусство структурно (в малом повторяется
152
большое). Город, улица, площадь, дом, комната, ложе (кровать, диван),
сидение, порог (дверь, лестница). Проблема порога у Достоевского. Schwellen-
dialog (немцы вообще терминологичны, им присуща тенденция каждое слово
превращать в термин, т.е. начисто обесстиливать его, французам напротив
свойственна тенденция к имени, даже в термине они пробуждают его
метафоричность и его стилистическую окраску). В области телесной
топографии порогу соответствует зона plexus Solaris (зона смеха, агонии, родовых
спазм, рыдания? потуг при испражнении), зона кризиса. Всякое движение
в пространстве, всякое перемещение (всего человека, руки при жестикуляции),
кроме своего реального, сюжетного и бытового осмысления (переход от
постели к столу, движение к двери, вставание, переход из одной комнаты в
другую и т.п.), имеет всегда определенное топографическое
(иерархически окрашенное) осмысление, это — перемещение из одной топографической
точки в другую (герой или приближается к рампе, или к заднему плану,
приближается к аду или к раю, к порогу и т.п.), определяемое
топографической структурой сцены и литературного пространства (даже в быту вставание,
выступление вперед или отход назад, слова, произносимые при входе или
при выходе, у двери, на пороге, прощание у порога и т.п.). Этим определяется
двойная логика всякого движения и всякого места (всякое движение есть
перемещение топографически полярное). Какие сцены разыгрываются у
Достоевского на пороге (у двери, на лестнице, в передней); особое значение у него
всякого появления, прихода (неожиданного, эксцентричного, т.е. оправданного
не прагматикой сюжета и быта, а чисто топографически). Во всяком сюжете
есть реальная прагматика и топографическая схема. Стол — алтарь — могила.
Момент увенчания и развенчания в топографической схеме сюжета (отсюда
верх и низ, перед и зад). Передний план, задний план, председатель и т.п.
топографически-иерархические слова и выражения. Значение слов перед
уходом. Сцены на пороге в "Идиоте" (ожидание — диалог со
швейцаром в швейцарской в ожидании генерала, первое знакомство с
Настасьей Филипповной на пороге квартиры Иволгиных, покушение
Рогожина и припадок, попытка самоубийства Ипполита на ступеньках террасы
и др.). Мы все отлично ощущаем ор<ганич>ность выбора места (все
это не могло бы происходить внутри комнаты). Поклон у порога
Катерин. Ив. Мите и др. связанные с этим события; последнее слово и
дело человека перед уходом (завершающий жест). В связи с этим
поставить проблему о границах сознания (сознательности) в художественном
понимании (творческом и воспринимающем); попытк<и> свести эту засозна-
тельную топографическую основу образа к мертвой традиции, к
пережиткам. Здесь-то именно и происходит подлинная универсализация образа,
отнесение его к целому мира, преодоление его внехудожественной
единичности и абстрактной общности (понятийность, экземплярность, типичность
и т.п.). Индивидуализующая универсализация; она-то и нуждается в
топографической схеме мира. В основе этой схемы лежит совершенно
конкретная зримая модель мира. Если отмыслить эту топографичность, то от
подлинной художественности образа ничего не останется. Современное
художественное сознание опирается на эту топографическую схему образа
и не может не опираться на нее, но само-то сознание
(истолковывающее и рационализирующее) освещает сюжетно-прагматическую,
характерологическую, психологическую,социальную, идеологическую стороны образа.
К значению народно-праздничных форм и фамильяризации. Оставаясь
в пределах иерархически-стабилизованного официального мира, явление,
вещь, человек не могут раскрыть своих новых сторон, не могут
обновиться, в отношении их существуют неизменные дистанции: к ним не
подойдешь ближе, не взглянешь на них с новой точки зрения;
ценностная, иерархическая перспектива мира остается неизменной. Необходимо
153
выйти за пределы этой системы, необходимо столкнуться с человеком и
вещью во внеофициальном, внеиерархическом плане, вне обычной,
серьезной, освященной колеи жизни. Народно-праздничные фамильяризующие
формы и дают эту плоскость, дают право взглянуть на мир вне
признанной правды, вне священного; праздники освящают профанацию: в этом
своеобразная противоречивая природа <парадной> стороны праздника,
праздничное право народной площади, этого своеобразного утопического
мира.
В эпохи великих переломов и переоценок, смены <правд> вся жизнь
в известном смысле принимает карнавальный характер: границы
официального мира сужаются, и сам он утрачивает свою строгость и
уверенность, границы же площади расширяются, атмосфера ее начинает
проникать повсюду (в эти эпохи наблюдается даже чрезвычайное
расширение употребления речевых и жестикуляционных фамильярных форм:
фамильярного "ты", бранных выражений, ослабление всякого этикета, более
фамильярное обращение детей с родителями и вообще взрослыми и т.п.).
Характерны такие явления: Грозный, борясь с удельным феодализмом,
с удельно-вотчинной правдой и святостью, ломая старые государственно-
политические, социальные и в известной мере моральные устои, не мог
не подвергнуться существенному влиянию народно-праздничных площадных
форм, форм осмеяния старой правды и старой власти со всей их
системой травестий, иерархических перестановок (выворачиваний на изнанку),
развенчаний и снижений; не порывая со звоном колоколов, он не мог
обойтись и без звона шутовских бубенчиков; даже во внешней
официальной стороне организации опричнины были элементы этих форм (вплоть
до карнавальных атрибутов внешности, метла, например), внутренний же
быт опричнины носил явно экстерриториальный карнавальный характер.
Позже, в период стабилизации, опричнина не только была ликвидирована
и официально дезавуирована, но проводилась борьба с самым духом ее,
враждебным всякой стабилизации. Еще ярче все это в эпоху Петра:
звон шутовских бубенчиков здесь совершенно заглушает колокольный звон
(в отличие от Грозного, Петр к этому последнему не только
равнодушен, но и враждебен). Дело не только в широчайшей культивации
Петром форм праздника глупцов, развенчания и шуточные увенчания
которого прямо вторгались в государственную жизнь (почти полное слияние
шутейных и серьезных знаний и власти), — новое зарождалось и
проникало в жизнь сначала в потешном наряде, так в потешной форме
внедрялась европейская военная организация и техника (это была не просто
детская игра в войну, но в ней были элементы противопоставления
и развенчания старой государственной армии, были элементы
карнавальной экстерритори<алъност11>, аналогичные опричнине); и в дальнейшем
ходе реформ ряд элементов их переплетался с элементами шутовского
травестирования и развенчания (стрижка бород, переодевание в
европейское платье, политес и др.)' (использовались и русские бытовые формы
домашних шутов и дур). Фамильяризация отношений, угнетение стариков
молодежью. Восприятие реформ представителями старого мира и старой
правды, как гибели богов, европейского — как шутовского; пробуждение
эсхатологизма (во все эпохи <расцвета> эсхатологизма, сопутствующего
всякой смене правд, происходит параллельное усиление народно-смеховых
форм, как реактива). Борьба Грозного с иерархической окраской
территории, обезличивание и фамильяризация ее (чтобы она могла стать
государственной). Раблезианское развенчание колоколов в бубенчики.
Все это к концу IVой гл. Там же о тяге к слиянию с толпой, не просто
с народом, а с народом в его празднично-площадном аспекте. Любовь
к площадному народному веселью Пушкина, Грибоедова и др. [Там же
154
о том, почему классовый идеолог не может найти доступа к народному
ядру. Социальный характер смеха, соборный смех (параллель к молитве
всей церкви). Там же о незаражении ядом серьезности до конца,
одержимостью серьезностью.] Сопоставление с народно-трагическими формами;
проблема границ и смены (гибели индивидуальности) в трагическом
аспекте. Особенно ясно народность обеих форм, их общность (проблема
смены, венца и развенчания, отцов и детей) и их различие можно
раскрыть на творчестве Шекспира (в частности и мотив безумия и его
относительности).
Карнавальные формы при дворе Людовика XIго. Шут при короле получает
новое значение, происходит слияние шута и короля. Необходимость в
такие эпохи выдвижения из низов, т.е. резкий разрыв с иерархическим
началом (старым в процессе создания нового).
Дополнения к VIIой гл. К вопросу слияния хвалы и брани (стр. 595):
существенность хвалебных и бранных форм языка (прославления —
увенчания и развенчания — брани<)>. Официализация мира и его
однотонность. Отравленность всех форм речи страхом (слабостью) и
устрашением; перечисление этих форм.
Роль фамильяризации, уничтожени<я> дистанции, перевод образов в
смеховую зону контакта, предпосылка бесстрашия — все это в
заключение; там же и открытие современности смехом и фамильярным
разрушением дистанции.
Только гротескная концепция тела знает символику тела.
Органическая связь двутелости с двутонностью. Двутелые споры и диалоги и их
значение в истории литературы. Спор старости с юностью, рождающего
с рождаемым в конечном счете является подосновой основного
трагического конфликта всей мировой литературы: борьбы отца с сыном (смена),
гибели индивидуальности. "Лучший дар — нерожденным быть". Спор
небытия с бытием (возникновением, нарушением тишины и целостности,
сплошности небытия). Одна из больших и незамеченных тем мировых
слов и образов — сомнение в смерти; эта тема завуалирована
реактивной и замещающей темой надежды на бессмертие. Непоправимость бытия.
Простейшая формула сомнения в смерти в монологе Гамлета. Она
является предпосылкой буддизма. Нельзя вырваться из бытия; бытие
безвыходно.
К Iой гл. Несколько слов о раблезианской непристойности. Непонятны
и неоправданы сокращения и купюры в переводах Рабле; их можно
было бы объяснить только глупым лицемерием и грубым невежеством,
а также и безответственностью, нежеланием вникнуть в существо дела.
Образы Рабле не возбуждают и не могут возбуждать никаких
сексуальных эротических чувств и возбуждений (ощущений), не могут их разжигать,
они не имеют никакого отношения к эротической чувственности; они
возбуждают только смех и мысль, притом универсальную и трезвейшую
мысль, следовательно, с точки зрения каких бы то ни было
чувственных влечений, абсолютно холодную мысль, их цель — протрезвление
человека, освобождение его от всякой одержимости (в том числе и
чувственной), подъем человека в высшие сферы бескорыстного,
абсолютно-трезвого и свободного бытия, на такие вершины бесстрашного
сознания, где менее всего его может замутить какое бы то ни было
чувственное возбуждение. Настоящая порнография стремится возбудить сексуальные
ощущения, а вовсе не смех; смех — если он и имеет иногда место —
носит побочный характер и служит только для' прикрытия; менее всего
порнографический образ обращается к мысли; его цель — возбуждать
сексуальность, и он рисует такие черты явления, которые эту
сексуальность способны возбуждать. Рабле никогда и ничего не рисует способ-
155
ного возбудить чувственность: менее всего найдете вы у него образы
возбуждающей чувственность красоты (специфической), привлекательности,
пикантности; любое совершенно корректно сделанное описание женской
красоты, сложения, наряда способны более возбудить чувственность, чем
самые непристойные образы у Рабле; у Рабле вообще нет изображения
молодого тела; наиболее непристойные образы связаны у него со
старостью, со старухами (например новелла про льва и старуху); это
определяется, конечно, гротескной концепцией тела (рождающая старость,
рождающая смерть); гротескное тело — космическое, символически
расширенное, смешанное с вещами — вообще не способно возбуждать
чувственности: оно уродливо и безобразно с точки зрения новых сексуально
окрашенных представлений о красоте (как и с точки зрения нового
художественного канона красоты); образы Рабле так же не способны
задевать нашей чувственности, как иллюстративный материал к любой
истории религий — все эти чудовищные идолы с разинутыми ртами,
преувеличенными фаллами, грудями и т.п. Гротескное тело доэротично
и надьэротично в нашем смысле (с точки зрения нашего понимания
эротики), в нем реализованы древнейшие и глубочайшие мысли о мире
в его целом, в нем выделены и подчеркнуты все существенные с точки
зрения этой мысли моменты (не абстрактной, конечно). Протрезвляющую
раблезианскую непристойность можно назвать философской
непристойностью (она диаметрально противоположна эротической). Очищать Рабле
от непристойности так же нелепо, как очищать медицинские книги от
всех терминов, касающихся телесного низа (в женских школах изучать
анатомию и физиологию человека до пояса). Они здесь, как и в
медицинской литературе, служат целям познания и мысли (но только
универсально-философской).
К проблеме тона. Если мы проанализируем тональность слова, любого
словесного образа, то мы всегда вскроем в нем, хотя бы и в
приглушенной модерированной форме, тон мольбы-молитвы или хвалы-прославле-
ния. Это первая пара основных тонов (с ними связаны и
соответствующие молитвенные или хвалебные стили и структурные первофеномены).
Вторая пара: тон угрозы-устрашения и страха-смирения. Эти основные тона
имеют многочисленнейшие вариации (и осложняются разнообразными
обертонами): просьба, умиление, жалоба, почтение, пиетет, гнев, отчаяние,
тревога, печаль (элемент жалобы), торжество (устрашающей силы),
благодарность и пр. и пр. Все эти тона по своей природе иерархичны:
они звучат в мире неравных, больших и маленьких, сильных и слабых,
властителей и угнетенных, господ и рабов, отцов и детей; они вне-
фамильярны и серьезны; особый характер брани и проклятий. Основой
художественной тональности слова не может не быть любовь (какой-то
минимум ее необходим для художественного подхода к миру). Но тона
любви замутнены иерархическими тонами; нет чистого тона любви. Нет
еще форм, созревших в мире равных и в атмосфере бесстрашной
свободы, за исключением специфических форм фамильярного общения
(изолированных, утопических, площадных форм).
К проблеме гоголевского смеха: анализ предисловий к "Вечерам" и
сопоставление с раблезианскими прологами (площадной ярмарочный тон,
прославление кушаний, организующая роль брани и т.п). Гротескное ана-
томизирование в "Тарасе Бульбе"; площадное (карнавальное)
утопически окрашенное фамильярное общение в Сечи; увенчания-развенчания в
Сечи; гротескное смешанное с вещами тело в образах Гоголя;
алогизмы; роль прозвищ и превращение имен в прозвища; веселое
богатырство; игра и образы игры; праздничная тематика (сопоставление "Майской
ночи" с "Игрой в беседке").
156
[Пока мир не завершен, смысл каждого слова в нем может быть
преображен (следовательно, и каждой законченной человеческой жизни).
В целом еще продолжающегося, еще не сказавшего своего последнего
слова мира не завершена ни одна жизнь.]
Праздничное нарушение иерархии (фамильяризация) в "Вечерах": голова
и прочие в одном мешке, кузнец при дворе императрицы, отец и сын
на равных правах (в ухаживании), неравные браки. Влияние балаганных
форм на Петербургские повести. Старость и эротика (старуха,
"оскоромиться" в "Вие"; превращение старухи в молодую и др.).
Игра (в карты) с ее реальными результатами (нищий — богач и
обратно, однодневные, эфемерные, увенчания — развенчания) карнавализует
жизнь, разрушает ее иерархию (уравнение всех возрастов и положений
за карточным или рулеточным столом (см. нарушение всего социального
строя, рушение его, во время игры в мяч в "пророческой загадке" у
Рабле), здесь властвует особая условная, утопическая, закономерность,
для которой нет генералов, королей, отцов и детей и пр.<)>. Эта
карнавальная атмосфера, создаваемая рулеткой, царит в "Игроке"
Достоевского. Карнавализация мира, создаваемая властью денег (капитализмом)
у Бальзака. Этот момент есть в "Идиоте"; "идея" Подростка^ нарушение
социальной иерархии (смешение верхов и низов) в бульварном авантюрном
романе; роль в нем (аналогичная в известном смысле) преступления, фигура
сыщика (своеобразного наследника пикаро). Замечательный образ Лекока.
Карнавальная атмосфера проникает и "Рокамболя" и "Молодого Генриха"
и всевозможные "Тайны дворов": через барочный роман и средневековье
они связаны с традициями сатурналий (это авантюрно-бульварно-велико-
светско-детективное чтение для горничных и лакеев есть какой-то
современный суррогат сатурналий; см. "Ибикус", "из грязи — в князи" и пр.).
Все это проливает свет на историю европейского романа и на жизнь
литературных традиций. Надо прощупать новые узловые моменты жизни
образов (сатурналии, карнавал, ярмарочная площадь и др.). В том же
плане: театральная повозка, богема, современный театр — все это обломки
древней народной площади, площади сатурналий, праздника глупцов,
карнавалов. Эти обломки древней экстерриториальной площади со смеющимся
народом в измененном, искаженном, извращенном виде переносятся в
гостиные, мансарды поэтов и художников, в кабаки и рестораны, на
современную ночную улицу, за кулисы театров, в коридоры университетов,
в дортуары закрытых учебных заведений (бурса, "Республика Шкид" и
т.п.), в массовую литературную продукцию, в фельетоны газет.
Современные арготические увлечения (особенно во французской литературе) в
вагоне поезда и т.п. Элементы этого во всех жаргонах (например,
школьных). На высоком языке Тютчева это хаос, пробуждаемый ночным
ветром, ночная душа человека, мир снов и пр. При генетическом
родстве и смысловой общности между всеми этими явлениями существуют
громадные различия, которые необходимо учитывать: нужно внести строгую
дифференциацию в этот разнообразный мир. Тема власти денег уже у
Пушкина вливается в карнавальную традицию ("преисподняя"-подвал
барона, вражда отца с сыном, "Сцены из рыцарских времен", "Пиковая
дама"). Тот же мир в формах фамильярной речи и фамильярной мысли,
фамильярного жеста, бытовой эксцентричности, случайных встреч и
столкновений и т.п.
Элементы этого (особенно "рекреации слов") в кубизме и сюрреализме.
В высшей степени интересна фигура Alfred Jarry (1873-1906), автор "Ubu-
Roi" (1896); площадные элементы, карнавальная стилизация, раблезианство.
Он оказал большое влияние на сюрреализм. О нем: Chasse "Les sources
d'Ubu-Roi" 1922 и его же "Les pas perdus" 1924; Vallette A. "Alfred
157
Jarry" 1928; Rachilde "Alfred Jarry ou le surmul des lettres" 1928; Shauveau
"Notes sur Alfred Jarry" — Mercure de France 1/XI 1926.
Max Jacob (1876) — один из создателей кубистической поэзии;
разговорная речь, юмор; влияние на сюрреализм. О нем: Thomas L. "Max Jacob"
в Les nouvelles litteraires 1928...
Сюрреалисты сменяют дадаистов, большинство переходят из одной группы
и другую: А. Бретон, Ф. Супо, П. Элюар. Провозглашение младенческого
ощущения мира, примата подсознательного над сознанием и логикой.
Нарушения реальных соотношений между вещами. О сюрреализме статья
Фрид Я. в "Интернациональная литература" 1933, N 4. Breton A. "Mani-
feste du surrealisme, Poisson soluble" P. 1924; его же "Les pas perdus"
P. 1924; его же "Introduction au discours sur le peu de realite", P. 1927;
его же "Second manifeste du surrealisme" P. 1930; его же "Qu'est-ce
que le surrealisme" P. 1934.
Жданов И.Н. (академик) "Беседа трех святителей и Yoca monachorum"
(1892) в Сочинения Жданова, 2 тт., изд. Акад. наук, СПб, 1907.
Образ Золушки (Сандрильона). Мифологическое истолкование этого
образа: олицетворение дня и ночи. Оно в настоящее время отвергается наукой.
См. Сент-Ив: "Les contes de Ch. Perrault et les recits paralleles. Leurs
origines. Coutumes primitives et liturgies saisonnieres". Он вскрывает в этой
сказке пережитки примитивных обычаев и календарных культов, мотив
маскарада он ставит в связь с весенней масленичной обрядностью.
Здесь есть и мотив возрождения (преображения); существенен мотив
нарушения иерархии (мира на-изнанку); сопоставление кухни и дворца
(карнавальный комплекс); трактовка женского начала (аналогично Кор-
дсли<я> в "Лире").
Колядки. Праздник новолетия (calendae) у многих народов был перенесен
на праздник рождества (христианизация). Подробное сличение
новогодних и святочных праздников новоевропейских народов с праздниками
греко-римскими обнаруживает не только сходство названий, но и
совпадение отдельных моментов обрядов, увеселений и пр.
Разбираясь в сложном комплексе святочных обрядов и песен
новоевропейских народов, этнографы и фольклористы вскрывают элементы,
восходящие у многих народов к явлениям традиционной аграрной магии и
местных культов, элементы, заимствованные из греко-римской культуры
как в эпоху дохристианскую, так и позднее, в причудливом сочетании
"языческого" и христианского.
Ярким выражением так ^ наз. продуцирующей первобытной аграрной
магии, правда при этом часто уже не сознаваемой современным
крестьянством, являются многочисленные обряды, долженствующие изображением
сытости и довольства вызвать урожай, приплод, счастливый брак и
богатство.
Новогодние "щедривки" на Украине.
При Юстиниане (VI в.) празднование январских календ было
перенесено церковью на весь святочный цикл от рождества по крещение.
Это содействовало смешению обрядов разных циклов.
Анализ (обстоятельный) образов украинских колядок произвел А.А. По-
тебня (см. Потебня А., "Объяснения малорусских и сходных песен", т. II,
Варшава, 1887 (то же "Русский филологический вестник" тт. XI-XVII,
1884-1887); Веселовский А.Н. "Разыскания в области русского духовного
стиха" вып. VII "Румынские, славянские и греческие коляды", СПБ, 1883.
Колядки и щедривки, в соответствии со своим аграрно-магическим
смыслом, величают хозяина и членов его семьи, с помощью словесных
образов вызывают представлени<е> о урожае, богатстве, приплоде и
браке. Поэтическое слово, как во многих других случаях в фольклоре,
158
выполняет ту же магическую функцию, как и сопровождаемый им обряд.
Связь с крестьянским обиходом образов колядки (реальным, бытовым,
низким). Однако в соответствии с магической функцией песни
исполнители ее стремятся к созданию образов, идеализирующих реальную
бытовую жизнь крестьянина; поэтому они рисуют роскошные картины жизни
вышестоящих классов; князей, бояр, купцов {высший, карнавальный
король); имеет место воспроизведение по традиции песен, созданных в высших
господствующих классах (как и в свадебной поэзии заимствования из
боярского быта); сохранились, благодаря этому, образы княжеско-дружинного
и боярско-феодального строя (исторические элементы). С аграрно-маги-
ческими и историческими моментами переплетаются христианские.
Христианские легенды приспособляются иногда к потребностям аграрной магии:
"сам милый господь волика гонит, пречистая дева есточки носит, а святой
Петро за плугом ходит". Образы богов и святых придают большую
магическую силу поэтической формуле. Споры между солнцем, месяцем
и дождиком (побеждает обычно последний гость). Мотив появления
небесных гостей, определяющих благополучие человека (см. этот же мотив
в романе).
К проблеме заговора и заклинания.
Образы изобилия, сытости и богатства в фольклоре. Их
первоначальное аграрно-магическое значение. Выяснение этого значения само по себе
еще ничего не объясняет в последующей жизни этих образов, в этом
"начале" содержится неизмеримо меньше, чем в последующей жизни, такие
объяснения стремятся большое втиснуть в малое и этим дискредитировать
его смысловую значимость. При этом самое начало это сужается и
перетолковывается. Понятия "аграрный" и "магия" берутся в их позднем
суженном и ограниченном значении {только аграрный, только магический);
но ведь тогда, когда имело место это начало, аграрное было всем,
было мировым, объединяло в себе все стороны жизни коллектива, в нем
участвовала и разыгрывалась вся природа и вся культура; а магическое
включало в себя и все то, что впоследствии стало художественным
воздействием, научным познанием и т.п. И именно поэтому из такого начала
и могла проистечь такая богатая и глубокая жизнь образов.
Обособившиеся элементы этого комплекса стали впоследствии чем-то специфически
аграрным и специфически магическим. Для последующей жизни решающее
значение имели: их космический универсализм, их всенародность, их связь
со временем и с будущим, их абсолютная желанность, их праздничность.
В последующей жизни в их праздничности особое значение приобрели
(в соответствующих условиях исторического существования народных низов):
их праздничная свобода, их внеофициальность, их связь со смехом
(специфическая веселость, радостность); таково значение их в сатурналиях.
Именно этим определяется их исключительная живучесть и их грандиозное
значение в литературе.
Живая и доныне (в различных вариациях) теория пережитков и
реликтов. Называть эти образы пережитками аграрно-магической стадии
так же нелепо, как называть могучий и ветвистый, живой и растущий
дуб пережитком желудя.
Скрытая соблазнительность подобных объяснений сводится к
дискредитации смысловой противоречивой сложности, к дискредитации живого,
всего большого, растущего, несовпадающего с самим собою (и потому
до конца неуловимого, практически неудобного). Здесь ярко проявляется
обособившаяся и отъединившаяся тен<ден>ция познания к умерщвлению
познаваемого, к замене живого мертвым, к превращению большого в
маленькое, становящегося в неподвижное, незавершенного в оконченное,
к отсечению будущего (с его свободой, следовательно, с его неожидан-
159
ными возможностями), наконец, и специфическая тенденция к снижению
начал (в противоположность их эпической идеализации и героизации),
к дискредитации и разоблачению явлений их происхождением и началом.
Можно дать своеобразную теорию познания в духе разобранных нами
амбивалентных народно-праздничных образов. Акт познания амбивалентен:
он умерщвляя рождает, уничтожая обновляет, снижая возвышает.
Положительный полюс отпал. Современному познанию свойственна тенденция
к упрощению и обеднению мира, к разоблачению его сложности и полноты
(он меньше, беднее и проще, чем вы думали) и — главное — к его
умерщвлению. Сделать его практически удобным предметом потребления
(включая в него и самого потребляющего). Игнорирование всего того, что
не может быть потреблено (и прежде всего его
свободы-незавершенности и его индивидуальности). Дегероизирующая лакейская тенденция
познания (это — не готическое возрождающее снижение). Отрыв
познающих от народных корней. Народ и лакеи. Даже победу народной
революции они прежде всего используют для оплевания (прошлого),
механизации, нигилистических снижений, обеднений и упрощений мира и пр.
[Корделия, разоблачающая старческую закоснелость старика-короля —
старого короля — Лира, снова его возрождает (родит) в любви,
превращает в ребенка, становится его матерью.]
В народно-смеховой культуре раскрываются и развиваются такие стороны
этих образов, которые в серьезных формах, особенно в условиях
официальной культуры, раскрыться не могут. Узаконенная свобода смехо-
вой культуры сыграла при этом также громадную роль; но решающее
значение принадлежит, конечно, внутренней сущности самого смеха. Но
как раз смеховая культура изучалась менее всего.
Проблемы украинского фольклора в связи с Гоголем.
Мода на украинский фольклор в конце 20 годов (Сомов, Марк<евич>).
Жанры украинской обрядово-магической поэзии окончательно
остановились в своем развитии к концу XVI в. (в этом виде они
сохранились до XIX в., когда были записаны). Церковный публицист 1ван
Вишенський в одном из своих посланий (конец XVI в.) призывает
бороться с пережитками язычества, изгнать их из городов и сел "в
болото". Он называет: "Коляды, щедрый вечер", "волочельное по Воскресении"
(величальные весенние песни, заклинания будущего урожая, ставшие
продолжением Пасхи), "на Георгия мученика праздник дьявольский" (весенние
действа в честь бога — покровителя стад, начальника весны), "Купала
на Крестителя" (праздник летнего солнцестояния; похороны солнечного
бога).
Колядки и щедглвки сопровождались иногда действами ряженых
(хождение с "Козой"). Новое собрание их дал В. Гнатюк в "Етнограф1чн.
зб1рнике", тт. 35-36, 1914 г.
Среди весенних песен особенно интересны русальные и "троецькГ
(русальные — от греко-римских розалий) — обряды, первоначально
посвященные чествованию умерших предков.
Наиболее полное собрание купальских песен дала Ю. Мошинска в
Zbior wiadom, т. 5, 1881 г. В этих песнях соединяются мотивы элегического плача
о погибшей и утонувшей "Марене" с насмешливо-сатирическими
перебранками дивчат с парубками.
Наиболее богатый материал по свадебной и похоронной обрядности
в 40М томе "Трудов" Чубинского. Н. Сумцов "О свадебных обрядах,
преимущественно русских", Харьков, 1881 г. Ф.К. Волков "Rites et
usages nuptiaux en Ukraine" в журн. "L'anthropologie" 1891-1892, ч. II-HI;
и его же "Этнографические особенности украинского народа" в
коллективном труде "Украинский народ в его прошлом и настоящем", 1916,
160
т. И. X. Ящуржинський "Свадьба малорусская, как религиозно-бытовая
драма" в "Киевская старина", 1896 г. И.
Сущность свадебного обряда: добровольный брак изображается как
насильственное похищение; эндогамический (внутриплеменной) брак
представляется экзогамическим (внеплеменным) и только при условии этой
инсценировки считается "правильным" и прочным. Эта инсценировка
доисторических форм брака обросла чертами княжеско-дружинного быта,
приобретшими символико-магическое значение.
Похоронная обрядность. Причитания-голосшня; тексты и комментарии
к ним в "Етнограф. зб." т.т. 31-32, I. Свенцицького и В. Гнатюка;
кроме того, исследования В. Данилова в "Киевской старине", 1905, и
"Украши", 1907; эти причитания сопровождались на Подолии и в
некоторых местах Прикарпатья особыми "похоронными забавами", "граш-
ками при мерщ" (играми у мертвеца ) — своеобразными религиозными
мимами, инсценирующими прение бога с чортом ("тягнене бога"), а иногда
превращающимися в комедийно-бытовые сценки.
Общее количество украинских сказочных сюжетов в 1914 г. исчислялось
в две тысячи с лишним (СВ. Савченко "Русская народная сказка"
гл. IV).
Украинский сказочный фольклор имеет фантастику, исключительно
богатую по части демонологических представлений (особенно в сказках,
записанных на Галичине, см. сб. Гнатюка В., "Знадоби до укр. демоно-
логи", тт. 1-2, Етнограф. зб1рн., т. 15, т. 34-35 — 1575 рассказов).
Обращает внимание также сравнительное богатство комических мотивов
с разными оттенками комизма от язвительной сатиры до мягкого юмора —
особенно в новеллах (см. назв. выше сборники Чубинского и Драго-
манова и в дополнение к ним "Казки та оповщання з Подшля",
в записях 1850-1860 pp., упорядкував М. Левченко, 1928) и анекдотах
(Гнатюк В., "Галицько-pycbKi анекдоти", Етногр. зб1рн., т. VI).
Значение XVI в. на Украине. Борьба с польским игом и с Турцией,
формирование украинской национальности.
Пародийная "Дума про Михия" XVIII века.
Роль странствующих бурсаков, исполнявших "набожные" песни
(псалмы и канты; печати, изд. этих песен вроде "Богогласника" 1790 г.);
также и лирические песни. Их авторы — бурсацкая богема, канцеляристы,
выходцы из козацкой среды.
В XVI в. выдвигается впервые вопрос о национальном языке,
возникает потребность создать письменную "руську мову", отличную от
славянской и польской. На эту "мову" переводятся книги церковно-учитель-
ные и богослужебные ("Пересопницкое Евангелие" — 1555-1561). Проблема
многоязычия на Украине (церковно-славянский, польский, латинский,
русский, мова). Украина подобна Южной Италии (рождение смеховых форм).
Малороссийские заговоры и заклинания, "замовлювання", "закляття".
Лучший сборник П. Ефименко "Сб. малороссийских заклинаний" в
"Чтениях Общ. ист. и древностей российских", Москва, .1874, кн. 88;
исследования А. Ветухова, 1907, и V. Mansikka, "Uber russische Zauberfor-
meln" 1909. Проклятие, как основа "Страшной мести" Гоголя. Скрытое
влияние их (рядом с бранью) на построение образов героев у Гоголя.
Гротескный характер проклятия, содержащийся в нем образ разъятого
тела.
Особенности барочной проповеди: метафоры, аллегории, "концепты" —
"остроумные изображения" — специальные словесные фокусы для
заинтересовывания слушателей; цитата из евангелия, выворачиваемая на все
лады, толкуется в смыслах "буквальном", "аллегорическом", "моральном"
и т.д. более в целях развлечения, чем поучения слушателей.
6. Вопросы философии, N 1 161
В проповедях содержались "приклады" — повествовательные
примеры, многие из которых перешли впоследствии в фольклор новелл и
анекдотов.
Виршевая поэзия. Видное место в ней занимают стихотворные
панегирики, прославления духовной и светской знати (путь к оде).
Драма. Ее образцы — польско-латинская иезуитская драма эпохи
барокко и отчасти немецкая школьная драма эпохи контрреформации.
Первые сведения о представлении в школах "комедий" идут с конца
XVI века. Интермедии — "междувброшенные игралища". Реалистическая
интермедия в пьесе Митрофана Довгалевського, 1736 г.
В официальной литературе главное внимание уделяется литературе "чудес";
она обширна, начиная от католического сборника "Великое зерцало".
"Тератургима або чуда" Афанасия Кальнофойського, 1638. Изобилуют
сборники "Чудес богородицы": "Небо новое" Йоанниюя Галятовського,
1665, "Руно орошенное" Димитрия Ростовского, 1683 и др., настойчиво
проводящие идею наград и кар — своего рода систему запугивания и
устрашения. В эпоху, когда "реформационные веяния" носились в воздухе,
когда угрожали то нападки униатов, то брожения среди мещанства и
селян, — мобилизовывался весь аппарат святынь, вокруг него
подновлялся и творился целый эпос легенд, устрашающих и требующих
беспрекословного подчинения авторитету.
Особенности украинской литературы XVIII в. К украинскому языку
в господствующем классе постепенно устанавливается
высокомерно-пренебрежительное отношение. Он становится языком низким, внеофициальным;
это освобождает его фамильяризующие энергии (у него нет стимулов к
официализации). Верхи и все официальное русифицируется. Национально-
народная литература продолжает жить в среде мелкой шляхты, мелких
чиновников, городского мещанства. Она становится в основном
рукописной анонимной (как литература готического реализма). В ней
преобладает смеховой реалистический стиль. Интересна судьба интермедии.
[В основе топографического жеста и топографической сцены (события)
у Шекспира и их восприятия лежит пространственно-ценностное движение
снизу вверх и обратно, те же готические качели, то же хождение
колесом, но в серьезном плане.]
Интермедия первоначально — шутовской выход (вносивший в целое
топографическое движение сверху вниз). Затем эти антракты разрастаются,
например в пьесе Митрофана Довгалевського (1736) интермедия уже потеснила
текст основной драмы. Комические антракты начинают становиться
параллельными к основному действию, становятся своеобразным
пародированием его. В основном действии на сцену выходил Валаам, древний
маг, передававший свою мудрость трем царям-волхвам и пророчивший
о Христе, — в интермедии же появляется псевдоученый прощалыга-
шляхтич, тоже будто бы знающий "что деется в пекле и в небе",
но не возбуждающий никакого доверия у двух селян, которые над ним
издеваются и гонят его прочь; в другой драме в основном действии
аллегорический земледелец проводит в монологе (высокого стиля)
параллель между "прозябшим зерном" и воскресением из мертвых, — в
интермедии же — взятый из повседневности хлебороб, которому добрый
урожай дороже всяких мудрствований и который спешит расправиться с
бабой, делавшей "закрутки". В дальнейшем параллелизм отпадает и
интермедия приобретает самостоятельный интерес. Старейшие из известных нам
интермедий (в пьесе Якуба Гаватовича, 1619) заимствовали фабулу из
готового запаса бродячих анекдотов книжного происхождения; в пьесах же
Довгалевського и Г. Кониського (1747) в основу интермедий клались
бытовые наблюдения. Рядом с анекдотически-литературными "хлопами"
162
появляются реальные помещики (пан Подстолий и пан Бандолий),
появляются угнетенные панами арендаторы, селяне и их избавители — "козак"
или "москаль", появляются, наконец, и знаменитые "пиворезы", "манд-
рованые (странствующие) дьяки". Исключительная роль в литературе
эпохи мандрованых дьяков, т.е. бродячих школяров. Они аналогичны
западноевропейским голиардам или вагантам; они здесь, на Украине,
теснее и существеннее связаны со средою сельских и городских
демократических масс. Продукция их анонимна, но некоторых мы знаем
по именам, напр. Илью Турчановського, чья автобиография —
любопытная новелла плутовского жанра. Характерны фигуры "волочащегося
ченця", стихотворца конца XVII—начала XVIII в., Климентия Зиновьева,
а в конце XVIII в. "мандрованого философа" и поэта Григория Саввича
Сковороды.
[Для фамильярной речевой стихии характерна тенденция
этимологизировать каждое собственное имя, например Голиафа, и этим превращать
его в прозвище. Только в зоне контакта, в зоне настоящего возможен
открытый и сознательный вымысел: из моментов изображения события
(мифического, исторического) вымысел переходит в ядро события,
начинает, наконец, вымышлять самое событие.]
В книгу своих стихов Климентий Зиновьев заносил все, что попало:
сведения о болезнях, о погоде, о купцах, о корчмах и т.п.; у него
имеется апология ремесла "ката".
Дух критики XVII—XVIII века: "он врывался буйной волной смеха
в такие освященные и школьным авторитетом и бытовым обычаем формы,
как рождественские и пасхальные вирши. В то время как на церковных
верхах и в XVIII веке продолжалось сочинительство и внедрение в
массы "набожной песни" (в 1790 г. печатается сборник таких песен
"Богогласник"), мандрованые дьяки вносили элементы бурлеска и
пародии в религиозную поэзию. В известных нам "р1здвяних" и "великод-
них" виршах-пародиях нельзя, конечно, видеть выступлений
антирелигиозного характера: но налицо в них резкое снижение торжественного
стиля, фамильярное похлопывание по плечу ветхозаветных патриархов
и "старенького бога", разрушение традиции" (А. Белецкий).
[в загадках реализуется особое направление языкового творчества,
аналогичное превращению имен в прозвища, и, обратно, нарицательных
названий в собственные имена-прозвища; в загадках происходит фамильяри-
зация высокой поэтической метафоры, олицетворение фамильярно-проз-
вищного типа; все это — прозаические энергии языка, стремящиеся от
именного (хвалебного) к прозвищному полюсу (бранному,
амбивалентному); загадка разоблачает и умерщвляет (сбрасывает вниз, в
преисподнюю: гибель разгаданного сфинкса, <Stelzfusschen>, "человек из зеркала").]
Значение вертепной драмы — другой пример трансформации
"академического" жанра при посредстве тех же мандрованых дьяков. Связанная,
однако, приурочением к определенной дате культового календаря и
консервативностью техники {кукольный театр), она не пошла далеко в
своем развитии, и отдельные, дожившие до наших дней в памяти
стариков, ее образцы свидетельствуют о неподвижности жанра. Но в деле
сближения с фольклором вертепная драма достигла большего, чем
интермедия.
Петров Н., Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII
веков (Киевская искусственная литература XVII и XVIII в., преимущественно
драматическая), Киев, 1911; Резанов В., Из истории русской драмы.
Школьные действа XVII-XVIII вв. и театр иезуитов, Москва, 1910;
Его же, Драма украшська (тексты XVII-XVIII вв. с введениями); вып. I,
Кшв, 1926; вып. III-VI, Кшв, 1926-1928 (изд. не закончено); Перетц В.,
163
Историко-литературные исследования и материалы, т. III — Из истории
развития русской поэзии XVIII в., СПБ, 1902 (к истории вирш); Петров Н.,
О словесных науках и литературных занятиях в Киевской академии от
начала до ее преобразования в 1819, "Труды Киевской дух. академии",
1866, кн. 7, 11, 12; 1867, кн. 1; 1868, кн. 3; Сумцов Н., К истории
южнорусской литературы семнадцатого столетия, вып. I, Лазарь Барано-
вич, Харьков, 1885; вып. II, Иоанникий Галятовский, Киев, 1884; вып. III —
Иннокентий Гизель, Киев, 1884; "Памятники Украшсько-русько! мови i
лггератури", том VII — Bipm Климентия Зинов1ева сина, вид. В. Перетц,
Льв1в, 1912; Сборник харьк. ист.-фил. о-ва, т. VII, Харьков, 1894
(Сочинения Г.С. Сковороды, собранные и редактированные проф. Д.И. Бага-
леем; другое изд. — Собр. соч. Г.С. Сковороды с заметками и
примечаниями В. Бонч-Бруевича, СПБ, 1912).
164
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Август перемен —
взгляд русского эмигранта
От редакции. Никита Валерьянович Моравский — дипломат, журналист, политолог,
историк, специалист по России. Состоял на профессиональной дипломатической службе США,
был сотрудником американского посольства в Москве, долгое время работал на
радиостанции "Голос Америки". Узкая сфера профессиональных интересов — традиции
российского либерализма, в частности, история либеральной печати периода революции 1905—
1907 гг. Он — участник Конгресса соотечественников, который, как известно, открылся
в Москве 19 августа 1991 г. Почти сразу на Конгрессе заговорили о том, что в таком
удивительном совпадении путча с собранием представителей всех "волн" русской эмиграции есть
провиденциальный смысл... Естественно, что основной темой интервью, которое Н.В.
Моравский дал нашему журналу, стали пережитые августовские события.
Когда и как Вы узнали о происшедшем перевороте, как пытались осознать, что
же на самом деле происходит? Было ли понимание, что Вы невольно стали
свидетелем исторических событий, наблюдателем неожиданно разразившейся подлинно
либеральной российской революции?
По технической неисправности наш самолет задержался в Нью-Йорке, и мы
прилетели очень поздно по сравнению с другими участниками Конгресса — уже днем
19 августа. Сообщение о том, что Горбачев отстранен от власти, что введено
чрезвычайное положение, пришло к нам в Ирландии, во время утренней
промежуточной посадки. Ну, что же делать!.. Что происходит, неясно, но мысли о том, чтобы
сойти с рейса и остаться, — не было. Итак, мы прибыли в Шереметьево, началась
обычная суматоха, возня с оформлением багажа и тому подобное... Моя спутница
обратилась к одному из встречающих и спросила, что происходит. Этот человек
явно не хотел отвечать, и мое первое впечатление было такое: вернулись
"застойные времена" (а я их очень хорошо помнил по работе в Москве в 60-е годы). Но это —
один "кадр" моих первых впечатлений, тут же мелькнул и другой, неожиданный.
У дверей аэропорта стояли какие-то контролеры, такие мрачные, рослые молодые
люди. Конечно, я решил, что это — сотрудники КГБ. Но вдруг один из них очень
громко, обращаясь к кому-то и ничуть не пытаясь скрыться, сказал: "Они хотят
задушить нашу демократию, от них можно ждать всего..." Речь явно шла о новой власти.
Это была для меня новая и существенная информация: ага, значит, не все находится
под строжайшим контролем!..
По дороге в Москву автобус шел среди танков и бронетранспортеров. Все
настороженно и мрачно наблюдали за их движением. Опять кадр моей "кинохроники":
в глаза бросилось, что экипажи танковых частей — не русские, русских лиц не было.
Становилось тревожно.
Не успели мы прибыть в гостиницу "Россия", уже пора ехать на открытие Конгресса.
Дело происходило около шести вечера, и наш автобус направился к залу име-
165
ни Чайковского. К этому времени нам сообщили, что митинги и демонстрации
запрещены ГКЧП. И вдруг — навстречу автобусу... идет демонстрация! Да такая
решительная, бодрая, организованная, — это было сразу видно: первый ряд взялся под
руки, кто-то нес только что приклеенный на большой лист бумаги портрет Ельцина.
Демонстранты показывали букву "Vм — т.е. "мы победим"! Автомобили, грузовики,
наш автобус — все остановились, и все стали гудеть. Началось что-то
невообразимое — мощный, разноголосый хор этих гудков!.. Это на меня, я должен признаться,
произвело невероятное впечатление!.. Я в нашем автобусе чуть с ума не сошел: мне
хотелось выскочить и побежать вслед за этими людьми. Кажется, мои спутники
решили, что мне плохо... Другие вели себя спокойнее, но все припали, не отрываясь,
к окнам. Уверен, что никто не мог ожидать ничего подобного, не мог поверить своим
глазам. Какие чувства владели моими спутниками? Учтите, что люди, которые
приехали как соотечественники на этот Конгресс, в большинстве своем совершенно не
представляли себе Россию, многие были здесь впервые. Некоторые, конечно, досадовали:
надо же, приехать в такой момент!.. Другие просто глазели, они вообще все плохо
понимали, ведь многие эмигранты почти не знают русского языка, не знают ни
истории России, ни ее настоящего. Мне, знаете, во время Конгресса приходилось иногда
переводить — так сказать, с русского на русский, своеобразная такая ситуация...
На церемонии открытия Конгресса нам сразу сообщили, безо всякой цензуры,
какова политическая ситуация, и далее каждый день вначале был короткий
"брифинг", на котором сообщалось, как развиваются события. Это большая заслуга
Оргкомитета.
Как только смог, я пошел к Белому дому России. Конечно, исторические
параллели не отпускали меня: революционные события разыгрываются на Красной Пресне,
баррикады начинаются от станции "Баррикадная", одна из фигур монумента в память
революции 1905 года держит в руках трехцветный российский флаг!.. Все это
волновало невероятно. В сознании моем начался "прокат" исторического фильма — стали
"прокручиваться" кадры разгона нашего несчастного Учредительного собрания.
Ассоциация, которая не мне одному, а многим приходила в голову.
Но когда началось в сознании воспроизведение картин исторического действия —
как в фильме, — то я сразу почувствовал контраст, очень важное отличие ситуаций.
Тогда, как вы помните, Чернов был председателем рокового заседания. В зале шли
горячие дебаты, обличали большевиков, обвиняли их в захвате и узурпации власти,
Ленин в знак протеста покинул зал. Наконец, под утро, в 4 утра, матрос Железняков
произнес свою историческую фразу: "Караул устал, пора спать". И вместо того,
чтобы отстоять свои позиции, заявить о своих правах, — все почему-то скисли, ушли
из помещения... Возращение уже не произошло.
А вот теперь в поведении российского парламента и его лидеров не было
никакого ажиотажа, никакой нервозности. Когда я смотрел на заседание парламента
21-го августа — а момент был еще очень страшный, ночью погибли люди, кругом
танки, баррикады и тому подобное, — то я не мог не думать и не удивляться их
замечательной твердости и спокойствию. Как мне показалось, заседание неплохо вел
Хасбулатов. Ельцин выступил с изложением своей позиции, и никто в зале не
возразил и не предложил сдаться, напротив, все поддержали его действия и его оценки
ситуации. Никакой оппозиции по отношению к Ельцину высказано не было. Члены
парламента — это было видно — сохраняли спокойствие, во всем их поведении была
уверенность... Я вспоминаю, что был такой эпизод во время Французской революции,
когда депутаты также не покинули собрания и этим тоже отстояли свою
революцию... другое дело — к добру ли. Прерывать заседание в такой экстремальной
ситуации, я думаю, никак нельзя, тут какой-то важный, психологически решающий
момент.
Был еще один дорогой для меня миг личной причастности ко всему
происшедшему. В субботу мы были на траурном митинге на Манежной площади, и в какую-то
из пауз завязался разговор с окружавшими нас москвичами. Узнав, что я когда-то
работал на радиостанции "Голос Америки", они говорили: "Передайте спасибо всем
радиостанциям, которые так помогали нам. Особенно мы благодарны "Свободе".
В эти ужасные дни мы просто чувствовали их сопереживание, каждый час мы
чувствовали, что они рядом, с нами". Действительно, "Свободу" было прекрасно слышно,
и они очень быстро передавали важную информацию, необходимый комментарий,
а "Голос" очень отставал, что отчасти объясняется существенной разницей во времени.
166
Мне, конечно, было обидно, что по какой-то причине передачи "Голоса" относительно
плохо слышны. Конечно, "Свобода" ведет передачи из Мюнхена, что гораздо ближе.
Эти люди в толпе также трогательно говорили: "Вы передайте там, чтобы
"Свободу" не закрывали. Она нам очень нужна".
Неужели этой радиостанции грозит закрытие?
Вы знаете, "Свободе" — пока нет, а относительно "Голоса Америки" такой вопрос
уже поднимался. Видите ли, в какой-то степени мы исчерпали ту задачу, которую
когда-то ставили: бороться с Системой. Мы, работники этой передачи, всегда
понимали, что бороться надо не с советским народом, ему надо помогать как можно,
но — с Системой. И это было основным содержанием работы для всех сотрудников и
журналистов. Теперь же надо менять концепцию, подходы к освещению и выбору
тем. Надо искать новые пути, потому что судьба "Голоса Америки" вовсе не
обеспечена. Вполне возможно, что их просто перестанут финансировать. Я подозреваю,
что уже разыгрывается подлинная битва между "Голосом" и "Свободой", и
"Свобода" может ее выиграть. Мне лично кажется, что "Голосу" надо изменить жанр
основных передач. Я уже предлагал им кое-что.
Я говорил, что надо переключаться: от критики и обличения Системы — к
серьезным, толковым, талантливым, конечно, передачам о различных американских
институтах демократии. Но рассказывать о том, что такое, например, Верховный Суд
Соединенных Штатов, не на рекламном уровне, а серьезно, аналитично. Это должна
быть серьезная беседа и дискуссия, с разбором всех плюсов и минусов того или
иного института. Можно выпустить целую серию передач, которые можно назвать
"обучением бизнесу": что такое мелкое самостоятельное дело? что такое мелкий —
как вы понимаете, основной — бизнес? Это уже практическая область. Но я бы
работал именно с интеллигенцией, т.е. предполагая у слушателей довольно высокий
уровень образования. Передачи могут быть по-прежнему политическими, но на
высоком уровне, академические, если угодно. Пригласить, например, для беседы
законодателей — они с удовольствием на это пойдут. Это одно направление. Другое —
я бы создал программы по русской культуре, но тоже на ином уровне, чем раньше.
Вот, например, Джеймс Биллингтон, директор библиотеки конгресса США. Это очень
уважаемый человек, он занимает высокий пост и имеет огромный заслуженный
авторитет. Он — крупнейший специалист по России. Я бы работал с ним целенаправленно.
Например, у него есть книга по русской истории — "Икона и топор". Я бы устроил
дискуссию. Передачу так и надо было бы озаглавить: разбор книги Биллингтона.
Вот — одна американская точка зрения. Что можно возразить? Что вы думаете об
этой книге? Будет ли она интересна для русского читателя? Надо ли ее перемести?..
Я, кстати, не думаю, что ее следует переводить целиком, она отчасти громоздка.
Но самое в ней интересное — это некоторые концептуальные мысли автора,
пояснение его точки зрения. Основная тема — как выглядит русская культура в глазах
данного американского специалиста? Это можно сделать просто интригующе.
Еще один очень интересный автор — профессор Раев. У него недавно вышла
книга о культуре первой русской эмиграции примерно с 1918 по 1939 г. Он сам москвич
по рождению, примерно моего возраста. Это очень крупный специалист, высоко
оцениваемый в США. Несколько месяцев назад состоялась, как теперь говорят,
презентация его книги в Литфонде СССР, и тогда говорилось, что автор воссоздал культуру
"зарубежной России" определенного периода. Это была европейская культура, в
первую очередь — Париж и Прага были тогда главными центрами русской эмиграции.
Эмиграция — тоже пока еще больная тема.
Давайте поговорим об эмиграции. Это — целый клубок проблем, содержание
которых очень конкретно. Один из эмигрантов последней волны, русский писатель,
недавно выразился так: "эмиграция — это цепь непрерывных, кошмарных
унижений"... Что Вы об этом думаете? Расскажите немного о своей собственной судьбе.
И, если можно, восстановите, как Вы стали гражданином США — не юридически,
так сказать, а психологически. Что происходит сегодня с самосознанием русских
людей там, за океаном? Что Вы думаете о мотивах сегодняшних отъездов?
Унижения? Да, но мне терять было нечего, поэтому и переживаний было меньше.
Сегодня это не так. Я ведь родился в Китае, в Шанхае, в 1923 году. Мой отец не был
из деятелей первого ранга, но он был весьма активен в политическом отношении, при-
167
нимал участие в революции 1905 года. Входил в состав Временного правительства,
хотя, повторяю, отнюдь не на первых ролях. Когда-то Дзержинский допрашивал
отца в Смольном; тогда арестовали небольшую политическую группу, их
допрашивали, но наутро выпустили... Потом отец жил в Сибири. Там деятели либеральной
интеллигенции каким-то образом оттеснили большевиков от управления, но и Колчак их
отверг: словом, либеральная интеллигенция оказалась между молотом и
наковальней. Никому они не нравились. Группа либералов, среди них мой отец, пыталась
еще что-то сделать во Владивостоке в 1922 году, но неудачно. Пришлось
эмигрировать. И я родился уже вне России, детство и юность провел в Китае. В 1949 году,
когда красные китайцы прорвали фронт, нас эвакуировали на Филиппинские острова.
Два года мы прожили в джунглях — там был устроен такой лагерь, откуда люди
уезжали на постоянное жительство. В Штаты выехать было трудно, но я хотел попасть
именно туда. В конце концов удалось переехать в Америку — это было уже в 1951 году.
Занимался я самой различной деятельностью. Одно время преподавал в вузах, у
меня был большой двухсеместровый курс по истории русской культуры на
английском языке. Но я знал Восток и через некоторое время попал на дипломатическую
службу. Был момент, работал в американском посольстве в Москве (1965—67 гг.).
Потом меня вернули домой. Работал в журнале "Америка", это еще до
дипломатической службы, потом на радиостанции "Голос Америки", откуда уже вышел на
пенсию.
Я очень люблю Америку, потому что она дала мне ощущение, что я — человек.
Знаете, главное там — не сколько долларов вы заработали, нет, главное — это
чувство собственного достоинства. Вот я вам дам такой пример — из моей личной
истории. Когда я приехал в Сан-Франциско в 51 году, в кармане у меня было
ровным счетом десять центов. Через пару дней я устроился на работу — сам, по своему
выбору, пошел на фабрику. Тогда я занимался рабочим вопросом и решил, что мне
полезно посмотреть на практике, как живет американский рабочий. А работы я не
боялся никакой. Это была маленькая фабрика, которая изготавливала замазку для
окон или мебели, чтобы можно было замазать небольшие трещины... Рабочих
сравнительно мало. И в это время создался такой альянс между владельцем фабрики и
некоторыми рабочими, что возникла идея о выходе рабочих этой фабрики из
состава профсоюза. Дело дошло почти до суда, потому что это вопрос серьезный,
официально решалось, хотят ли рабочие данной фабрики оставаться в профсоюзе или
они выходят. Надо было голосовать. Начались споры, уговоры... Отчасти стали
оказывать давление; из профсоюза приехал председатель — адвокат, который
великолепно выступал, уговаривал, говорил о выгодах и т.п., но одновременно — немного
угрожал, просил учесть последствия, к которым приведут подобные решения. В
общем, надо выбирать. Голосование тайное. И вот, представьте себе, в один
прекрасный вечер в мою маленькую комнатку, где я только что расположился, и у меня
ничего еще не было, я был совсем маленькой сошкой, — пришел этот деятель, чтобы
уговорить меня голосовать в пользу профсоюза. Меня это просто потрясло: этому
адвокату был нужен мой голос, именно мой!.. Представляете, как это важно
психологически: со мной считаются, я что-то решаю, следовательно, я — человек. Это —
маленький пример, но поверьте, он очень показателен.
Да, Америка — великая страна, она замечательна прежде всего своими
демократическими устройствами и порядками. Андрей Дмитриевич Сахаров понял это сразу и
говорил об этом. Ему нравилась Америка, и он об этом писал. Америка тоже
любила его — мне кажется, потому, что он сумел сказать нечто важное для ее
собственного самосознания. А он подчеркнул именно этот момент — демократическое
устройство, дух демократии.
Таким образом, когда мы приехали в США — люди моего возраста, — то у нас было
два психологических преимущества: нам терять было нечего, мы не боялись никакой
работы, и мы знали английский язык. Не надо было начинать с нуля. Сегодня для
новых "волн" эмигрантов это уже не так. При переезде они многое теряют, и у них
больше проблем.
В самой Америке поддержание русской — да и любой другой — культурной
этнической традиции — это своеобразная вещь. Сохраняются и даже процветают такие
внешние, колоритные признаки: например, русская традиция на массовом уровне
представлена, я бы сказал, пирожками и борщом, у греков — пахлавой и тому
подобное. Вот, к примеру, я иногда хожу в православную церковь, где помимо службы вас,
168
так сказать, угощают специально приготовленной жареной курицей. У церкви в
подвале — огромная кухня, кроме того, собор занимает огромный участок... — все это
используется для привлечения посетителей. Курицу готовят тут же при вас, на
жаровнях, прямо на улице, угощают хорошим греческим вином, играет музыка. Все это
сравнительно дешево, доступно, угощают любого, независимо от вероисповедания.
Получается своего рода этнический, культурный карнавал или фестиваль, и поскольку
все это устраивается силами добровольцев, поэтому обходится недорого, а сборы
поступают на содержание храма и благотворительные нужды. Так поддерживается
определенная этническая традиция, дальше они не идут, здесь знакомство с рус-
кой культурой начинается, но тут же и заканчивается. Вся культура как бы
"растягивается" до элементарного, внешнего, бытового уровня, это совсем не та
классическая культура в настоящем русском, французском или европейском смысле слова.
И это в общем характерно для всех более или менее значительных этнических групп
эмиграции. Нынешнее поколение русских не хочет быть русскими, они не знают
языка (или быстро его утрачивают), у них дети учатся в английской школе, у них
друзья, книги, телевидение, развлечения, спорт — все местное, американское. Они
часто уже не хотят, чтобы дети дома говорили по-русски, и те язык уже вовсе не знают.
Я уже говорил, что участники Конгресса соотечественников в большинстве своем
очень плохо говорили по-русски.
Бывают, конечно, некоторые исключения. Возникают такие этническо-культурные
островки, оазисы. Русские эмигранты создали, как вы знаете, свой городок — его
называют "Одесса на Гудзоне". Это — Брайтон-Бич в штате Нью-Йорк. Эмигранты
там построили свои рестораны, магазины, все прочее. Там вывески на русском. Вы
сами представляете, какие образцы "русской культуры" здесь представлены и
сохраняются. Об этом даже показывали фильм по вашему телевидению... Надо сказать,
что все-таки благодаря этому "оазису" возродилась такая газета, как "Новое
русское слово". Газета совершенно умирала, это самое старое из действующих в
эмиграции русскоязычных изданий, оно открылось еще в 1908 г. Теперь у нее новая жизнь.
Я как-то столкнулся с одним молодым человеком — я случайно узнал из его
анкеты, что он провел детство в том филиппинском лагере, где был и я. И я даже немного
был знаком с его родителями. Он довольно прилично знал русский язык, а я как раз
должен был его проэкзаменовать. Я в общем-то не удивился, что он знает язык,
потому что его родители — русские. Но когда мы разговорились, то, оказывается,
его учила языку бабушка. Родители его, когда переехали в США, твердо решили:
больше по-русски никогда не говорить. И он простить им не мог такого решения.
Но требовать от эмигрантов, чтобы они непременно знали и поддерживали знание
языка, — бесполезно. Они его утрачивают — это совершенно естественно. Но что
я заметил, нынешнее, третье, поколение эмигрантов старается быть
ура-американцами. А это вызывает у нас, более старых жителей Америки, иронию.
Это касается не только русской эмиграции, но и, скажем, кубинцев. Первая
волна кубинцев появилась сразу же после прихода к власти Кастро. Уехали в
первую очередь интеллигенты. У них было образование, это были деятельные люди,
и они укрепились в штате Флорида и стали успешно развиваться. Эти эмигранты
"испанизировали" Майами настолько, что там появились вывески на двух языках.
Многие там добились не просто хороших рабочих мест, но и заняли посты в
местном управлении, что очень ценится в Америке. Но вот эти более ранние эмигранты
не приемлют более поздних. Это извечный конфликт: ранние ирландцы не принимают
более поздних, также — у итальянцев, русских... Нынешняя волна эмиграции от
всего американского приходит просто в телячий восторг. А мы уже можем себе
позволить и критическое отношение к окружающему.
Я вам расскажу такой случай. Недавно я принимал участие в передаче "Голос
Америки", шел радиомост "Вашингтон — Новосибирск". Участвовал также молодой
адвокат, явно из "третьей волны" русской эмиграции. Люди с советской стороны
задавали вопросы о том, как живется в Америке, как можно уехать и тому
подобное. Когда этот адвокат начал расписывать прелести Америки — как тут все друг
другу помогают, как все улыбаются, вас любят и прочие подобные штампы, я
чувствую, что меня начинает воротить. И тут с американской стороны был вопрос к
женщине из Новосибирска, почему она хочет уехать. Та ответила: боюсь растущей
преступности. Тогда я не выдержал и вмешался. Вашингтон, сказал я, славится
невероятным количеством убийств и потребляемых наркотиков... Вы должны иметь в виду,
169
что в больших городах Америки проблема преступности очень остра, чем все
озабочены, что переезд сюда вовсе не спасает вас от таких проблем. Я решил, что ее надо
предупредить. А то этот адвокат, видите ли, считал, что нельзя позорить Америку
и признаваться, что подобные проблемы в ней еще не преодолены. Один человек,
по-моему, телережиссер, спрашивал о том, как устроиться на работу по
специальности. Адвокат заверил: все, мол, будет в порядке. Я опять вмешался: да ведь это не
так! Устроиться немолодому человеку, не знающему языка, да еще на работу в
области телевидения — почти невероятно. Я стал говорить, что в области телевидения
у нас просто ужасная конкуренция, там армия людей пытается устроиться — нужно
свободное владение языком, и американские навыки общения, и возраст... Я должен
был его предупредить, потому что эмиграция — это ведь сложно, человек должен
знать, на что идет. Вы же знаете, бывают даже случаи самоубийств.
И вот что показательно: эти вновь прибывшие эмигранты, ура-американцы, они
не в состоянии критически отнестись к Америке, боятся ее оскорбить. Но у тех,
кто настоящий американец, — скорее противоположная тенденция, самое модное в
Америке — это критиковать, особенно власть, особенно Буша. И это, в частности, очень
характерно для жителей Вашингтона, где я живу: "внутри кольца" (имеется в виду
кольцевая шоссейная дорога), как говорят здесь, живут великие критики. Они ничего
не могут принять спокойно.
Вспомните, как Вы работали в Москве в шестидесятые годы. Есть ли у Вас
ощущение, что сегодня перед вами — другая страна? С кем Вы тогда встречались?
О чем разговаривали? С кем дружили?
Абсолютно другая страна!..
Но Вы, вероятно, общались с какими-то интеллектуалами...
Ни в коем случае! Знаете, как это было? Мы могли встретиться с советскими
людьми, если посол устраивал прием. Например, 4-го июля, в День Независимости. Обычно
это происходило в роскошном особняке на Спасо-Песковской площадке.
Предварительно заготавливались списки приглашенных. Нас обслуживал советский аппарат,
который, собственно, проверял и утверждал эти списки: говорилось, что вот таких
людей можно принять, других — нет. Вопросов не полагалось, потому что это —
официальный прием. Утверждались таким же способом списки лиц, к которым мы,
сотрудники посольства, могли быть приглашены домой, на чай. О каких дружеских
отношениях могла идти речь? Никакие живые, неформальные контакты не
предусматривались. У нас были строжайшие инструкции: если человек случайно где-то на
вокзале или на улице подходил к нам и о чем-то заговаривал, мы первым делом должны
были дать знать ему, что мы — сотрудники посольства. Мы должны были уберечь
этого несчастного от неприятностей. Нас самих держали в строжайшей изоляции,
нам не доверяли, никуда не пускали, проверяли и контролировали все, вплоть до
совершеннейших мелочей. За нами постоянно следили, ограничивали наши поездки.
А как я занимался так называемыми культурными делами? У меня была должность
атташе по культурным вопросам, но с культурой я, честно говоря, имел очень мало
общего. Конкретнее, я занимался обменом: поездками трупп, выставок и тому
подобное. Но, чтобы осуществить приезд какой-то американской выставки, я должен
был вести переговоры с Торговой палатой: сколько мы им заплатим за помещение,
хранение, какие помещения будут предоставлены и т.д. Словом, это была
коммерческая сделка, и финансовый вопрос был главный, если не единственный. Когда
выставка приезжала, наши функции практически были закончены, мы опять начинали
переговоры о контрактах и сделках. Нет, никакого явного культурного действия
здесь не было. Все было неинтересно и очень мрачно. Мы, сотрудники посольства,
поневоле пользовались методами психологического анализа для понимания
происходящего. Поскольку нормальное общение было недоступно, приходилось быть
наблюдательными и за этот счет собирать информацию, в том числе — нежелательную для
официальной идеологии. Например, мы видели, что никто не читает никаких
лозунгов, а их было так много кругом в шестидесятые годы! Вы, вероятно, уже отвыкли,
забыли, а мне сегодня отсутствие "наглядной агитации" просто бросается в глаза.
Я уезжал с тяжелым чувством. В 1967 году я пришел к заключению, что с этой
страной ничего уже сделать нельзя, всех убеждал, что ничего и никогда уже не будет.
170
Вообще и никогда! И я страшно теперь доволен, я бью себя в грудь и говорю: вы
смотрите, насколько же я был не прав!
Все очень и очень изменилось. Видно, что люди ведут себя гораздо более
непосредственно, свободно, лучше одеты. Молодые люди изменились даже физически,
они — рослые, красивые, раскованные, очень похожи на американских молодых. Люди,
как ни странно, улыбаются. А в 1965 году контраст с Америкой был просто
разителен. Шли мрачные люди... А ведь казалось бы, жить в брежневскую эпоху было проще.
Что меня вдохновляло в шестидесятые годы — это диссидентское движение. Это
было уже после возвращения из Москвы. Я увидел, что был не прав в своих обобщениях,
что кто-то сопротивляется, значит, не удалось уничтожить всех и вся. Особенно я
увлекался Сахаровым. Я стал его изучать.
Тут интересная деталь. Много лет спустя я наткнулся в "Русских ведомостях"
1905 года на статью Ивана Николаевича Сахарова, деда Андрея Дмитриевича.
Я увидел глубокую историческую преемственность русского либерализма, живые
традиции свободной либеральной мысли. Андрей Дмитриевич упоминал своего деда
в одном из писем 77-го года, адресованном в Оргкомитет Симпозиума по проблеме
смертной казни. Он писал, что еще в детстве читал замечательный сборник "Против
смертной казни", изданный в России в период послереволюционных казней 1905—
1907 гг. Одним из авторов и издателей сборника был Иван Николаевич.
Московский адвокат, он первый в семье Сахаровых (по отцовской линии) стал не
священником, а получил светскую профессию. Иван Николаевич часто бывал в доме Л.Н.
Толстого, был одним из организаторов общества против смертной казни.
Андрей Дмитриевич Сахаров — универсальный герой для Соединенных Штатов.
Отношение к Солженицыну, например, гораздо более сложное, неоднозначное.
Может быть, это несчастье Солженицына, что его позиция, его идеи вызывают
смешанные чувства, вплоть до неприятия. У него, конечно, есть армия сторонников,
готовых биться за его идеи, готовых чуть ли не на гражданскую войну, но для
Америки в целом он чужд. Его уважают, потому что он — настоящая личность, он сумел
отстоять себя. Но его идеи... Видите ли, он как-то сбивает. Для Солженицына
плюрализм — отрицательное явление, он говорит, что большая демократия — это ужас,
а малая демократия — хорошо. Он говорит, что для всех и вся нужна вера.
Американцы вообще народ религиозный, почти все принадлежит к церкви, но их пугает
этот мрачный детерминизм... А вот Сахаров Западу совершенно понятен. Он очень
рационален. Он говорит просто и ясно, что демократия должна быть безграничной,
нужно строить демократические институты, что плюрализм — положительное явление.
Он говорит о человеческом достоинстве и о том, что человек должен быть
свободен, безо всяких оговорок. Я, может быть, что-то сейчас преувеличиваю, но я
моделирую чисто американскую реакцию на того и на другого.
Чем Солженицын все же импонирует американцам? Он поднимает вопросы духовно-
нравственного характера, он говорит об основных христианских ценностях, он
беспокоится о нравственной дисциплине, и это что-то понятное американцам, многие
беспокоятся о том же... Произведения Солженицына очень хорошо переведены, он —
мощный писатель, и энергия его слова не исчезает в переводе. О Сахарове, конечно,
не скажешь, что он — сильный писатель или публицист, он убедителен, но
временами просто скучен как литератор.
В дискуссии Солженицына и Сахарова, которую они, кстати, сами обозначили, —
конечно, угадываются линии традиционного спора западников и славянофилов. Я
думаю поэтому, что эта дискуссия не совсем еще устарела. И сам Сахаров в очень
деликатной форме сформулировал имеющиеся разногласия. Я имею в виду то письмо
Сахарова, которое является откликом на "Письмо вождям" Солженицына. С точки
зрения Сахарова, Солженицын сильно идеализирует прошлое России, он упрощает
русскую историю в своем истолковании, он пытается возродить очень сильный
религиозный пафос и предлагает изоляцию в качестве рецепта лечения основных
болезней России. Сахаров, напротив, высказывает мысль, что Россия должна стать
частью мирового целого, что только отказ от изоляции излечит ее и решит ее
насущные проблемы. И вот такая позиция, такой подход, конечно, гораздо ближе
западному мышлению.
Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, что рухнуло в эти августовские дни,
какая Система — тоталитаризма или социализма?
171
Каверзный вопрос. Конечно, в первую очередь — тоталитаризма. С социализмом
сложнее. Тут даже в терминах сплошная путаница. Может быть, я скажу не совсем
нечто общепринятое, но если говорить о социализме как об идее, то современное
общественное американское устройство можно частично назвать социалистическим.
Но в основном этот термин, само слово — ругательное. Правда, есть слово куда
более отрицательное, чем "социализм" или "коммунизм", — "фашизм". Это в Америке
совершенно ужасное ругательство. Но существовавший социализм ассоциировался
только с двумя историческими реалиями — национал-социализмом и сталинизмом. Даже
скандинавская социал-демократия у нас не только не модна, но ее вообще плохо
знают. Поэтому "социализм" и стал словом, которым пугают. А для обозначения
своей собственной системы по-прежнему пользуются словом "капитализм", хотя это
чисто пропагандистское слово, содержание его давно размылось. Того капитализма,
который имел в виду Маркс, давно нет, это очевидно. Мы, скажем, на
радиостанции "Голос Америки" давно понимали, что термин неудачный, что он устарел, надо
бы выражаться более адекватно... Действительно, интеллектуалы пользуются
какими-то другими понятиями, но они не имеют прямого выхода на политику и широкую
пропаганду. Мы понимали, что термин недействительный, но пользовались им,
потому что его все понимают — и внутри страны, и извне. Лучше, вероятно, говорить
про Америку — "общество частной инициативы". Но американцам вообще свойствен,
я вам скажу, изоляционизм, они не считаются ни с какими мировыми процессами
и исходят из того, что пусть мир приспосабливается к ним, а не наоборот.
По моим наблюдениям, это настроение, эта поза появились после войны. В
сущности, Америка была единственной подлинной победительницей. Они была богата,
она не была изувечена разрушениями и страданиями.
Иногда психологическое различие в поведении европейцев и американцев очень
резко видно. В дни Персидского кризиса по телевидению показывали совершенно
пустые магазинные полки Парижа. Неслыханное дело! Паника продолжалась, быть
может, два дня, но она была. Прошло пятьдесят лет, но европейцы помнят войну как
реальность, они живут с этим, даже поколение, уже не заставшее непосредственно
военных действий. В Америке этого нет.
В Америке самоизоляционизм, конечно, очень характерен. С одной стороны, очень
много информации, самой разнообразной, обо всем на свете, но по-настоящему
Америку интересует только она сама. Такое есть. С другой стороны, — напротив,
миссионерский порыв. Молодежь рвется в Корпус Мира, сегодня — огромный порыв
помочь вашей стране... Дух миссионерства, конечно, жив. Но, что важно понять,
тут не о военных речь. Содержание военных стоит нам очень и очень дорого. Первая
мысль, которая появилась в моей голове, во многих головах, когда советские войска
стали покидать европейские страны, — выводите американские войска! Все, до
последнего солдата! Если кто-то в Европе нуждается в защите, пусть защищается сам!
Военные не приносят нам ни пользы, ни уважения, они — не послы доброй воли. Послы
доброй воли — наша наивная молодежь, наш Корпус Мира.
У нас, конечно, много своих проблем. Скажем, незаживающая рана —
воспоминание о вьетнамской войне. Что всех мучит — невозможно понять, как
случилось, что Америка втянулась в это грязное дело и застряла там! С ее-то
демократическими институтами и порядками? Официально, заметьте, войны не было, т.е. ее никто
никому не объявлял: ни Америка Вьетнаму, ни Вьетнам Америке. Но ведь это был
настоящий, нешуточный вооруженный конфликт, где погибло 50 тысяч человек, больше,
чем у вас в Афганистане! А сколько раненых и искалеченных!.. У власти в тот период
была довольно сильная команда — этих политических деятелей до сих пор
продолжают называть: "те, кто втянул нас в войну во Вьетнаме". Вот вам и хваленая
демократия. Все оказалось нарушенным. После вьетнамской войны начался кризис
власти, который длился чуть ли не десять лет. До сих пор не совсем понятно, как
конкретно все это случилось, и это волнует, это принципиальный вопрос, значения
которого европейцы, по-моему, до конца не понимают. Подумаешь, мол, американские
переживания, какие-то штучки...
Надо заметить, что жестокость вовсе не противоречит демократии.
Чрезвычайное положение может быть объявлено, а у президента в конце концов очень сильная и
реальная власть, но — все должно быть по закону, все может и должно быть предано
огласке, проанализировано и т.п. Может быть, у вас не все хорошо это понимают.
Но сейчас, мне кажется, у вас хороший шанс, создалось, наконец, нечто вроде прави-
172
тельства народного доверия — по крайней мере в России. Эти августовские дни —
тоже незабываемый психологический опыт: люди не испугались, вышли на улицу, они
что-то продемонстрировали, и было видно, что от их позиции реально что-то
меняется.
Когда у общества есть проблемы — это, по-моему, нормально. Ненормально об
этом молчать, не обсуждать их. У нас, например, в Америке с бюджетом — дрянь,
живем в дефиците. Ситуация, которая может привести к катастрофе. Очень
серьезный вопрос — преступность. В городах уровень преступности совершенно
недопустимый. Трущобы... Рядом с обычными кварталами — совершенно другой мир, мы его
плохо понимаем, закономерности, причины его образования. Тут, правда, все так
относительно. Одна моя знакомая из Лондона просила показать американские
трущобы. Я провез ее на машине через очень сомнительный и опасный район
Вашингтона, но она не восприняла его как трущобу — потому что сравнивала с тем, что
видела в Лондоне.
Вы, очевидно, обратили внимание, что православная церковь стала активной
участницей нашей духовной и даже политической жизни. Как Вы к этому относитесь?
»
Очень положительно. Православная церковь, безусловно, вдруг как-то поднялась
в последнее время. Она поднялась и символически, и физически, и морально. Она
проявила себя как положительная сила, приняла непосредственное участие в
происшедших событиях. Это прекрасно, я вижу здесь желание принять участие в реальной
жизни людей. Вообще это странная постановка вопроса — о том, что церковь не
должна вмешиваться в жизнь... Но если здесь это была, вероятно, вынужденная
политика, то в эмиграции церковь пошла на это добровольно.
Но я вовсе не хотел бы, чтобы православие стало какой-то государственной
религией. Академик Лихачев, выступая, говорил, что это было бы ужасно. Я с этим
согласен.
В рамках Конгресса нас возили на мероприятие в Даниловом монастыре. Нас
принимал митропслит, очень импозантный, безусловно, умный человек, владеющий
словом. Все мероприятие было прекрасно организовано. Один из выступающих
священников говорил, кстати, о том, что русское православие не должно себя
связывать с традицией русской монархии. Мне это было приятно слышать, потому что
наша церковь в эмиграции отстаивает русское самодержавие и не желает этим
поступиться. По-моему, это уже мракобесие. Это — антитерпимость, антидемократизм, и
это совершенно не соответствует реальным потребностям времени.
Мне очень приятно было видеть, что сам собор и музей Данилова монастыря
хорошо содержатся, все так аккуратно, все в порядке, все как полагается быть.
Бросилось в глаза, что в связи с нашим приездом церковь особенно старалась
произвести хорошее впечатление. Ведь к церкви Московской патриархии существует
непримиримое отношение со стороны церкви русской эмиграции. Тут было
продемонстрировано явное стремление к преодолению давнего конфликта.
Надо сказать, что православная церковь в Америке обладает рядом
особенностей. Она неплохо вписалась в сложившуюся ситуацию, в американский
контекст. Небольшая семинария, которая там есть, пользуется хорошей репутацией;
кроме того, эта церковь экуменически направлена, вплоть до того, что в настоящее
время президентом национального Совета церквей — это такое объединение
протестантских и прочих (кроме католических) церквей — стал русский православный
священник. Для того, чтобы выполнять такую роль, он должен проявлять и
толерантность, и уважение к различным формам веры, вплоть до тех, с которыми
реально православная церковь не может согласиться. Видимо, там православная
церковь понимает, что ей нужно быть в толще американской жизни. И они преуспели:
они хоть и небольшая, но самая независимая православная церковь, они никому не
подчиняются, и они стремятся соответствовать духу времени и реальной,
переменчивой жизни.
Конечно, церковь должна существенно перестраиваться изнутри, для того чтобы идти
в ногу с XX веком. Но в целом я — за развитие секулярной культуры как
доминантной, основной.
Как Вы думаете, какая у нас сейчас главная духовная проблема? После
пережитого в эти августовские дни? Как Вы это ощущаете? Ведь у многих сегодня —
колоссальная растерянность. Казалось бы, победа! Но после этой эйфории, которая всех вела
173
к Белому дому России, на баррикады, на митинги, которая так вдохновляла... После
похорон в субботу 24-го августа... Меня поразило количество людей, которым
требовалась помощь врача: все время кто-то падал в обморок, у кого-то было плохо с
сердцем. "Скорая" просто колесила по Манежной площади в толпе. Ничего подобного
не наблюдалось в предыдущие три дня тревожных митингов, хотя была та же толпа,
может быть, так же было душно... Мне кажется, наступала психологическая
разрядка... Вообще, после пережитого есть какое-то чувство опустошения.
Растерянность. Я бы сказала, потеряно какое-то привычное самосознание. Непонятно, как
жить с этим новым образом самих себя, которое мы вроде бы завоевали в дни
сопротивления путчу.
Да, трудный вопрос. Я действительно обратил на это внимание. Возникла какая-то
новая духовная трудность. Можно, конечно, сказать: надо работать, засучите рукава.
Кстати, в этом есть сермяжная правда. Но это все-таки что-то не то.
В начале беседы Вы уже говорили о том, что наши люди изменились,
они стали другими по сравнению с шестидесятыми годами. У меня нет такого
чувства, по крайней мере относительно себя, близких друзей, нашего научного сообщества.
Хрущевская "оттепель" дала очень много: все главные документы и книги были
прочитаны нами тогда. К общей картине за следующие годы добавлялись только
детали, общий эскиз был уже ясен. И мы все время эти годы, как мне кажется, очень
активно сопротивлялись Системе. Дело ведь не только в диссидентском движении,
о котором Вы говорили и которое было Вам видно извне, суть в том, что в деле
отторжения Системы участвовали огромные массы людей. Казалось бы, они на площади не
выходили. Но все же сознание большого количества людей работало не так, как
программировала Система. А главное, что случилось сегодня, — это развал Системы.
Она все-таки пала не под ударами инакомыслия, она развалилась сама, оказалась
нежизнеспособной, сгнила изнутри. Думаю, что только таким может быть
адекватный диагноз случившегося. В принципе это не было неожиданностью, развал
предсказывали экономисты и социологи — даже во временных сроках они не очень
ошиблись. Все было ожидаемым. Но все же это событие производит грандиозное
впечатление. И вот теперь — неожиданная эмоциональная пустота, кажется, что
разверзлась бездна. Чем ее заполнить?
Вы знаете, мне кажется, здесь опять надо обратиться к тому, что разрабатывал
Сахаров. Он мыслил очень сильно и конструктивно, в высшем и лучшем смысле
слова — прагматично. Он говорил — это все опубликовано — о Конституции, о
ближайших направлениях демократического развития, некоторые из которых потребуют
большой работы, потребуют убеждений... Я думаю, Сахарова следует считать очень
влиятельным политическим мыслителем XX века, причем влиятельным не только здесь,
в России (это как раз пока потенциально), но и реально влиятельным — в Америке.
Я только одно хотел бы сказать, может быть — предостеречь. Меня пугает, как
все здесь увлекаются бизнесом. Причем рекламируется такой бизнес, который не мог
бы выжить в Америке. У нас давно ничего подобного нет. Все ориентируются на
какие-то сумасшедшие сверхприбыли, обещают, например, элементарные удобства,
а цены назначают совершенно чудовищные. Ах, говорят, за комфорт надо платить!
Но у нас предприниматель просто не может позволить себе такую роскошь, как
установить баснословные цены. Это просто его погубит. У меня такое впечатление —
хорошо, если я ошибаюсь, — что ваши первые бизнесмены не столько деловые
люди и производители, сколько ловкачи и рвачи. Они хотят сегодня заработать, а
дальше — хоть потоп. Так дело не пойдет.
Надо понять: бизнес — тяжелый путь. Надо тяжело работать. Но у вас большие
возможности.
Я понимаю, мир для вас стал сложнее. Это трудно. Но вот что я мог бы сказать:
я видел то, что осталось от памятника Дзержинскому, даже кое-что сфотографировал
на память. Там была очень интересная, очень важная надпись мелом на постаменте:
"МЫ БОЛЬШЕ НЕ РАБЫ". Это, я думаю, главное.
Беседу вела Н.И. Кузнецова
174
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
О свободе морального выбора
Сейчас трудно предположить с
определенностью, к какому "ценностному берегу**
в штормящем море перестройки мы
приплываем; но совершенно ясно, что судьба нашей
"советской" морали жестко связана с
необходимостью выхода политической,
экономической и иных структур общества из
семидесятилетнего состояния несвободы.
Известно, что любой нравственный идеал включает
представления о справедливом социуме и о
счастливом человеке. Так вот, счастье — это
такое нравственно-психологическое
состояние личности, которое никому не может
быть насильно навязано. Каждый сам к
нему должен прийти. А для этого
необходим определенный уровень социальной
свободы, чтобы ареал личной свободы был
ограничен лишь ареалами свободы других
членов социума.
Все разновидности тоталитаризма и
авторитаризма держатся на подавлении
индивидуальной свободы и активности, на страхе,
разъединяющем людей. Альтернатива —
плюрализм деятельности, мысли,
собственности, веры. Изменение нравственных
приоритетов в условиях демократизации
социальной системы предполагает практическую
инверсию прав субъекта морали от
коллективов различной степени общности — к
личности. И тогда личный интерес выйдет,
наконец, из-под подозрения, а с интереса
общественного падет корона "святости". В
нравственном отношении это может привести
к восстановлению действительных, а не
иллюзорных моральных стимулов любой
человеческой деятельности.
У общества в выборе генерального
основания экономической да и всякой другой
деятельности альтернатива проста: либо человек
(каждый) принадлежит себе (и только тогда
он личность), либо он принадлежит кому-то
или чему-то другому (государству,
коллективу, организации и т.п.), но тогда это —
рабство. Казарменно-уравнительный
коммунизм изначально сделал ставку на второй
тип отношений. Естественно, что жить в
обществе и быть свободным от него нельзя.
Но эта универсальная формула вовсе не
означает конституирование вертикальных
связей, связей индивидуальной несвободы.
Человек социален вовсе не потому, что
закрепощен. И если бы каждый из нас,
учитывая интересы других (а не считаться с ними
не получается, даже если очень хочется, —
закон не позволяет), имел постоянно
естественное и нравственное право на
индивидуальный выбор, — значит мы и были бы
свободными общественными людьми. А такое
общество было бы социалистическим, законы
бы принимались социумом не только для
охраны индивидуального, но и общего блага.
Если же сегодня основным субъектом
деятельности, отношений и сознания является
коллектив (любой степени общности), то нет
ни свободной экономической личности, ни
вообще индивидуальной свободы. И в этом
случае по существу не стоит вопрос о
личностных способностях и инициативах, да и
о самой личности. Нет свободы выбора —
нет и моральной ответственности за
содеянное. Значит, и возможности применения
моральной регуляции ограничены чуть ли не
пределом отношений "я — ты". Эта сфера
и становится "экологической нишей*9
выживания морали в тоталитарно-уравнительном
сообществе.
Нуждами эффективного
функционирования надличностной государственной системы
ограничены теперь и все индивидуальные
свободы: имущественная, образовательная,
культурная, информационная. О последней —
особо. Все казарменно-коммунистические
общества — закрытого типа. Их границы
призваны не столько сдерживать врага или
поток контрабанды, сколько удержать
собственных граждан в подчинении и
неинформированности. Вся поступающая гражданам
информация тщательно просеивается
соответствующими государственными
организациями на предмет выявления всего того, что
могло бы пробудить в индивидуальном
сознании даже сомнения в истинности, гума-
175
низме и справедливости такого
общественного устройства.
Нет сегодня никакого "всеобщего" кризиса
нравственности. Есть кризис и развал тех
суррогатов нравственности (классовых,
групповых), которые были навязаны самому
"бытию-общества-в-морали" мифоутопией,
налицо крах системы антиценностей как
закономерный результат прекращения давления
политики на мораль. Гуманизм и
сострадание, жалость и любовь, взаимопомощь
и доверие, избавившись от политического
гнета, вырвавшись за пределы только
межличностных отношений и чувств, вновь
станут социальными регуляторами. Это ведь
только с позиций "чистой" политики
"победителей не судят", но справедливость жизни
в том, видимо, и состоит, что "чистой"
политики на самом деле нет, что
нравственные результаты заложены в социальные
действия, а все значимые "для других" поступки
индивидов и деяния социальных групп
подлежат моральному "суду", моральной оценке
с позиций добра и зла. И как бы ни
двигала субъектом поступка сиюминутная,
тактичеркая экономическая, политическая,
клановая или иная какая выгода, от
нравственного результата не уйти и ни за
какие идеологии не спрятаться. Подлость
остается подлостью, щедрость — щедростью,
а доброта — добротой.
Чтобы избавить нашу жизнь от
ориентации на политико-идеологизированные
суррогаты нравственности, следует "развести по
местам" в гражданском обществе различные
сферы человеческой жизнедеятельности.
Государству — обслуживание интересов
гражданского общества. Партиям — выражение
политических интересов граждан и социальных
групп, дабы в демократической
конкуренции получать право выражать в
государственной деятельности эти интересы, равно как
и интересы других социальных групп.
Армии — охранять гражданское общество от
злокозненных врагов, а не
феодально-бюрократическую касту от всего остального
населения; границы беречь от завоевателей, а
не от собственного гражданина, рвущегося
любой ценой от тоталитарного удушения в
загнивающее болото "за бугром". КГБ — не
функцию политического сыска, а обеспечение
общественной безопасности от национал-
революционера с автоматом и от
высокопоставленного шкурника, мечтающего
обменять государственный секрет на личный
видеомагнитофон; функцию защиты прав
человека от идейных да государственных
посягателей на эти права. А Советам —
неусыпно заботиться о личном и общественном
благосостоянии, о том, чтобы не богатых
не было, а бедных бы не стало. Может,
сытый сытого скорей поймет, и сооргани-
зуются они не в дележе чужого или
ничейного, а в создании того, чего еще не было?
А из обихода нашего вдруг исчезнут и
нищенская люмпен-психология, и "побирушечная"
мораль со всеми их "дали", "выбросили",
"льгота", "очередь", "выслуга лет",
"выделили", "приглашение на сахар", "талоны",
"купоны", "продовольственная и
гуманитарная помощь из-за рубежа" и т.д. и т.п.
И чем тогда заниматься не "простому
советскому" человеку, а уже просто Человеку?
Делать любимую работу в
привлекательной, а потому самостоятельно выбранной
сфере жизни; продвигаться по социальной
лестнице благодаря исключительно своим
талантам и способностям; жить — где
хочется, отдыхать — где мечтается; любить
и ненавидеть — кого душа прикажет; быть
в гармонии с собой и с окружающими;
руководствоваться собственным мнением
вместо апокалипсического "мнения
коллектива"; не дрожать от страха, что "не так
поймут"; учить детей не из чьей-то милости,
минуя связи и взятки; не стоять в очереди
за материальными и духовными благами;
не вилять и не юлить, не выпрашивать и
не шагать по спинам других людей; не рвать
рубаху на груди в идейном верноподда-
ничестве; не раболепствовать слюняво по
поводу мудрейшего, судьбоносного указания
вышестоящего руководителя; жить
порядочно благодаря своим умениям, личным
усилиям и инициативе, любви и поддержке
близких, друзей, коллег; знать себе цену и
гордиться собой; припадать к живительным
источникам многовековой культуры своего
народа, не подменной суррогатами "культуры
социализма" да праздничными парадами
военного устрашения; приходить в раздумьи
к отеческим гробам, а не застывать в
оцепенении у рвов с миллионами предков,
расстрелянных и сваленных в "братские" кучи
"за идею", за то, что не успели они
растоптать в себе человеческое, не успели
превратиться в механических "членов коллектива".
Удел Человека и его естественное
право — постоянно, ежечасно делать свой выбор
в нормативно-ценностной, моральной
системе координат — самостоятельно и
ответственно, свободно и со знанием дела. Тогда
понятна задача этики как знания о морали:
обеспечить своим арсеналом нравственные
условия свободного выбора, нравственные
основы такого социального бытия, которое
достойно человека.
Существующую у нас
социально-экономическую систему улучшить нельзя. Не зря
она столь консервативна: любое изменение
неприемлемо, поскольку ведет к разрушению
ее слишком жесткой, инвариантной струк-
176
туры. Так, к примеру, подсунутая в начале
перестройки идея "ускорения" (т.е. улучшения
модели бесхозной экономихи) стоила нашему
обществу еще многих миллиардов рублей,
провалившихся в жерло уравнительного
коммунизма. Никакие моральные проповеди,
никакая нравственная просветительская
деятельность — не смогут изменить
нравственные устои общества в рамках
существующей более семи десятилетий безличностной
системы. Там, где нет стоящего прочно на
собственных "экономических ногах"
человека, появление самоопределяющейся,
уверенной в себе, отстаивающей свои права
личности как субъекта морали — исключено.
Свободный, обоснованный, уверенный и
ответственный моральный выбор может
делать только экономически свободный
человек. Не случайно мы не знаем ни одного
примера в истории, когда бы возникала
особая "мораль рабов" в противовес морали
свободных. Мы не можем назвать ни одной
моральной нормы, которая бы регулировала
отношения только между угнетенными.
Люмпен, не обладающий никакой собственностью,
в том числе и собственностью на себя,
не обладает и духовными ценностями; он
безнравственен изначально. Любая
моральная проповедь, обращенная к нему, не
находит подкрепления в его собственном
жизненном опыте.
Если жизнь примитивизирована и обес-
культурена, если она "стадна", то в ней очень
мало личностных "культуроносительных"
начал. Сегодня рассеялся наркотический дым
пропагандистской эйфории, клеймивший
предателей и отступников", ползущих через
границы "за длинным рублем". Обхватив
головы руками, признались мы себе, что
миллионы сограждан уехали не "к", а "от".
Почему припевкой нашего патриотизма
должно быть надрывное "Родину не выбирают?"
Мы кто, прокаженные, с вечно тяжелой
судьбой и сплошь героической историей? Нельзя
гордиться страной без чувства собственной,
личной гордости. Народ — не
арифметическая сумма представителей национальности,
проживающей на данной территории, это
нечто большее, но и человек — это не
индивид из массы себе подобных. Каждый —
богатейшая и неповторимая субстанция,
активное начало в историческом процессе.
Моральные нормативы в их всеобщности
ориентированы (в отличие от обычаев) на каждого
члена социума, но чтобы они "работали",
каждый человек должен быть свободен в
их выборе.
Переход к новым "отношениям с
будущим" может быть обеспечен только новым
пониманием моральной ответственности,
новыми моральными ориентирами
деятельности, ориентацией на реализацию родовой
сущности человека, на перспективную
гармонию социо-природного континуума.
Естественно, что доминирующую роль в этом
процессе сыграют не масс-культура, не масс-
мораль, а индивидуальная "моральная
вменяемость" свободного субъекта
нравственного выбора, несущего полную
ответственность как за выбор, так и за его
нравственные результаты. Но свободным человек
может стать, лишь утверждаясь хозяином
собственной жизни. Самоопределившаяся
личность решает вопрос "что делать?", а не
вопрос "чего делать нельзя?", для ответа ня
второй никакая личная определенность не
нужна. Поиски себя — необходимая
составляющая самоопределения, если этих поисков
нет, то нечего и думать о нравственной
целостности. Недостаточный индивидуальный
опыт при доминанте заученных моральных
решений, задаваемых извне, ведет к
индивидуальной моральной беспомощности, к
конкретной неспособности противостоять злу.
Мораль — не только гибкий, но и предельно
"упругий" способ освоения мира
человеком, моральная инерция, инвариантность
сознания и поведения обладают
значительным запасом прочности (что и
позволило морали "выстоять" в ожесточенной
борьбе с уравнительно-коммунистической
мифоутопией). В становлении
индивидуального нравственного уровня не стоит все
сводить к влиянию социума на личность.
Никакая управленческая технология вне
индивидуальных усилий не сделает человека
порядочным. Идеально такое состояние, когда
субъект морали сам задается
перспективными нравственными целями и даже успешно
противостоит внешнему негативному
влиянию. Множество людей, оказываясь в самых
сложных и трагических социальных
ситуациях, сохраняют высокий нравственный
уровень, находят силы для активного
противостояния злу, противоборства с ним. Дело
любого нормального общества —
предоставить индивиду свободу морального
выбора и необходимую моральную
информацию, "зарядить" его системой нравственных
ценностей, поставить перед ним моральные
задачи, обеспечить моральную регуляцию и
моральный контроль. Дальше — дело
каждого как морального существа, общество не
поводырь для "морально невменяемых".
И за 70 последних лет мы впервые
получили исторический шанс: крушение ми-
фоутопии и возвращение к морали дает
возможность формирования активной "добро-
утверждающей" человеческой
индивидуальности.
В. В. Борзых
Ml
Вспоминая Б.М. Кедрова
Осенью 1990 Года в г. Одессе состоялась Всесоюзная научная конференция — IV Чтения
памяти академика Бонифатия Михайловича Кедрова по проблеме: "Синтез знаний: новый этап".
Она была организована Институтом истории естествознания и техники АН СССР, кафедрой
философии естественных факультетов Одесского госуниверситета им. И.И. Мечникова и Одесским
отделением Философского общества СССР. Участники конференции познакомились с
фотовыставкой "Жизнь и деятельность академика Б.М. Кедрова", а также с выставками его трудов
и книг по проблеме Чтений. Присутствовали ученые из Москвы, Ленинграда, Одессы, Киева,
Минска, Ярославля, Махачкалы, Андижана, Алма-Аты, Сум, Курска, Херсона, Свердловска,
Николаева и других городов.
"Время бежит так стремительно, что наш вчерашний день сегодня становится уже историей, —
сказал в своем вступительном слове А.А. Печенкин. — Даже советская философия первой
половины 80-х годов уже история, и мы должны думать о методологически корректном ее
освоении. Историческая наука всегда концентрировала внимание на крупных личностях.
Именно такой личностью был в советской философии Б.М. Кедров. Как сейчас уценены, если
не обесценены, такие традиционные наши эпитеты, как "был в авангарде", "посвятил себя
борьбе", "внес вклад"!.. Все же без них не обойтись, вспоминая о Б.М. Кедрове, ибо он был
"бойцом идеологического фронта", "боролся за чистоту и творческое развитие марксизма-
ленинизма". Вместе с тем Б.М. Кедров внес вклад в советское менделееведение,
фактически создал его. Он много сделал для разработки наследия Ф. Энгельса, пропагандировал
энгельсовскую натурфилософию. В то же время Б.М. Кедров словами и делами учил молодежь
историзму и, предвосхищая многих западных авторов, связывал философию с обобщением
истории. Б.М. Кедров был организатором философии, и многие из тех, кто сейчас занимает
центральные позиции в этой области деятельност^были его учениками или сотрудниками".
"Б.М. Кедров — не история, — сказал В. Л. Рабинович, возражая А. А. Печен кину. —
Он наш современник и собеседник".
"Говорить о человеке, которого знала около сорока лет, и трудно и легко, — сказала
Э.Я. Кедрова. — Легко потому, что кажется, что за такой долгий срок можно все узнать о
человеке и все понять. Трудно потому, что о близком приходится говорить несколько отстранение
Бонифатий Михайлович был человеком многогранным и в то же время очень цельным.
Он был необыкновенно жизнелюбивым, веселым, жизнерадостным и чрезвычайно собранным,
целеустремленным во всем, что относилось к его работе. Он был совершенно непритязательным
и даже несколько легкомысленным в обыденной жизни, но очень ответственно относился
к своим обязанностям и обещаниям, даже самым незначительным.
Мне кажется, что его характер, способ существования, если можно так сказать, определила
одна черта. Он очень всерьез воспринямал жизнь, ее основы. И такие понятия, как долг,
порядочность, честность, дружба, ответственность, гражданственность,небыли для него
расхожими словами, которыми можно манипулировать в зависимости от меняющейся обстановки.
Он естественно и органично существовал в согласии с этими понятиями как в обычных,
житейских ситуациях, так и в общественной и научной деятельности. И те компромиссы,
которых он, естественно, не мог избежать в его весьма непростой жизни, существовали
до определенной границы, которая не нарушалась уже ни при каких обстоятельствах.
178
И хотя такой "способ существования" был достаточно трудным, а порою просто мучительным,
он позволял все же оставаться самим собой. Может быть, это и давало основание Бонифатию
Михайловичу считать себя счастливым человеком.
Мне хотелось бы привести несколько эпизодов из его жизни, которые могут охаракк*ри
зовать его.
В начале войны, в 1941 г. он вступает в ополчение, хотя и по возрасту и по состоянию то
ровья он мо! бы не идти в армию. Но для него не было ни колебаний, ни сомнении
Этот долг для него был в это время выше всего. Выше его любимой работы, выше страхи,
он был настолько естественен, что и выбирать ничего не надо было Пробыв до ранения *ы
одном из самых трудных участков фронта обороны Москвы, он оставался в армии до самого окоп
чания войны.
В 1949 г., когда его, человека, провоевавшего всю войну, обвинили в антипатриоти*м<\
ученого, активно и плодотворно разрабатывающего проблемы истории отечественной нячки
обьявили чуть ли не главой космополитизма в философии; коммуниста, для коюрого парит
марксизм, революция были не просто терминами, а делом его жизни, обвинили в илеалтм'-
и антипартийной деятельности, сняли с работы, на несколько лет лишили возможное н*
печататься и вести преподавательскую деятельность, он не опустился, не озлобился, не спит1 я
Он опять-таки поступил очень естественно для себя, найдя возможность и в этих обстоятельп
вах продолжать свою работу в единственно возможной области — изучение и разрабемка
научного архива Менделеева. Несколько лет с присущей ему скрупулезностью и uofipo
совеет ноет ью он дешифровывал и анализировал труднейшие рукописи, чм> отразилось и lm«.
многочисленных трудах впоследствии
В 1968 г. он тяжело переживал ввод наших войск в Чехословакию. Понимая неправомер
ность и трагизм этого события, он, с другой стороны, как бы разделял ответственное и,
за него. И так как для него всегда было самым важным найти какой-то приемлемый
в данной ситуации продуктивный выход, он включился в совместную работу с пражским
институтом философии. Несколько лет, отложив свои личные работы, он с большим фмюм
пробил совместную книгу. Книга имела определенный успех, а птавиое. >даля возм<>мсшч*« к
сохраниться в то время целому коллективу чешских ученых.
Можно было бы привести еще примеры, котла выбор в своей тй и ни иной цеятечыч •'••!!
он делал исходя не из своих личных интересов или вьп од, а подчиняясь долт v или необходимое, иг
Примеров же, когда он помотал люиям, а иногда и просто спасая было множество. Дч« н« и
это также было естественно. Иногда эта помощь оказывалась даже вредна ему. ино! »»я чч-чн
которым он помог, платили не только неблагодарностью, но даже становились ем> акшпнг
враждебны Но даже в таком случае он никогда не жалел о своей помощи. Может бьмь поюм\
что делал это очень легко, не взвешивая, нужно это ему или нет, достоин ли кто-то его помощи
и т.д. Просто сама возможность сделать что-то хорошее, полезное кому-то, причем глелам»
это быстро, энергично и даже как-то красиво, доставала ему искреннюю радость".
С докладом "Б.М. Кедров как методолог науки" выступил А.И. Уемов (Одесса). Он оста
повился на ряде актуальных современных проблем, на истоках социального кришеа, на
концептуальных ошибках, восходящих, по мнению докладчика, к классикам марксизма
ленинизма. Марксизм превратился в язык, в рамках которого существуют у нас все те направле
ния в философии, которые есть на Западе И в страшные годы сталинизма, и в тошнотворные
времена застоя находились люди, которые боролись с теми, кто тормозил процесс н.ичнот
знания. Основные битвы происходили в сфере методологии науки. И здесь ведущая роль
по крайней мере в послевоенный период, несомненно, принадлежит Б.М. Кедрову. Далее
докладчик проанализировал ряд его идей. Основной результат исследований Б.М. Кедром
в сфере методологии науки — построение им развернутой классификации наук на базе ид< и
Ф, Энгельса о формах движения материи. Б.М. Кедров извлек все, что можно было извлечь
из этих идей. По мнению докладчика, он показал не только их значимость, но и их ограничен
ность, необходимость нового подхода к классификации современного научного знания.
В докладе "Три этапа во взаимодействии физики и химии" А.А, Печенкин отметил -иг.
Б.М. Кедров, придерживаясь онтологической концепции соотношения физики и химии, иемьпы
вал трудности с осмыслением исторического пути взаимодействия этих наук. Докладчик ир«м
ложил трехэтапную гносеологическую схему взаимодействия физики и химии.
"Б.М Кедров, — говорил В.И. Корюкин (Свердловск), — как человек и ученый сформиро
вался под влиянием трех основных факюров: революции, которой он принадлежал по рождению
идеи которой он отстаивал до конца своих дней; демократической культуры, основаннш"
на глубоком уважении к человеку и ею труду; науки, коюрую понимал глубоко и оришмчн-
которой отдавал все свои силы.
Разумеется, Б.М. Кедров был сыном своего сложного времени, для которого характерны
как наивысшие подъемы человеческого духа, так и наиглубочайшие его падения... Что греха
таить, Б.М. Кедров отдал определенную* хотя и весьма скромную дань идеологической
форме, господствовавшей в нашей научной литературе в конце 40-х — начале 50-х годов.
Однако суть его позиции всегда была связана с защитой историзма в познании, с уважением
к научному факту, с раскрытием действительной сущности тех или иных взглядов и теорий".
В совместном докладе Л.Э. Венцковского и Ю.Б. Молчанова анализировались идеи Б.М.
Кедрова по проблемам классификации и синтеза наук в его трехтомном труде "Классификация
наук". Прослеживая диалектику процессов дифференциации и интеграции на различных
этапах развития научного знания, Б.М. Кедров отметил историчность классификационных
представлений, свойственных каждому этапу. Причем йся история развития
классификационных представлений о науке представляется как спор координационного и
субординационного принципов.
Анализируя тенденции в развитии научного знания и эволюции классификационной мысли,
свидетельствующие о намечающемся в последние десятилетия отказе от жесткого членения
знания на отдельные отрасли, Б.М. Кедров, подчеркивалось в докладе, описывает их как движение
от замкнутости наук к их взаимодействию, от множественности наук к единой науке, от
одномерности к многомерности в изображении классификации наук.
В своем докладе Г.И. Рузавин предлагал разграничить понятия интеграции, системности
и синтеза научного знания, поскольку это, по мнению докладчика, не только приводит к
путанице, но и не дает возможности глубоко разобраться в процессах, которые схватываются
этими понятиями. К интегративным докладчик отнес все процессы объединения знаний,
направленные к достижению более полного и целостного знания. Степень этой целостности
и единства знания может варьироваться в достаточно широких пределах. Потому, когда
говорят об интеграции, то ее противопоставляют дифференциации знания. Синтез же знания,
подчеркнул докладчик, предполагает не простое объединение различных его элементов,
а объединение их в рамках единой концептуальной структуры. Типичный пример такого
синтеза — научная теория. Синтез может осуществляться и в рамках более широкой
концептуальной системы, например, междисциплинарного направления (общая теория управления в
кибернетике, единая модель самоорганизации в синергетике).
В докладе У.А. Раджабова (Махачкала) рассматривались методологические принципы
как фактор интеграции научного знания на основе идей Б.М. Кедрова. Э.В. Гирусов подчеркнул
роль социальной экологии на новом этапе синтеза научного знания. Для успешной разработки
социально-экологических проблем требуется синтез общественных, естественных и
технических наук в целостной научной теории, которую нельзя квалифицировать иначе, как социо-
естественную по существу, призванную изучать особенности взаимодействия социального
и природного. Речь идет о формировании такой необычной области науки, отметил-докладчик,
предметом изучения которой должны стать не сами по себе природные или общественные
явления, а законы их соотношения или, лучше сказать, совместимости. Отсюда вытекает
особая сложность синтеза социально-экологического знания.
В докладе В.Л. Рабиновича были проанализированы четыре синкретических концепта
западной алхимии в свете современного естествознания. Докладчик отметил, что его исследования
по истории алхимии во много стимулированы текстами и советами Б.М. Кедрова.
В рамках конференции состоялись заседания пяти "круглых столов", на которых
развернулись оживленные дискуссии, посвященные различным методологическим аспектам
проблемы синтеза знаний.
Участники Чтений наметили проведение следующих V Чтений памяти Бонифатия
Михайловича Кедрова в г. Ярославле.
А.А. Печенкин, А.В. Чайковский
180
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
О серии "Из истории
отечественной философской мысли"
Значительная часть телефонных звонков и получаемых редакцией журнала
писем касается приложения "Из истории отечественной философской мысли".
Нам пишут те, кто по каким-то причинам не смог подписаться на очередной
год; шлют жалобы на то, что сильно запаздывают, а порой и не доходят
до ' подписчика (что, впрочем, случается редко) отдельные тома; в письмах
есть советы и пожелания по составу серии. Иногда, что, конечно, приятно
небольшому коллективу, непосредственно работающему над приложением, приходят
письма с положительными оценками и поддержкой замысла и уровня
исполнения серии.
Наверное, самое трудное — начать какое-то рассчитанное на длительную
перспективу дело, но в наше нестабильное время и продолжение его наталкивается
на массу проблем как внутри, так и вне редакции. Мы и сами понимаем,
что наши подписчики предпочли бы получать тома приложения с такой же
периодичностью, с какой выходит журнал, а не дожидаться их до конца года.
Однако особенности производственного процесса, а также сбои в процессе
прохождения книг в цепочке редакция—издательство—система распространения пока
еще не позволяют добиться такого идеального варианта (хотя мы и намерены
стремиться к нему). Просто физически не имея возможности ответить на все
письма наших подписчиков, хотелось бы через журнал прояснить наиболее
типичные вопросы.
Прежде всего читатели должны иметь в виду, что наша редакция занимается
только творческой стороной издания серии: определением состава томов,
текстологической работой, комментированием произведений, их подготовкой к печати.
Подписка и распространение книг производятся отделениями связи и целиком
определяются установленными в них сроками и правилами. Поэтому мы не можем
помочь тем, кто в срок не успел подписаться на приложение; достаточно
сказать, что сами сотрудники журнала подписываются на него в обычных
почтовых отделениях. Можем лишь порекомендовать следить за нашими объявлениями и
сроками подписки, когда же какие-то тома не приходят — настойчивее
требовать их от руководителей местных отделений связи.
Какова же нынешняя ситуация и каковы дальнейшие планы редакции? Вышли
полные комплекты приложения за 1989 и 1990 гг. Кстати сказать, их выход
уже стал фактом нашей духовной культуры. Идеи замечательных русских
философов входят в культурный обиход, активно используются преподавателями
философии, их отзвуки слышны порой даже в политических дискуссиях. Теперь
нельзя уже просто замалчивать отечественное философское наследие или же,
напротив спекулировать на нем: тексты философов говорят сами за себя.
Начали выходить тома 1991 г. — "Вехи. Из глубины" с обстоятельными
комментариями, произведения Н.О. Лосского, В.Ф. Эрна. Печатаются тиражи и всех
других заявленных в серии работ: однотомников П.И. Новгородцева, Б.П.
Вышеславцева Вяч. Иванова, двухтомников Л.И. Шестова и О.С. Булгакова. На наш
взгляд, состав томов 1991 г. очень интересен, мы надеемся, что и подписчики
оценят его и, возможно, простят редакции и издательству опоздание с
выходом серии в свет. v
Редакция сдала в набор первые работы 1992 г.: тома И.А. Ильина, АС.
Хомякова, К.С. Аксакова, П.Б. Струве. К сожалению, жизнь внесла коррективы
181
в наши первоначальные планы. Из-за перерыва в работе Библиотеки им. В.И.
Ленина не удалось в отведенные сроки завершить работу над частью неизданного
наследия М.О. Гершензона. И хотя основные рукописные материалы уже
обработаны и будут изданы, вместо двух томов М.О. Гершензона в 1992 г. выйдет
только один. Чтобы не слишком ломать планы серии, мы решили подготовить
двухтомник (вместо однотомника) Е.Н. Трубецкого, что, кстати говоря, позволяет
издать фундаментальную работу философа "Миросозерцание B.C. Соловьева".
В основном определен круг философов, труды которых выйдут в серии в 1993 г.
Готовится двухтомник В.И. Несмелова, включающий его известный труд по
философско-религиозной антропологии. Видный польский исследователь русской
культуры А. Валицкий, работающий ныне в США, передал в редакцию работы
Сергея Гессена, практически недоступные у нас в стране. А. Валицкий общался
с С. Гессеном в Польше в последние годы его жизни; он любезно согласился
подготовить двухтомник философа с помощью наших переводчиков и
редакторов. В планы включена публикация трудов крупнейших русских философов Л.П.
Карсавина и Ф.А. Степуна. Мы хотим также познакомить читателей с работами
Г. П. Федотова, с наследием неолейбницианца. А.А. Козлова и известного русского
неокантианца Й.И. Лапшина. Планируется издание в серии тома этических и
религиозно-философских произведений Л. И. Толстого.
Вряд ли пока стоит говорить подробно о дальнейших планах. Замечу лишь,
что в редакции помнят о исходной программе серии. Уже рассматриваются
заявки и ведутся переговоры о подготовке работ С.Н. Трубецкого, П.Н.
Милюкова, Б.Н. Чичерина, Андрея Белого, К.Н. Леонтьева, Н.И. Надеждина, Б.А. Кис-
тяковского, Е.В. Спекторского, О.Г. Флоровского, О.В. Зеньковского, Н.Н. Страхова,
Л.М. Лопатина, С.А. Аскольдова, Б.И. Яковенко, П.П. Блонского, Т.И. Райнова,
М.М. Бахтина, некоторых других философов. Если эти планы удастся
реализовать, то, как нетрудно видеть, через несколько лет постоянные подписчики
приложения статт"т обладателями комплекта из 70—80 томов, в которых
отечественное фило- ское наследие будет представлено хотя и не целиком, но все же
достаточно полно.
Недавно со страниц журнала "Наш современник" (статья И.Н. Смирнова
"Философия смуты**, N 11 за 1991 г.) раздались обвинения в том, что
составители серии проявляют тенденциозность при отборе издаваемых трудов. Если
взглянуть на перечисленные выше имена, то легко убедиться в несостоятельности
подобных упреков (мы не говорим уже о том претенциозном и странном
судилище, которое Й.Н. Смирнов устроил в этой статье над многими крупнейшими
представителями отечественной философии).
Следует сказать, что период экономических реформ с инфляцией и
неустойчивостью производственных связей — не самое лучшее время для подготовки
и издания многотомных серий. Однако труды отечественных философов и так
слишком долго ждали своего выхода к широкому читателю, чтобы их издание
можно было откладывать до лучших времен. Вряд ли возрождение философской
и шире — гуманитарной — культуры в России возможно без доступа к наследию
наших замечательных мыслителей.
Наша серия печатается в мощном, располагающем хорошей полиграфической
;л~>ой издательстве "Пресса" (бывшее издательство "Правда"). Есть ли
уверенность в том, что и через год это издательство будет выпускать наше
приложение? Признаемся откровенно, что пока таких гарантий мы от издательства
''Пресса" не получили. Но мы надеемся, что редакции удастся продолжить
издание серии, пользующейся авторитетом и устойчивым спросом у читателей.
Здесь мы рассчитываем на помощь всех, кто заинтересован в возрождении
отечественной философской культуры. И конечно же, нам очень важна поддержка
наших читателей, которые подписывались и продолжают подписываться на серию
в условиях не только отсутствия какой-либо ее рекламы, но даже мало-мальски
сносной информации о ней. Вот этот недостаток мы постараемся исправить и
будем впредь регулярно сообщать через журнал о состоянии дел с приложением,
о составе готовящихся томов, об условиях и сроках подписки.
В. П. Филатов
Редактор отдела приложения
"Из истории отечественной философской мысли"
182
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИ
Я
Пушкин в русской философской критике. Конец XIX
половина XX вв. (Сост., вступ. статья, биобиблиограф,
Р.А. Гальцевой). М., "Книга", 1990, 527с.
первая
Одной из наиболее интригующих задач
истории мысли представляется сейчас
выявление сюжетов философской критики,
которые разворачиваются в пространстве
специфического диалога слова литературы и
публицистического противослова. Но чтобы
приступить к этому занятию, надлежит хотя бы
собрать достаточно репрезентативные
тексты,. Именно эту цель преследует
рецензируемая книга.
Похоже, становится традицией открывать
этот тип издания текстами исторического
инспиратора религиозного возрождения
В. Соловьева. Вряд ли здесь уместно
рассуждать о том, что ни религиозная
философия, ни философская критика Пушкина не
датируют своего рождения соловьевскими
текстами. Хронологические рамки материала
ясно указаны на титуле книги, так что
читатель, пролистав первые две статьи, может
убедиться в том, что в них двадцатому
веку была задана методологически
необратимая оглядка на соловьевский масштаб и
глубину ракурсов философского
комментария. Пушкин подан в этих вещах в векторе
провиденциальной свершенности и в
эстетическом совершенстве судьбы ("Судьба
Пушкина", 1897), а его творчество — в аспекте
художнического универсализма, который
внутри авторской практики поэта был
"гениальным перерождением жизни в поэзию"
(с. 21). Соловьеву первому удалось понять
пушкинскую жизнь как художественное
произведение. Такой подход позволил, не
впадая в односторонность вроде писаревской,
подвергнуть "текст жизни" Пушкина
этической критике. Некоторые интонации, в
которых Соловьев осуждает му1?'кин''«"К' • • ••
"самолюбия и самомнения1* (с 7/0, н< «\-ч
гневом и дуэльную игюрию, moi \ i «» . •
заться читателю пуриюнекон щи».*у ч^ :;
Не забудем, однако, и тон\ что ч».> ;м •
переживает япленис ГГуткиня рл?' • >*
собственному характеру, и ярял ни ш •
самом говорит философ, коню упкгж ь
что великий поэт России "ниског<ьк< »*< .
готился... непроходимою пропастью w * •
поэзией и житейской практикой" (с. 22)
Новаторский и потому рискованный *. <
мысли дал Соловьеву возможность и>«мч
нентного анализа исторического xawt
жизни Пушкина, выйти на типологию
наставлений о судьбе, на разговор о <<' • :>■<
отношений действительности к идеалу, »м • -
ложить программу определения поняги*
ния (см. с. 19). Статья "Значение поэ*ч»
содержит обширный экзегетический )p!»\i
в семантику "пророка" (с. 55—81), обр ! • *
торого Соловьев предлагает не путаг*. \ Ф<-
гурой жреца и тем более поэта, чьи са криль
ные функции провозвестника и нарожмюди-
теля могут быть приняты лишь как идеальная
норма, но не как актуальная социальная
практика. Можно спорить о мере принятия
Соловьевым стереотипа романтическо! о
"поэта-пророка", но свое дело эссе 'Я99 года
сделало: теперь стихотворение 'Пророк"
встало у порога своей новой суцьбь в интер
претирующей его смысл отечественна й герм*'
нетике. Как "Шинель" Гоголя r исю;»-
литературоведения, п/шкинский "Пр-Т"'1'
стал материалом, на югорем система;им <
ки пробует свои воэможносгя филосо)" • •'
критика текста
В анализах этого текста с максимальной
ясностью проступают очертания авторских
концепций. Герменевтическая рецепция
пушкинского наследия совершается в режиме
философской мифологизации Пушкина на
соответствующих мировоззренческим
предпочтениям языках описания. Для Мережковского
в "Пророке" дано поэтическое осмысление
сакральной процедуры, в результате которой
"созидаются избранники божественным
насилием над человеческой природою" (с. 131;
обратим внимание на оксюморон
"божественное насилие", выдающий
религиозно-этическую слепоту автора). В контексте своих
представлений о "нисхождении" (Бога к человеку)
и "восхождении" (человека к Богу) трактует
"Пророка" Вяч. Иванов: он видит здесь
"образ целостного и окончательного
перерождения личности, которое в некотором смысле
равносильно смерти" (с. 255). Софиология
С. Булгакова отыскала в пушкинском шедевре
свидетельство "софийности его поэзии" (с.
280), а в фигуре пророка — запечатление
тварной (падшей) Софии. Кажется, недалек
от истины В. Ходасевич, суммирующий эти
мнения: "У Соловьева речь идет о слабом
человеке, а у о. Булгакова — о падшем
пророке"; "...Не пророком, падшим и вновь
просветленным, а всего лишь поэтом жил,
хотел жить и умер Пушкин" (с. 493). Со
временем "Пророк" окажется у начала интенсивно
развиваемой русскими философами
экзистенциальной темы "встречи" (отметим: задолго
до внимания к этой мифологеме в западной
традиции). Так, вся понятийная композиция
статьи С. Франка 1924 года "Духовная
пустота. Встреча с Живым Богом" растет из
выставленного в эпиграф "Пророка". Не
обобщая этого наблюдения, скажем, что
пушкинские цитаты (как "мысль изреченная
есть ложь" Тютчева или "красота спасет мир"
Достоевского) в составе философской прозы
XX века станут своего рода генераторами
мировоззренческих конструкций,
превратившись в тот тип текстовой реальности,
который так удачно означен П.Флоренским
словечком "псевдоэпиграф" ("Памяти Ф.Д.
Самарина", 1917).
Ситуация с "Пороком" показывает нам
наличие в русской философской критике того
уровня ее практики, на котором
пушкинский текст эксплуатируется в роли метаав-
торского аргумента и в пользу той или иной
доктрины аналитика. Так Пушкин
становится то персоналистом, то софиологом и т.п.
В смысловом пространстве пушкинского
наследия религиозная мысль ищет (и находит!)
свои картины мира, не исчерпывая,
разумеется, Пушкина без остатка, но продуктивно
расширяя горизонт пушкинского видения и
углубляя онтологические перспективы его
184
Вселенной по всем параметрам стоически
принятого и благоговейно признанного поэтом
Божьего мира.
С другой стороны, обнаруживает свое
присутствие иной уровень, где происходит
процесс, во многом противоположный
описанному. Здесь идет далеко идущая "игра в бисер";
по ее ритуалу Пушкин трактуется на
поразительно цепком, до середины нашего века
дожившем эстетическом жаргоне, который,
вырвавшись из книги молодого Ницше
"Рождение трагедии из духа музыки" (1872), и на
русской почве неутомимо строил и разрушал
столь же великолепные, сколь и эфемерные
критические дворцы авангарда. На какое-то
время оказалось достаточным призвать имена
Аполлона и Диониса, чтобы прослыть своим
в мистеральном ордене эзотерического
пушкинизма. Оппозиция "Аполлон — Дионис",
удобная для техники эстетического
комментария (как и сам метод бинарных оппозиций,
на котором выросло несколько направлений
анализа текста), позволила строить суждения
о Пушкине в форме логически
самодостаточных импликаций, хотя на деле это нередко
завершалось производством оксюморонов,
как у Мережковского, изобретателя формулы
"Пушкин — язычник-христианин" ("Пушкин,
1896). Так рождается философский миф
"двупланового Пушкина". С. Булгаков
утверждает: "Пророческое творчество в нем, извне
столь "аполлоническое", уживается с
мрачными безднами трагического дионисизма,
сосуществованием двух планов, в которых
творчество продолжает свою жизнь
преимущественно как писательство" (с. 287). В
блестящем эссе В. Ильина "Аполлон и Дионис
в творчестве Пушкина" (1938) раскрывается
картина борьбы "аполлонического" и "диони-
сийского" в творческой судьбе
"человека-артиста" (вспомним актуальность этого
термина-образа Ницше в эстетических
программах йека — от А. Белого и Блока до
А. Мейера и Ф. Степуна). По Г. Федотову,
в "Медном всаднике" иррациональные
исторические стихии (дионисизм свободы)
укрощены Аполлоном-субординатором
(законодательным строем Империи). На этом фоне
более чем уместно звучит голос автора
заметки "Два маяка" (1937), утверждающего,
что чувство красоты у Пушкина (и
Баратынского) "совсем не то, что разумеет Ницше,
говоря: "только как эстетический феномен
жизнь и мир навеки оправданы". Тут
красота — творимая духом ценность; там —
открывающая духу, хотя и непостижимая ему,
действительность" (с. 251). По иронии
ситуации, сказано это ведуш;им "дионисийцем"
эпохи символизма и автором целой
монографии "Дионис и прадионисийство" (1923) —
Вяч. Ивановым.
"Ницшеанизация" Пушкина (а также
Л. Толстого и Достоевского) осуществлялась с
помощью нехитрых посылок, что было
высмеяно Соловьевым: "Maj.: Великий поэт
должен быть воплощением ницшеанских идей;
Min.: Пушкин был великий поэт; С: Ergo —
Пушкин был воплощением ницшеанских
идей" (с. 30). Квазипоясняющие итоги
подобной логики читатель увидит в
опубликованной годом раньше статье Мережковского:
"... Ницше — родной сын Гете, Лев Толстой —
родной сын Пушкина. Автор "Jenseits von Gut
und Bose" довел олимпийскую мудрость Гете
до такой же заостренной вершины и обрыва в
бездну, как автор Царствия Божия
галилейскую мудрость Пушкина" (с. 151).
Тема "мудрости Пушкина",
"обогащенная" контекстом "Веселой науки" (1882),
также достаточно быстро обратится в тему
"веселой мудрости" (с. 140). Через сорок с
лишним лет И. Ильин поддержит от
современников идущий романтический (и весьма
привлекательный своей эпистемологической
наивностью) миф о поэте — "великом и
гениальном ребенке" — и скажет: "В этом
гениальном ребенке, в этом поэтическом предметовид-
це — веселие и мудрость мешались в некий
чистый и крепкий напиток" (с. 352). П. Струве,
благоразумно разводя Ницше и Пушкина
(уступая, впрочем, традиции сближения ба-
денского философа и Достоевского — с. 325),
предпочитает говорить о "духе и слове
Пушкина", отмеченными "мудрым
историзмом" (с. 321).
Множество споров вызвала в свое время
работа М. Гершензона "Мудрость Пушкина"
(1917). Задача сформулировать
"имманентную философию Пушкина" (с. 239) решается
в конструировании еще одного
комментаторского мифа — иудейского. В
противовес розановскому язычески "плотяно-
му" и "все-божному" Пушкину (с. 174)
и в пику ивановскому "Пушкин-Эллин",
Гершензон, говоря о Пушкине, видит, как
"в его знакомом, европейском лице
проступают пыльные морщины Агасфера...". "Он
беспримерно индивидуален в своем
созерцании, и однако чрез его мышление течет поток
ветхозаветного опыта" (с. 212). Эта установка
лишь отчасти проясняет парадоксальные
суждения Гершензона, вроде: "Разумение
Пушкина... имеет своим предметом
исключительно жизнь духа..."; "Пушкин должен был
безусловно отрицать рациональную
закономерность духовной жизни, т.е. эволюцию,
прогресс, нравственное совершенствование"
(с. 230); "Пушкин... ненавидит просвещение"
(с. 232). Но полемический контекст
диалогов Гершензона с Розановым и Вяч.
Ивановым раскрывается в других его вещах,
о значении которых здесь можно только
напомнить1.
Книга Гершензона сыграла
значительную роль для дальнейших штудий
пушкинской философии жизни и творчества.
Впечатляющий тому пример — цикл работ
С. Франка, назвавшего "искусственность и
нарочитость положительных конструкций"
Гершензона "почти невыносимой" (с. 426).
Франк занял в данной антологии почти
четверть объема, но жалеть об этом не
приходится. В его прозе ощутимо наметился
переход от того типа рефлективного
"письма", который в западной традиции
определился в термине "эссеизм", к подлинно
философской пушкинологической
герменевтике. (Заметим в скобках, что переход этот
не завершился появлением новых тенденций;
традиция была оборвана в момент
рождения: заканчивали свой путь последние
энтузиасты русского религиозного
возрождения.) Франк предлагает попытку "дать как бы
некий реестр духовного хозяйства Пушкина
или набросок "феноменологии" пушкинского
духа" (с. 447). В сфере эмпирии она
проявлена музыкальным сопряжением гармонии и
бунта ("вечно детское"); в сфере внутренней —
как духовная диалектика сложных переходов
"демонических" состояний в трагедию
"разорванного сознания" с разрешением ее в
творческом катарсисе и стоическом просветлении.
Наконец, в сфере религиозного опыта Франк
наблюдает "благостное примирение с жизнью
через внутреннее преображение личности,
преображающее мир и дающее ощутить его
божественность" (с. 450).
Основной пафос шести работ Франка —
в стратификации и уточнении параметров
мира категорий творческого мышления поэта
и мыслителя. Чрезвычайно актуально для
сегодняшнего понимания Пушкина выглядит
обоснованная Франком необходимость
создать "толковый "философский" словарь"
Пушкина (с. 450). Обобщение новаторского
опыта Пушкина в области политической
терминологии читатель встретит в книге Фран-
См. позднейшую "Переписку из двух
углов*' М. Гершензона и Вяч. Иванова (1921)
и вызванную ею полемику, в частности:
ФлоровскийГ. В мире исканий и
блужданий. I. Знаменательный спор ("Русская мысль",
1922, кн. IV. Прага-Берлин, с. 129-140);
Ландау Г. византиец и Иудей (там же,
кн. Ml, 1923, с. 182-219); ШлёцерБ.
Русский спор о культуре ("Современные
записки", Париж, 1922, т. II, с. 195-211).
С другой стороны, весьма важным
представляется материал переписки Гершензона и
Розанова: см. "Новый мир", 1991, N 3.
С. 215-242.
185
1 м niiii ник полишческий мыслитель'
t i . ' i иеиикшмю для современных пуш~
ч . .uv. I и н среде коюрых господствует стой-
л: щк небрежение к наследию философской
wniMi поз вопим себе выписку из этого
■ v ;х фошиия* "Если в политической мысли
•$Х »<. ка (и. я общем, вплоть до нашего
ooMeiiit) юсподс] повали два комплекса приз-
.и ков' "монархия сословное государство —
4еспо1и*м" и "демократия -- равенство
i «обода", которые противостояли (и противо-
сгоий друг другу как "правое** и "левое"
миромяерцание, то Пушкин отвергает эту
югиолствующую схему — по крайней мере,
в iи ношении России -- и заменяет ее сов-
сс.ч) иной группировкой признаков.
"Монархия сословное государство — свобода —
а«'нс<ф1>а1изм** выступают у него как един-
cibo, стоящее в резкой противоположности к
комплексу "демократия — радикализм ("яко-
бинешх»"; — цезаристский деспотизм". Где
не! гюиьисимых сословий, там господствует
равенс «ж> и развращающий деспотизм" (с. 420).
Чи(агсль почувствует, что одним из кри-
(ериев отбора вошедших в антологию
исследований была мера глубины проникновения
коммен 1ирующей мысли авторов в свой
пре.чмег В этой связи не лишним будет
'•isu.iiib мца lejibHOCTb, с какой из огромной
* iii.-i.i vi*cu!!c< кой продукции были отфиль-
^ twuibi icbcibi. максимально адекватные
s...v "предмету* Критерий адекватности,
он »»мо, трудно было сочетать с принципом
sf .Miuiioi ической непрерывности (из антоло-
■ »• -.■» целиком выпали 20-е годы).
- ына из цен1ральиых проблем книги —
(«чмфос о природе религиозности Пушкина.
И "Д^од к теме осуществляется не через
ананиз внешне-бытового обстояния (что не
pas продемонстрировала масс-пушкинистика
с ее стремлением создать образ воцерковлен-
ного Пушкина), а путем раскрытия
духовной содержательности специфично пушкин-
<ких мифологем (для Франка — "светлая
печаль", для Струве — "ясная тишина").
Коммен iарий темы смерти у Пушкина
позволяет С Булгакову сказать: "На смертном
одре под христианин в молчании своем снова
поднимас(ся до просветления пророка, через
смерть восходя к духовному воскресению..."
U 289). Конечно, в этом суждении еще
слишком сильны личные интонации автора "Со-
фиологии смерти", но вот тезис И. Ильина:
"Мы говорим не о церковной "святости"
нашею великого поэта, а о его пророческой
силе и о божественной окрыленное/пи его
творчества" (с 330). Большинство авторов
сошлись на мысли о религиозном гуманизме
Пушкина, универсальным выражением
которого с шло освящение творения и твари,
творчества и творца. В Пушкине философской
критике дана была моцар1ианская от
крытое 1ь Богу и миру, национальный гений
народа с исключительной полнотой
раскрывает в его творчестве артистические
возможности пластического самовыражения.
"Соседство Бога" для Пушкина — это и "чаяние
последней свободы" (Федотов, с. 367), и
"тоска по святой жизни" (Вяч. Иванов,
с. 262), и признание высокого сакрального
содержания красоты и эроса (Франк, с. 390-
394). Не следует ли и нам прислушаться
к этим соображениям и вспомнить о том,
что только действию пушкинской традиции
христианского гуманизма мы обязаны тем
фактом, что мотив освящения жизни
сохранился на все столетие русской классики?
Философскую антологию
пушкиноведения ждали давно. Филолог мог бы предъявит ь
к ней ту претензию, что в книге нет
комментаторской корреляции на накопленную
пушкинистами фактологию. Историк
философии сказал бы, что одной из задач
комментария должно стать прояснение
логических приемов анализа пушкинских вещей в
контексте той или иной философской
традиции. Однако не будем забывать и того,
что перед нами — первый опыт подобного
издания, так что назвать его своевременным
и удачным — лишь самое малое из того,
что можно адресовать составителю.
Философская проза наших мысли «слей
обладает особой стилистической
притягательностью. Кажется, только обаянием
философской риторики и можно оправдан некоюрые
"усиления" соловьевской мысли, допущенные
во вступительной статье (в целом
представляющей самостоятельное исследование), Мы
имеем в виду, в частности, следующую
сентенцию: в "развитие мысли, брошенной
Соловьевым", сказано — "а что, если здесь,
в линии жизни Пушкина, настойчиво дает о
себе знать провиденция — ожидавшая от
поэта искупительного акта и вынуждавшая
к защите чести своей жены того, кто
совершил когда-то поругание Жены пренепороч-
ной, Невесты неневестной?" (с. 11). Иначе
говоря, Пушкин поплатился смертью за
авторство "Гавриилиады".
Позволим напомнить глубоко
уважаемому нами автору, что этический радикализм
не был свойством ни Соловьева, ни
православной традиции в целом, о чем
свидетельствует вся книга о Пушкине, превосходно
продуманная композиционно.
Если благородная инициатива
издательства "Книга" будет иметь продолжение,
читатель вправе ожидать антологий
философской критики наследия Лермонтова и
Герцена, Тютчева и Толстого, Чехова и Блока.
К. Г. Исупов
186
Вопросы политической философии в журналах ФРГ
В ФРГ есть два вида журнальной
периодики по проблемам политической философии.
Первый — это издания определенных
политических партий или близких к ним
фондов, выполняющих роль
научно-исследовательских центров, а также имеющих функции
политического и философского образования.
Например, "Neue Gesellschaft" выражает
взгляды социал-демократов, "Politische Mei-
nung" — теоретические позиции
консерваторов, а именно партии ХДС, и т.д. Между
тем известно, что консервативное,
либеральное или левое сознание отнюдь не
ограничивается рамками какой-то определенной
партии.
Поэтому, чтобы ознакомиться с
феноменом либерализма или правого сознания,
нужно искать журналы несколько иного рода,
вокруг которых концентрируются ученые
разных партий или разных политических
симпатий, объединенные общностью
мировоззрения. Такой журнал — это своего рода
форум интеллектуалов, центр притяжения
определенного духовного пространства.
Конкретно мне представляется важным обратить
внимание на два журнала, особенно
интересных для тех, кто изучает историю
консервативной мысли и неоконсерватизма.
Первый из них — "Criticon", который
издает в Мюнхене Каспар фон Шренк-Нот-
цинг. Привлекая многих солидных авторов,
журнал из года в год публикует
"философские портреты", составившие уже целую
галерею — своеобразную историю
политической философии в лицах. Это не сухие
справки, а философские эссе, взгляд на
личность и на наследие мыслителей из
сегодняшнего дня, на значимость и
актуальность их для осмысления проблем
современной эпохи. Среди них — "портреты" А.
Гелена, Э. Форстхода, Ж. Сореля, Р. Кирка,
X. Ортеги-и-Гассета, Ф. Хайека, Э. Юнгера,
Г. Шельского, М. ван ден Брука, Н. Мак-
киавелли, Р. Арона, А. Токвиля, Э. Берка
и др. Здесь же сегодняшнее "прочтение"
и классиков политических наук вроде М. Ве-
бера, и вообще мыслителей с мировым
именем, интерес к которым не только у нас,
но и в Германии ныне особенно велик —
Н. Бердяева, В. Соловьева и др.
"Criticon" претендует на то, чтобы представить
с точки зрения консерватизма все крупные
фигуры политической философии, включая
К. Маркса и Ф. Энгельса, и вместе с тем
рассказать о тех, кто малоизвестен, но
значим, своеобразен, оригинален, занимает свое
место в истории политической мысли. Назову,
к примеру, такие фигуры "второго плана",
как Дж. Бернхэм, А. Молер, Г. фон Трейчке,
Р. Михельс и др., известные у нас, увы,
лишь узкому кругу специалистов.
"Открытие" забытых мыслителей журнал
считает своей важной задачей. В частности,
обращаясь к известной работе Фу куя мы,
А. Мрлер пишет, что сама по себе идея
"конца истории" не нова, изложение ее
японским автором представляется ему
вульгаризацией идеи высшего начала. В этой связи
он предлагает вспомнить о том, кто более
глубоко исследовал ту же тему еще в ЗО-е
годы в Париже, об Александре Кожевникове
(1902—1968). Замысел статьи А. Молера —
обосновать идею "возвращения истории",
которое видится ему в ренессансе правых. Но
обращение при этом к "провозвестникам" —
типично для журнала "Criticon".
Любопытно также прочтение с точки
зрения политической философии тех
мыслителей прошлого, которые известны в других
общественных науках —^ политэкономии и
т.д. Так, к 200-летию со дня смерти Адама
Смита опубликована статья о современном
звучании его идей. Журнал видит в А. Смите
"отца либерализма в целом, не только
экономического". Рассказывается о близости
философских воззрений его и Э. Бэрка. Именно
исходя из А. Смита, читаем мы, развил
свою теорию "спонтанно возникающего
порядка" Ф. фон Хайек — не только
применительно к рынку, но и в сфере права.
А. Смит и школа его последователей
образовали духовную связь между классическим
либерализмом и консерватизмом. Смит дал
идею "косвенно действующего утилитаризма:
осуществляя свои собственные интересы в
рамках правового порядка, индивиды достигают
благополучия, которое в конечном итоге
оказывается на пользу не только им, но и всем.
Смит постоянно указывал на
ответственность действующего субъекта по отношению
к его согражданам" (1990, N 20, июль-
август, с. 164-165). Вывод для Запада, если
говорить о политико-философском наследии
А. Смита, ка.к считает автор статьи,
видится в утверждении подлинно свободных
рыночных отношений, большей, чем ныне,
независимости от государства. Против сделок
государства с монополиями, против нового
корпоративизма — так прочитывается ныне
правыми консерваторами "завещание"
А. Смита.
Есть в "Критиконе" и специальная
рубрика "Политическая философия". В том же
июльско-аагустовском номере за 1990 год
она посвящена наследию Эрика Фогелина
(1901 — 1985). Понятие "порядка", которое
187
вые консерваторы представлены здесь
преимущественно. Но кто действительно имеет
большое влияние, так это те политики,
публицисты и ученые, которые
консервативны и в то же время либеральны.
Типичный пример философа такого либерально-
консервативного направления — профессор
Вольфганг Бергсдорф. В своей статье
"Политическое руководство как вызов системы
коммуникаций" (февраль 1990), имеющей
фундаментальное значение для данного журнала,
он замечает, в частности, следующее:" 1989-й
год — это веха, обозначающая не только
то, что закончились "сумерки богов" в Европе,
но и подтверждающая истинность
центрального постулата нашего политического
мышления, верили которому тем меньше, чем
дальше народы Центральной и Восточной
Европы были окованы тоталитарными
структурами: воля народов к свободе может быть
подавлена на какое-то время лишь
насильственными средствами".
1989 год войдет в учебники европейской
истории как год самоосвобождения. "... Не
может быть и речи о том, будто сейчас
приходит "конец истории", как это утверждал
Фрэнсис Фукуяма в своем часто цитируемом
эссе... Победа плюралистической демократии
и либеральной формы экономики над
тоталитарным вызовом никоим образом не
приводит политику в состояние того покоя,
той скуки в культурной жизни общества,
того идеологического единообразия, которые
характерны для конца всякой истории и
которые ограничивают политику сферой
экономических движений". Прогноз Бергсдорфа
таков: "В этом последнем десятилетии
нашего века мне видится небывалое
испытание для политики, ориентированной на цели
свободы. Дело придет к тому, чтобы
использовать новые реальности в Восточной
Европе для обеспечения устойчивого мира в
условиях свободы, благосостояния при
социальной ответственности, личной
идентичности в условиях культурного
многообразия, — тогда Европа сможет совместными
усилиями поставить задачу внести
действенный вклад в преодоление конфликта
Север-Юг и решение проблемы климата на
Земле. Для этого же необходимо
политическое руководство".
Это эссе В. Бергсдорфа типично во
многих аспектах: оно выражает политическую
философию и образ мышления федерального
канцлера ФРГ и потому репрезентативно в
высшей степени. Нашему читателю статья
дает новые импульсы, чтобы понять саму
концепцию и перспективы политики
неоконсерваторов в ФРГ.
Для антологии или учебного пособия по
неоконсерватизму и его политическим
формам использовать рассуждения В. Бергсдорфа
было бы важно, потому что он вводил
понятие "политического руководства". "В
демократическом обществе политическое
руководство не может отказываться от того,
чтобы взять на себя борьбу против эрозии
исторического сознания наших
современников", — подчеркивает В. Бергсдорф. И
это лишь один из многих типично
консервативных тезисов в лучшем смысле слова.
Я сознательно акцентирую внимание на
этом обстоятельстве, чтобы показать: в
создании ясного образа неоконсерватизма и видит
свою миссию или свою задачу данный
журнал. А от кого, собственно говоря, иначе
узнают наши ученые, анализирующие
духовную и политическую жизнь в Германии,
что же такое в конце концов вообще этот
знаменитый неоконсерватизм — прямо и
определенно?
"Мут" представляет самые различные
консервативные воззрения по таким темам,
как "единство", "немецкая нация",
"патриотизм" и др. Журнал имел и прежде и
сохраняет ныне ориентацию на национальное
самосознание. После перемен в Восточной
Европе и с объединением Германии этот
политический профиль, естественно, стал еще
более отчетливо выраженным. Но что
особенно ценно для наших читателей с
научной точки зрения, так это то, что "Мут"
и здесь, давая столкновение мнений,
остается репрезентативен. Вообще
репрезентативность — весьма важная особенность журнала.
В этой связи можно отметить статьи
Клауса Хорнунга, Дитера Блюменвитце, Томаса
Ниппердея и др., где представлены
различные концепции и подходы к острым
политическим и идеологическим вопросам.
Статья Ульриха Ломара "Права и
обязанности человека" относится, пожалуй, к числу
наиболее интересных в журнале за 1990 год.
Автор — социал-демократ, председатель Фонда
исследования проблем коммуникаций в Бонне.
Диалектика взаимоотношений между
правами и обязанностями человека не так проста,
как кажется, отмечает он, и высказывает
при этом ряд интересных соображений:
"неофициальные, коррегирующие формы жизни
существуют теперь рядом с официальными".
Или: "демократическое общество не может
более опираться на моралистику и советы
философии, теологии или права. На место
возможной истины оно поставило мнение
большинства..." Мировоззрение Ломара я
понимаю как ценностный консерватизм.
Многие из его суждений могут стать поводом
для размышлений в каждом индустриальном
обществе.
188
он считал центральным элементом всякого
политического мышления, сочтено его
нынешними интерпретаторами в ФРГ как особенно
актуальное. В структурах порядка, а именно
в институциях, сконцентрирован
тысячелетний опыт, указывал Фогелин. Кроме того,
он обращал внимание на религиозное
измерение политической жизни, имея в виду, что
политика требует осмысления и
размышлений, но не бездумного отношения.
Что касается повышенного интереса к
русской философии и истории, то для право-
консервативных интеллектуалов Германии
такой интерес характерен более, чем для
кого-либо иного в этой стране — ввиду
приоритетности для них тем исторического и
национального самосознания. Именно они
оказываются ревнителями традиций германо-
российских духовных связей. Хотелось бы
выделить в этой связи, к примеру,
рецензию К. фон Шренк-Нотцинга на книгу
К. Шлёгеля "По ту сторону Великого
Октября: лаборатория модерна", вышедшую в
Берлине. До недавнего времени, замечает
рецензент, у ФРГ было лишь моральное
самоощущение своего места в мире — где-
то между Миланом и Далласом. Ныне
объединенная Германия снова обрела свое
местоположение в Европе. Автор книги
предлагает приподнять "второй железный
занавес" — открыть немцам неизвестные
духовные богатства России, в том числе Василия
Розанова, всю эпоху русского модерна и
т.д. Именно в широком контексте культуры
журнал рассматривает и вопросы
политической философии.
Предметом наибольшего интереса для
журнала остаются духовные перемены в
нашей стране. Проанализировать
политическую философию новых партий,
возникших у нас, "Критикой" пытается, хотя постичь
эту зыбкую материю ему трудно.
Сравнительно более осязаемыми и понятными
оказываются процессы в странах Восточной
Европы. Хотя "железный занавес" и исчез,
остался однако другой занавес — высоких
технологий, пишет П. Робейсек. Восточная
Европа — это по-прежнему другой мир, с
иными темпами развития, иными
жизненными стандартами. Преодоления "раскола
Европы" в действительности еще не
произошло. Восточная Европа ищет сегодня себя,
пытается постичь свою новую сущность.
Хорошо знающая американские вестерны из
жизни "дикого Запада", ФРГ обеспокоена
теперь освоением дикого "Востока". Вместо
прежней политизации экономики в
восточной Европе наступило "сведение политики
к экономике". Советская модель отвергнута,
но чтобы принять западную, там слишком
слабы. Кроме того, странам восточной
Европы нечего противопоставить гигантскому
"перевесу власти" Запада — "ничего, кроме
нового старого национализма", отмечает
автор. Но с таким "антиквариатом", "грассируя
своим местническим патриотизмом, в
национальные структуры новой объединенной
Европы не встроишься".
Другой журнал, к которому хотелось бы
привлечь внимание, — "Mut" ("Мужество").
Обозначив себя как "форум по проблемам
культуры, политики и истории", он сумел
привлечь многих влиятельных философов.
Среди его авторов — философы Гюнтер
Рормозер, Герд-Клаус Кальтенбруннер,
Вольфганг Клюксен, Клаус Хорнунг, Роберт
Шпеман, Ханс-Хельмут Кнюттер, Ульрих Ло-
мар, Эрнст Топич, Вольфганг Бергсдорф,
социологи Элизабет Нолле-Нойманн и Карл
Штайнбух, историки Хельмут Дивальд,
Томас Ниппердей, Ханс Майер и др., а также
известные публицисты Карл Фельдмайер,
Голо Манн и Франц Альт. Словом,
сильный состав "команды", собранный
издателем **Мут" Б. Винтцеком, — факт
бесспорный.
Естественно, не со всеми авторами этого
журнала можно согласиться, таково мое
впечатление. Некоторые статьи,
опубликованные в нем, вызывают полное неприятие,
негативную оценку. Попытаемся, однако,
выявить в материалах журнала нечто такое,
что, на мой взгляд, способствовало бы
духовному сближению наших стран.
Тематика, освещаемая в журнале,
актуальна: немецкое национальное самосознание,
проблемы образования, воспитания,
культуры, европейской интеграции и многие
другие вопросы международной политики,
демократии, государства, прогресса и традиций,
религии и духовной жизни в целом.
Журнал много внимания уделяет
проблемам взаимосвязей между Германией и
Россией, Германией и бывшим СССР.
Регулярно помещаются репродукции лучших
произведений русской классической
живописи, которые подбираются с большим
знанием дела и с любовью. Философские статьи
рядом с картинами великих мастеров
русской живописи — это впечатляет.
Читая "Мут" уже 5-6 лет, должен
сказать, что в 1990 году журнал произвел на
меня лучшее впечатление, чем прежде. Быть
может, это связано с объединением Германии
и с улучшением отношения к нашей
стране. При всем при том личные
инициативы издателя отметить следовало бы
особо: он приглашает в качестве авторов
ряд политиков и ученых либерального
направления. Сам журнал в общем и целом —
консервативный. Точнее — в духе
неоконсерватизма. Порой впечатление такое, что пра-
189
S mv.ua Maiio возникал вопрос: зачем
я.п-още нужен известным политологам и
философам, таким, как Вольфганг Бергсдорф,
Л'чпльф Баринг и многие другие, этот, скажем
>;«*, компактный по формату журнал в краси-
»»чй обложке, не идущий ни в какое сравнение
; шкими пользующимися огромной популяр-
II чмью гигантами прессы, как "Вельт",
"Франкфуртер альгемайне цайтунг" или
Шпигель"? Если у таких авторов возникает
желание высказать нечто концептуальное, то
(к дь и для таких случаев, есть, к примеру,
превосходный теоретический еженедельник
"Райнишер меркур" с его блестящим главным
редактором Т. Килингером. Ответ тут, мне
кажется, в следующем: для политиков, уче-
оых, публицистов самых разных направлений
'Мут" — это, пожалуй, что-то вроде клуба
крупных интеллектуалов. Так сказать, из-
iданное общество, где собирается элита из
>бласти политики, искусства, культуры, на-
Многие интересные материалы этого
журнала, к сожалению, останутся за пределами
обзора. И все же я хотел бы упомянуть
рассуждения проф. Г.-Г. Кнютерра по актуальной
теме "Образ врага", эссе Г. Нолля об Андрее
Платонове. Надо отметить, что в журнале все
еще встречаются примеры достатачно
ядовитого, если не сказать враждебного, отношения
к нашей стране. Хотелось бы надеяться, что
это всего лишь реликты прошлого, старое
правоконсервативное брюзжание, еще не
преодоленное до конца.
Однако главное, как уже говорилось, в
том, что "Мут" широко и представительно
отражает огромное многообразие мнений
действительно крупных социальных слоев
немецкого общества. Журнал старается при
этом создать широкий
либерально-консервативный консенсус на основе общих ценностей
сохранения мира.
А.А. Френкин
Книги издательства «Прогресс»
Хи/юси. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Пер. с яп. — М.: Прогресс, 1991 — 416 с. (в пер.). — Ц. 6-00
ЯПОНИИ:
А Нагата (1904—1946) — один из ведущих философов Японии. В своем
■ руде он выявляет специфические черты японского буддизма и
конфуцианства, критически исследует учения таких известных японских
мыслителей, как Квибара, Эккен, Ито Дзинсай, Легура Байэн, Ямагато Банто и др.
Уайтхед А.Н. ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЛОСОФИИ: Пер. с
англ. — М.: Прогресс, 1990. — 716 с. (в пер.). — Ц. 2-80.
А. Уайтхед (1861—1947) — один из крупнейших западных философов
XX века. В основу сборника положены две книги "Наука и современный
мир" и "Приключения идей". В сборник вошли отрывки из работ
"Процесс и реальность", "Способ мышления".
ЗАКАЗЫ НА КНИГИ ПРОСЬБА ВЫСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ:
Москва, Зубовский бульвар, 17
ФКП "ПРОГРЕСС"
190
Уважаемые читатели!
При журнале «Вопросы философии» создан Московский Философский
Фонд (МФФ) — некоммерческая общественная организация,
Фонд ставит перед собой социально-гуманитарные цели и задачи,
связанные с распространением философской культуры в обществе, поддержкой
молодых перспективных ученых, организацией конкурсов философских работ,
поощрением высококачественных философских разработок, приобщением
широких масс к отечественному культурному и философскому наследию.
Фонд намерен поощрять деятельность по переводу философской
литературы, а также те издания в этой области, которые не могут
рассчитывать на значительный коммерческий успех. МфФ будет содействовать
контактам отечественных и зарубежных философов, поддерживать
нормальный уровень обмена идей в научном сообществе. Большое внимание
Фонд рассчитывает уделять помощи преподавателям философии, студентам,
организации лекционной работы по философии.
Как, вероятно, уже знают читатели сейчас сложилась напряженная ситуация
в издательском деле. Это может отразиться на судьбе и журнала
"Вопросы философии", и приложения "Из истории отечественной философской
мысли". Поэтому МФФ как одну из первоочередных ставит перед собой
задачу помочь выжить журналу — старейшему российскому философскому
изданию.
За годы тоталитаризма философия пострадала едва ли не больше, чем
любая другая область культуры. Это самым серьезным образом
сказалось и продолжает сказываться на всей духоэной — да и не только
духовной — жизни, ибо именно в лоне философии испокон веков
создаются наиболее фундаментальные познавательные и — что гораздо
важнее — нравственные ценности. Можно с уверенностью сказать, что
невозможно нравственное возрождение, а стало быть, и общее возрождение
народа без восстановления и приумножения его философских ценностей.
Московский Философский Фонд обращается с просьбой о
поддержке к организациям, фирмам, гражданам России, ко всем, кого волнуют
судьбы отечественной философии, отечественной культуры.
По всем вопросам, связанным с деятельностью фонда, просим обращаться
в редакцию журнала "Вопросы философии" по адресу: 121002, Москва,
Г-2, Смоленский бульвар, 20. Тел.: 201-56-86, 201-26-23, 201-79-45.
Расчетный счет МФФ N 000700301 в Московском коммерческом банке
"АПЕКС, корсчет N 1618*7 в РКЦ ГУ ЦБ РСФСР по г. Москве МФО 201791.
Наши авторы
АГАЦЦИ —профессор Фрибургского университета (Швей-
Эвандро цария), президент Всемирной федерации
философских обществ
КЮНГ —профессор Фрибургского университета (Швей-
Гвидо цария)
ГРОЙС —преподаватель философского факультета Мюн-
Борис стерского университета (Германия)
ЯНОВ —доктор философских наук, профессор политиче-
Александр Львович ских наук Нью-Йоркского университета (США)
АКСЕНОВ —историк, член Союза журналистов
Геннадий Петрович
ГОГОТИШВИЛИ — кандидат филологических наук, старший научный
Людмила Арчиловна сотрудник Института философии Российской
академии наук
БОРЗЫХ —кандидат философских наук, доцент, старший
Валерий Викторович научный сотрудник Луганского педагогического
института
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.А. Лекторский (главный редактор), Г.С. Арефьева, А.И. Володин, П.П. Гайденко,
Б.Т. Григорьян, В.П. Зинченко, А.Ф. Зотов, В.Ж. Келле, Л.Н. Митрохин, Н.Н. Моисеев,
Н.В. Мотрошилова, В.И. Мудрагей (заместитель главного редактора); Т.И. Ойзерман,
В.П. Филатов (отдел приложения "Из истории отечественной философской мысли"),
В.А. Смирнов, B.C. Степин, B.C. Швырев, Б.И. Пружинин (ответственный
секретарь)
Технический редактор Г.Н. Савоськина
Сдано в набор 28.11.91. Подписано в печать 09.01.92. Формат 70X100Vi6. Офсетная печать.
Усл.печ.л. 15,6. Усл.кр.-отт. 598,8. Уч. изд.л. 20,0. Бум.л. 6,0.
Тираж 37802 Заказ 2237 Цена 2 р.
Адрес редакции: 121002, Москва, Г-2, Смоленский бульвар, 20. Телефон: 201-56-86
. 2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.