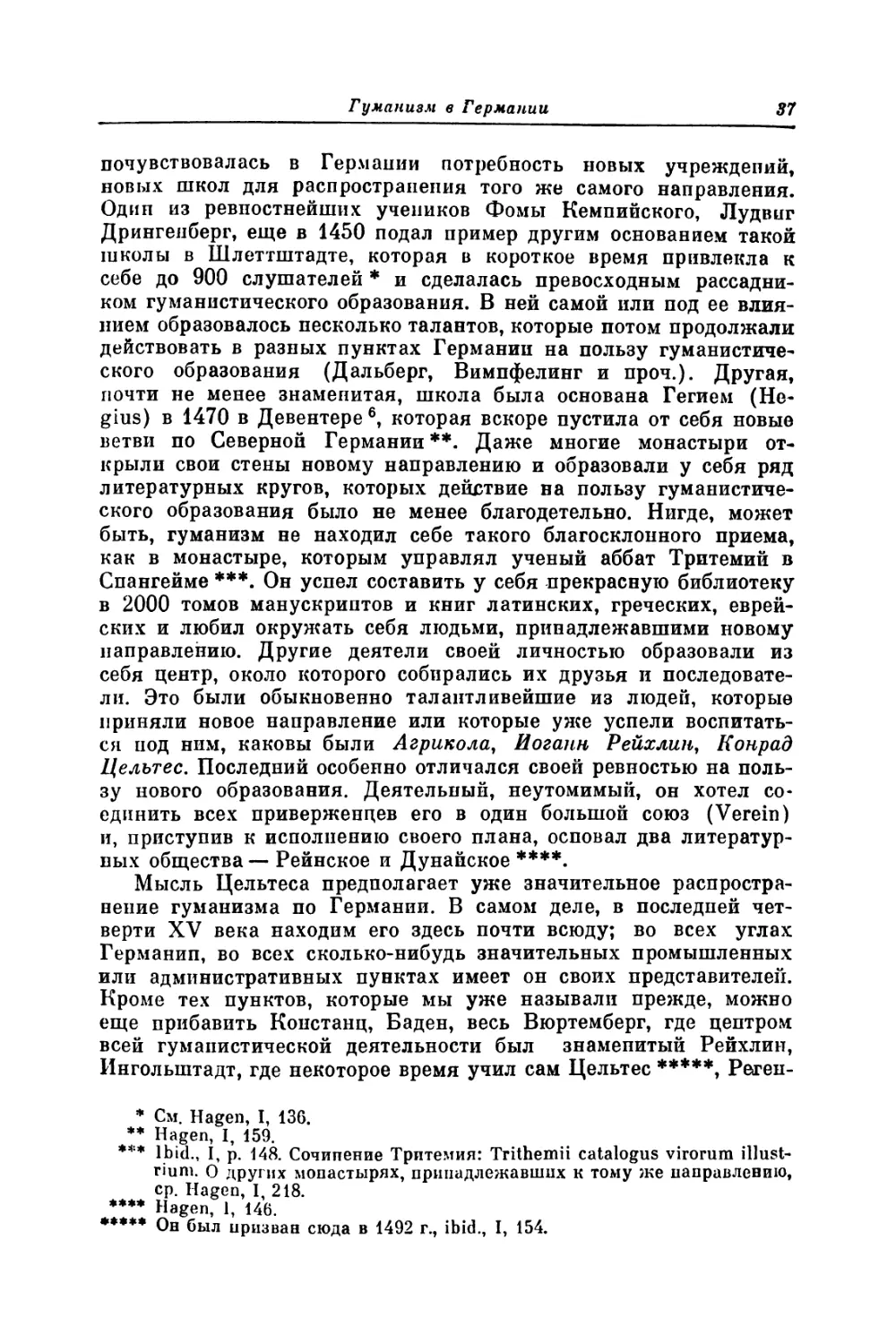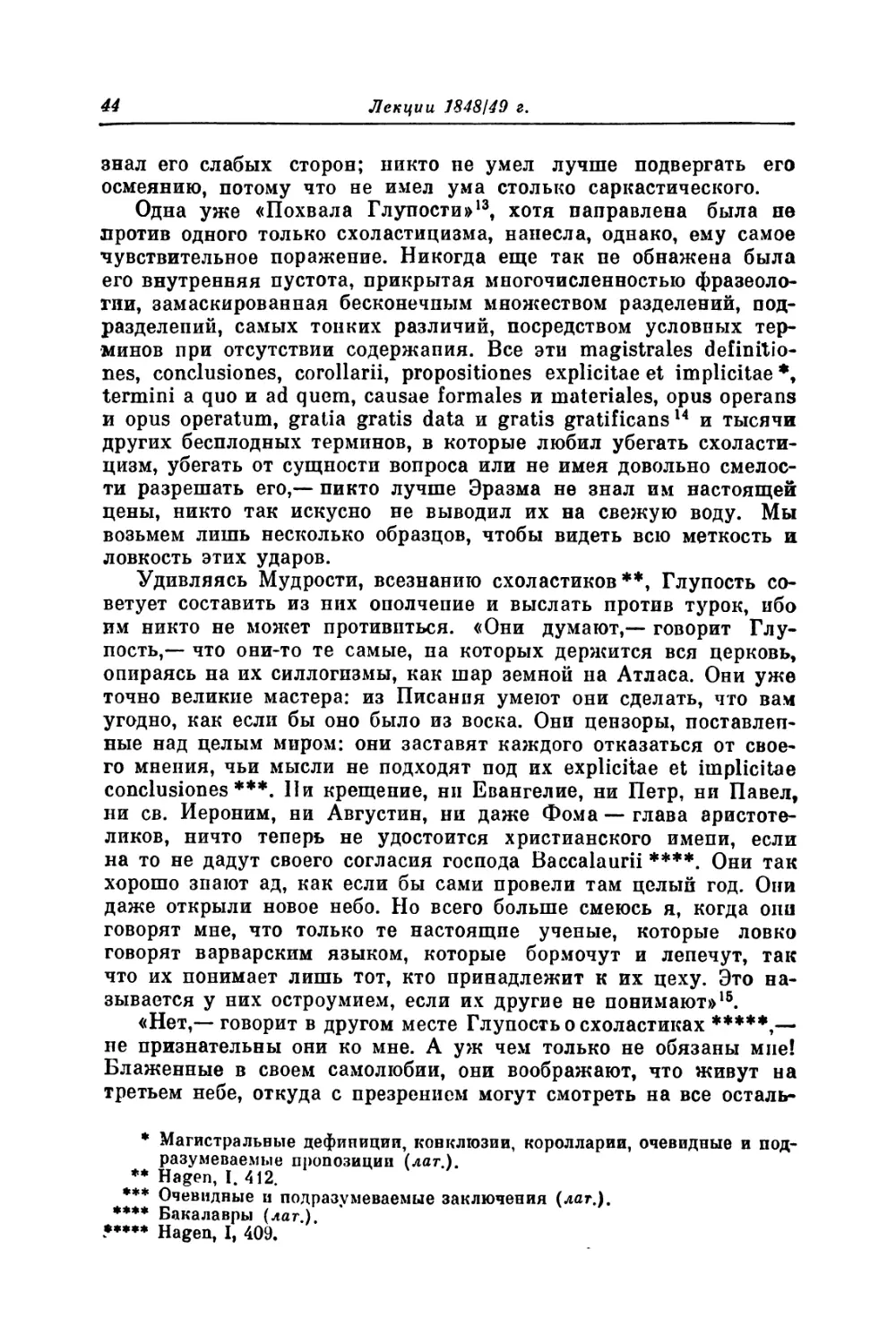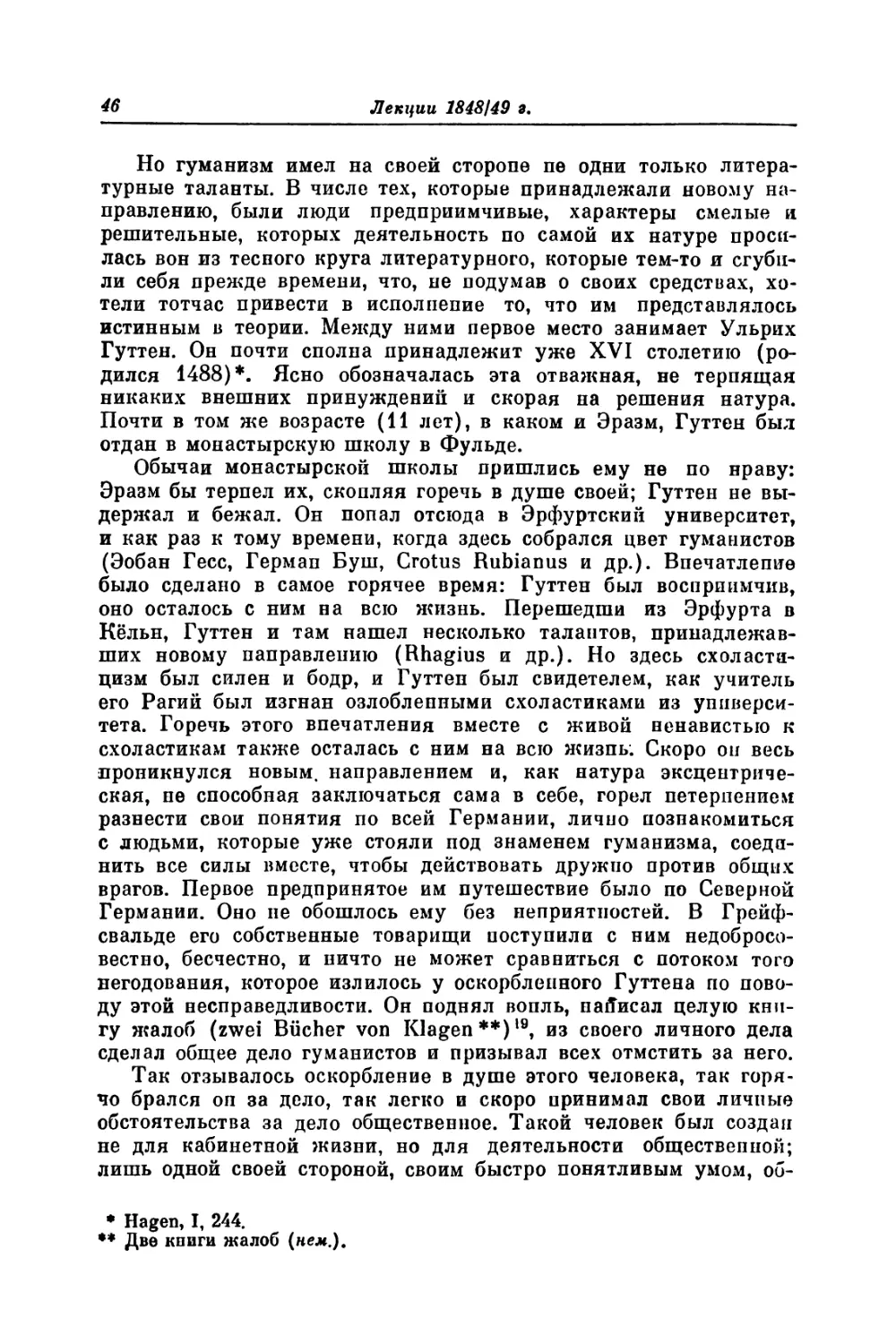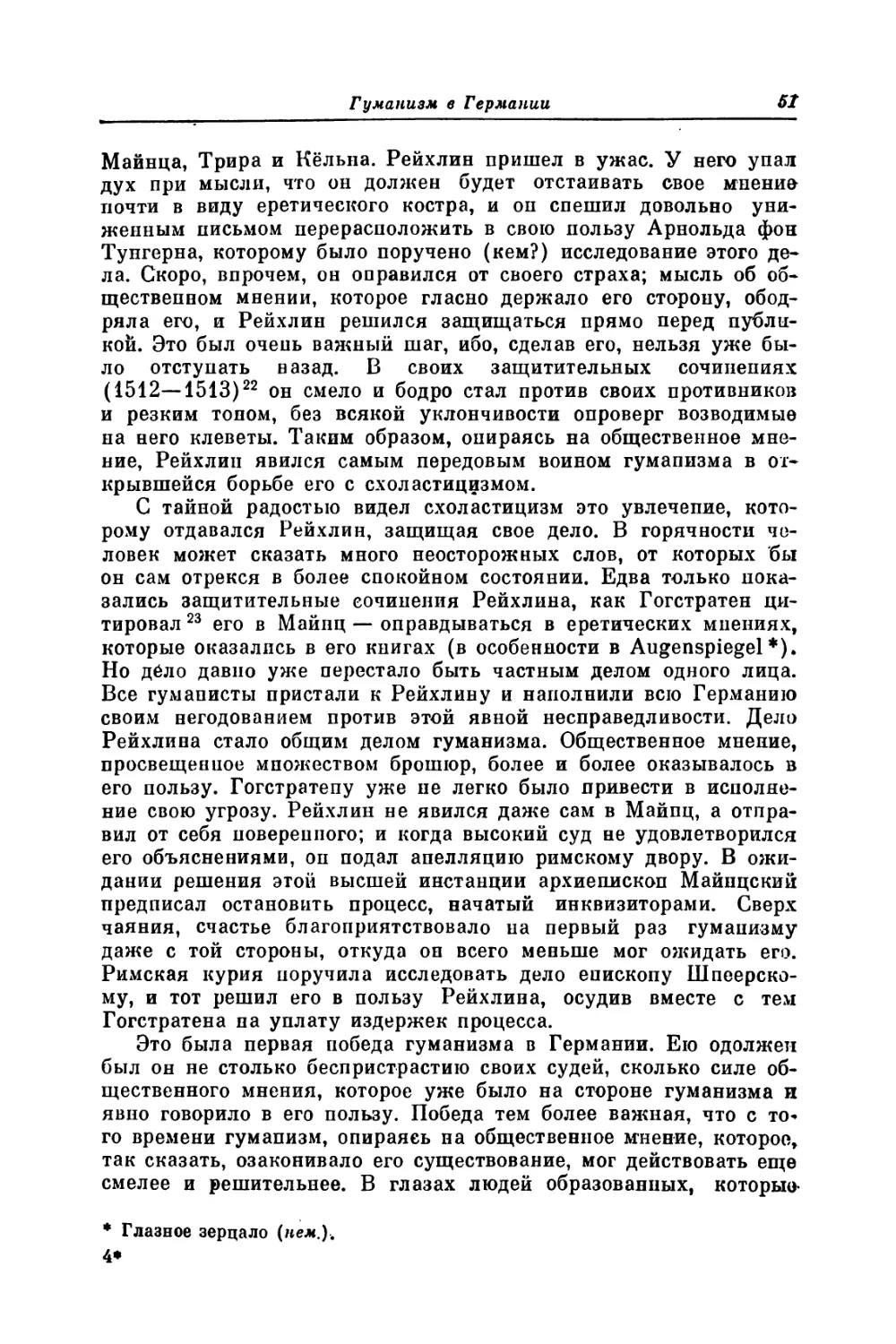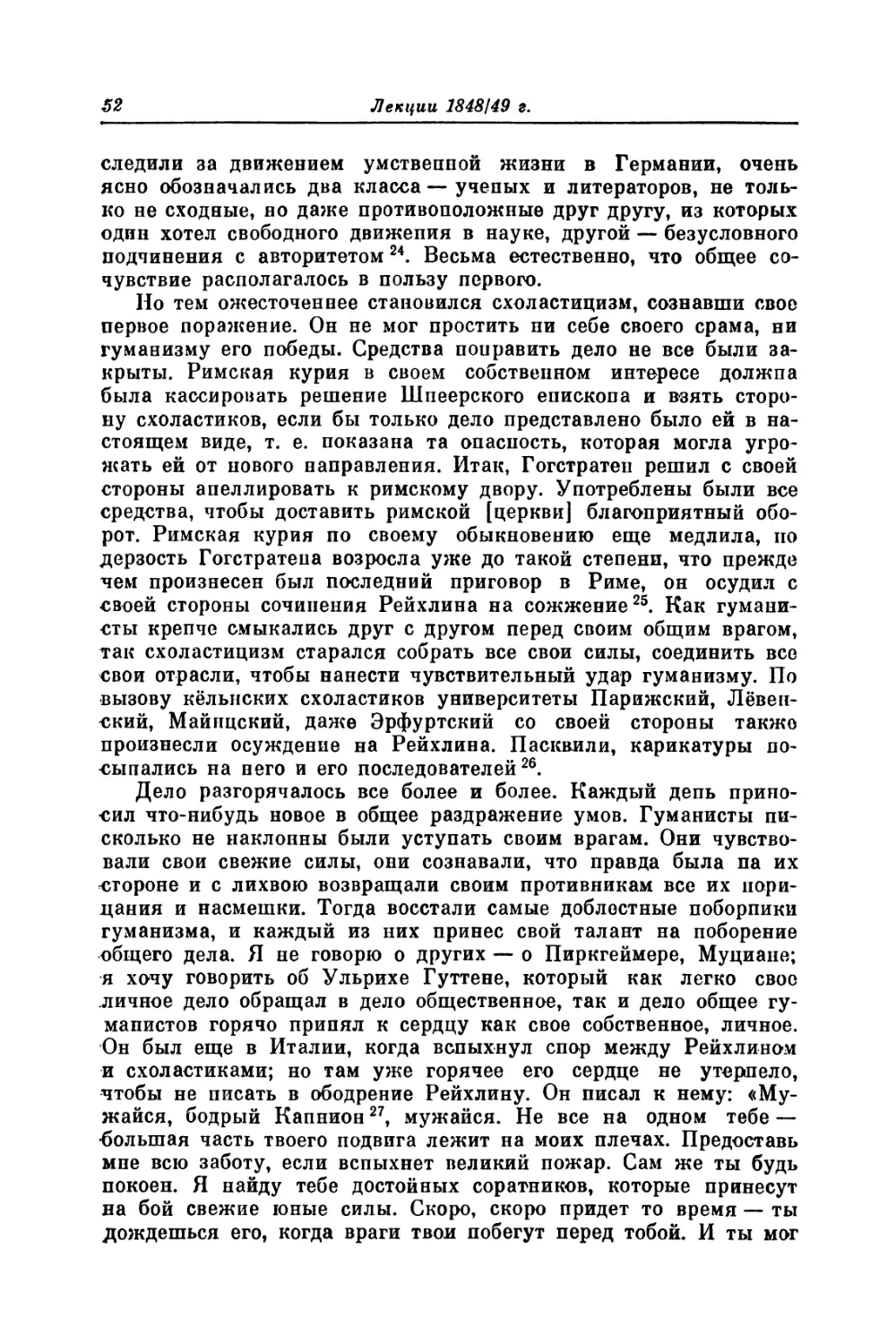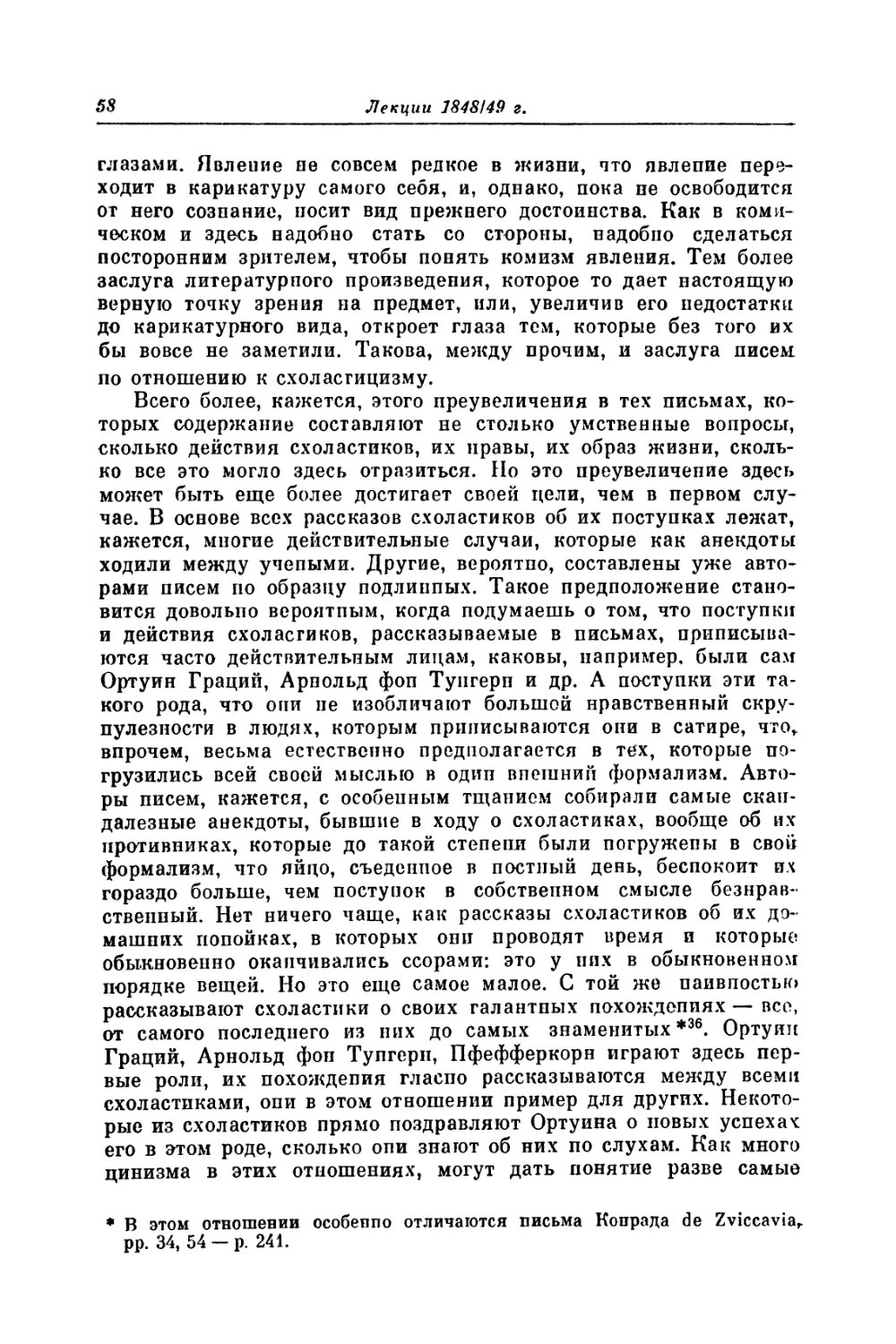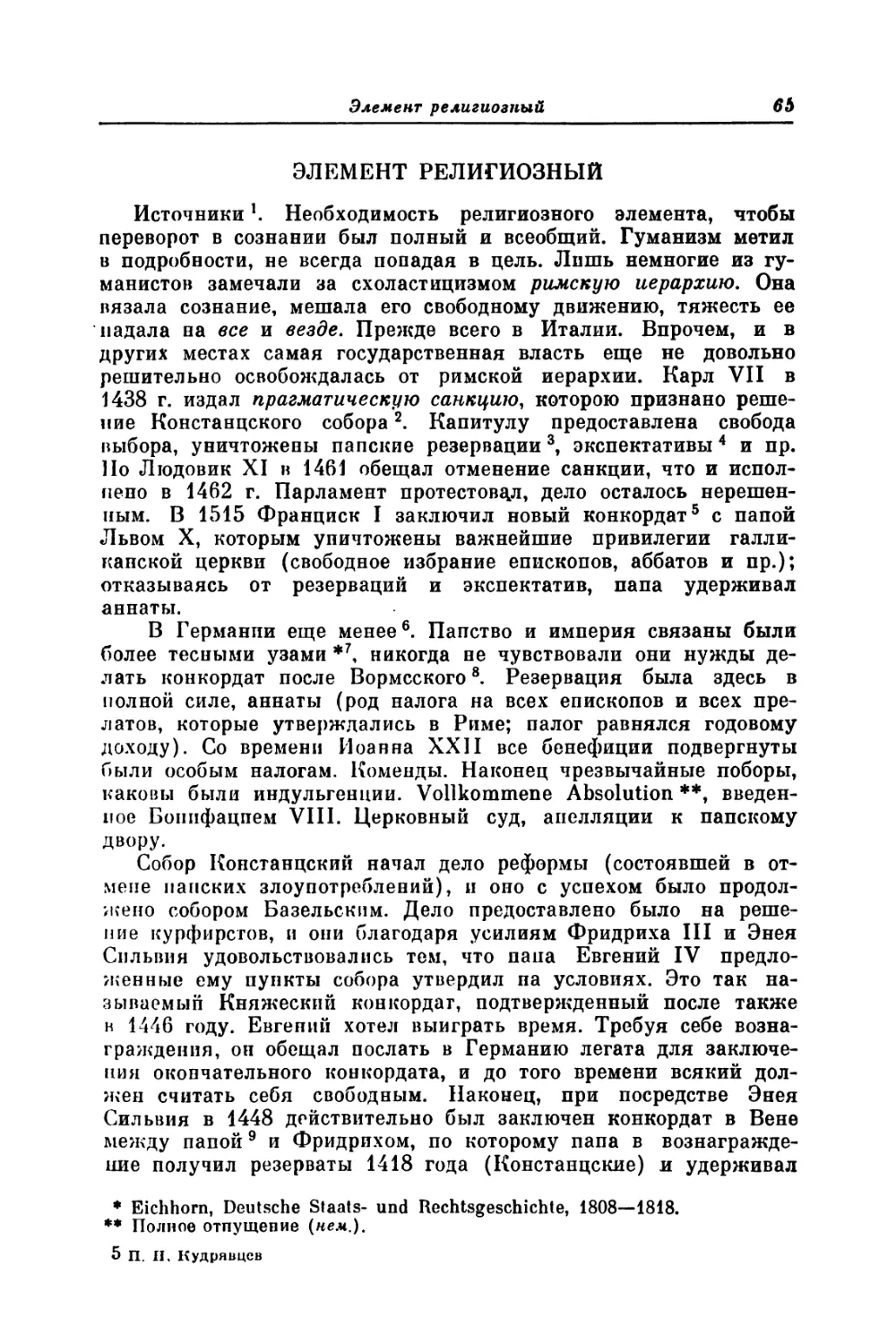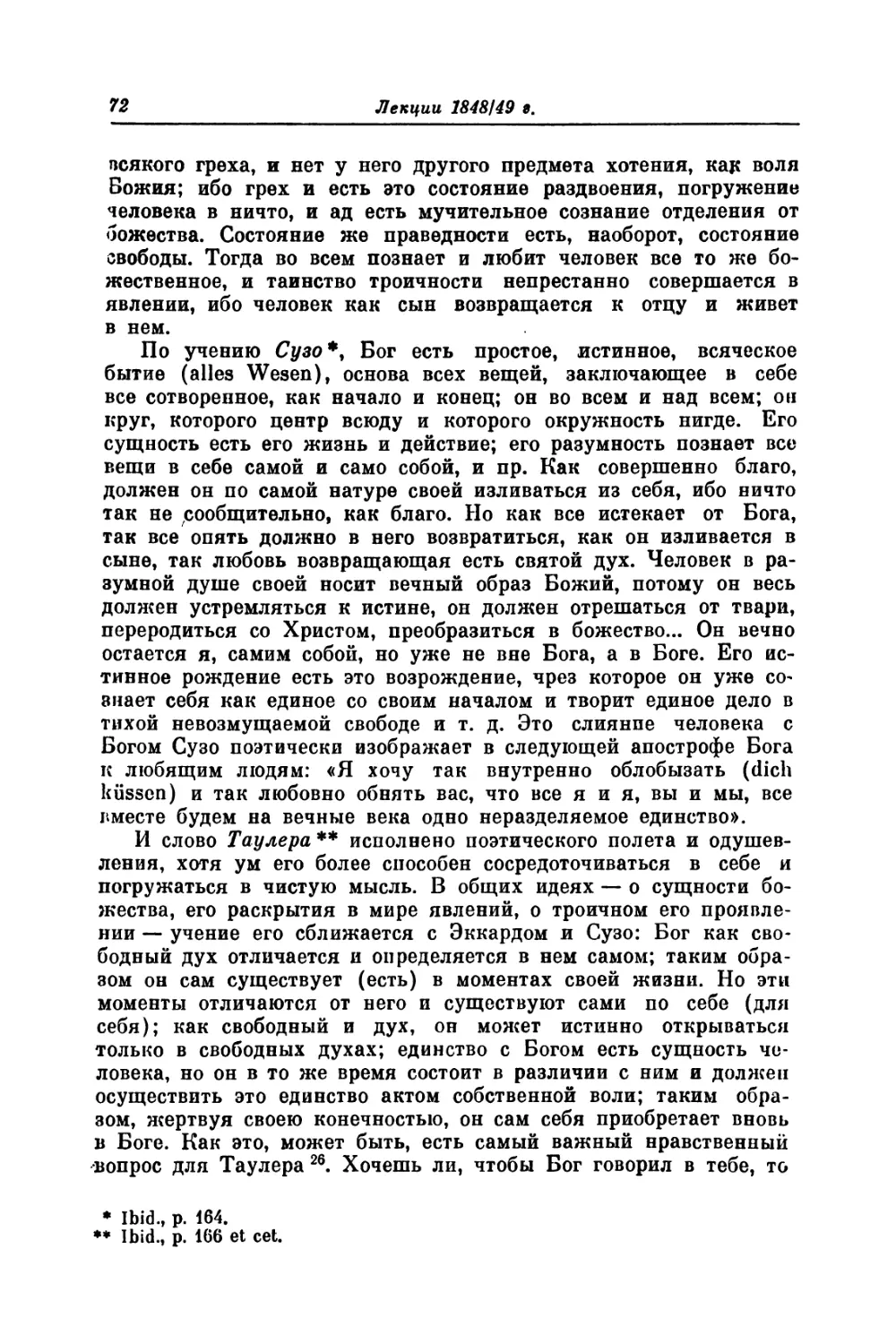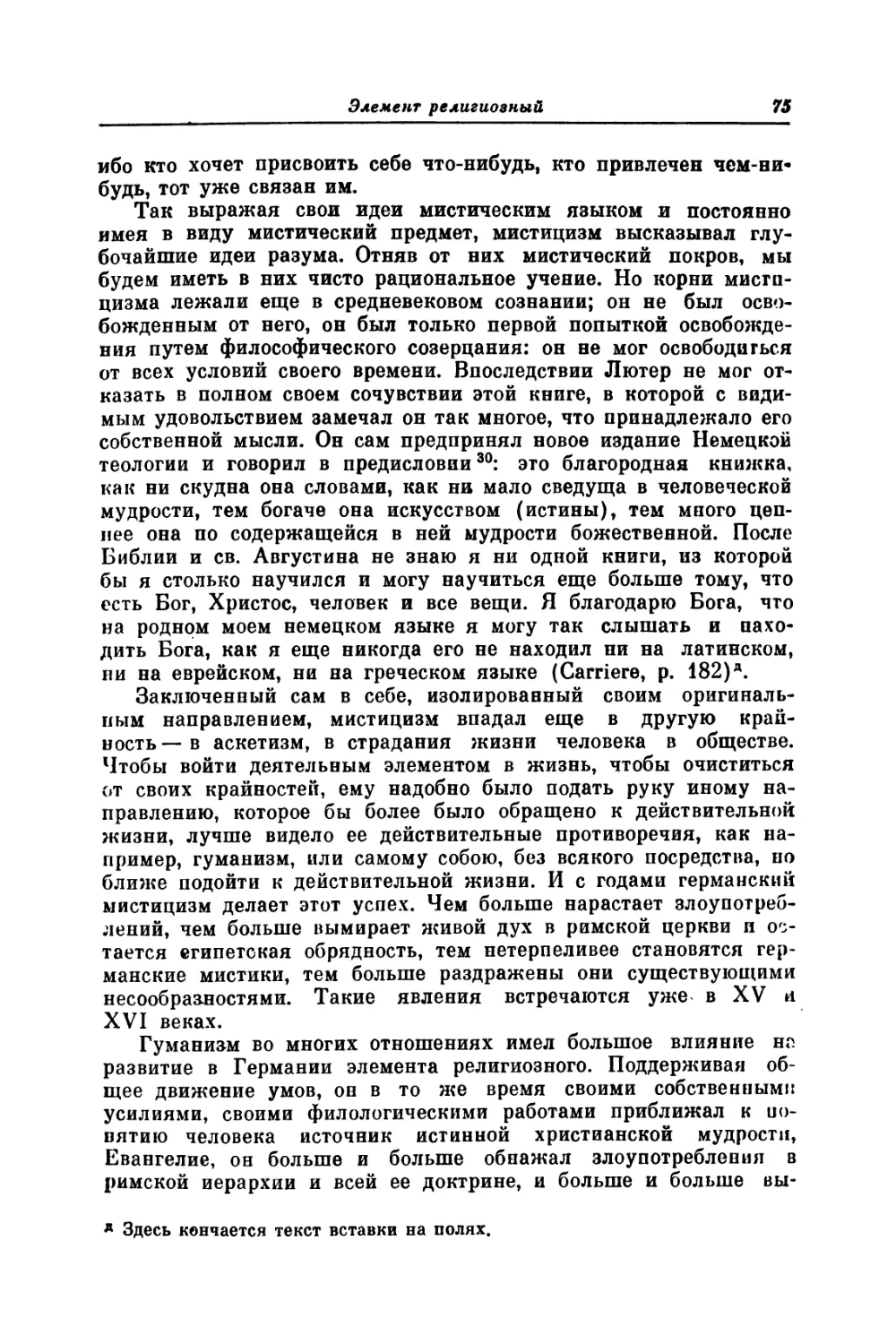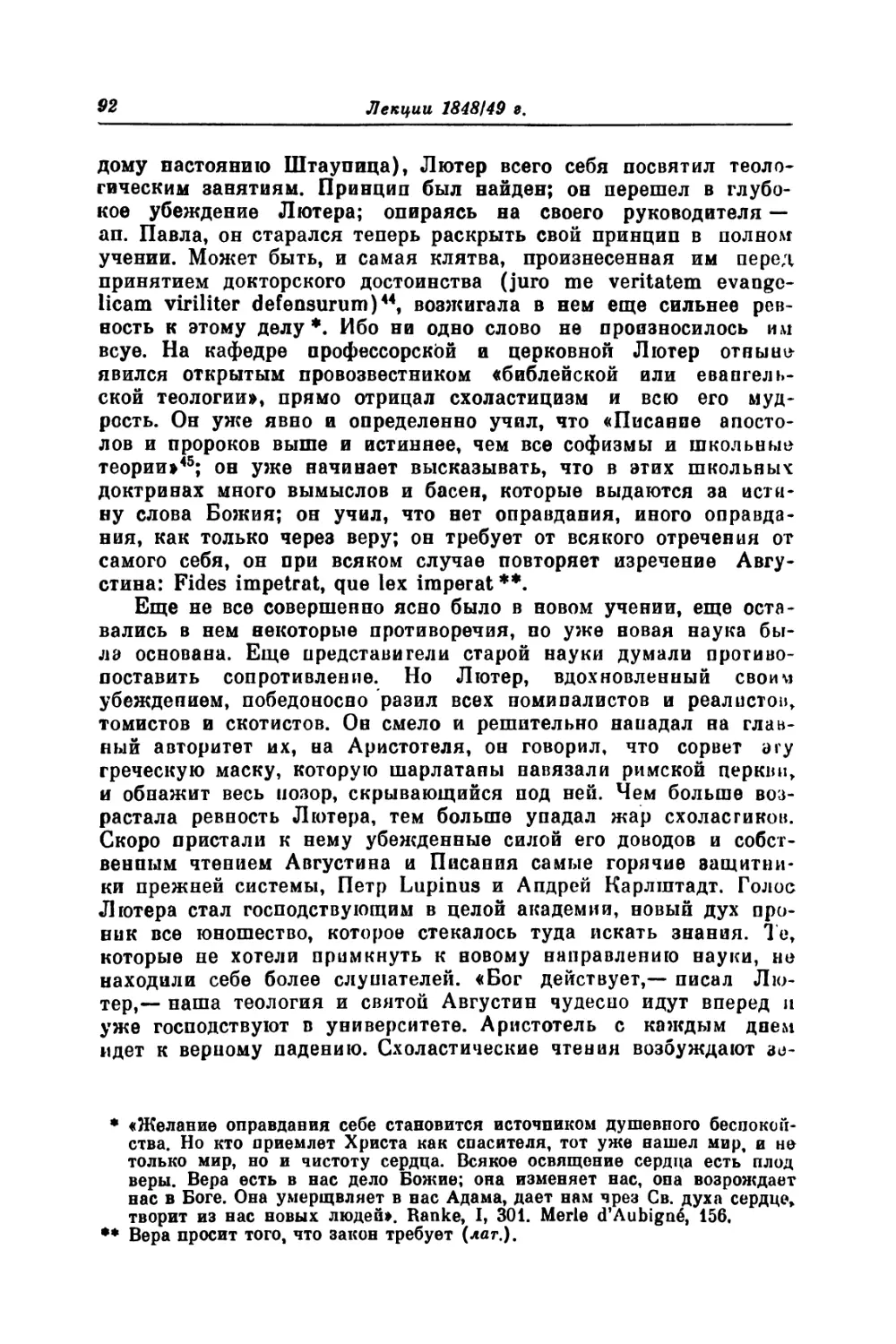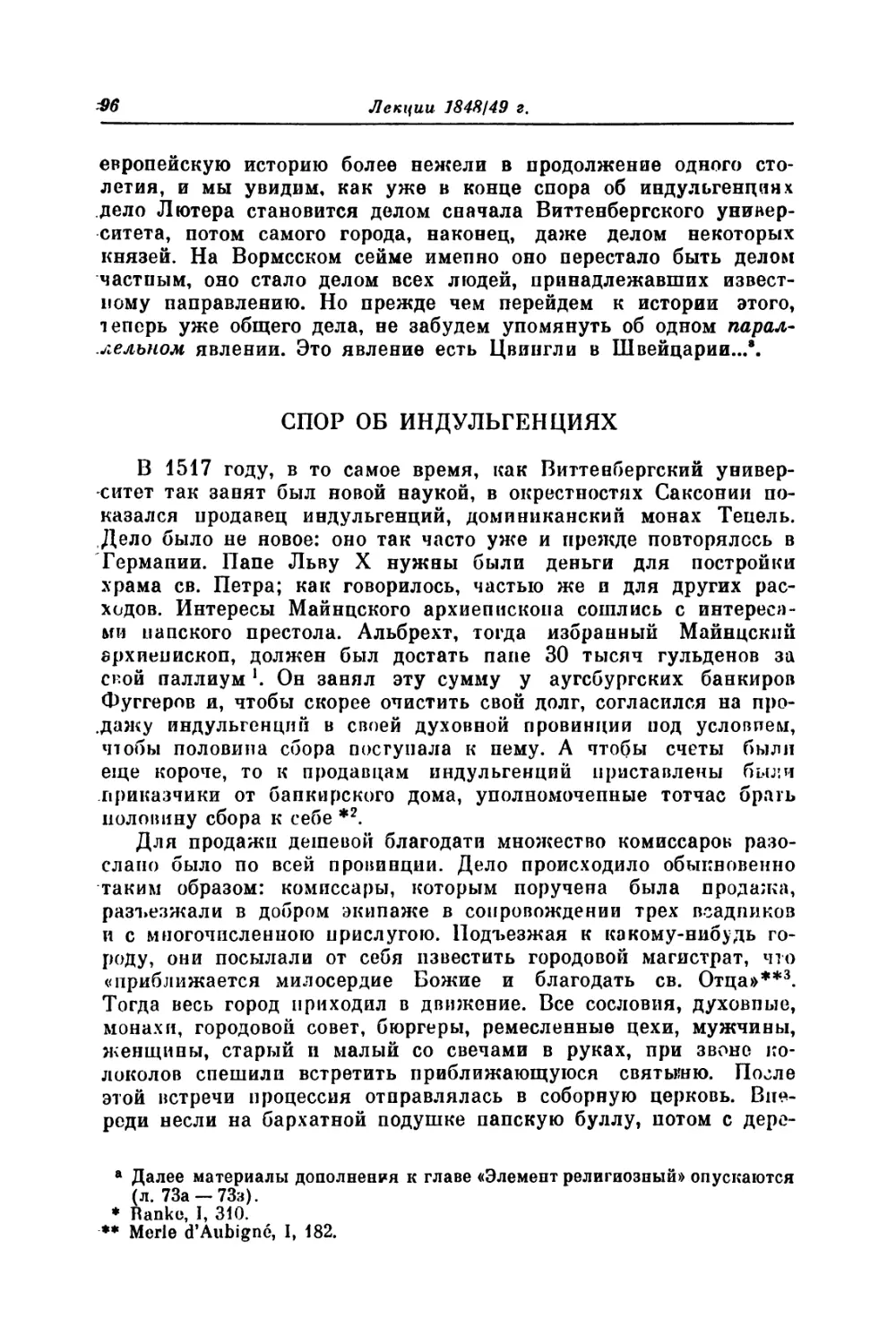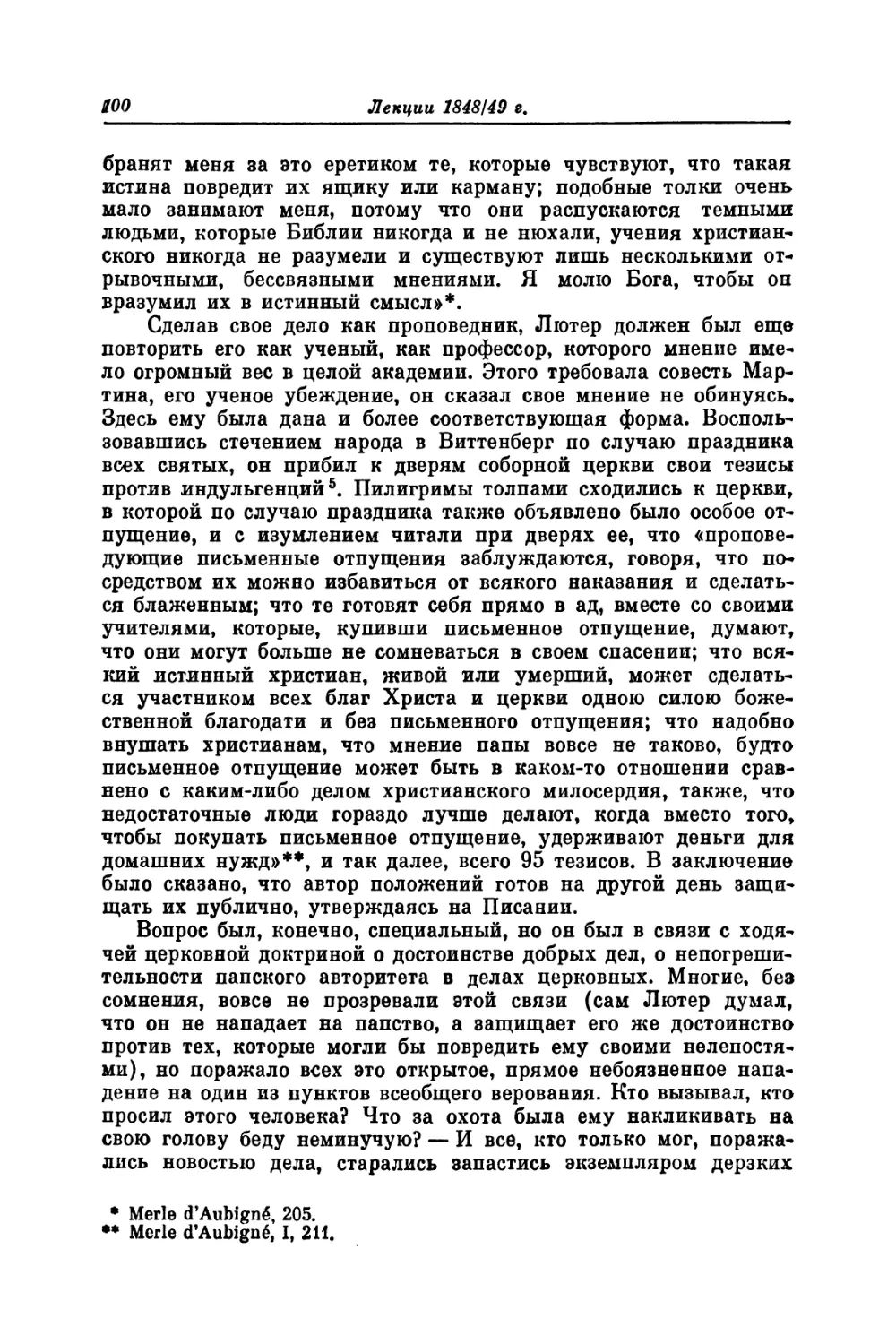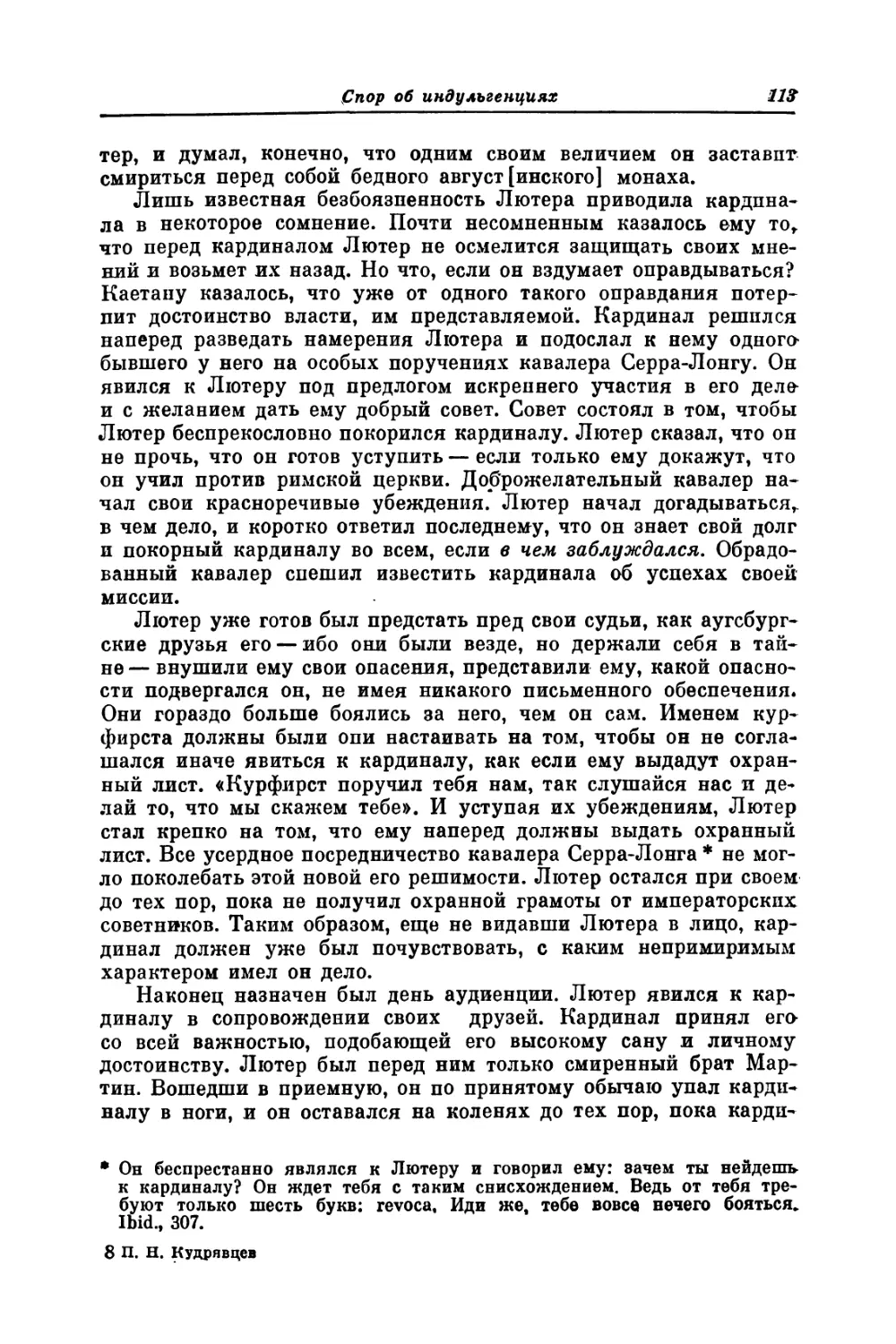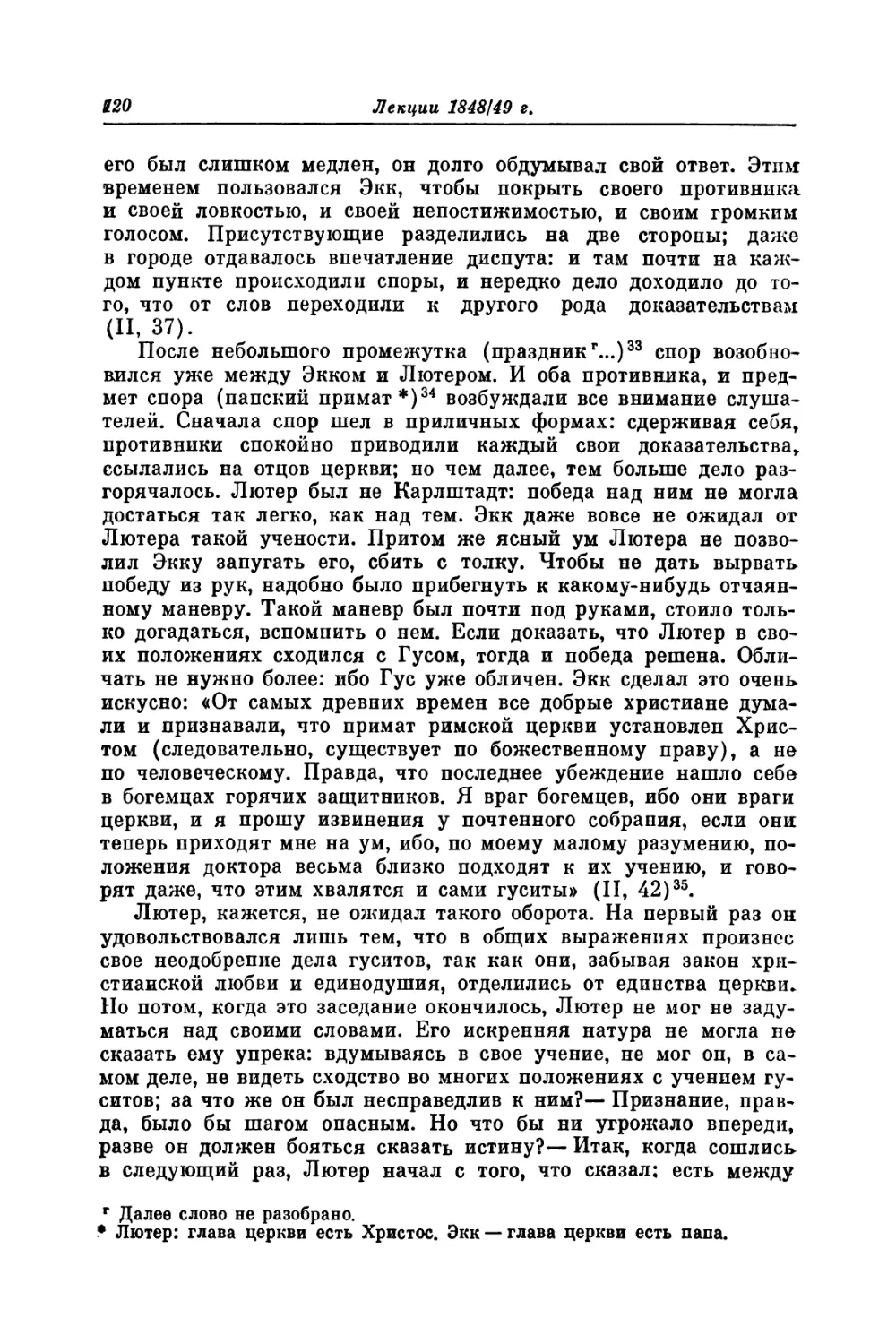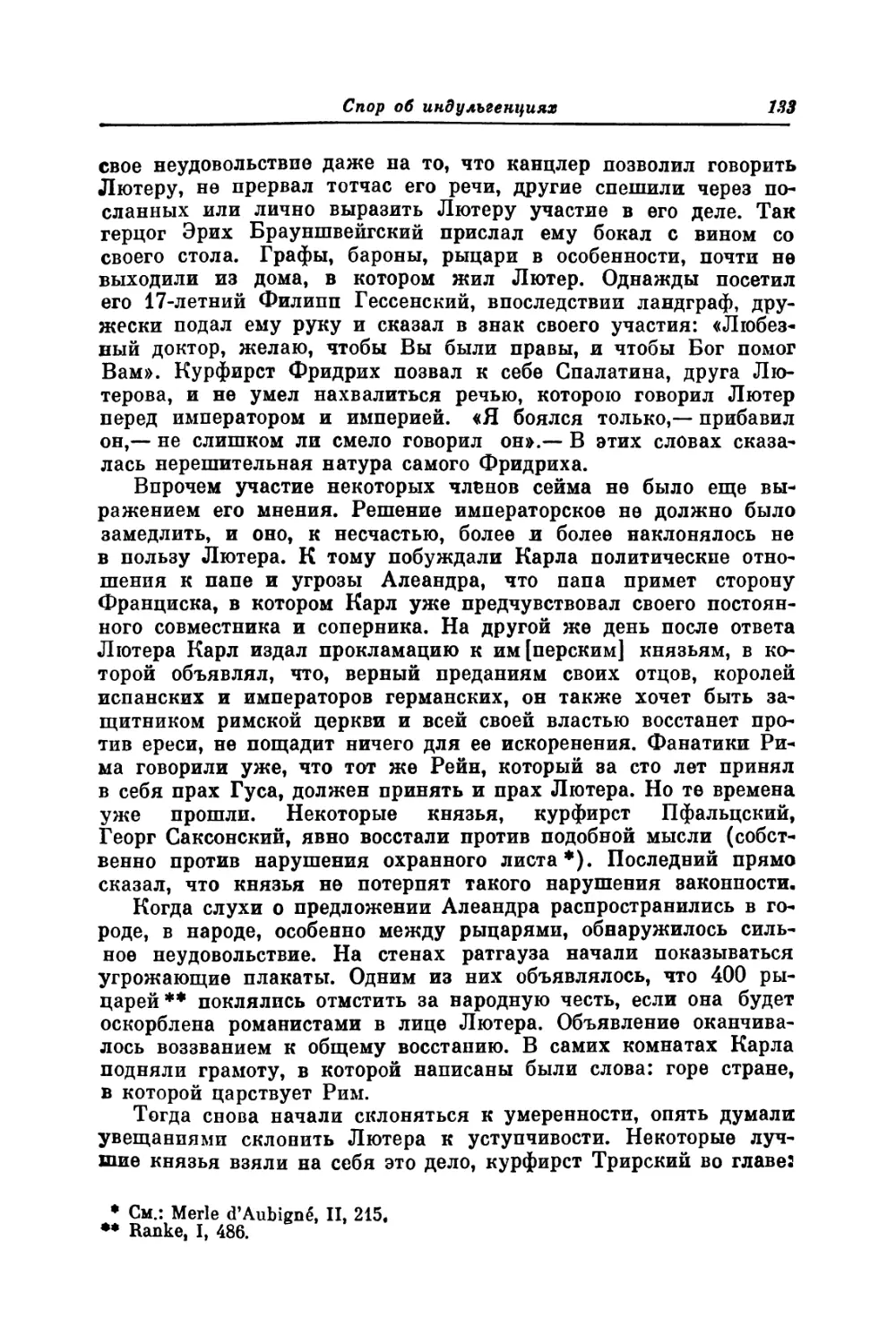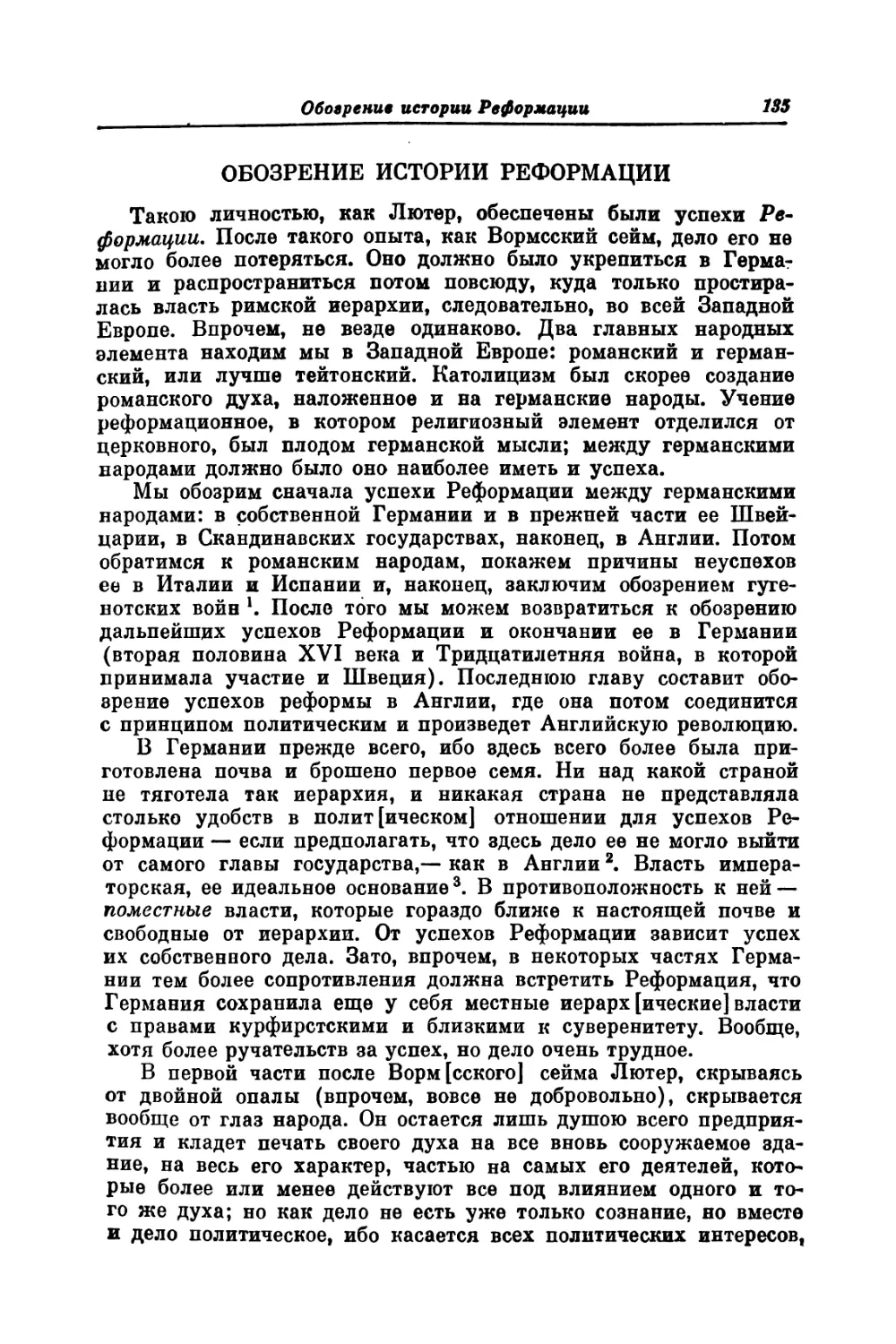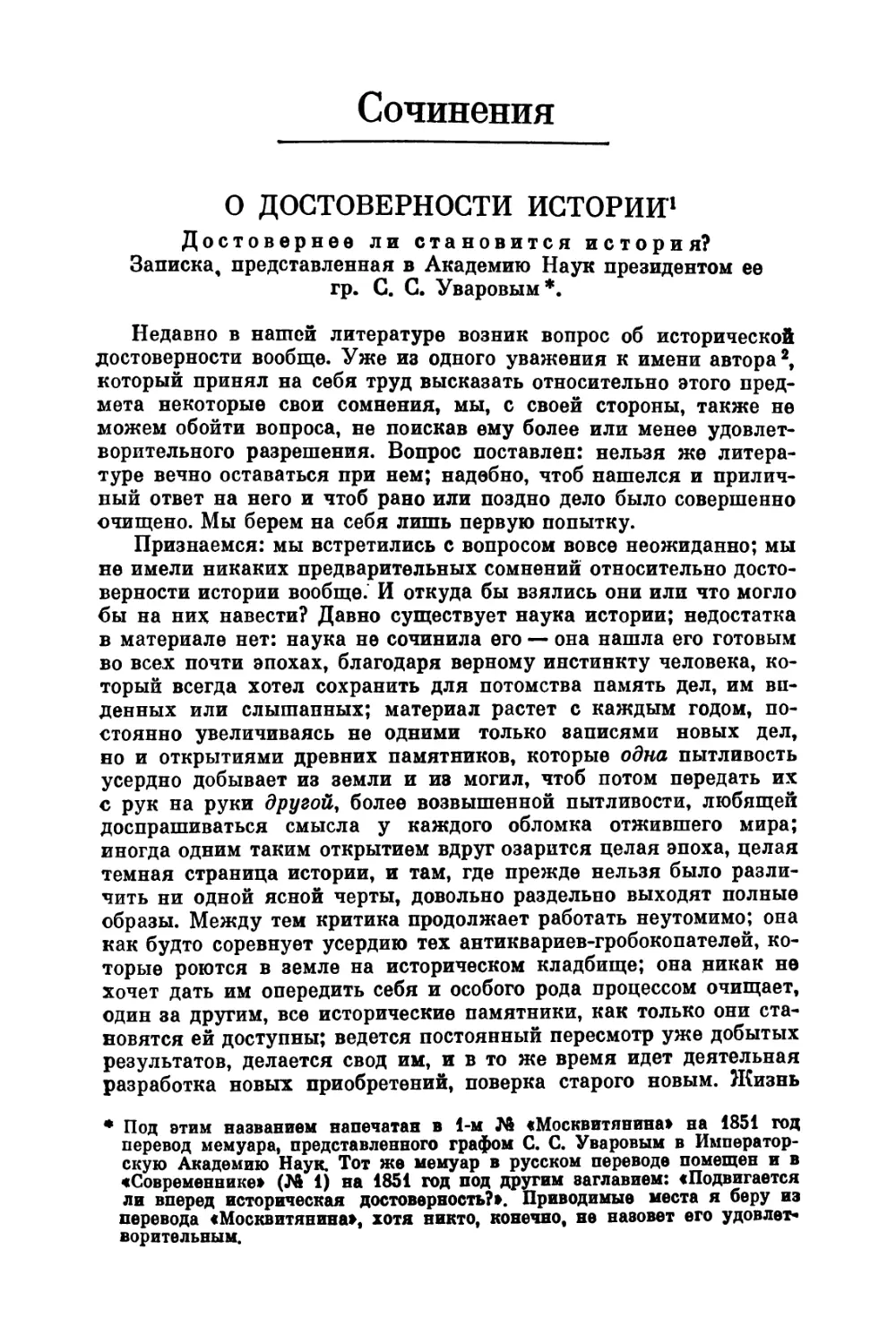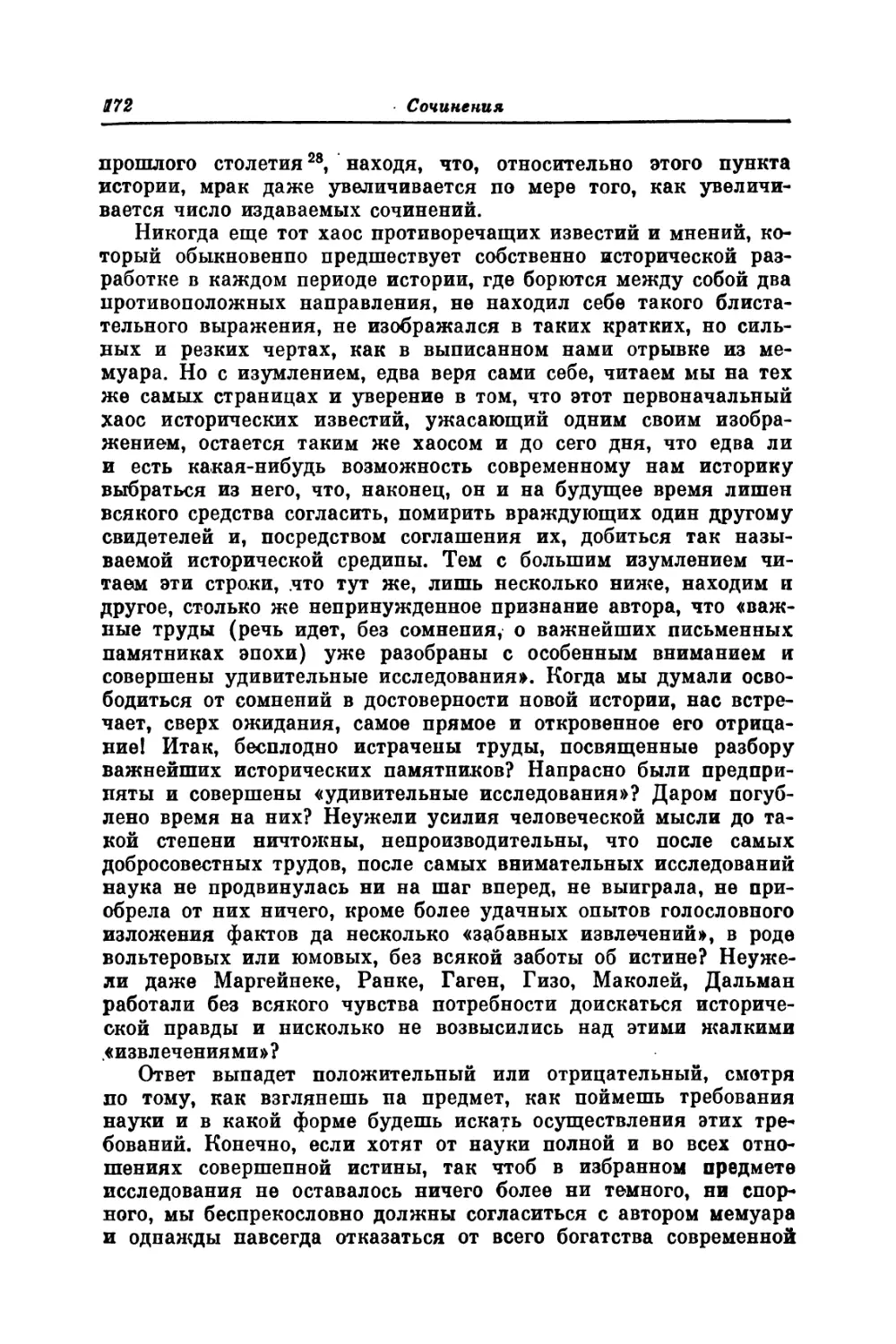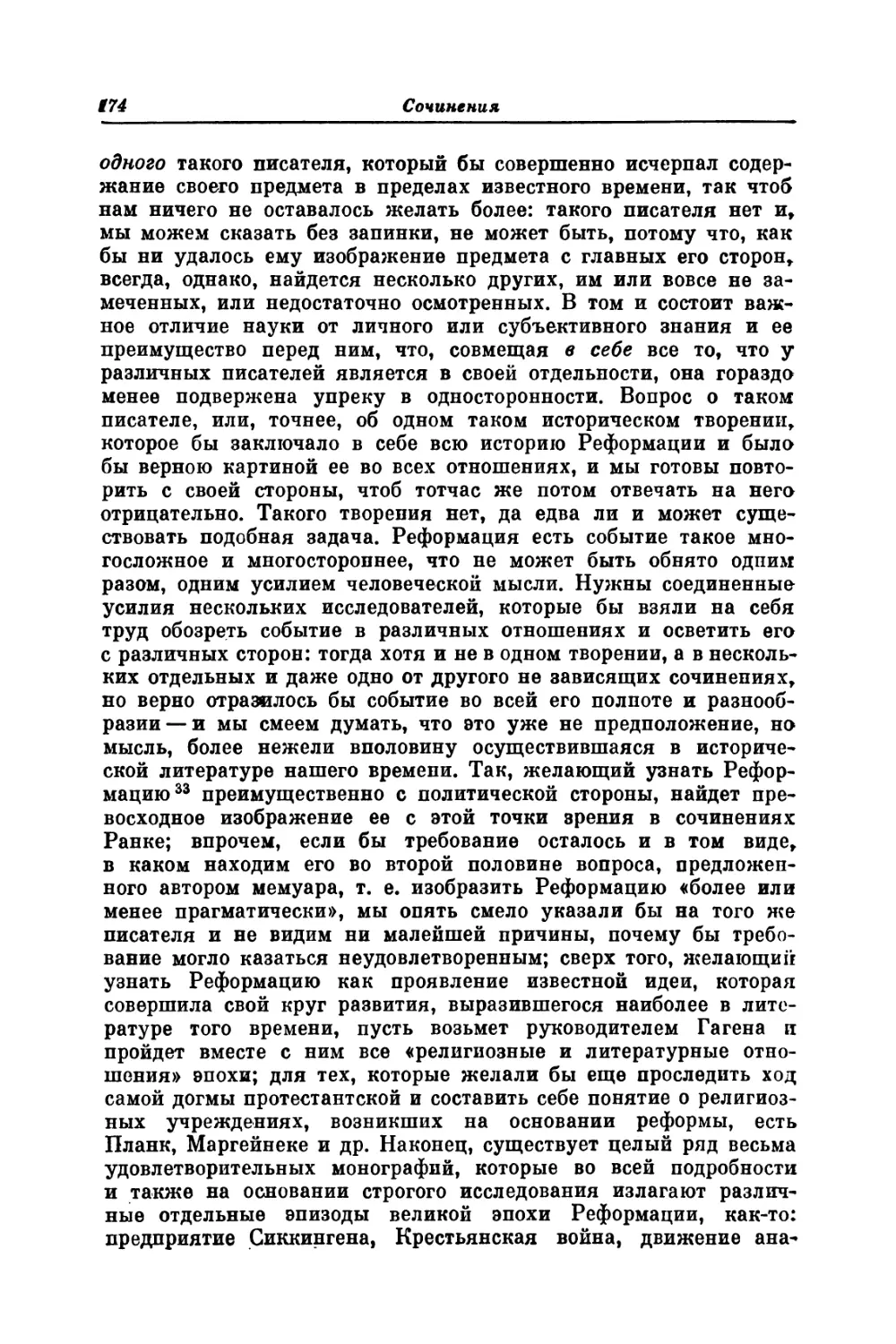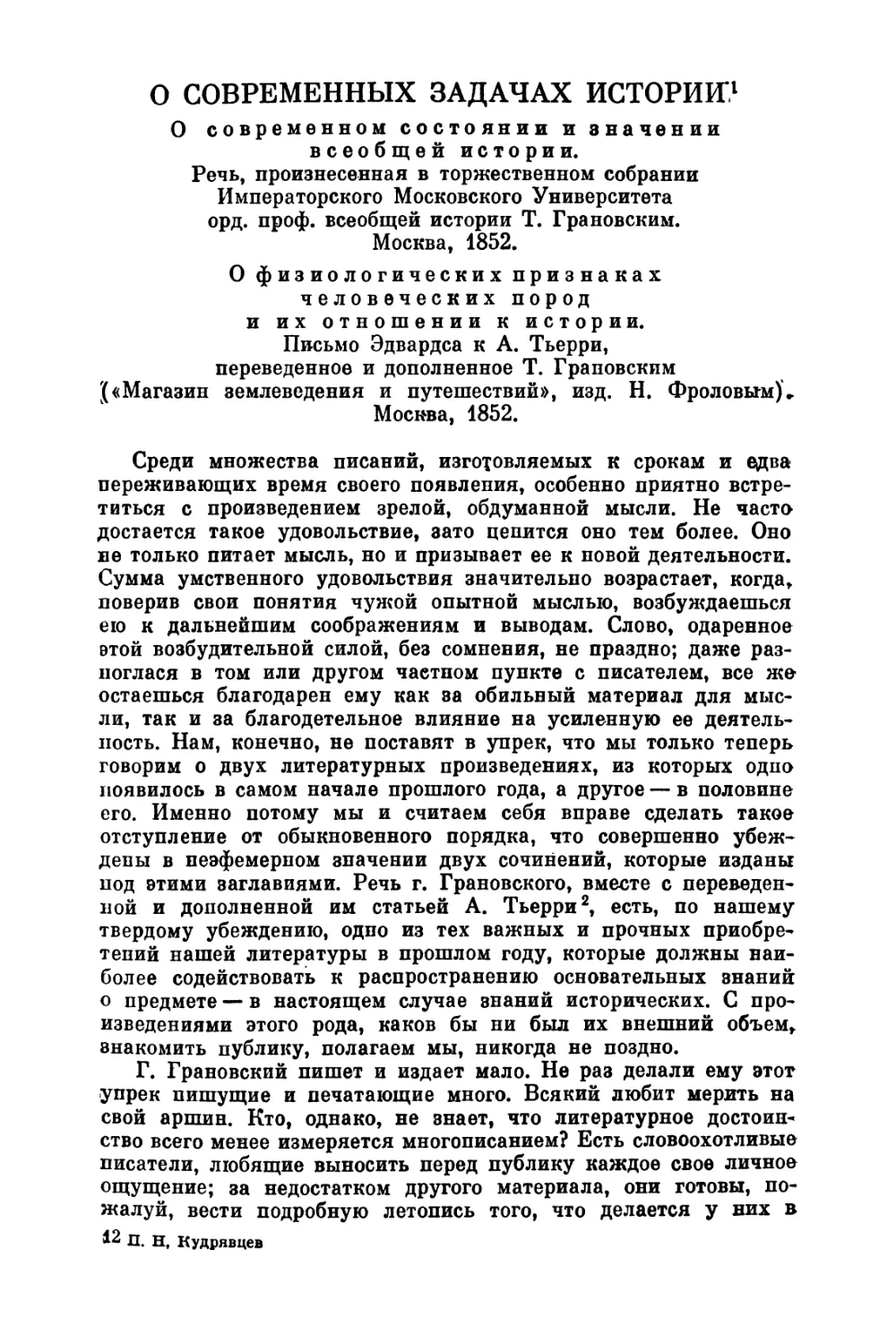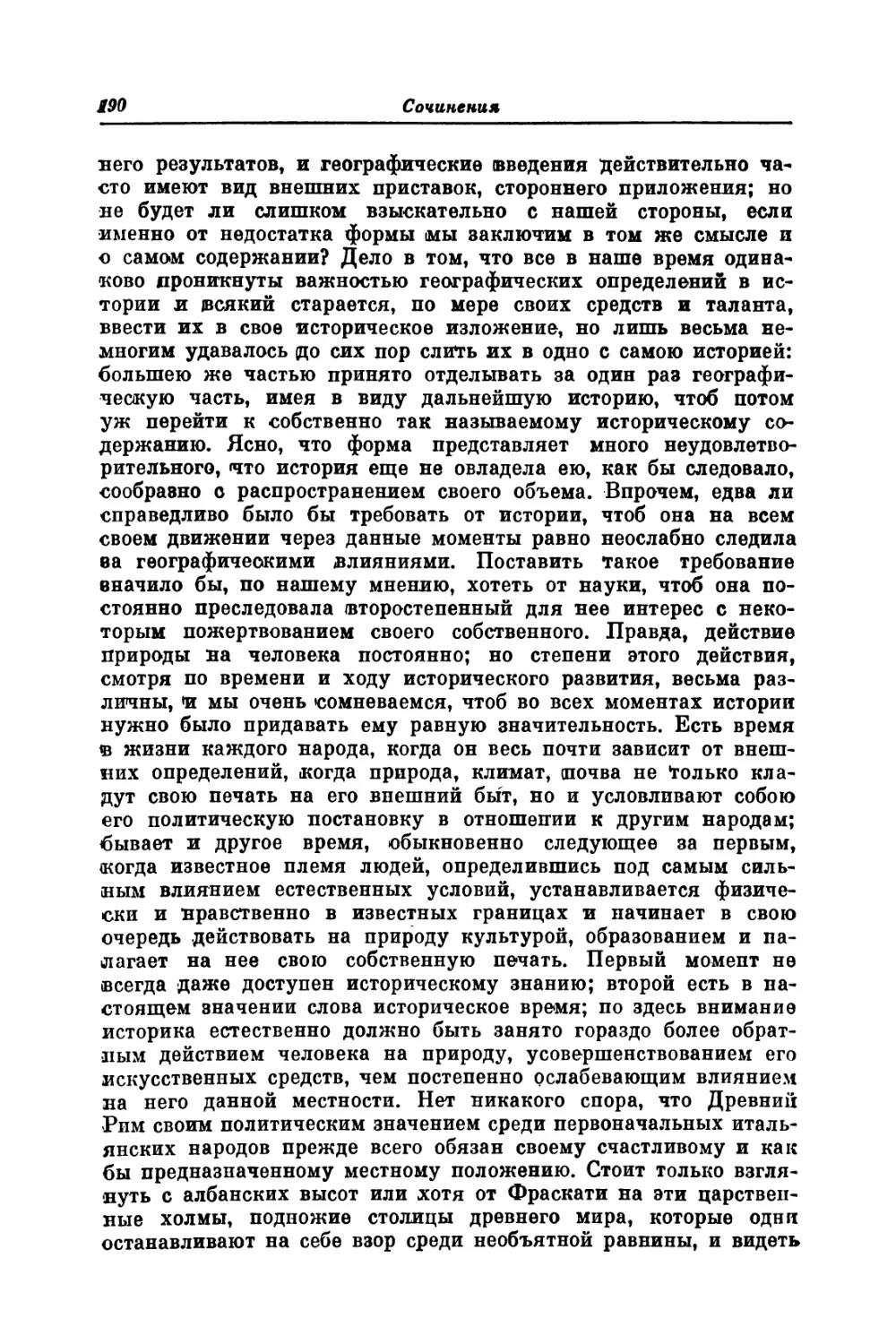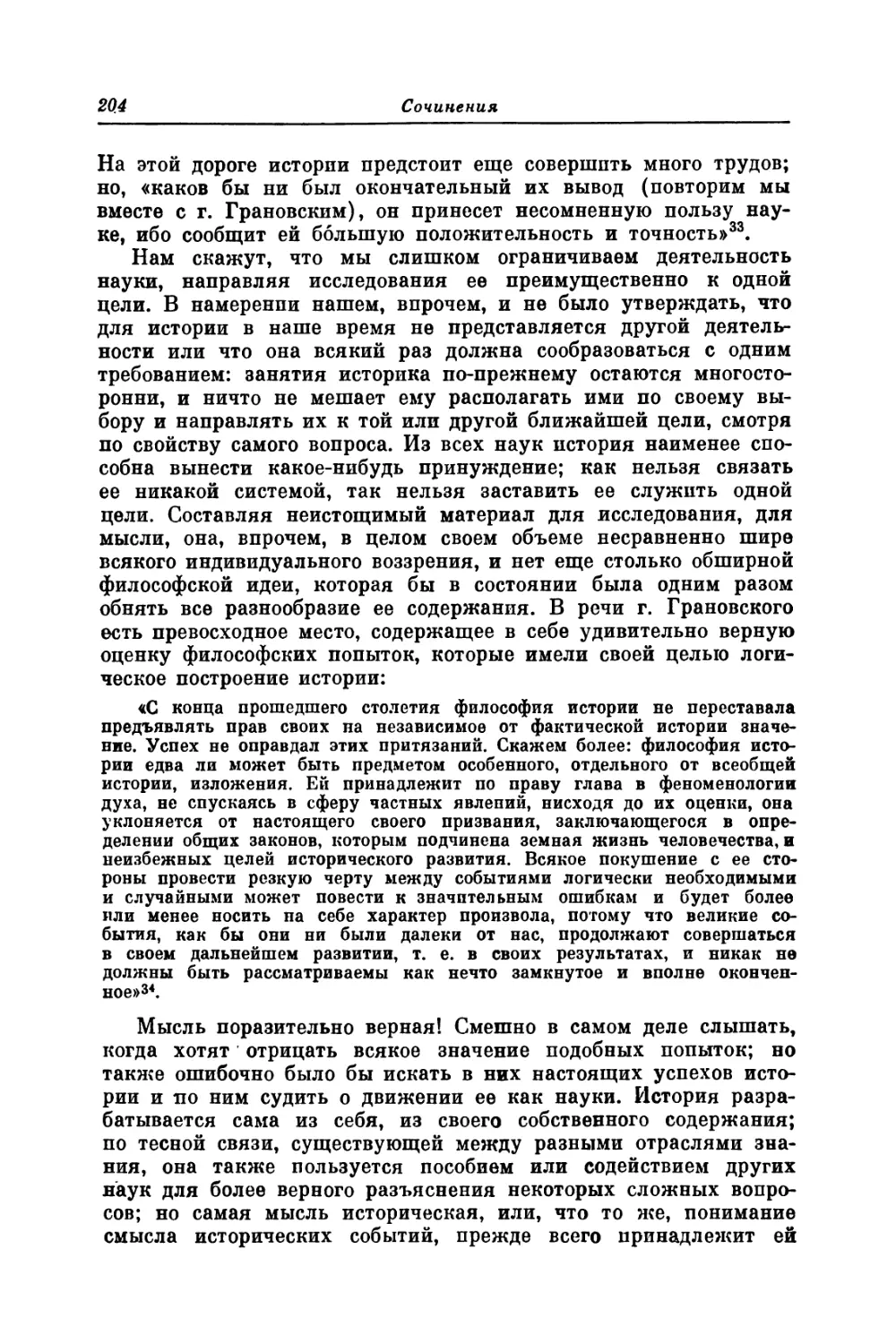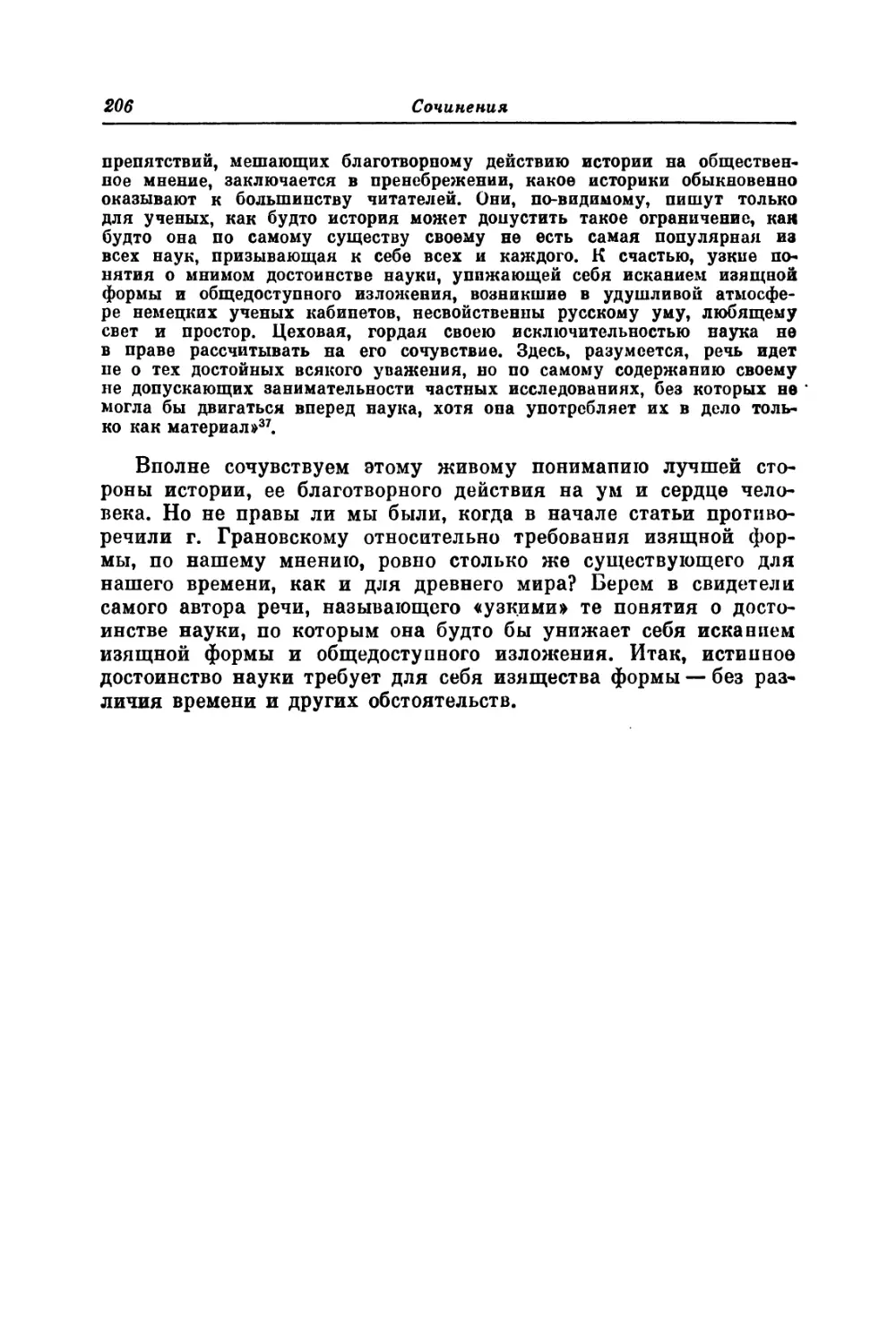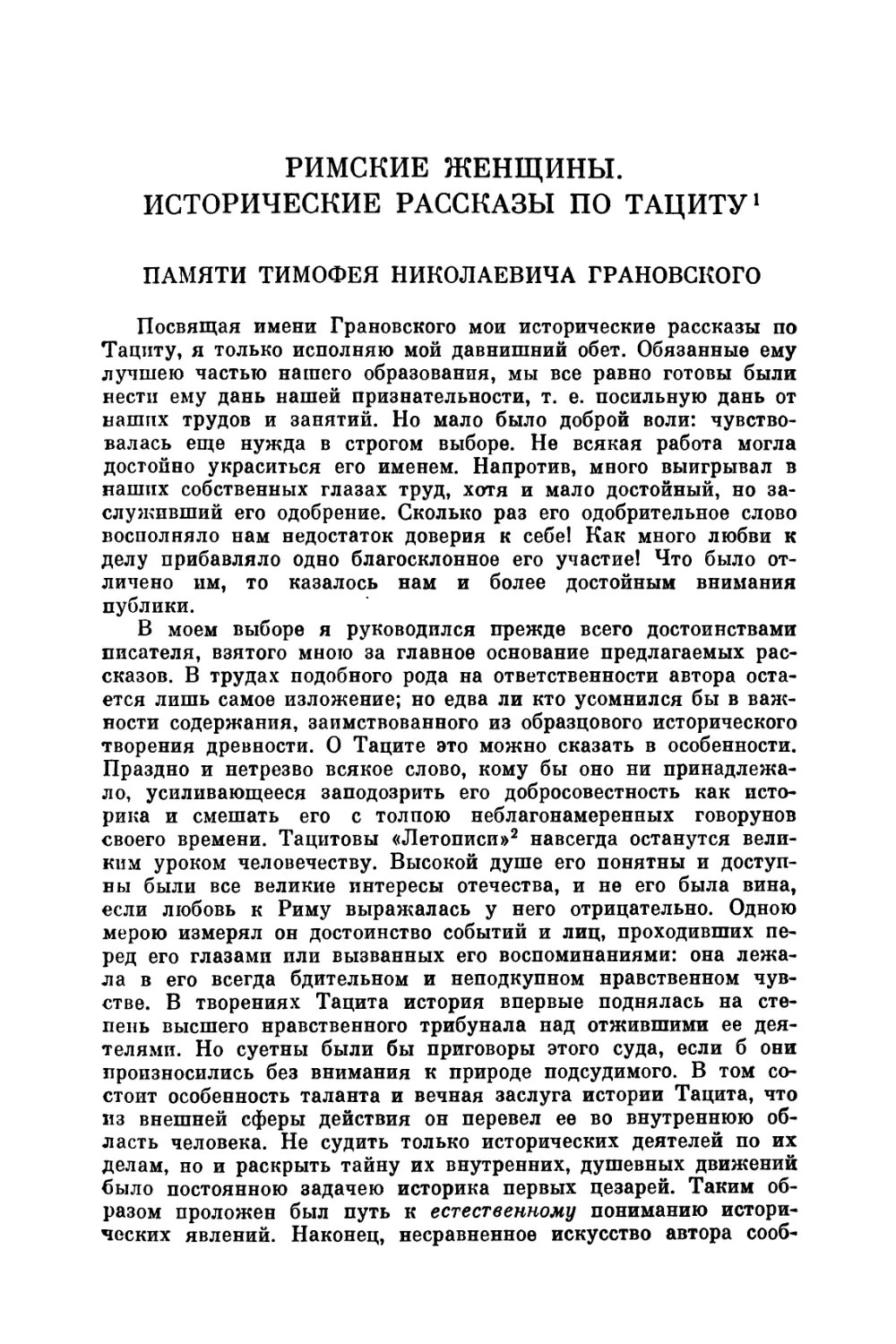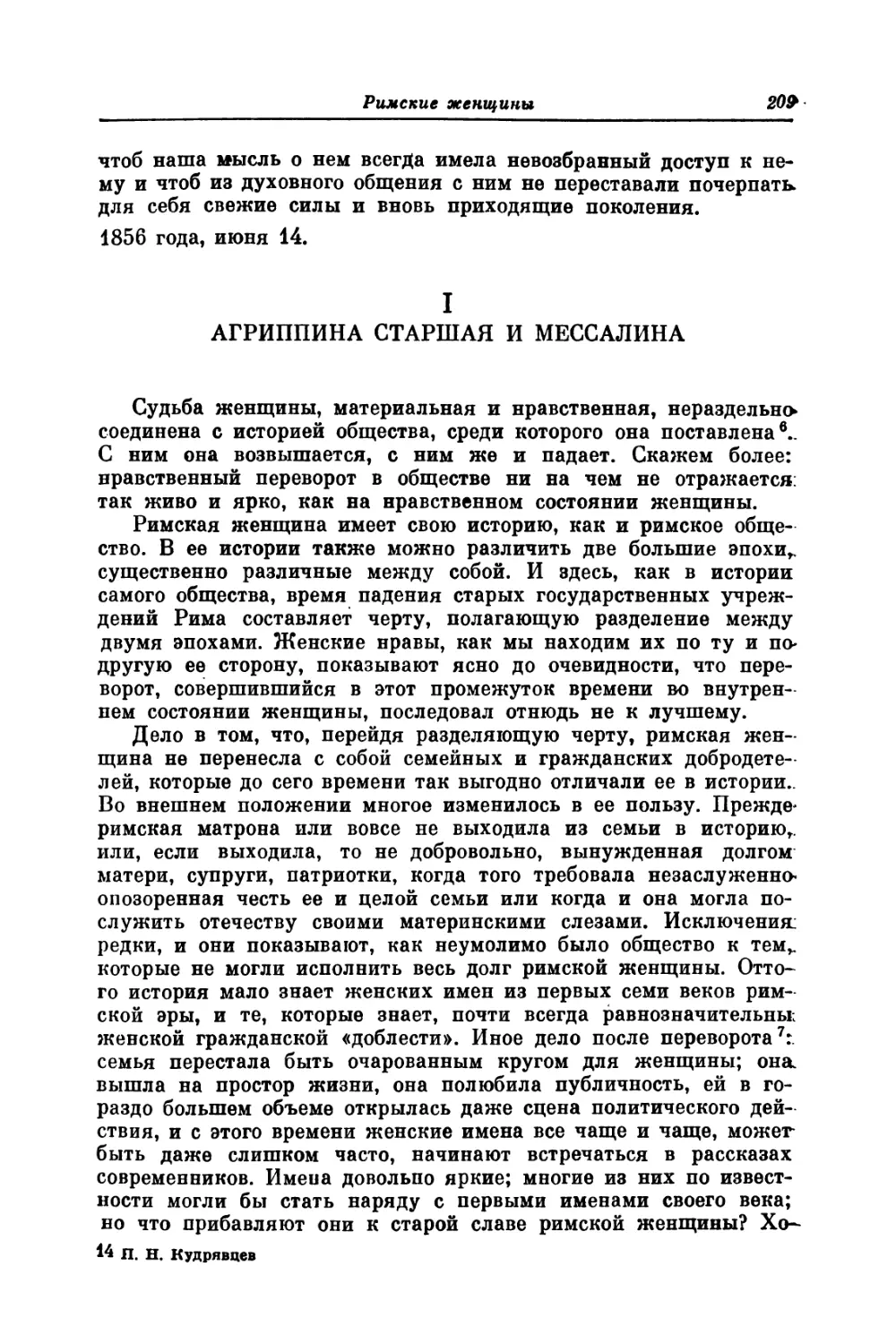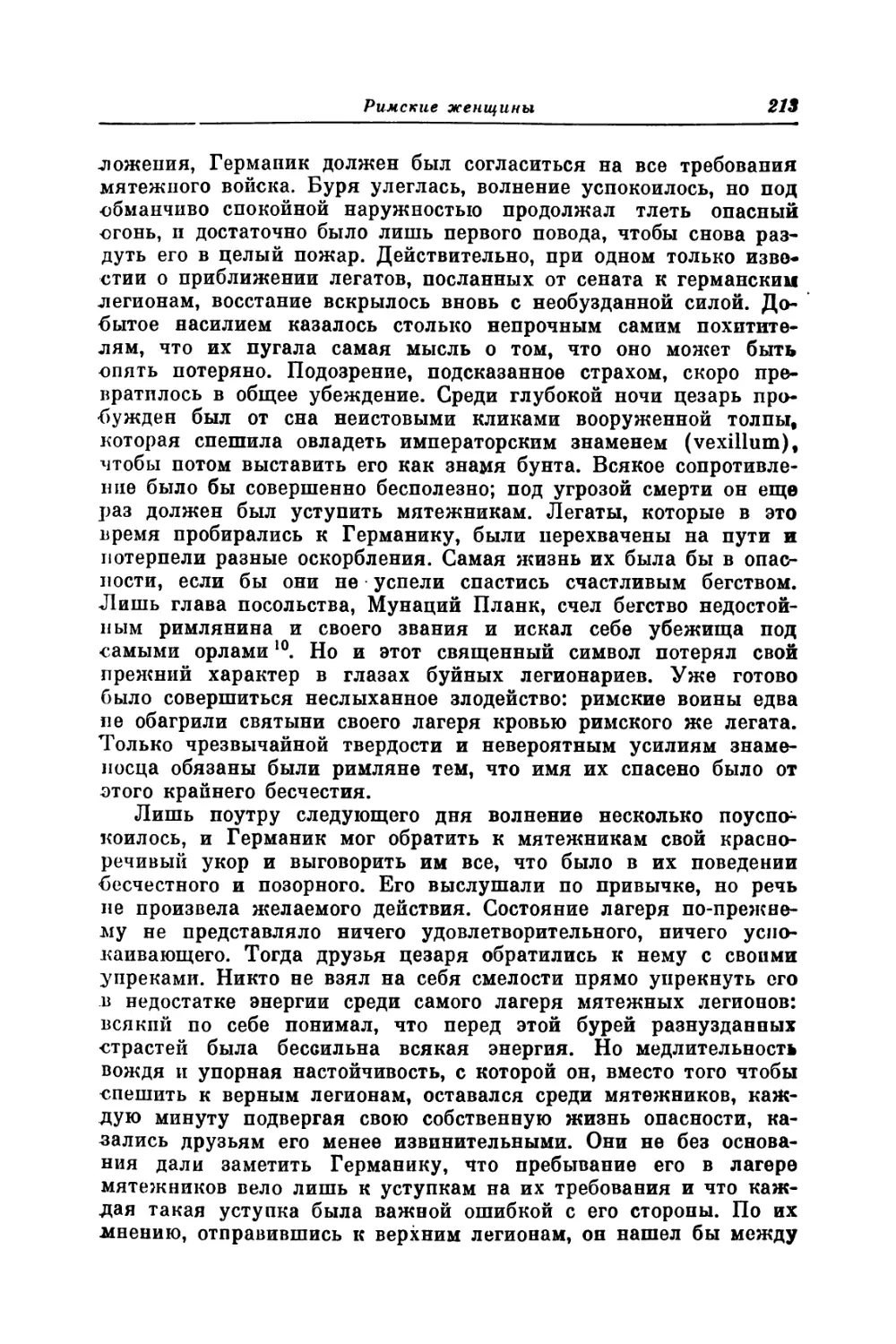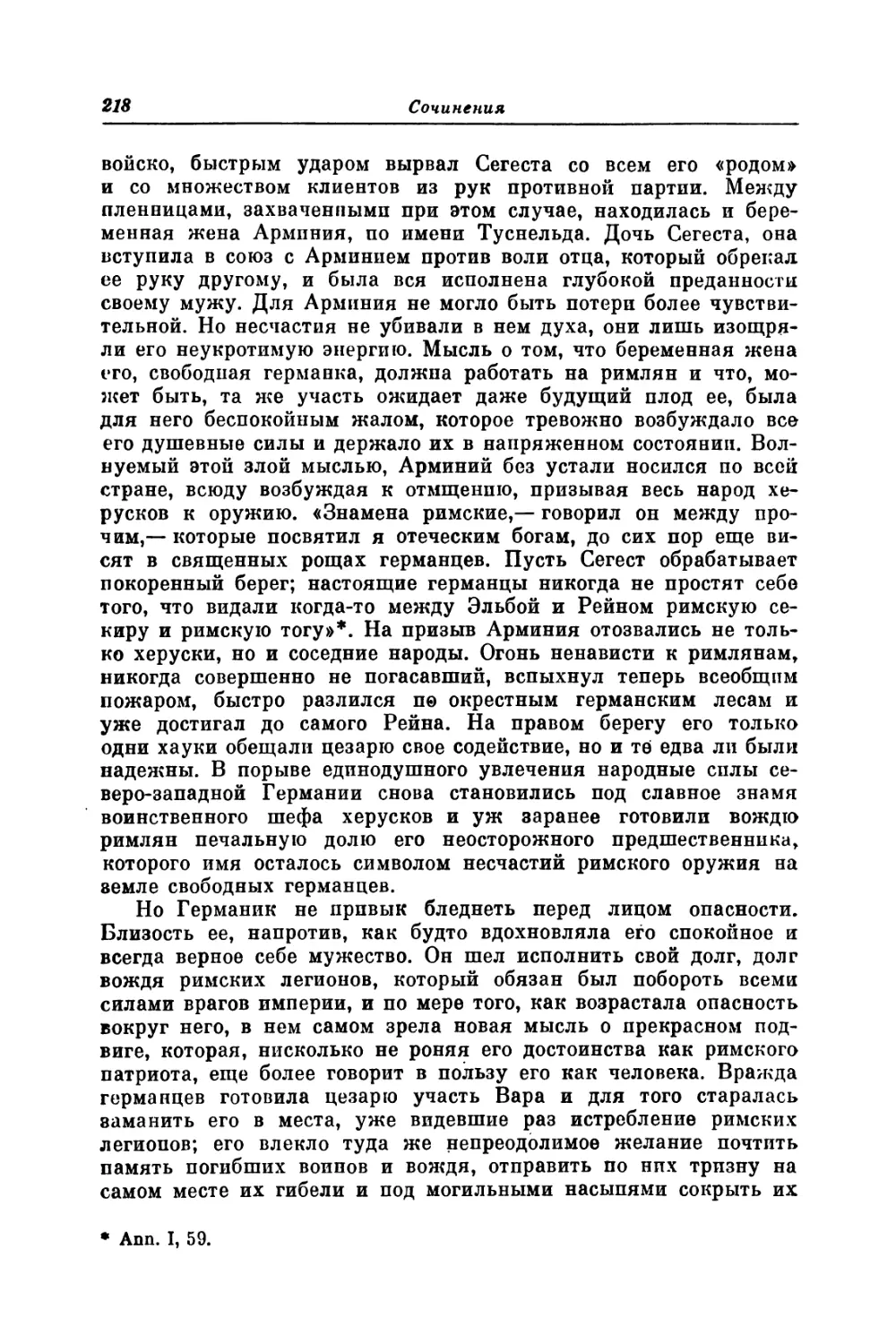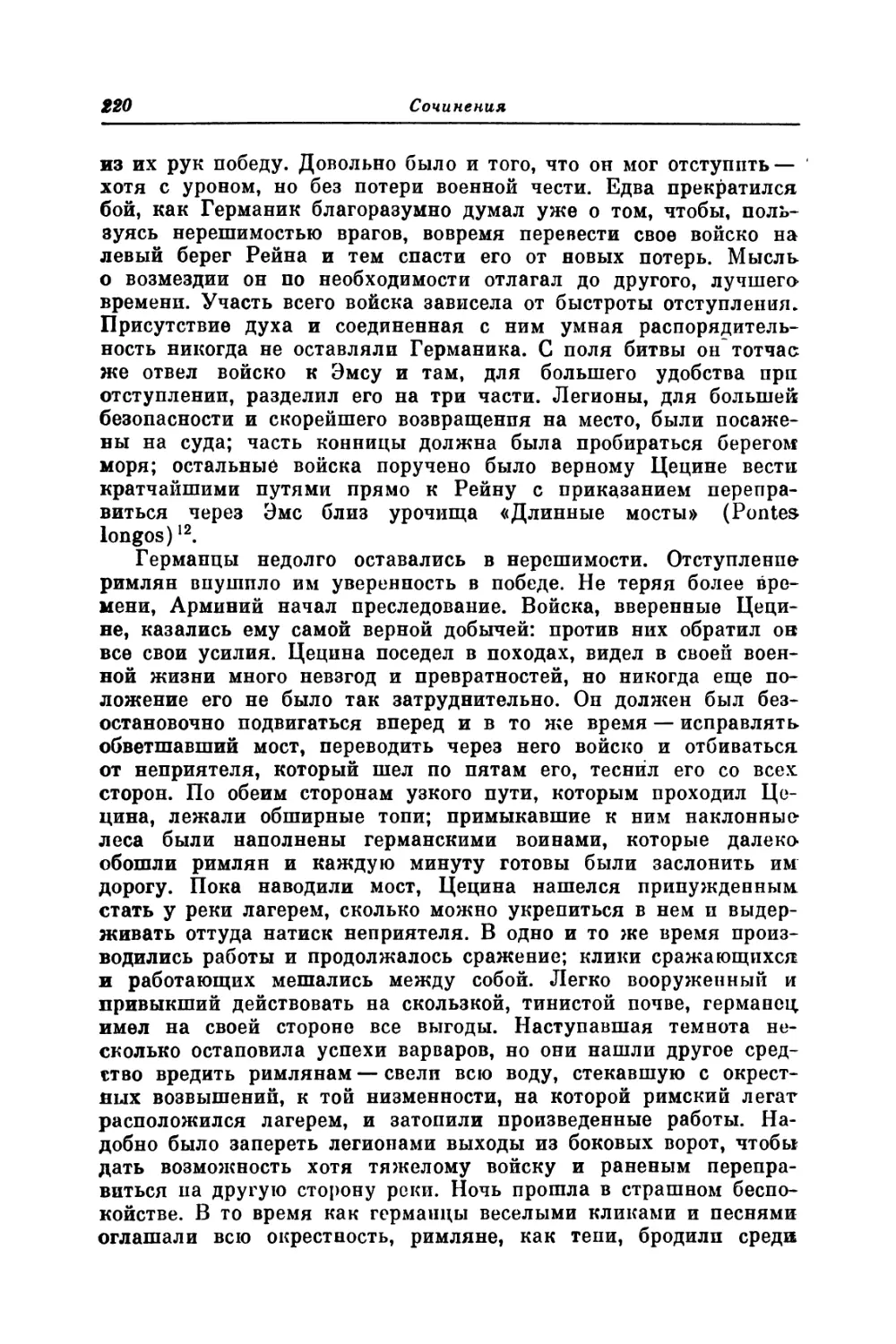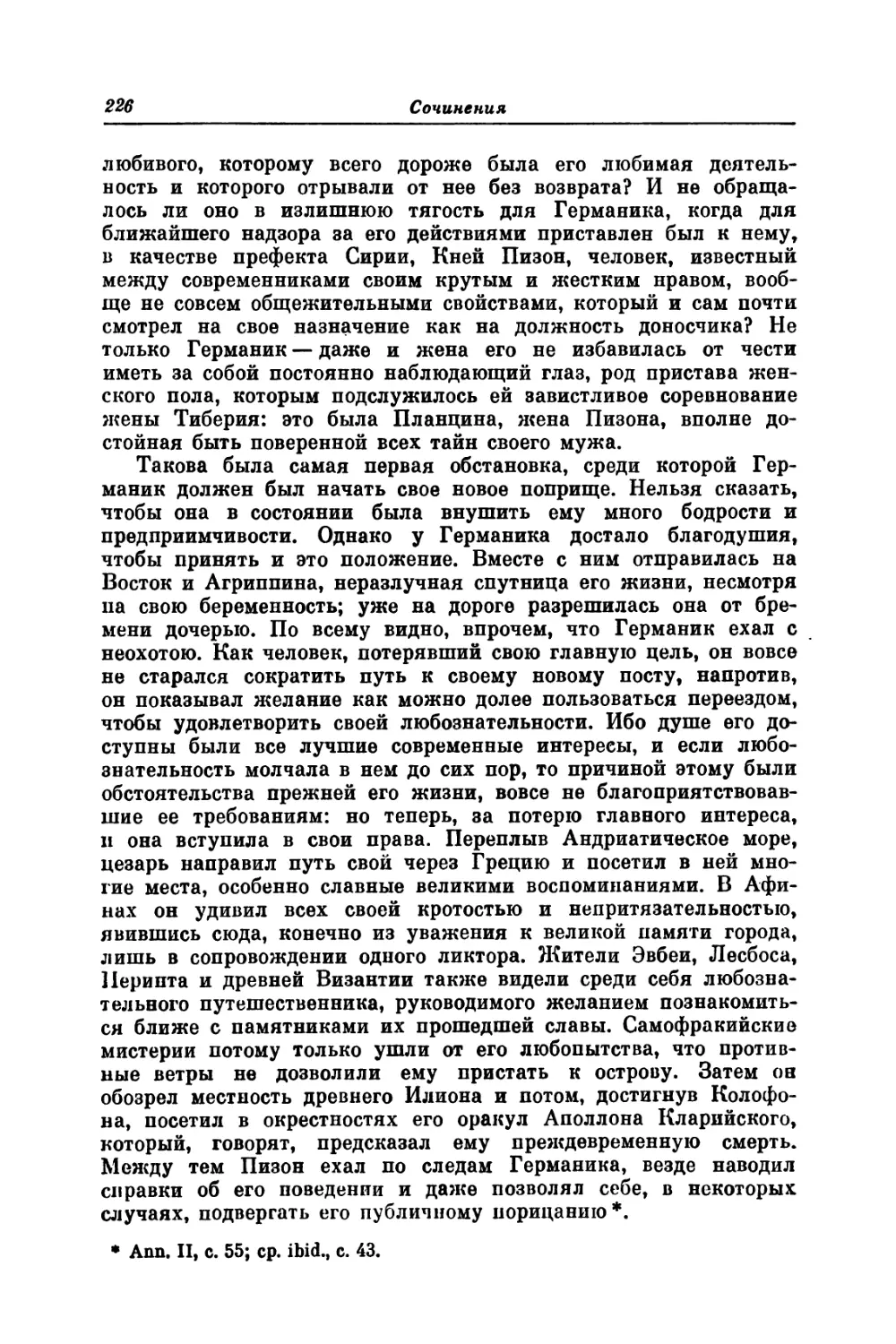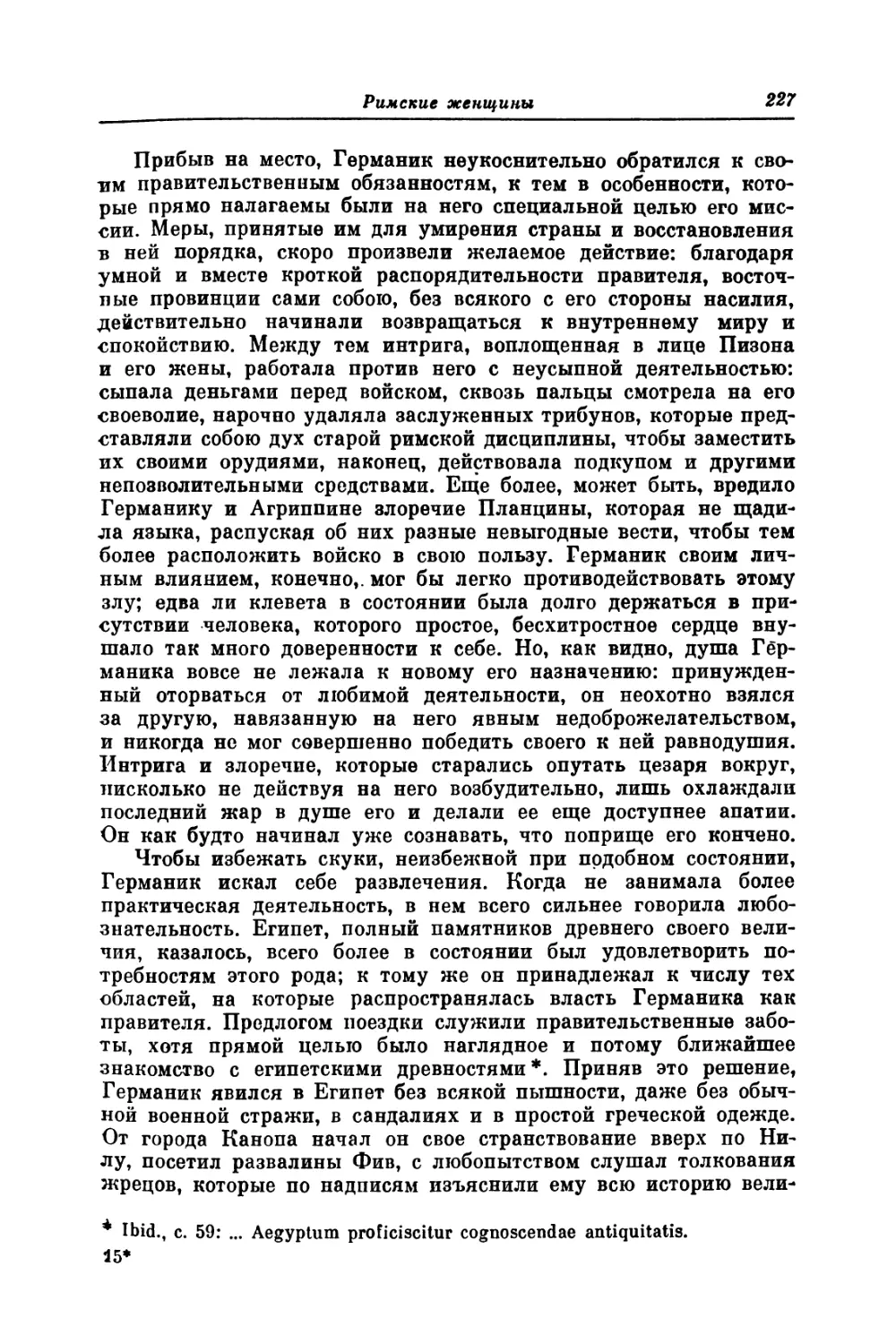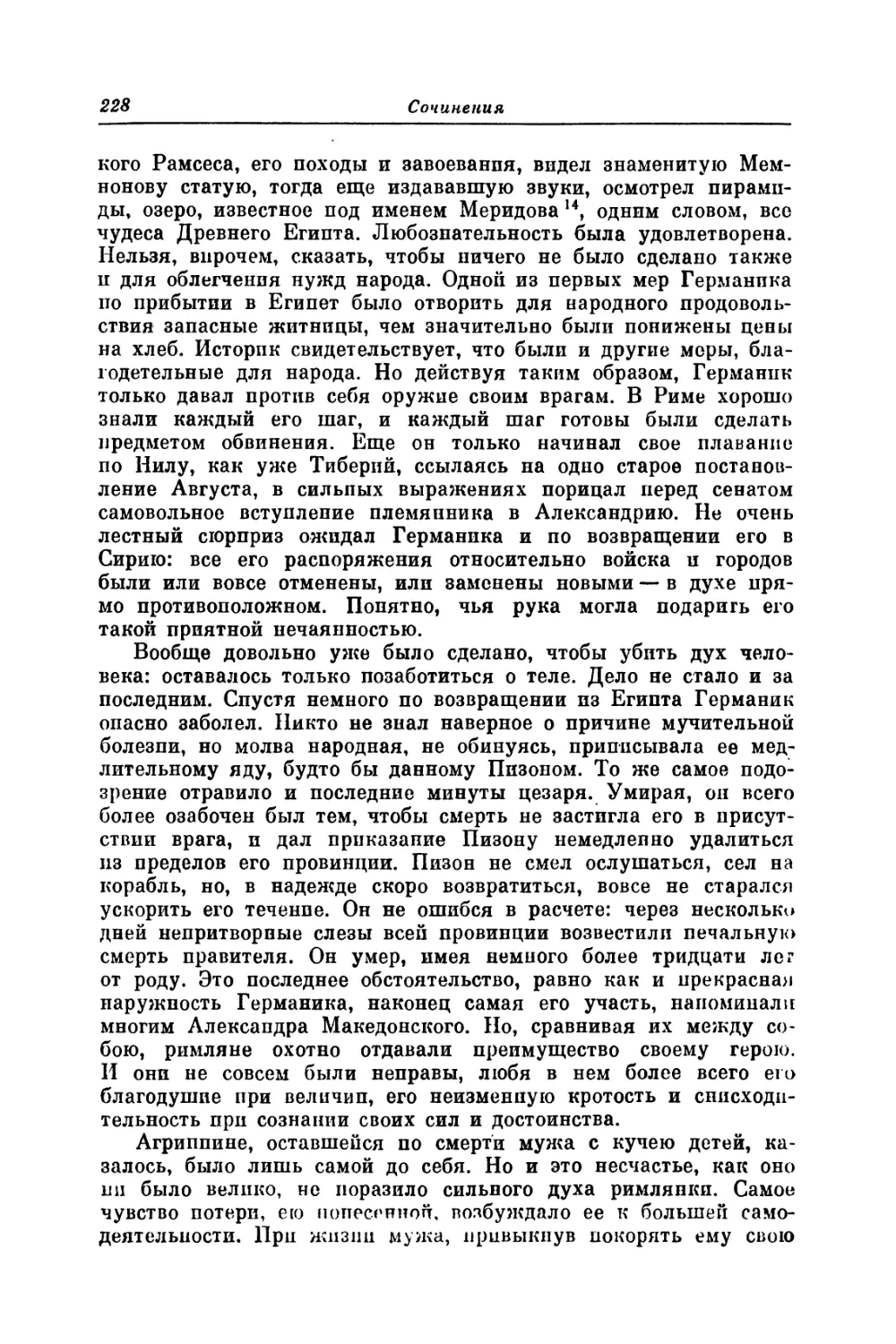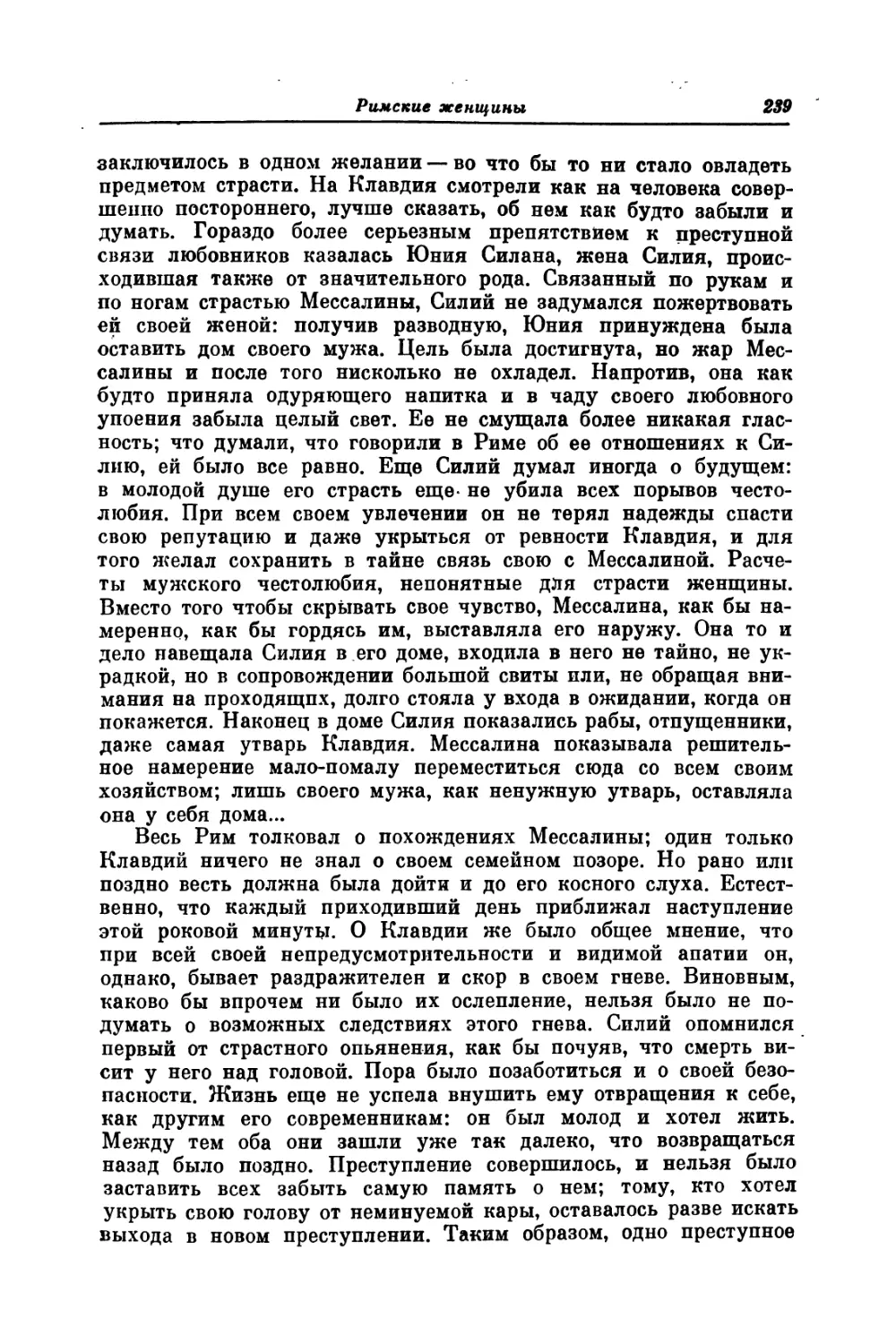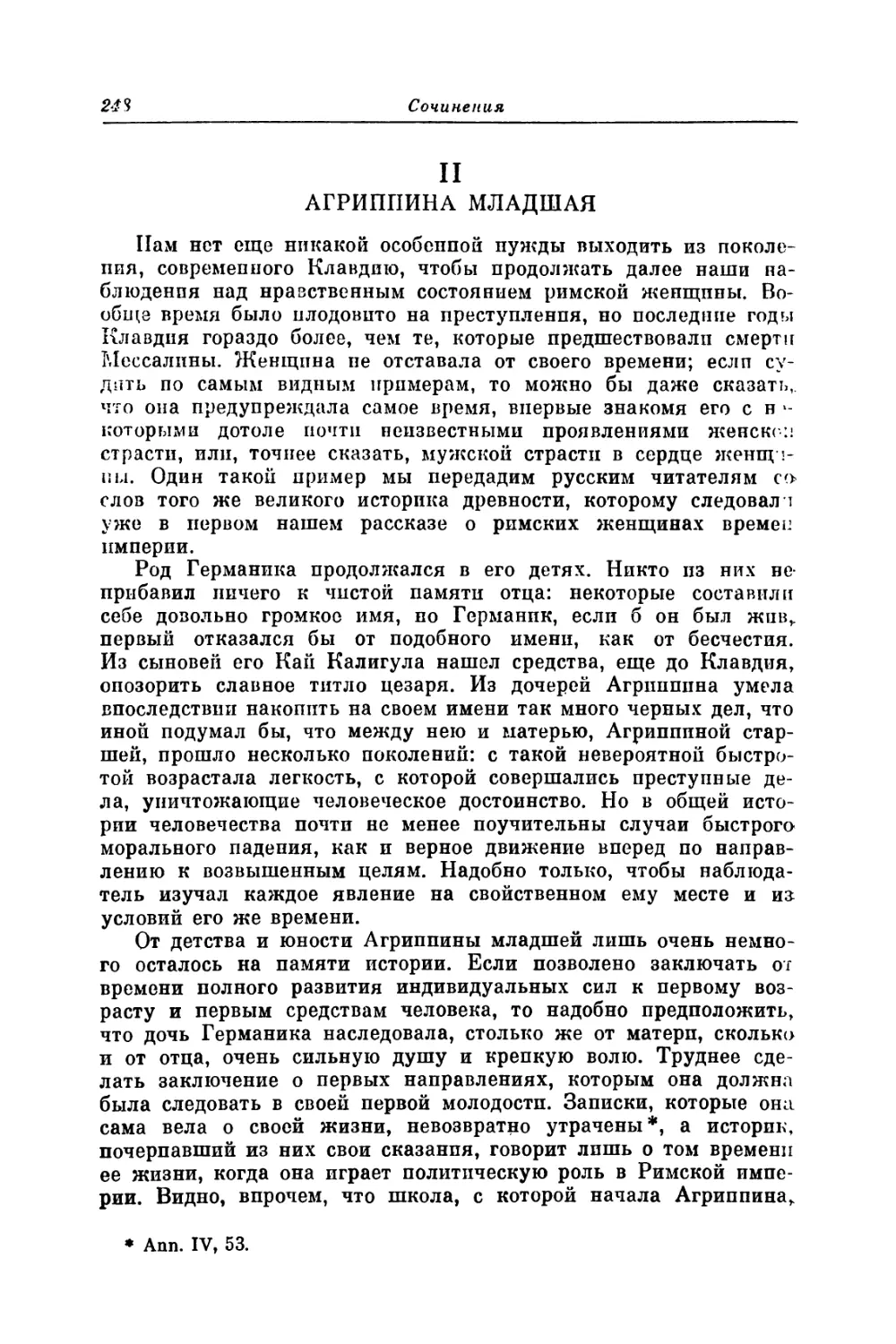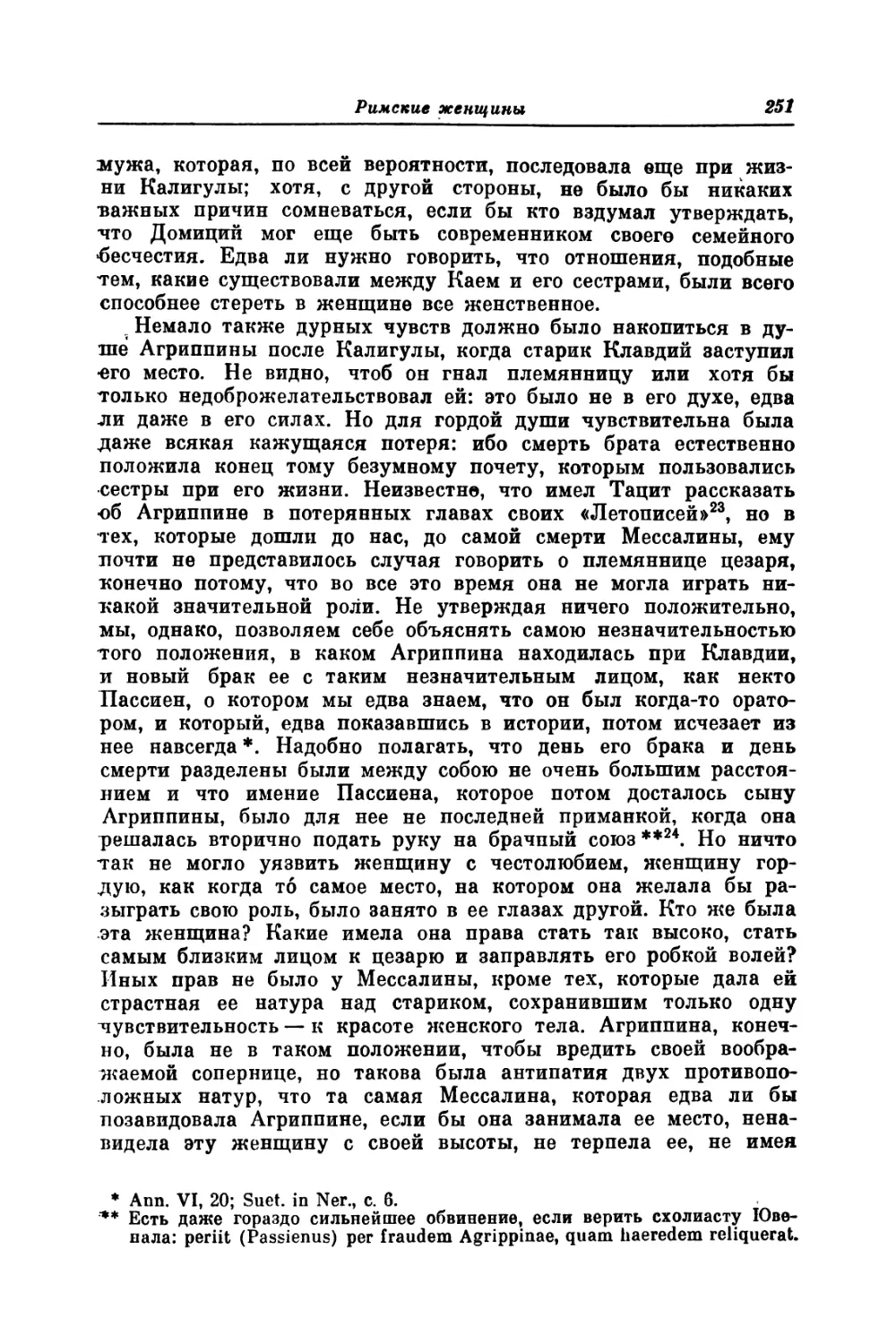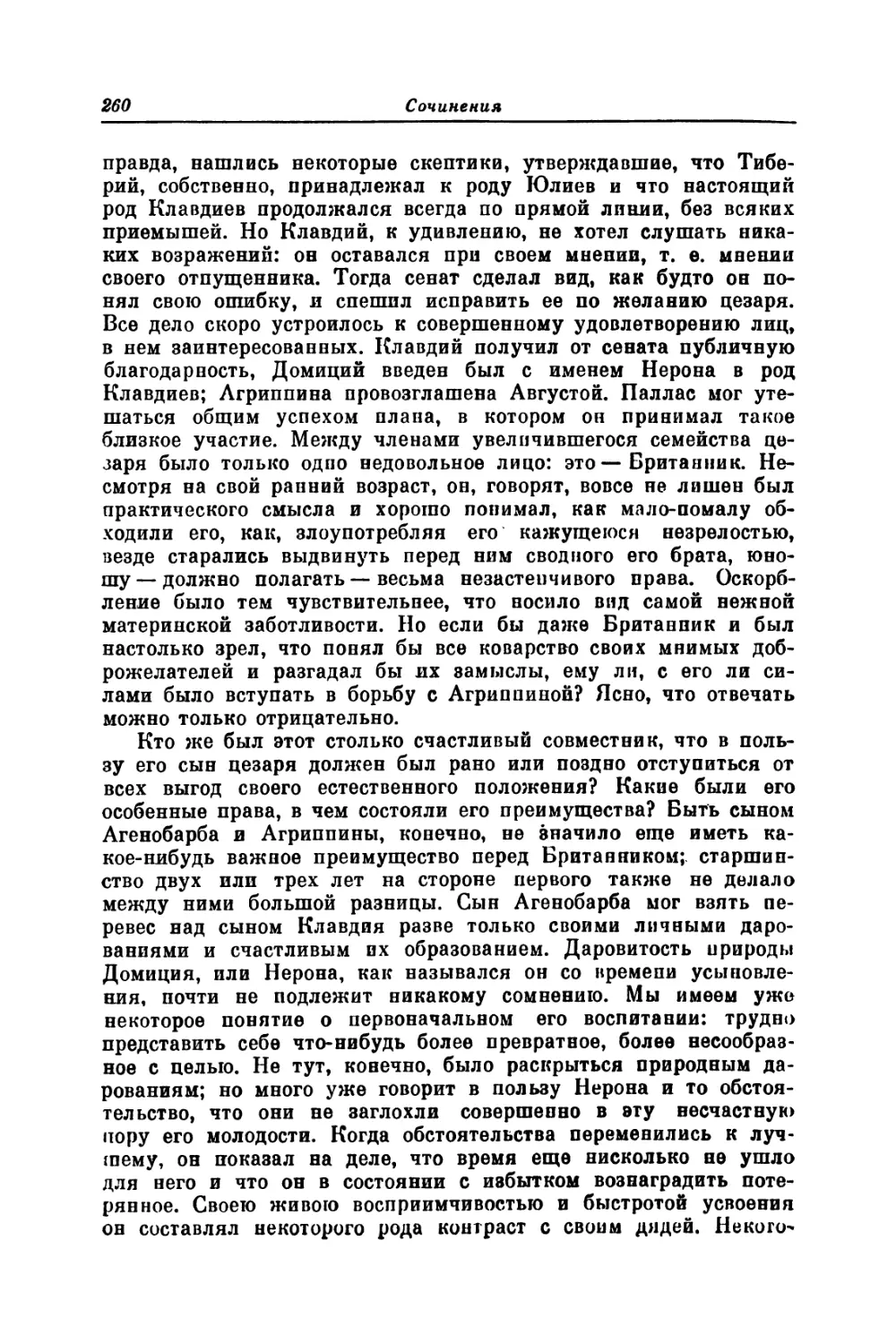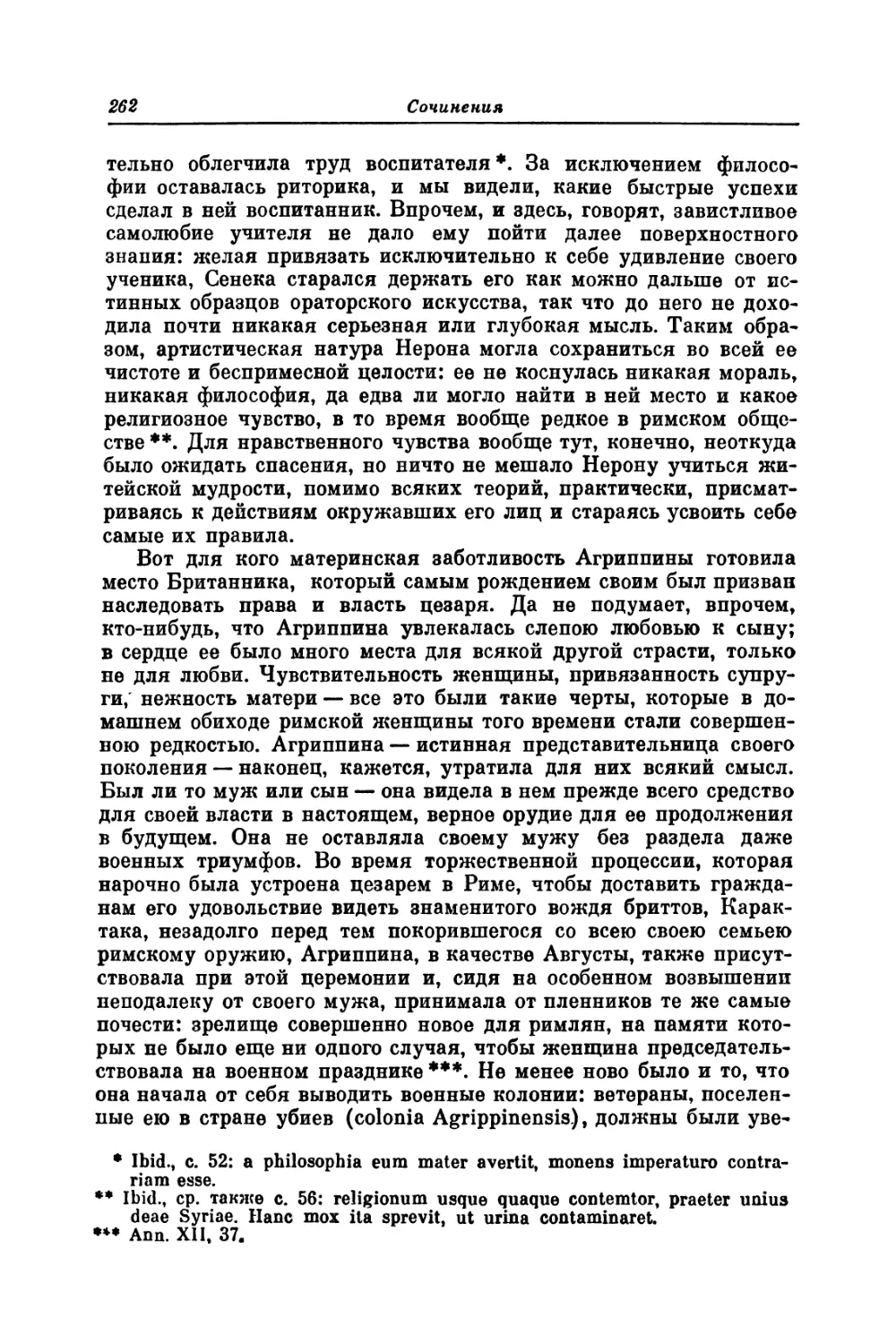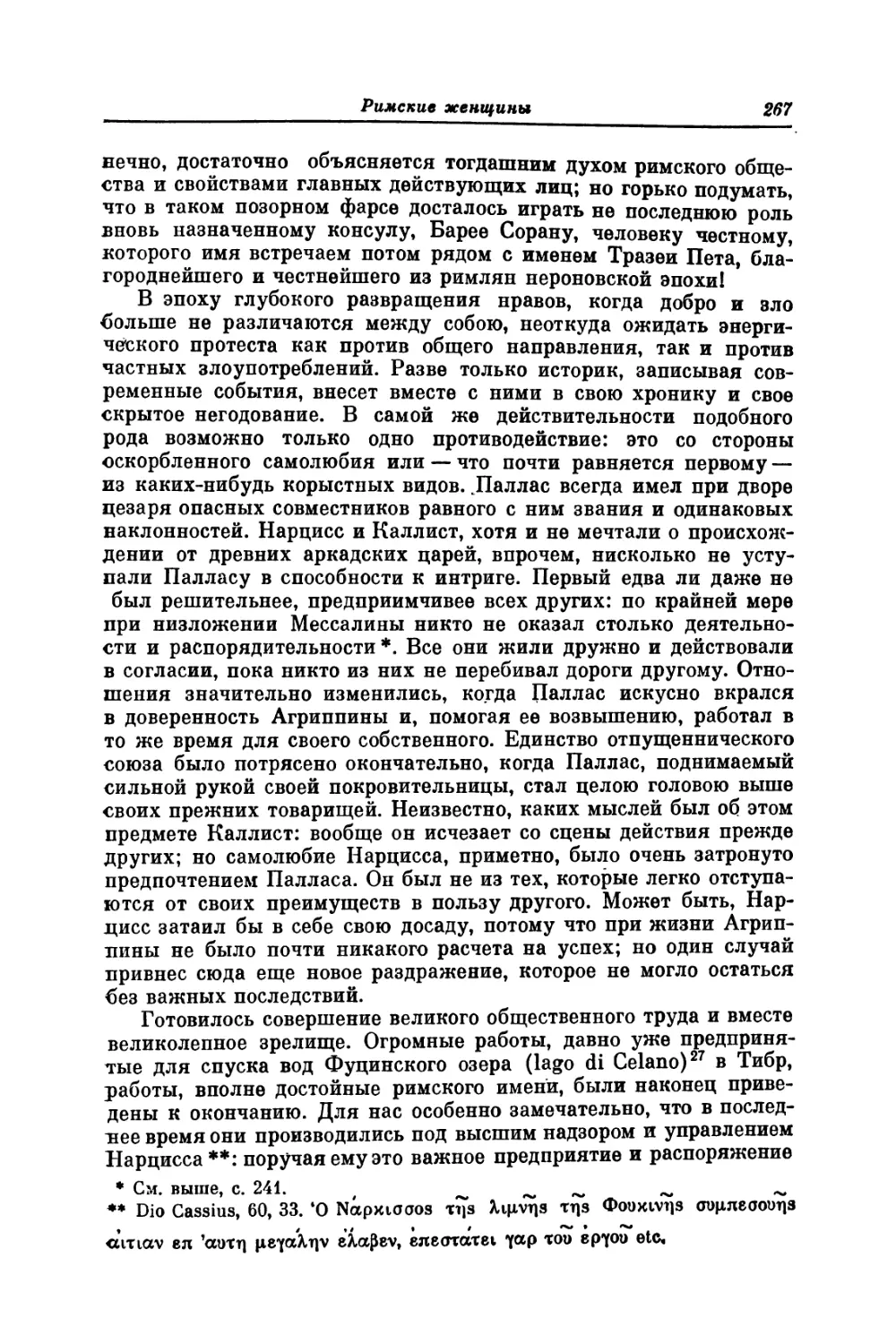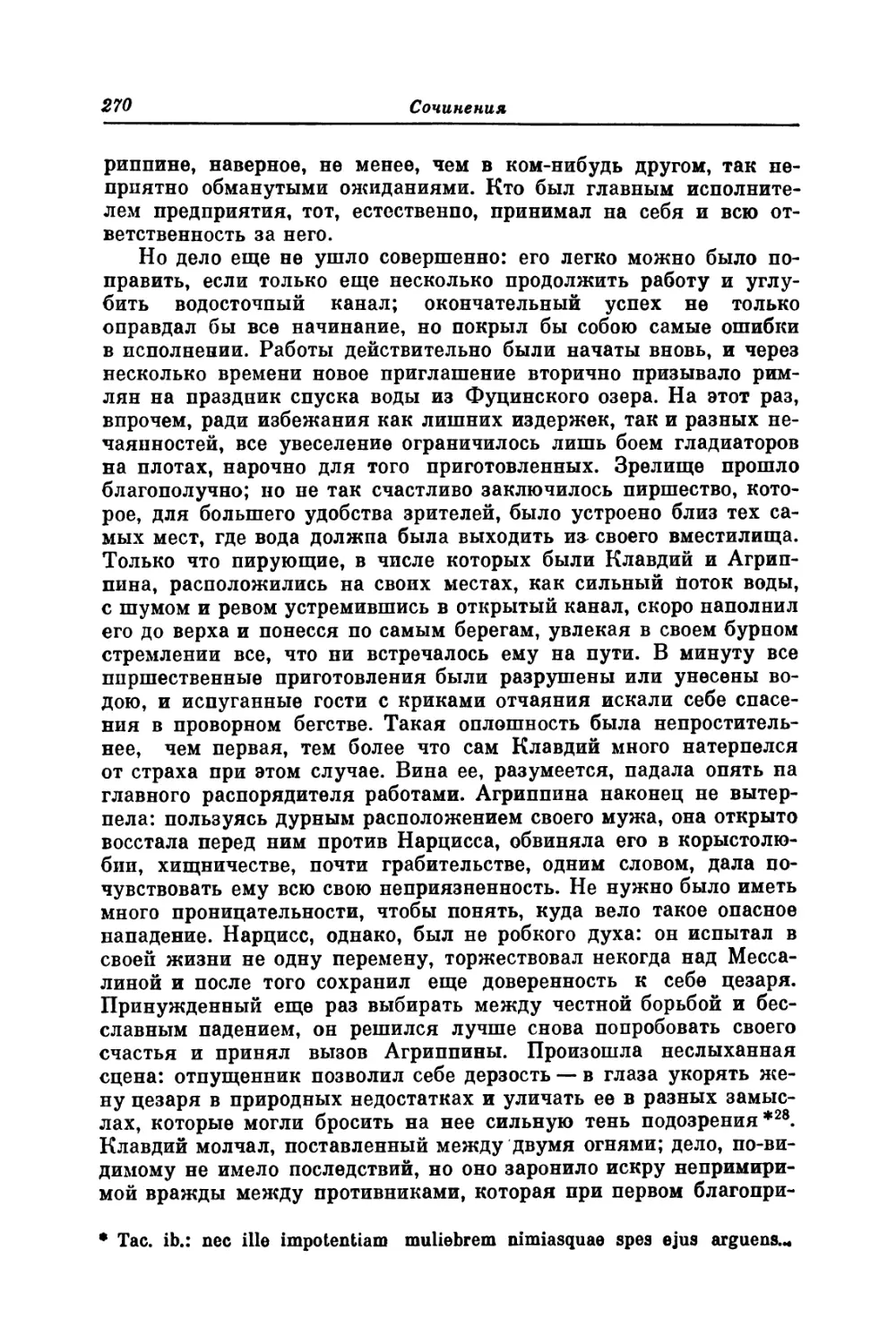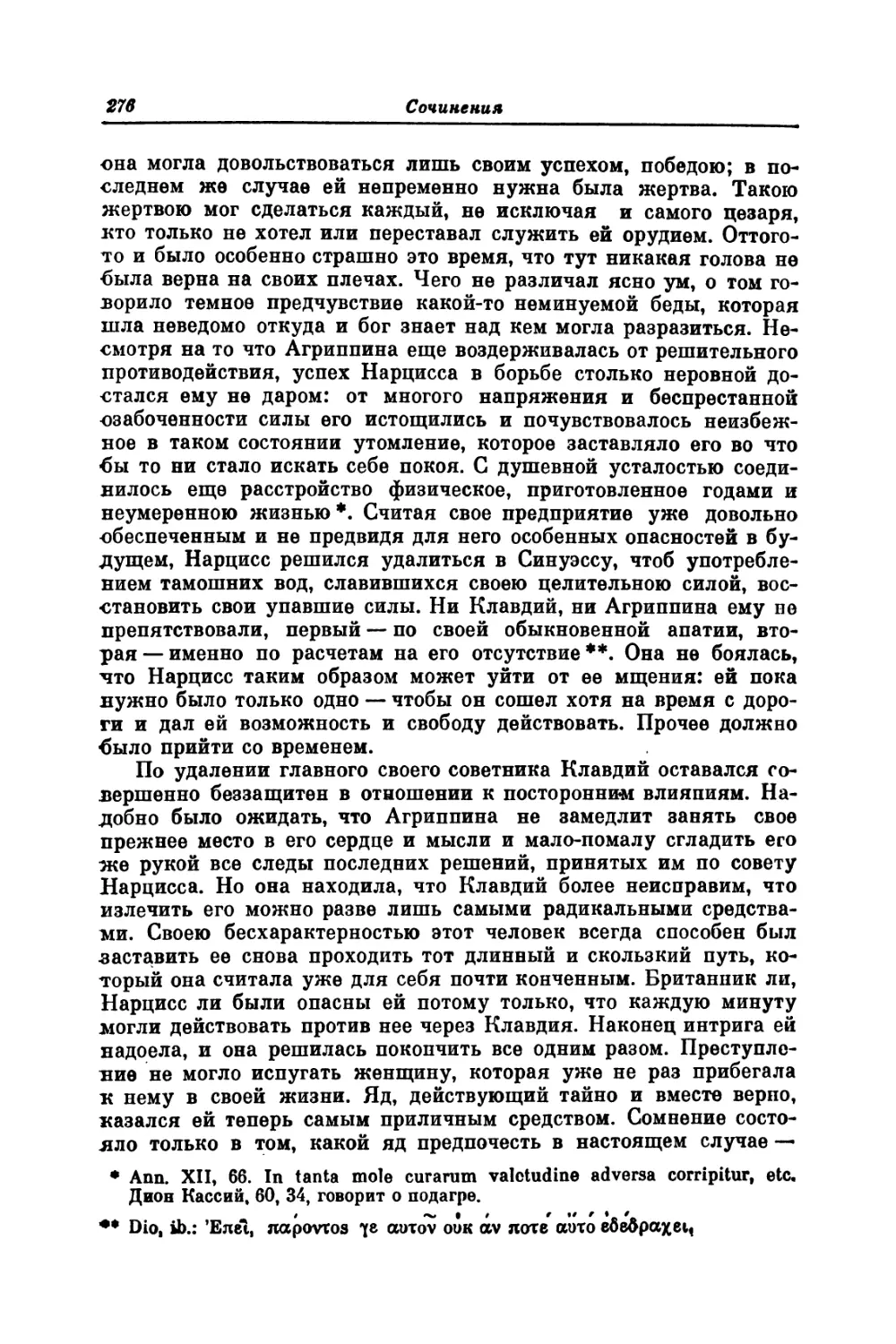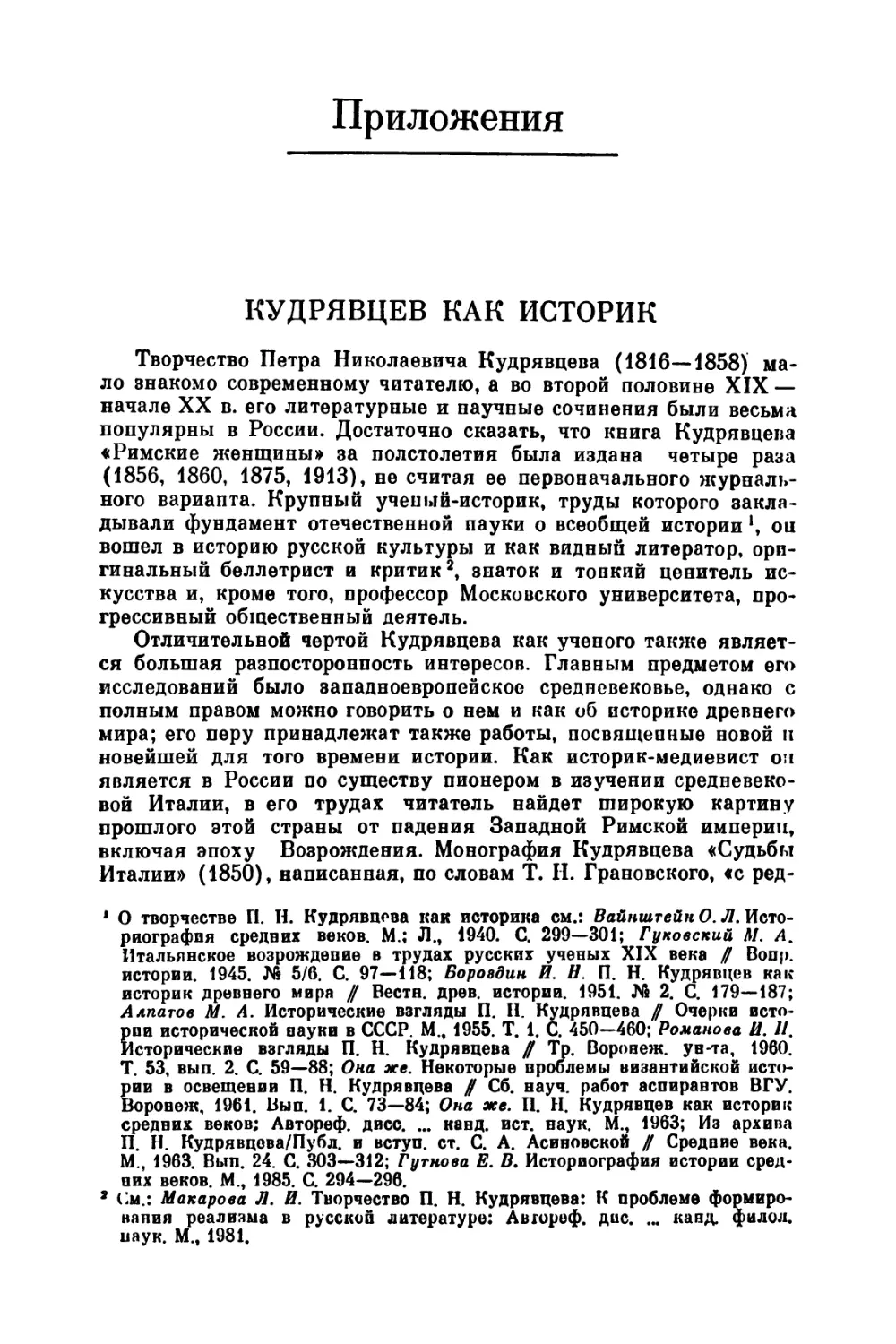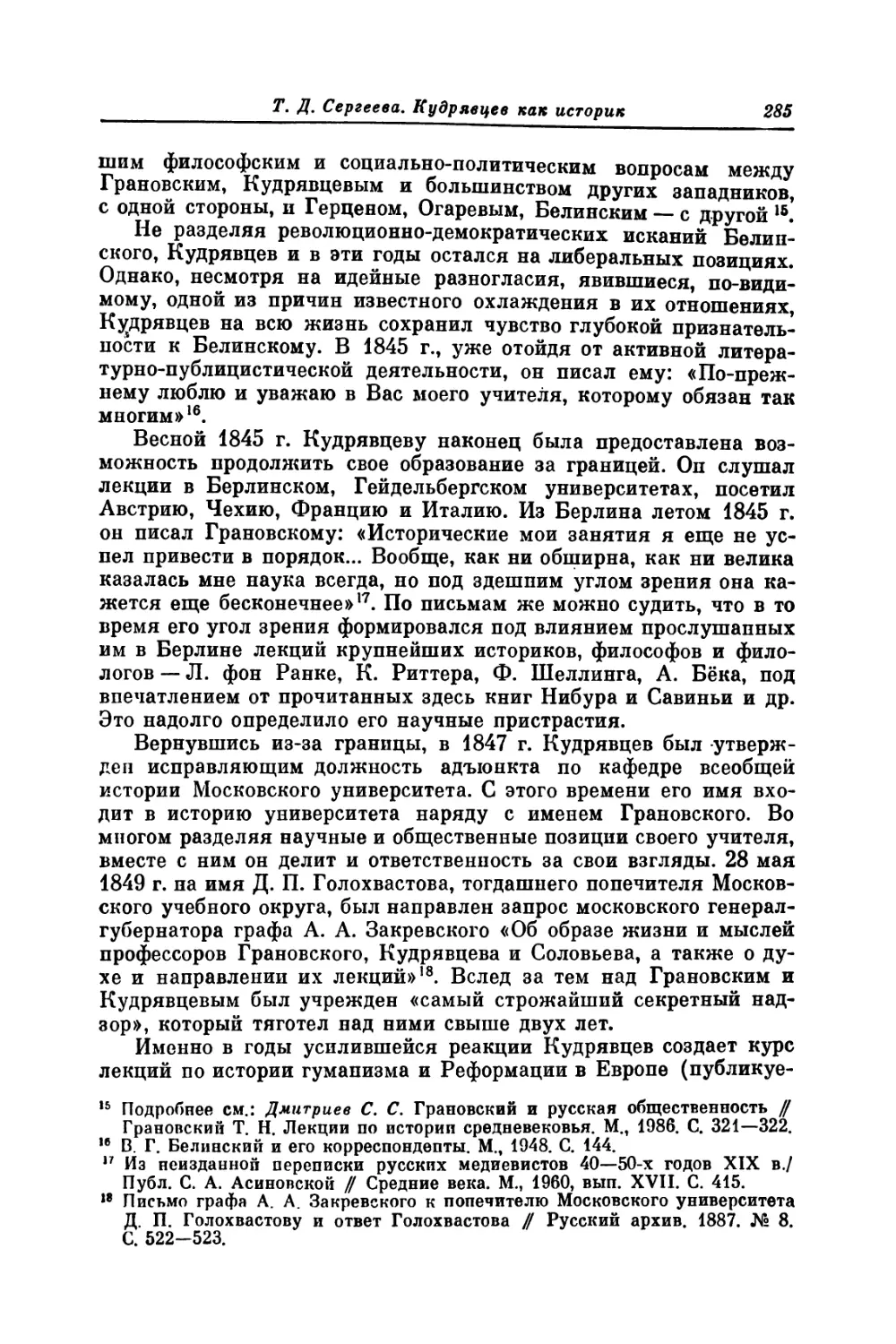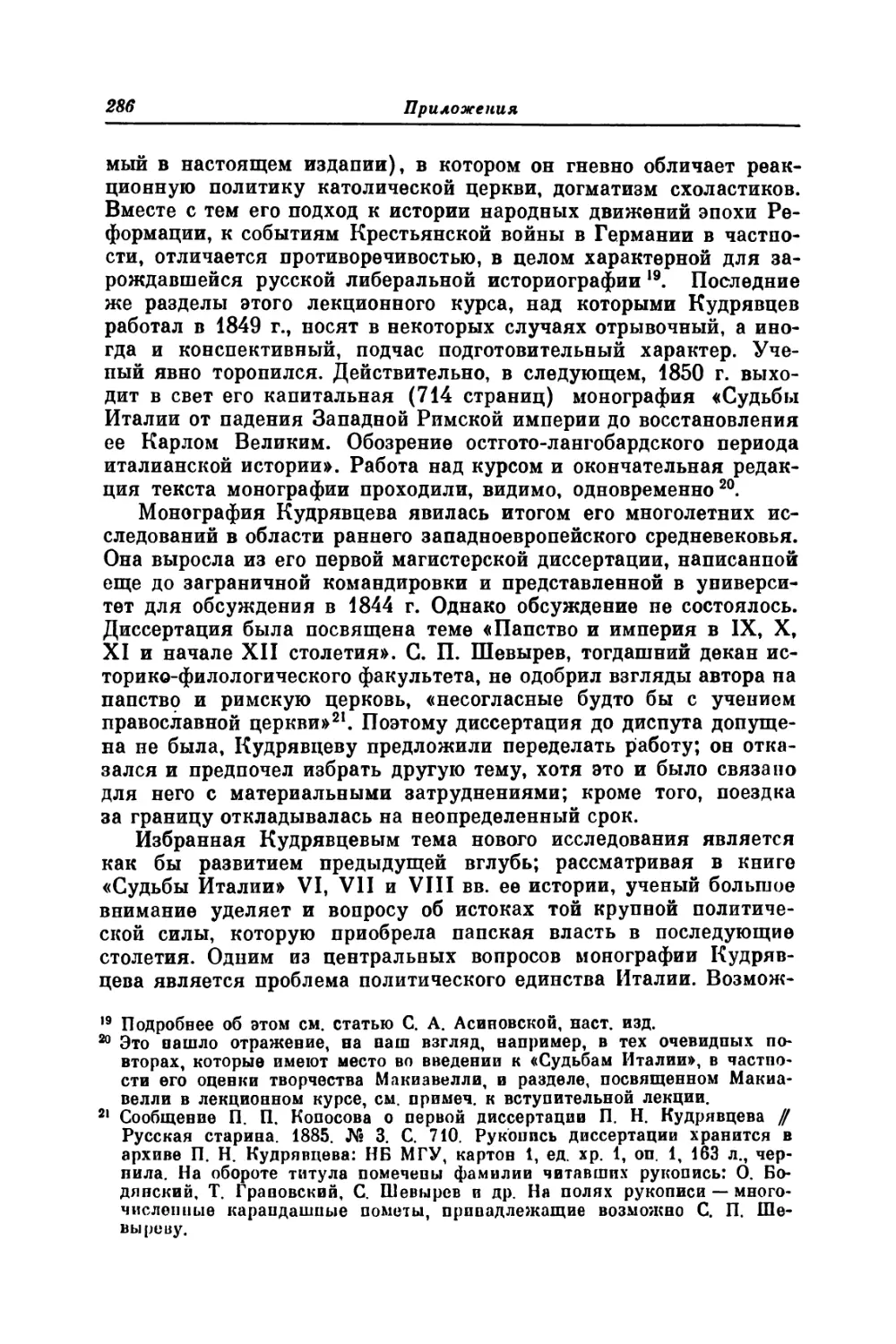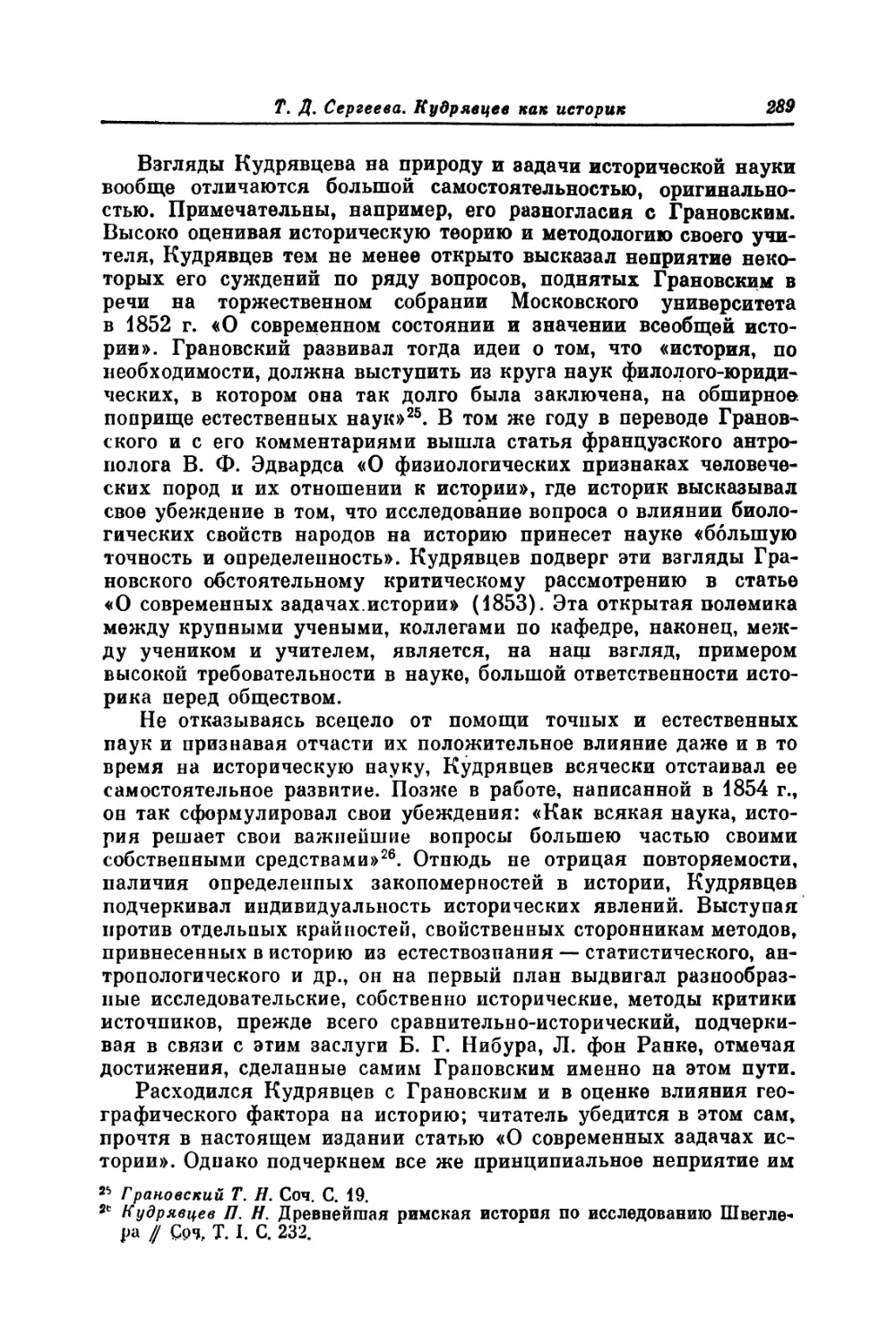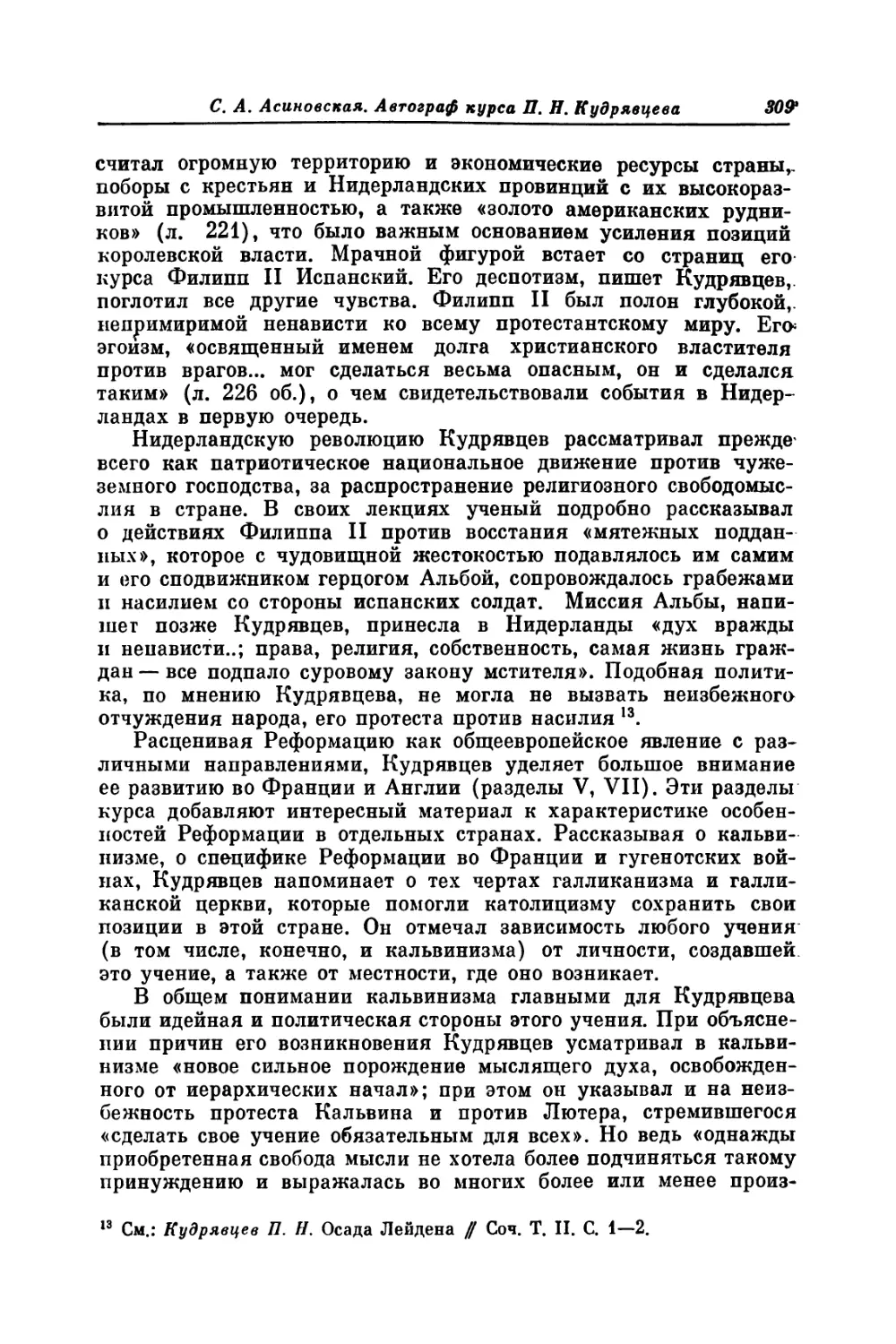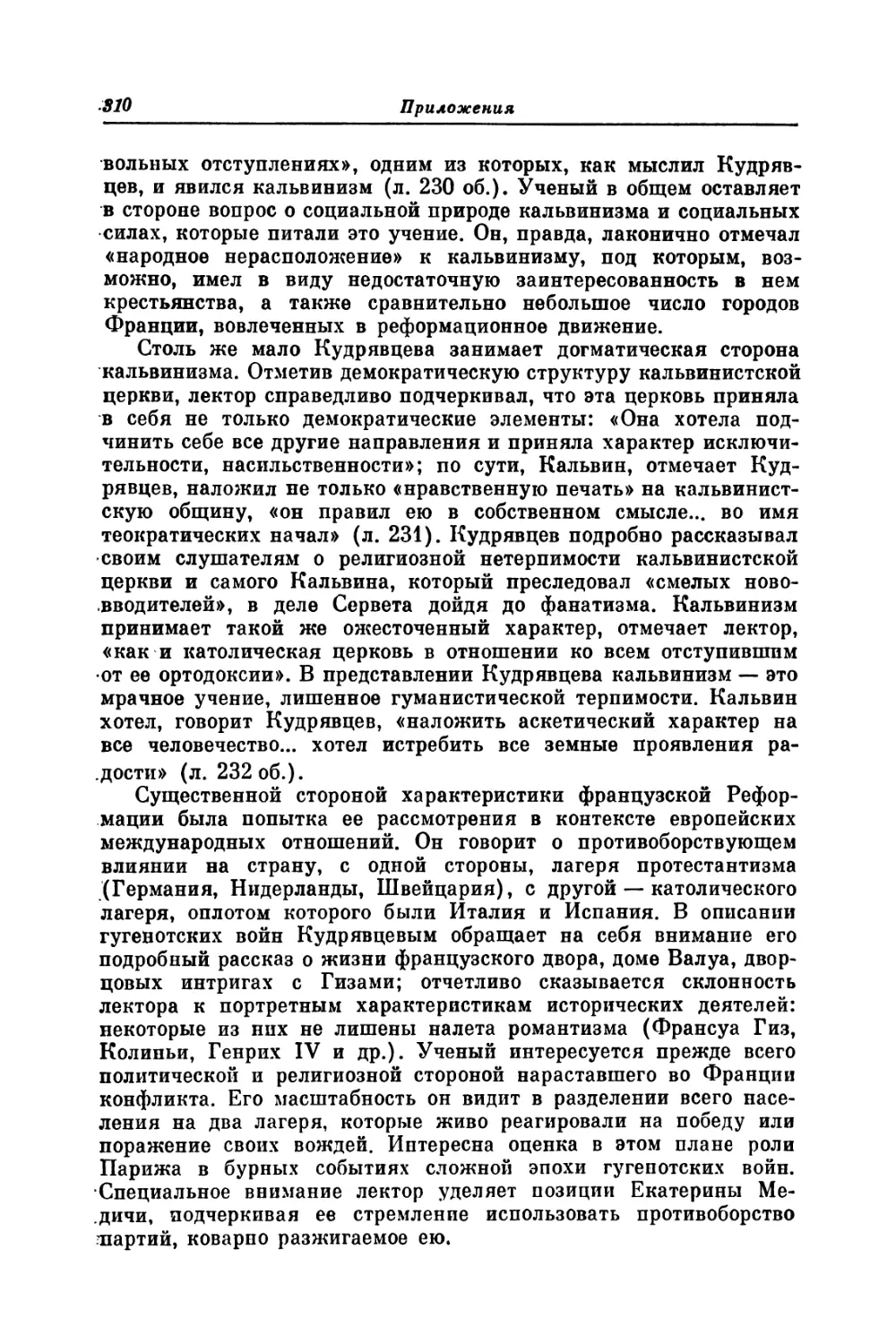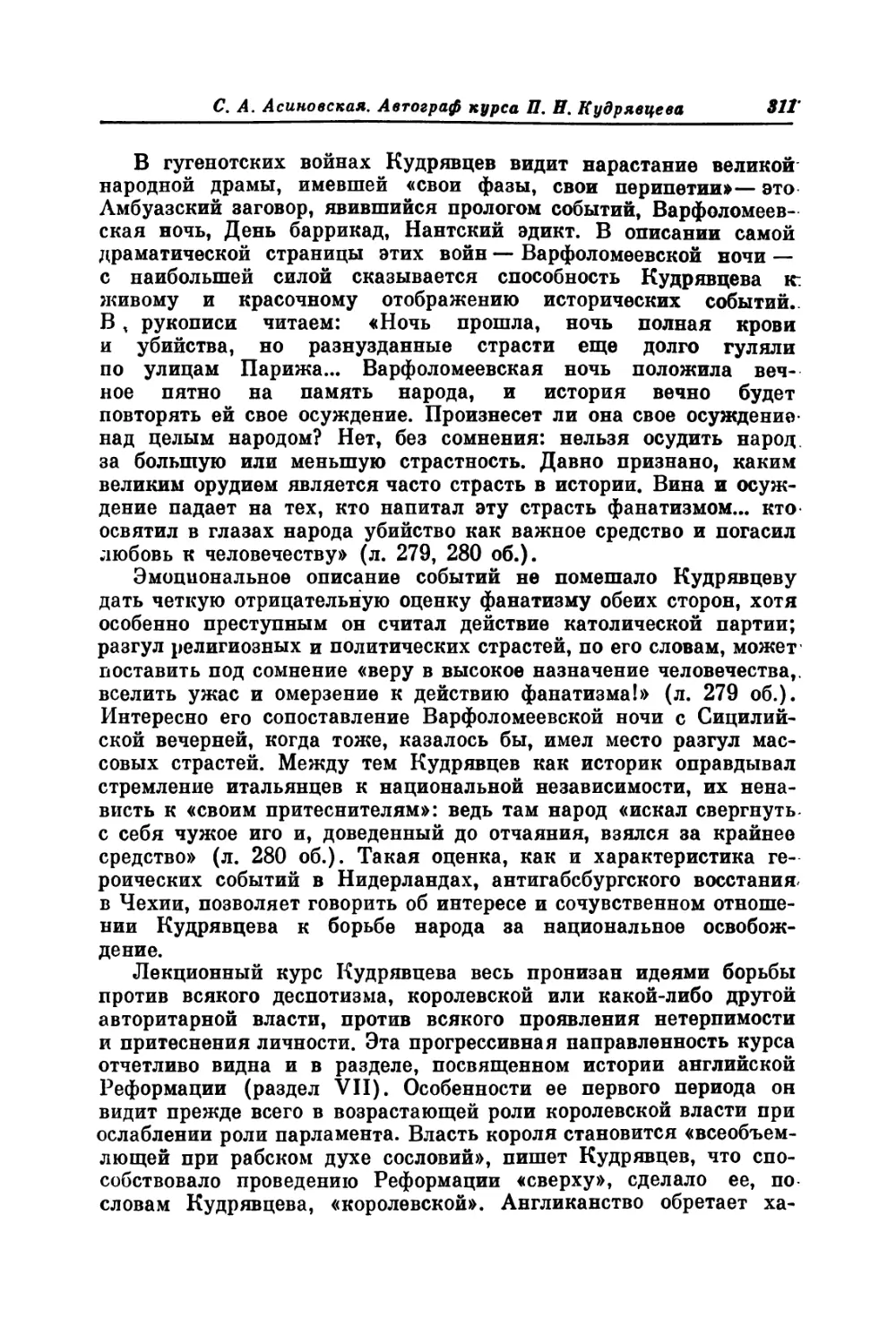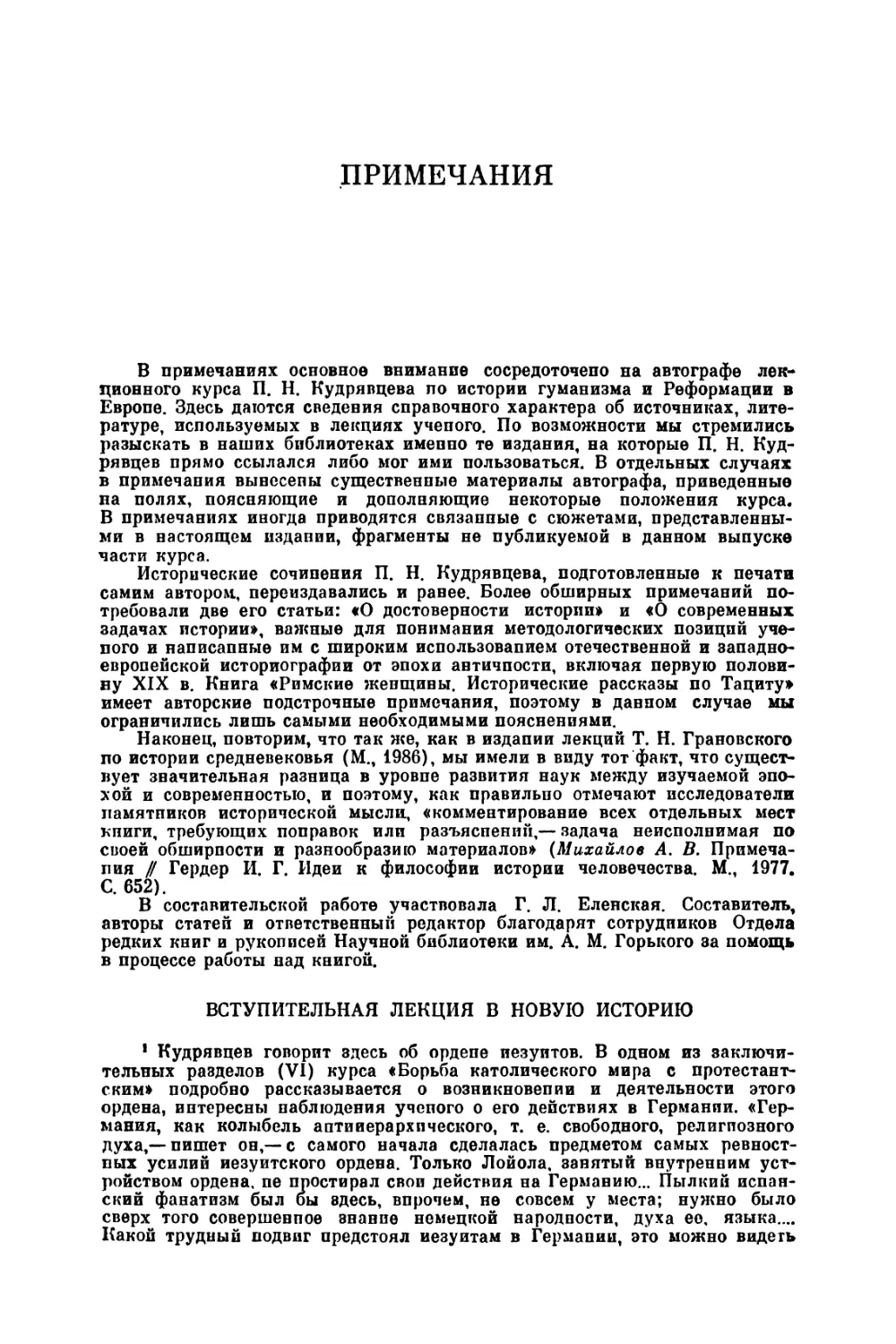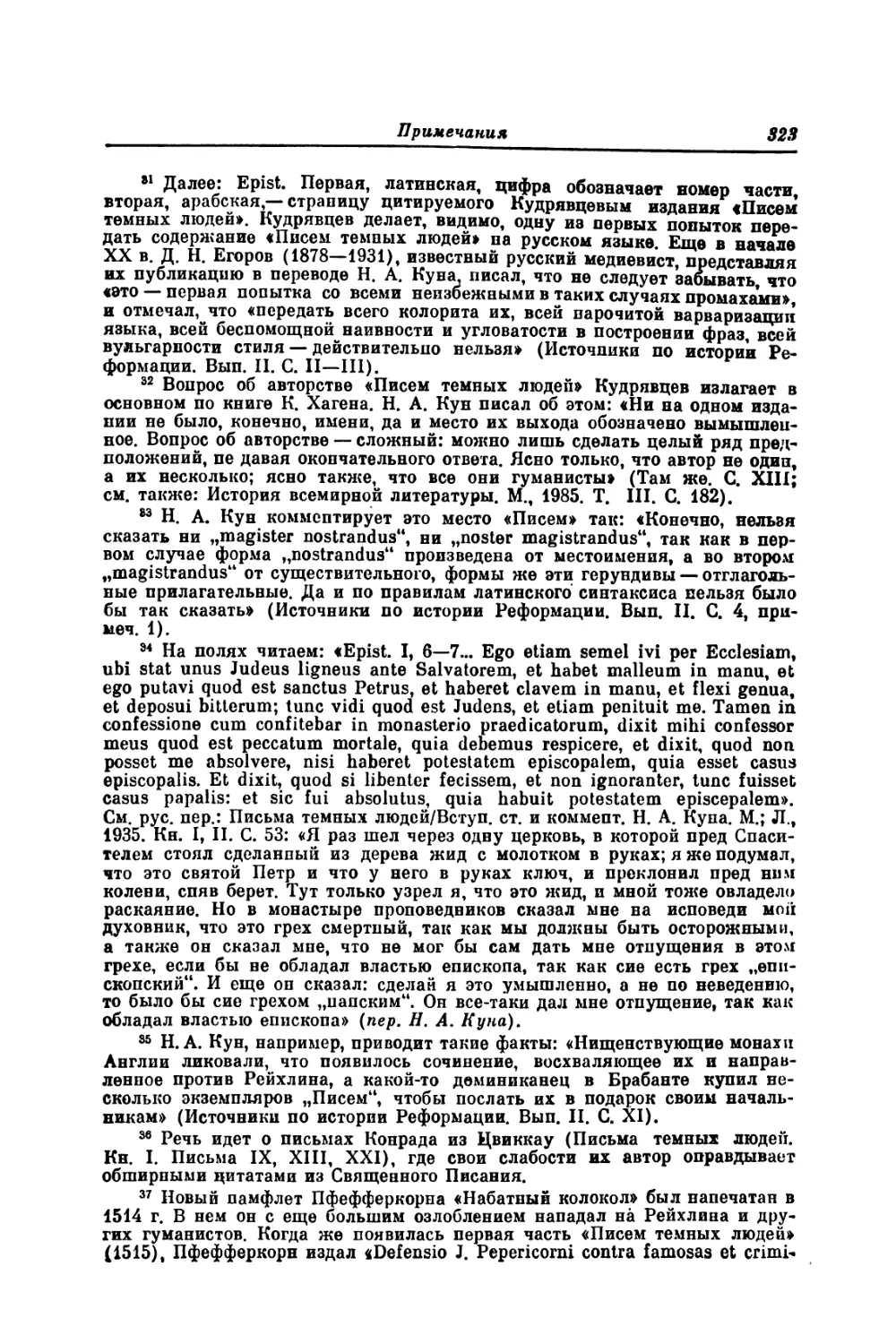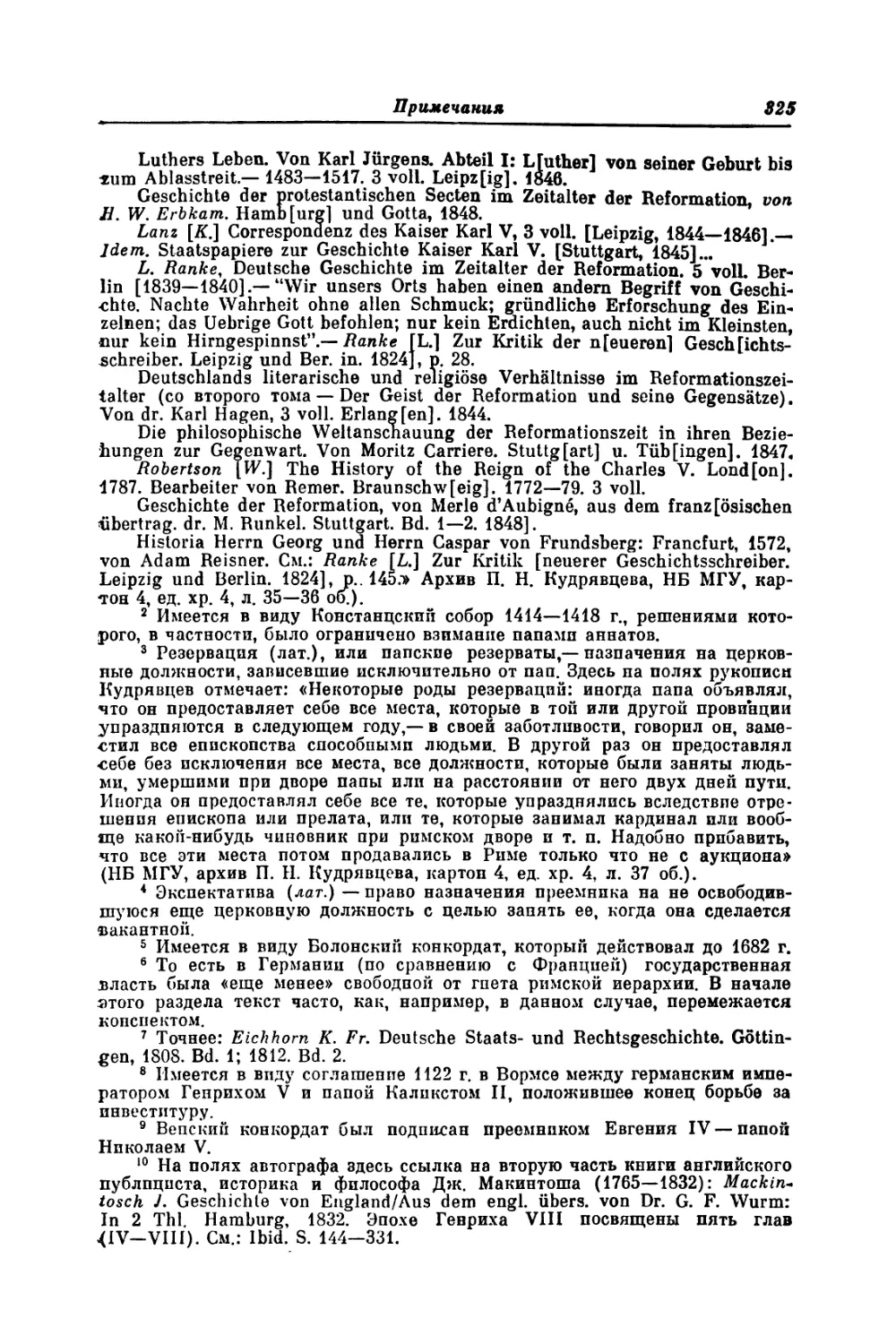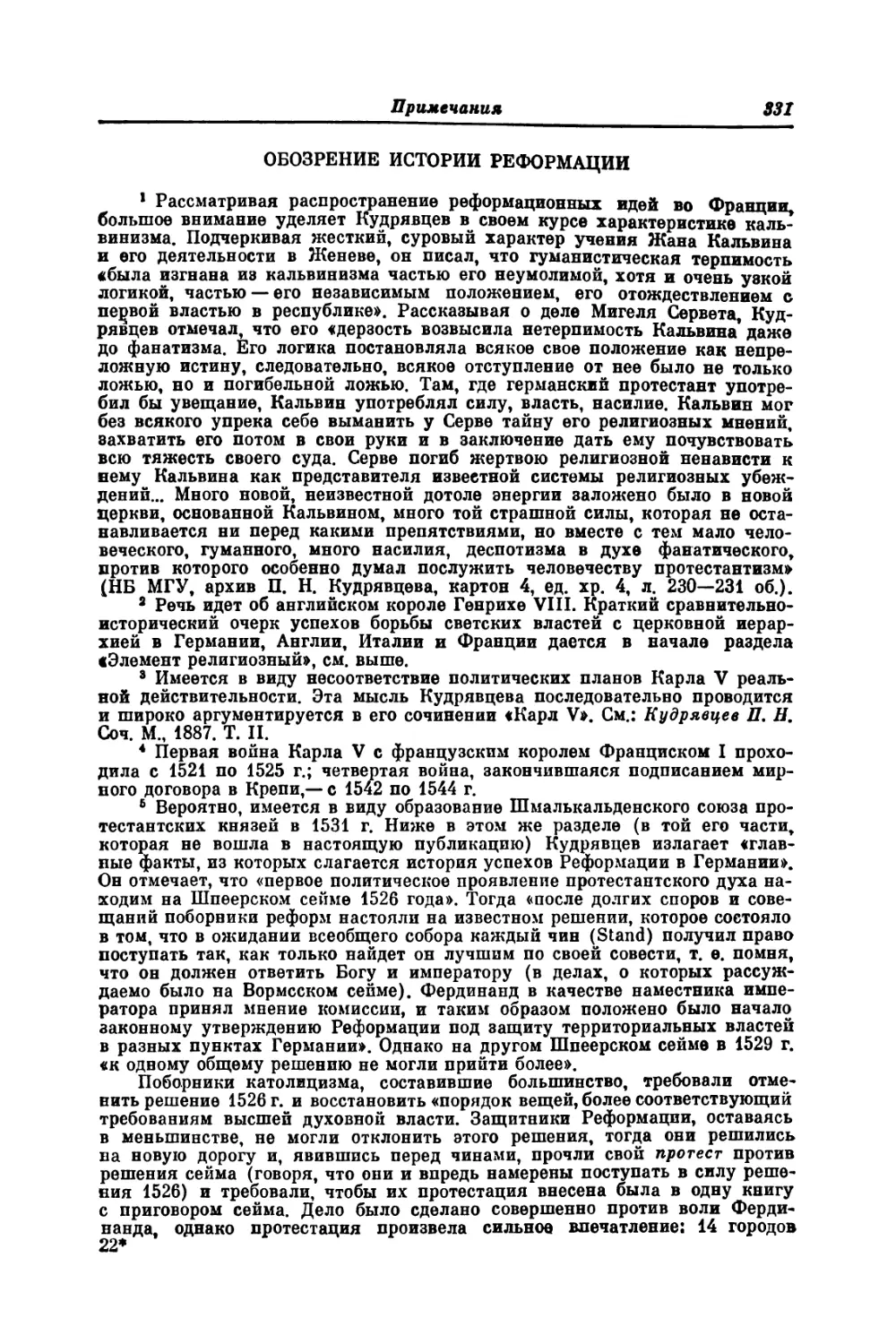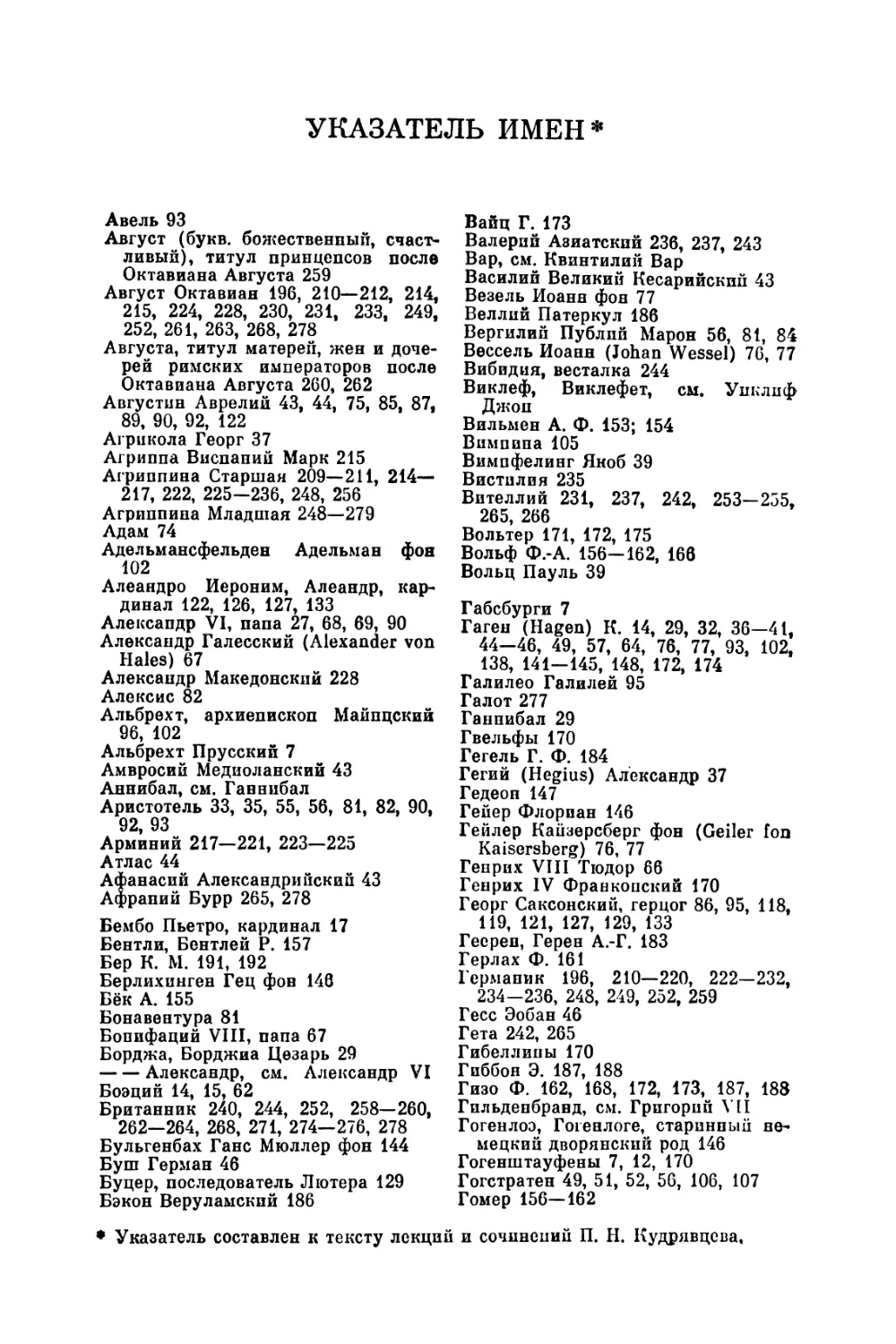Автор: Кудрявцев П.Н.
Теги: всемирная история историография новейшее время историческая литература
ISBN: 5-02-009065-4
Год: 1991
Текст
СУ
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
^
Я Τ ^
о
н
о
*3
<
Ι—Ι
с к
о
<N
П.Н.КУДРЯВЦЕВ
ЛЕКЦИИ
СОЧИНЕНИЯ
ИЗБРАННОЕ
Составитель
С. А. АСИНОВСКАЯ
Статьи
Т. Д. СЕРГЕЕВОЙ, С. А. АСИНОВСКОЙ
Примечания
Т. Д. СЕРГЕЕВОЙ
Ответственный редактор
В. А. ДУНАЕВСКИЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВО 'НАУКА'
МОСКВА-4991
ББК 63.3(0)
К 88
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
СЕРИИ «ПАМЯТНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»
К, 3. Ашрафян, Г. М. Бонгард-Левин,
В. И. Буганов (заместитель председателя),
Е. С. Голубцова, А. Я. Гуревич, С. С. Дмитриев,
В. Л. Дунаевский, В, А, Дьяков, М. П. Ирошников, Г. С. Кучеренко,
Г. Литаврин, А. П. Новосельцев, А. В. Подосинов (учепый секретарь),
Л. Н. Пушкарев, А. М. Самсонов (председатель), В. А. Тишков,
В, И. Уколова (заместитель председателя)
Рецензенты:
С. С. ДМИТРИЕВ, В. М. ВОЛОДАРСКИЙ
Научное издание
«Памятники исторической мысли»
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ КУДРЯВЦЕВ
ЛЕКЦИИ. СОЧИНЕНИЯ.
ИЗБРАННОЕ
Утверждено к печати
Редколлегией серии «Памятники исторической мысли»
Редактор издательства Н. Л. Петрова. Художественный редактор H. Н. Михайлова,
Технические редакторы H. Н. Плохова, Т. С. Жарикова
Корректоры Н. П. Гаврикова, Б. Л, Сысоева«
ИБ M 47799
Сдано в набор 20.04.90. Подписано к печати 20.09.90. Формат 60Χ90'/ιβ.
Бумага книжно-журнальная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 21,6. Усл. кр. отт. 22,63. Уч.-иэд. л. 25,3. Тираж 25 000 экз.
Тип. вак. J^ 174. Цена 6 руб.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва В-485 Профсоюзная ул., 90
4-я тип. издательства «Наука» U30077, Новосибирск, 77. ул, Станиславского, 25
К OS03010000-301 671_9, „ полугодие ББК 63.3(0)
042(02)—91 '
ISBN 5-02-009065-4
© Издательство «Наука», 1991
[Гуманизм и Реформация в Европе]
ЛЕКЦИИ 1848/49 г.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
В НОВУЮ ИСТОРИКА
В великой исторической перспективе новая история занимает
последнее место. Ее крайние границы совпадают с границами
нашего времени; еще не выходя из нее, мы уже входим в
современность. Или, лучше сказать, мы вовсе не знаем ее окончания:
мы еще сами застигнуты ею, в наших глазах продолжает6 она
свое движение, и мы не можем сказать, где предел этого
движения, мы только гадательно судим о том, как далеко вперед пойдет
струя нашей современности.
Но это лишь с одной стороны. Если исход новой истории
теряется в неопределенности будущего, то самые первые всходы
в нее лежат совершенно открыто перед человеком нашего
времени. Бросив взгляд с нашей современности назад, в глубину исто-
р [ической] перспективы, мы легко различаем их там, не более
как на расстоянии трех с половиной веков от нас, еще не
закрытые туманом отдаленности. Время еще ничего не успело сделать,
чтобы стереть живые черты главных действующих
представителей той эпохи: мы еще можем различить их физиономии, до нас
еще доходят их речи и даже шум их разнообразной деятельности,
самое отражение их слов па лицах людей окружающих еще не
совсем потеряны для нас. И мы будем надеяться, что эти лица,
со всей живой игрою их физиономии, как мы их знаем теперь,
никогда уже не будут потеряны для истории: наука, которой они
уже принадлежат, возьмет их под свою защиту и не уступит
времени ни одной их индивидуальной черты.
Впрочем, если бы первые начала, первые всходы в новую
историю были даже закрыты от нашего глаза туманом времени, мы
легко могли бы открыть их по современным признакам и ощупью.
Ибо многие лучи, идущие от тех явлений, прони [зы] вают собой
все пространство времени, принадлежащее новой истории, и,
собравшись в известных пунктах в новые фокусы, существуют до сих
пор как особые учреждения, даже как целые миры. Мы могли
бы подойти к каждому из них и попросить рассказать нам его
историю. А из этих рассказов сложилась бы почти вся новая
европейская история. Так мы могли бы начать паши расспросы с
этого мира, который, под именем протестантского или вообще
реформатского, занимает в Европе, в целом новом мире особые
территории и имеет своими представителями целые народы, и его мно-
а Фраза написана карандашом.
с Написано вместо зачеркнутого: совершает.
6
Лекции 1848149 г.
госложные рассказы представили бы нам главный материал для
истории Средней и Северной Европы более нежели в продолжение
одного века. А если мы захотим собрать все косвенные результаты
реформатского движения, мы бы не остановились, конечно, даже
и в XVII веке. Подходя с другой стороны к католическому миру,
мы могли его спросить о том великом перевороте, который оторвал
половину Западной Европы от его иерархической власти, который
потряс его в самых основаниях. В его признаниях о своих
слабостях и своих судьбах заключалась бы для нас самая важная часть
истории южных европейских народов. Даже история одного
ордена, которого печальная знаменитость в наши дни состоит в том,
что самое имя его так неумолимо преследуется общим мнением,
одна его история могла бы осветить множество пунктов в трех
последних столетиях *.
Далеко нельзя сказать того же о созданиях средних веков.
Критерий, который мы употребим сейчас, не прилагается более
к [их] явлениям, или только в самой слабой степени. И из них
некоторые уцелели, по уцелели с печатью нового времени на челе.
Другие едва оставили по себе слабые следы, которые надобно
наперед отыскивать, чтобы потом уже узнать об их темном
происхождении. Наконец, иные совершенно исчезли из жизни и из
памяти людей; они сохранили только следующее им место в
отдаленности исторической перспективы, они принадлежат уже
исключительно науке, и разве только искусство еще может
возвращать им иногда некоторое подобие действительности.
Государственные чины старой Европы, независимые или зависимые только
по имени городские общипы, монашеско-рыцарские ордена,
судебные парламенты, судебные поединки, отлучения, интердикты,
пытки инквизиции — много ли от них осталось новому миру, нашей
современности? И если что осталось, уцелело, то кого еще
занимает это забытое существование? Не потому ли даже· оно успело
продлить себя, что рано укрылось от общего внимания, что
потеряло для него интерес даже отрицательный?
Волны событий, которые наполняют собою начало нового
времени, не походят, правда, на те, которые отделяют христианский
мир от древнего: там движущиеся народные волны, вышедшие из
глубины доисторического мрака, становятся живой стеной между
старым и новым миром, который начинается с ними и ими, между
тем как свет, озаряющий их сознание, приходит к ним со стороны;
здесь, в начале нового мира, никаких движений новых народных
масс с одного места на другое, ничего, что бы приходило к ним
со стороны; здесь все движение совершается в кругу прежних
народностей, ими и заключаются, и старый мир не ложится весь
развалинами в основание новому. Однако разделяющая черта,
проведенная этими событиями, почти не менее глубока: по сторонам
ее лежат два совершенно разнородных мира, между которыми
было много перемирий, но никогда не было и не может быть проч-
Вступительная лекция
7
ного мира, как разве только в науке. Движение действительно
менее сильно, менее бурно на поверхности, но зато тем глубже
проникает оно в сознание; оно не опрокидывает одни народные
массы на другие, но зато возбуждает каждое индивидуальное
сознание порознь. Словом, черта разделяющая здесь проходит
прежде всего в самом сознании и потом уже выражается в других
отличиях среднего8 человека от нового.
Я сосредоточиваю мои мысли, Милостивые Государи, на этом
перевороте; я останавливаюсь на самом начале его как на одном
из величайших исторических событий, которое наравне с другими
всемирными переворотами заслуживает полного внимания
человека мыслящего. Я говорю, что первый и благороднейший плод
переворота, который произошел тогда в сознании, есть потребность
убеждения, и что последующие -произведения той эпохи
покоились на убеждении. Бесспорно, что не без участия же убеждения
создались и распространились по всему миру Западной Европы
средневековые учреждения. Однако сравните их с произведениями
первой эпохи нового мира и заметьте разницу. Посмотрите на
феодальную систему: в какой отдаленный угол Западной Европы
не проникла она в той или другой степени? Однако какое
разумное убеждение предшествовало не только ее первому учреждению,
но даже ее распространению? Я понимаю тот интерес, который
привязал к ней после, когда поняли ее выгоды в разных
отношениях; я понимаю, например, интерес, который заставил сначала
Гогенштауфепов, потом Габсбургов с таким жаром, с таким
усилием отстаивать свои феодальные права на города Северной
Италии, на ее герцогства, или даже в гораздо позднейшее время
интерес Альбрехта Прусского, который ищет приютить свою
новорожденную свободу от средневековой иерархии под кров
верховного ленного права польского короля; но я не знаю, чтобы
было где чистое убеждение, которое бы искало быть под лен [ное]
иго вне всяких корыстных расчетов, лишь по сознанию его
необходимости. И это громадное могущество, которое почти без
потрясений прошло через все широкое пространство средних веков,
тяготея своей неумолимой властью более нежели над половиной
европейского мира, на каком убеждении покоилось оно в
продолжение своей средневековой жизни? Ибо я не отрицаю того, что
в основании этого учреждения действительно лежало всеобщее
убеждение в значительной части Европы. Но не в том ли оно
состояло, это всеобщее убеждение, что всякое изречение папское
выше всякого убеждения личного, кому бы оно ни принадлежало,
нли что перед авторитетом римского епископа нет места никакому
убеждению? И потому, когда то, что доселе не было признано,
выросло до сознания своей внутренней силы, своего достоинства, его
первым делом было отрицание того авторитета, который наконец
в Так в рукописи.
8
Лекции 1848/49 г.
думал в себе самом сосредоточить всю истину и не хотел допустить
ее ни в каком частном убеждении. Вместе с его падением, как
известно, лишилось своей страшной силы и учреждение,
известное под именем св. Гермаидады.
Не надобно смотреть на то, что переворот, открывающий
собой начало нового мира, по-видимому, заключен в такое тесное
пространство, некоторое время как будто заперт лишь в
известной территории и если бросает от себя лучи далее, то они не
воспринимаются там полным участием, даже иногда отражаются не
совсем верно. Это так, но, во-первых, это продолжается недолго,
а во-вторых, к подобным переворотам всего менее идут внешние
измерения, там по крайней мере, прежде чем измерять один из
них внешним образом, надобно проникнуть в ту сферу, где он,
собственно, происходит, и тем обозреть расстояния, отделяющие
старый мир от новопроизведениого. А настоящая сфера подобных
переворотов, я уже сказал, есть сознание. Там есть свои огромные
размеры, хотя и совершенно сокрытые от внешнего взора. Тот
новый мир, который еще в древности начинается в сознании
Сократа, долгое время, может быть, ограничивался его собственною
личностью: это был мир, в основании которого лежала новая
потребность сознательной отчетливости, понятия для всех
человеческих действий. Но он быстро растет в вышину, он с каждым днем
потом крепчает в своей силе, наконец он расширяется до того,
что в нем вмещаются и действуют все новые таланты, что ему уже
принадлежит всякое вновь пробудившееся сознание, хотя во
внешних пространственных отношениях не произошло никакой видимой
перемены, ни перестановки. Нечто подобное происходит в начале
новой истории. На почве невидимой, неосязаемой созидается
совершенно новый мир, столько, впрочем, прочный и крепкий, что
может противостоять ударам самого сильного авторитета века. Еще
несколько времени — и он возрастает до того, что старый римский
авторитет поколеблен им в самых основаниях и принужден искать
себе новых опор.
Правда, что этот повозданный мир, выросший внутри сознания,
когда потом он окончательно утверждается общим призпанием, не
производит из себя подобных великолепных явлений, как
рыцарство или как все крестовые походы, которые одни своим шумом
наполняли около двух столетий. Но, может быть, для того-то он
и поставлен, чтобы подобные явления впредь были совершенным
анахронизмом; но на страницах его последующей истории нет
известий о погибели целых масс народа, предпринявших далекий
путь и в благочестивом рвении забывших, что они не могут
питаться дорогою воздухом, нет взятия Константинополя у греков
ошибкою вместо завоевания Иерусалима у неверных, нет, наконец,
фантастических походов, исполненных геройского самоотвержения,
лишений и подвигов всякого рода, но которых неизбежный исход
есть потеря доброго войска и бедственная смерть короля-предво-
Вступительная лекция
9
дителя, достойного несравненно лучшей участи, в пустынной
стране, среди пораженных язвою2.
Но есть у нового мира свои походы, свои завоевания. Они
выходят из других побуждений, движутся по иным направлениям и
останавливаются лишь у пределов, о существовании которых едва
подозревает человек средних веков. Недаром, не напрасно перед
самым вступлением в новый мир, благодаря одной гениальной
идее и непреклонной настойчивости одного великого характера,
умственный горизонт человека по отношению к кругу опытных
знаний вдруг раздвинулся на необыкновенное протяжение,
присвоив своей мысли совершенно новые пути и пространства, о
которых прежде не смела мечтать даже самая свободная фантазия.
Впрочем, тот знаменитый поход, который окончился
импровизированным разграблением Рима и который по времени совпадает
с первым движением нового мира, не принадлежит ему ни по
характеру, ни по цели, ни по воле, им управлявшей: войска,
разграбившие Рим, имели предводителем своим Карла Бурбона и
шли под знаменем Карла Пятого3. Нет, походы и завоевания
нового мира носят на себе печать иного духа, иного сознания.
Здесь не место распространяться ни об их заблуждениях, ни об
их крайних целях, которые вообще довольно разнообразны и вовсе
не чужды расчета; довольно указать на результаты: они сделали
то, что Европу с ее цивилизацией надобно искать не в одних
только ее собственных тесных пределах, что ее можно находить
даже за океаном, что она, если можно так сказать, разнесена по
всем частям света, что самые отдаленные материки, дотоле
пустынные и дикие, теперь оживлены учреждениями, которые носят
на себе европейское имя и до сих пор сохраняют чисто
европейский характер. Вот размеры, в которых движется история нового
мира, вот плоды его внешних завоеваний. Вспоминать ли при них
о феодальном Иерусалимском государстве и Восточной Латинской
империи — двух эфемерных созданиях, в которых выразился
крайний внешний результат величайшего народного движения
в средних веках и из которых каждое не пережило и одного
полного столетия?
Впрочем, нет ничего легче, как взять славную сторону истории
нового мира и пересчитывать одно за другим его внешние
приобретения, рассказывать его распространение по всем материкам
земли, его победы над варварством, над изуверством, над самой
природой. В этом была бы лишь половина истины. Есть в истории
нового мира другая сторона, которую мы не только не скроем,
которую мы поставим на вид и посвятим ей столько внимания,
сколько позволит нам время. Это сторона тех внутренних
трудностей, которые новый мир встречает при самом своем зарождении
и которые потом вырастают ему из самых его успехов.
Еще раз, Мм. Гг., возвращаюсь к началу нового мира, к его
первым зарождениям, к тому перевороту, в котором таилось ею
но
Лекции 1848/49 г.
будущее, и говорю, что это времена трудные, что труден и самый
суд над ними. Нет, новый мир не вышел, как Паллада-Афина,
вполне вооруженный из думы и воли средних веков: его
зарождение было трудно, рост и воспитание исполнены внутреннего
смятения и тревог. Три последних века в особенности
приготовляли для него элементы. Но они долгое время оставались
рассеяны в разных местах — и в Пиренеях, в горах Пьемонта, Богемии
и долгое время не сознавали между собой ничего общего. Только
Рим понимал их единство и равнял их одинаковой жестокостью
своих преследований4. Оттого, что они были разъединены, им
предстояла каждую минуту опасность потерять последнюю искру
жизни под теми бичеваниями, которыми не переставала
преследовать их глумившаяся власть, восседавшая на римском престоле.
Но мало-помалу движение сосредоточилось, дитя выросло и стало
на ноги. Думать ли, что от сего времени у него только и есть одна
забота, чтобы отражать один за другим усиленные удары своего
главного противника, своего врага непримиримого. Это было бы
еще большое счастье: тогда можно бы было соединить все
силы в один центр и направить их в одну сторону. Но иные были
судьбы нового зарождения, и эта особенная судьба его лежала
в самой натуре призванного к жизни и утверждаемого им начала.
Новое сознание, выросшее под эгидою реформатского движения,
вдруг выразилось множеством отдельных стремлений,
раздробилось на множество самых разнообразных оттенков, так что
каждый новый отпрыск, каждый новый луч этого разделенного
сознания хотел себе особой сферы, в которой бы мог совершенно
свободно распространяться, хотя бы то вело ко вреду всех других
побегов, к исключению всех прочих отраслей того же движения.
Тут были не только отступления от нормального пути, тут были
даже свои крайности, мечтательные утопии, скороспелые плоды
незрелой мысли и разгоряченного воображения, которые, однако,
во что бы то ни стало хотели найти себе полное осуществление
в действительности. Кроме опасности, которая постоянно грозила
новому зарождению со стороны Рима, тут была еще опасность
внутренняя, тут были еще не менее опасные враги домашние,
которые без измены и предательства, лишь по легкомыслию и
безрассудному увлечению могли погубить все дело в самом
зародыше, могли похоронить под обломками своего несбыточного
сооружения не только себя, но и всех принадлежавших к новому
движению. Вопрос, от которого зависела участь этого движения,
состоял теперь в том: как избрать ему среднюю дорогу, как
предохранить его от крайностей увлечения5 и, однако, сберечь ему
столько жара и энергии, чтобы с успехом вести войну с Римом
и его союзниками. Как часто надобно было тем, коюрые
управляли ходом движения, останавливаться среди своих успехов
против внешнего врага и, возвратившись вспять, побороть иным
оружием врагов внутренних! Как часто, вместо того чтобы идти вер-
Вступительная лекция 11
ным и твердым шагом к своей цели, они должны были позволять
себе разные колебания, даже медиатизировать, сближаться со
своими врагами и уступать им часть спорного пространства, что·
бы только спасти свое дело не от бесславия, а от безуспешности,
чтобы успеть прикрепить корни его к земле и сохранить будущему
хотя свои начинания! Оттого так медленно идет движение
Реформации в первом ее фазисе: оно еще не обеспечено не только
против своего главного соперника, против Рима, но даже и против
самого себя, против своих собственных крайностей; оттого так
нерешительны, разумеется, результаты религиозного Аугсбурского
мира, хотя и тех они не иначе могли добиться, как после долгой
и упорной борьбы, после неутомимых усилий, наполняющих собой
почти целые четыре десятилетия. Повторяю, это были времена
трудные, когда надобно было полагать первые основания нового
здания и в то же самое время вести борьбу с противником
сильным и опытным, очищать путь вперед новому сознанию и в то
же время бороться с его увлечением, иногда даже силою
возвращать его на несколько шагов назад, чтобы только дать его
движению более правильности, чтобы обеспечить успех его в будущем.
Подвиги людей, принявших на себя всю нравственную
ответственность за успех этого дела и в таком его положении, может быть,
скромнее многих других, я даже могу сказать прямо — они вовсе
лишены внешнего блеска, они чужды всякой парадности, они
даже были не раз заподозрены: тем пристальнее надобно
вглядеться в них, чтобы оценить их по достоинству и понять их всемирное
значение историческое. Эти подвиги были трудны, как и
обстоятельства, среди которых они совершены, и со стороны
исследователя требуют себе не безусловной похвалы или безусловного
порицания, но прежде всего труда и сосредоточенного внимания.
Словом, они не возбуждают восторга, но зато выдерживают самый
строгий суд.
Но я должен взять еще выше, я должен взойти к самым
первым элементам, которые приготовили переворот, ознаменовавший
собой начало нового мира, и различить между ними. Ибо, как ни
многосложно движение, наполняющее собой первую половину
XVI века, оно носит на себе один главный характер: это
движение религиозное, направленное против всеисключающего
римского авторитета. А я хочу сказать, что так просто, так определенно
по крайней мере, движение далеко не было в своем начале, что
в Реформации оно уже определилось, потому что одно начало
взяло верх над другим, и что в первых своих зачинаниях оно
вовсе не представляло такого единства. Восходя к этим первым
зачинаниям, мы уже не можем более ограничиваться одной
Германией, этой классической страной реформатского движения, как
некогда, много прежде, Франция была классической страной
феодализма: мы должны распространить свои наблюдения еще на
Италию или даже начать с нее. Эти две страны в особенности
12
Лекции 1848/49 г.
привязывают к себе внимание исследователя в XV и XVI веках,
как оно им же преимущественно принадлежало в иные, первые
века христианской эры. В неопределенных движениях того
времени я различаю, Милостивые Государи, два главных элемента,
которые идут из различных источников и сначала производят
действительно два совершенно отдельных движения: я различаю
элемент античный и элемент религиозный. Каждый из них идет
сначала своей дорогой и имеет потом свою особую судьбу. Я
скажу о каждом из них порознь.
Что некоторым образом могло бы казаться странным, это
присутствие античного элемента в новой жизни. Но мало сказать, что
оно есть, надобно прибавить, что оно есть здесь в гораздо большей
степени, нежели сколько было в средние века. Хотя гораздо ближе
к древности по времени, средние века, впрочем, были поставлены
в отношении к ней слишком резко, даже враждебно, частью
фанатизмом, частью весьма естественной грубостью первоначальных
понятии. Итак, средние века приняли сначала от древности
только то, без чего они не могли обойтись; они приняли от нее
первые формы жизни, некоторые понятия юридические, язык и т. п.
Но лучшие стороны древней жизни долго оставались закрыты для
человека средних веков, долго не смел он коснуться их, войти в
них как в свою область, как в общее достояние человеческого
духа, останавливаемый предубеждением. Только лучшие умы,
таланты, в особенности поэтические, любили жить с красноречивыми
остатками поэтической древности и к воспоминаниям о ней
привязывать свое собственное вдохновение. Через их посредство эхо
от того отдаленного мира доходило и до толпы, но долго не
находило себе живого сочувствия. Перед повым сознанием пало
предубеждение; перед ним исчез этот призрак, пугавший иногда
суеверное воображение средних веков, будто с восстановлением
остатков древности может возвратиться и старая языческая
действительность, и оно с жаром, с увлечением обратилось к
древнему миру, к его литературе, к его искусству, как будто к миру
вновь открытому.
Это возвращение к старому богатому наследию, завещанному
всему человечеству греками и римлянами, было первою зарею,
возвещавшею приближение нового мира. Едва ли нужно говорить,
что первых следов его должно искать в Италии, в той стране, где
древность перед концом своим собрала весь цвет своей лучшей
деятельности. Но я должен заметить, вопреки сильно
распространенному мнению, что было бы ошибкою думать, что начало этого
возрождения древнего мира, в особенности его литературы,
совпадает со знаменитою катастрофою, положившей конец
существованию Восточной Римской или Византийской империи. В Италии
можно указать его гораздо ранее, его можно заметить уже во
второй половине XIV века. Давно кончился род Гогенштауфеиов,
и Италия уже оправилась от их тяжелых ударов; даже вечпая
Вступительная лекция
13
вражда гвельфо-джибеллингская потеряла характер своего
первого ожесточения. В Тоскане, в Ломбардии, в [Аретинии] города
еще продолжали воевать между собой, еще не покойно было в
стенах их, и, однако, это было едва ли не самое цветущее время
итальянских городов. Промышленность цвела, в руках граждан
собирались большие богатства, банкиры миланские и
флорентийские ссужали деньгами европейские дворы. Благосостояние
развило вкус к литературе, любовь к науке. Некоторое время все
внимание принадлежало поэзии отечественной, которой цвет, как
известно, принадлежит началу XIV века; но в конце того же века
и в начале века находим уже во Флоренции и в других городах
Италии (Падуе, Равенне), что другие занятия привлекают в
высшие школы любознательных. Особенно велик был круг
слушателей, которых собирали вокруг себя Giovanni da Rovenna и
Manuel Chrysolaras *6. Какой же интерес привлекал к ним эти
толпы слушателей? Это — классическая древность, которая нашла
в них себе достойных истолкователей. Первый из них объяснял
преимущественно романских писателей, второй, сам род [ом]
грек,— древних греческих. Они не основали особенной школы, но
возбудили много охоты к занятиям классической литературой, они
первые напомнили Италии этот мир, который лежал забытый
столько веков. Любознательность возбуждена была в такой
степени, что некоторые из ревностных слушателей Джиованни сами
направлялись в Грецию, чтобы там ближе познакомиться с
древностью. Один из них, сицилианец Джиованни Ауриспа **,
возвратившись из Греции, привез с собой более 200 манускриптов.
Филология, в смысле занятия классической литературой, скоро
распространилась почти по всем итальянским городам, где только
были высшие школы. Интерес был возбужден, оставалось ему
идти вперед. В XV веке взятие Константинополя дало новый
толчок этому направлению. Беглецы греческие не принесли с собой
никакой новой науки в Италию, но они умножили собой число
знатоков древней литературы, обогатили ее новым запасом
ученого материала, который привезли с собой в рукописях, и вообще
много облегчили средства для филологических занятий.
Движение не ограничилось одной Италией. Оно скоро
проникло отсюда и в ближайшую соседственную страну, которая искони
находилась в самых тесных сношениях с Италией. Еще гораздо
прежде, чем пробуждена была любовь к древней литературе,
Италия привлекала к себе германское юношество славою своей
юриспруденции. В Болонском университете, где студенты разделялись
по происхождению или по нациям, никогда не было недостатка
в особом отделении, которое состояло из немцев***7. Годы не
* Leo. Geschfichte] von It[alien], 2, 303.
** Ibid., 304.
*♦* Raumer, VI, 511.
14
Лекции 1848/49 г.
уменьшали, а увеличивали число любознательных, которых
Германия высылала в Италию заниматься образованием. Новое1,
направление, возникшее в Италии в конце XIV века, не могло
обойти и их. Теперь, возвращаясь на родину, они привозили с
собой не один только Юстинианов кодекс и строгую систему
юридических понятий, но и этот новый интерес, которым в то время
была полна Италия. С участием, с любовью приняла его
Германия, до сего времени погруженная в односторонний мистицизм α
схоластицизм средних веков. Они же и не были вовсе не
приготовлены к новому явлению: в этой мистической стране однажды
из глубины самого мистицизма раздался голос, признававший
именно для теолога потребность университетского образования.
Знаменитый Фома Кемпийский, которому принадлежал этот
голос, сам отправил благонадежнейших своих учеников в Италию *8,
чтобы дать им средства изучить humaniora. Итак, мудрено ли, что
новое направление науки нашло себе живое сочувствие в
Германии? Лишь закоренелый в своих условных понятиях и формулах
схоластицизм не совсем был рад новому гостю и даже встретил
его очень недружелюбно. Он чувствовал опасность и напал в
особенности на древнюю поэзию, вкус к которой необходимо
приносило с собой новое направление. Не имея ничего сказать против
ее достоинств в эстетическом отношении, схоластики взяли
предмет с моральной стороны и старались заподозрить его во вредном
влиянии на нравы. Обыкновенная уловка ограниченности, которая*
встречаясь лицом к лицу с духом новой жизни и не умея
помириться с его преимуществом, начинает с того, что отвергает его
достоинство и старается очернить его в моральном отношении.
Замечательно, что в XV веке горячим защитником нового
направления, в особенности успехов древней поэзии, явился в Германии
знаменитый Эней Сильвий, тогда секретарь императора
Фридриха, впоследствии папа. Любопытен самый способ его защиты; в нем
есть своя оригинальность. Я приведу некоторые места из ответов
его теологам. «Враги поэзии,— говорит Эней Сильвий,— если они
сколько-нибудь учены, приводят против нее следующие
основания. Они говорят, что Платон изгнал ее из своей республики, что
Цицерон утверждает о ней, что она изнеживает нравы. Боэций,
Катон выражают подобное мнение... Иероним порицает епископов,
которые, вместо того чтобы углубляться в Писание, читают
поэтов. Ибо как можем мы любить поэтов, которые в своих
сочинениях рассказывают зазорные дела не только людей, но даже
богов, восхваляют вино, любовь и т. п.? — Я отвечаю таким: подите
вы мне с республикой Платона, которая никогда не существовала
и не будет существовать. Это лишь пустая фантазия. Впрочем,
Платон сам был поэт, Цицерон тоже. В защиту Архия он в осо-
г Далее зачеркнуто: движение.
• Hagen. Deutschlands] liter[arische] und religfiösel Verh[ältnissel, I, 80,
Вступительная лекция
15
бенности выставляет его поэтический талант. Боэций также
принадлежит сюда: его сочинения исполнены изречениями поэтов«
Иероним то же самое. А об старом Катоне не может быть и речи,
потому что его никто не слушал. Что же касается до попрека,
что у поэтов встречается так много богов, то я возражаю, что за
это надобно сердиться не на поэтов, а на время, в которое они
жили. Виноваты ли они, что тогда еще не распространено было
почитание единого бога? Касательно же страстей, пороков и
сладострастных сцен, которые так часто встречаются у поэтов,
надобно заметить, что они изображают людей именно такими, какими
они являются в жизни, непременно с пороками и дурными
пожеланиями»*9, и т. д. Вообще Эней Сильвий очень усердно хлопотал
в пользу нового направления. Благодаря его усилиям оно скоро
считало на своей стороне многие коронованные главы — самого
Фридриха 10, герцогов австрийских, Ледислава Венгерского и
других. Он же постарался открыть ему дорогу и в Венский
университет. От Венского же не отставали и другие университеты. Так
что благодаря всем этим стараниям, покровителям и сочувствию
германского юношества новое направление быстро
распространилось под именем гуманистического* по всей Германии. Какое
потом было его влияние и значение здесь, мы это увидим в
скором времени и. Пока будем продолжать следить за
распространением движения.
Франция также не могла совершенно уйти от нового
направления, тем более что она с конца XV века, т. е. со времени Карла
VIII, тоже вступила в тесные связи с Италией. Но во Франции
схоластицизм был сильнее, нежели где-нибудь (как это ни странно
подумать) : там он имел своим органом Парижский университет —
Парижский университет все еще продолжал быть первым
авторитетом в науке. Это обстоятельство затруднило путь новому
направлению во Франции. Несколько позже оно, однако, проникло и
сюда, по уже под другой формой. Оно явилось здесь как
возрожденное греческое искусство и произвело здесь в этой сфере
особенную эпоху, известную под именем Ренессанса.
Обстоятельство, мало имевшее влияния на общее развитие новых идей,
но весьма замечательное в том отношении, что всего лучше
показывает, какую силу взял тогда античный элемент в обществе,
до какой степени он подчинил себе в особенности вкус
эстетический. Надобно, впрочем, прибавить, что это и была настоящая
его сфера, где он и мог действовать с наибольшей силой. Во
Франции он овладел в особенности архитектурою и не только
создал в ней особый стиль, но еще осмелился наложить свою
печать на архитектурные произведения прежних времен. Готиз-
му досталось от него всего более. До сих пор еще можно видеть
♦ Ibid., 86.
д В рукописи часто встречается — гуманическое.
16
Лекции 1848/49 е.
во Франции следы тех исправлений или искажений, которым
подверглись вдесь некоторые произведения готической
архитектуры вследствие требований нового вкуса. В Париже особенно
потерпела церковь св. Евстафия, одно из превосходнейших
произведений французского готизма. Что сделал здесь Ренессанс?
Он нисколько не коснулся здесь массы здания, не сделал в ней
никаких прибавлений, ни сокращений, но он взялся за детали,
украшения и во всем здании не оставил ни одного такого
готического столба, которого бы не превратил в неуклюжий пилястр
и не перерезал бы несколькими орнаментами совершенно в
новом вкусе. Оттого внутренность здания получила самый
странный характер, и впечатление, им производимое, есть одно из
самых неприятных, какие только встречаются в искусстве. По
счастию, это злоупотребление не пошло слишком далеко. Вообще
влияние античного элемента во Франции оказалось очень
ограниченно и незаметно, чтобы простиралось за пределы сферы,
собственно принадлежащей искусству.
Нам осталось бросить взгляд на судьбу античного элемента
в тех странах, где он принялся и развился с наибольшей
силой. Во-первых, в Италии. Здесь были даны все условия,
благоприятствовавшие успехам и распространению нового
направления: вместо одного центра множество больших самостоятельных
городов, их довольство, благосостояние, множество отдельных
владетельных домов, из которых каждый содержал особый
придворный штат и любил окружать себя литературными талантами;
и знаменитостями, их соревнование между собой в этом
отношении, наконец, многие инстинкты, уцелевшие в народонаселении
Италии еще от древней жизни. Наконец, самые эти остатки
древности, рассеянные по всей поверхности Италии, которые как
видимые знаки, формы, постоянно присущие глазу, еще более
облегчали сознанию путь в круг античных идей и
представлений. К этому надобно прибавить, что сопротивления не было ни
с какой стороны: схоластицизм никогда не был довольно силен
в Италии, если его и заносило сюда из других мест, он
оставался чужд настоящему духу народа. Благодаря всем этим
обстоятельствам античный элемент не только с быстротою
распространился по всей стране, но проник из искусства и науки даже в
самую жизнь и произвел здесь явления, к которым в известной
степени мог бы относиться известный упрек схоластицизма,
смотревшего на возрождение античного мира как на опасность
для нравов. В самом деле, было время в итальянской истории,
и это время как раз совпадает с началом нового мира, было
такое время, когда античный элемент, утвердившись при всех
дворах самостоятельных герцогов, покорил себе в некотором
отношении и самую римскую курию. Сцены, которые тогда
происходили при римском дворе, изречения, которые произносились в
Вступительная лекция
IT
застольных беседах в присутствии самого папые и из которых
ему самому принадлежали едва ли не самые удачные, в самой
деле вовсе не принадлежали к числу безукоризненных и иногда
прямо переносятся во времена дохристианские. Кардинал Бем-
бо 12 составил себе даже некоторого рода знаменитость тем, что
не стыдился печатать свои произведения, в которых не
пощажено было ничего святого (?). Все это больше забавляло
римский двор, чем возбуждало его негодование. Религиозный
индифферентизм, несмотря на соблюдение всех церковных форм,
достиг тогда в Италии своей крайней степени. Я сказал, что
схоластицизм некоторым образом был бы здесь прав со своими
упреками. Не надобно только забывать при этом, что главная
вина такого состояния лежала вовсе не в новом направлении*
что античный элемент, вновь призванный к жизни
литературными занятиями, нашел уже нравы развращенными, что римская
курия давно уже не пользовалась доброй славой в отношении
своих нравственных правил, и античный элемент виноват был
разве в том, что, проникнув сюда, дал несколько новый колорит
тому, что при римском и других итальянских дворах давно было
введено в обыкновение.
Ясно, что из такого странпого смешения не могло произойти
никакого серьезного возрождения, никаких добрых начатков для
нового мира. Было бы гораздо полезнее, если бы новое
направление встретило здесь себе с той или другой стороны живое
противодействие; но воспринятое такого рода наклонностями,
каковы были те, которые господствовали тогда в высших кругах
Италии, допущенное даже в римскую курию, оно само должно было
упасть очень низко. Здесь оно было совершенно бессильно или
служило только к тому, чтобы украшать собой вакханалии.
Я не говорю об искусстве и об науке. Особенно в первой
из этих двух сфер новому направлению было и самое
приличное место, и тут влияние его на изящество форм в самом деле
оказалось очень благодетельно. Впрочем, я не могу умолчать еще
об одном явлении, которое произошло тогда в литературе и
которое также находится в самой тесной связи с новым направлением.
Это явление есть Макиавелли. Произнося это слово, я, впрочем,
хочу разуметь под ним не просто лишь автора известного
сочинения II Principe 13 и изобретателя так называемой макиавелли-
стической системы, которая, хотя начало ее действительно
возводится к Макиавелю ж, в том виде, однако, в каком
обыкновенно представляется, есть лишь самое тривиальное истолкование-
первоначальной мысли автора и, взятая в отдельности от
местных обстоятельств и цели, которую он имел в виду,
представляется почти искажением этой мысли. Я хочу разуметь под име-
• Три слова на полях не разобраны.
ж Далее: Макиавелли (в рукописи же далее: Макиавель)
2 п. Н, Кудрявцев
18
Лекции 1848/49 г.
«ем Макиавелли не столько автора И Principe, понимаемого с
•настоящей точки зрения, но вместе и как автора Discorsi м, дру-
того не менее важного сочинения, которое относится к первому
как основание к своему заключению, вообще целого человека,
принадлежавшего известному времени, но своей гениальной
мыслью далеко проникавшего в будущее.
Предмет — достойный особого изучения 15. Чтобы не
увлечься им слишком далеко, мы возьмем лишь ту его сторону,
которая нам необходимо принадлежит. Что имел общего
Макиавелли с новым направлением в Италии и к чему, к какой
главной цели вели его наблюдения, идеи, наконец все его
созерцание? Другими словами: какое могло быть его значение для
будущего развития?
Начнем с той стороны, которая уже признана общим
мнением*16, т. е. что в Макиавелли мы имеем одного из
глубочайших политиков нового времени или, говоря точнее, что
настоящая политика нового мира в высшем ее значении началась с
Макиавелли. Откуда же в нем это глубокое понимание
государственных отношений? Что самая сфера, в которой провел
Макиавелли большую половину своей жизни, и деятельность,
которой он посвятил большую часть своих сил и времени, должны
•были представить ему широкое поле для наблюдений и в
сильной степени изострить его политический смысл, это очень
понятно. Известно, что Макиавелли (род. 1469) провел свою
юность при дворе Медичисов, во Флоренции, в самую цветущую
эпоху этого дома, рано сделался государственным секретарем у
них на службе и там в продолжение нескольких лет исправлял
дипломатические поручения своих герцогов в сношениях их с
другими дворами. Понятно, говорю, что такого рода занятия
должны были изострить его политический смысл, но это еще
не все. Откуда же в его политических созерцаниях столько
единства, столько общности, столько целого? Этого не могли ему
дать все подробности его службы даже вместе взятые. Одна
природная проницательность также не могла бы так твердо
поставить его на той почве, на которой он развивает свои идеи.
Читая его, вы видите, что он не мечтает, не фантазирует, что под
ногами у него действительно твердая земля. Мы не досказ[али]
•еще одну важную черту из его весьма несложной биографии:
Макиавелли потом лишился милости своих первых
покровителей, подвергнут был даже пыткам по одному подозрению и
после того, принужденный совершенно удалиться от дел, предался
уединению, т. е. предался свободно избранным занятиям. Ибо
.деятельный ум Макиавелли требовал себе пищи, работы, и в
спокойствии этого уединения созрели самые замечательные плоды
* Die Philos [ophische] Weltanschauung der Reformationszeit, von M.
Carrière, p. 214 et cet.
Вступительная лекция
1»
мысли Макиавелли. К этому времени относятся его семь книг
о военном искусстве 17, его Discorsi и, наконец, самый Principe·
Какими же занятиями были они приготовлены? — Занятиями
древностью, Мм. Гг., преимущественно государственной римской
древностью. Солидность, основательность этого ума воспрещала,
ему быть лишь дилетантом в литературе; с своей поэтической,
художественной стороны древняя литература заняла его всего-
менее. Он, правда, охотно читал Овидия, Тибулла, даже сам
пробовал себя в стихотворениях и, кроме того, написал
несколько комедий, отличающихся почти аттическою вольностию18; но в.
занятиях такого рода он искал себе отрады, развлечения лишь,
в самые смутные часы. Другое время он посвящал Ливию,
римским историкам и, руководствуемый ими, изучал не столько
подробности, сколько общий ход истории Рима, следовал за
движением его государственной жизни. Из этих двух элементов, т. е.
из собственных опытов и из наблюдений над римской жизнью
государственной сложились идеи автора D[iscorsi] и Principe.
«Часто и не без удивления рассуждал я сам с собой,—
говорит он во вступлении к Discorsi,— как много надобно приписать,
древности в разных отношениях. Я возьму самый близкий
пример: иногда один обломок какой-нибудь древней статуи
покупается дорогою ценой и не только служит украшением дому, на
еще образцом для ваятелей, которые по нем и для него
стараются восстановить целую фигуру. А между тем самая доблесть
древних и основанные на них подвиги и все дела знаменитых
царей, полководцев, граждан, законодателей и других, они как
будто существуют лишь для нашего удивления, вовсе не для
подражания; от них едва остается лишь слабая тень. Об этом,
надобно подумать тем серьезнее, что ведь в наших враждах,
несогласиях, вообще в наших несчастных наклонностях мы
прибегаем же к тем средствам, которые изобретены или
установлены еще древними... Но не вижу я, чтобы какой государь, царь,
республика или император хотел подражать древним образцам
в таких делах, как управление республикой или принятие мер
к сохранению ее целостности, военное устройство, ведение
войны, отправление суда и т. п. И я думаю, что это происходит
вовсе не от того, чтобы дела, судьбы человеческие шли все к
худшему или чтобы праздность и честолюбие во многих
христианских областях и городах вовсе истребило там древние
корни, но от того, что мы слишком пренебрегаем должным
употреблением истории, что не заботимся собирать от этого чтения
плодов, которые производить лежит в самой его природе, в его-
естественном назначении. Дело в том, что очень многие читают
историю и в разнообразии ее событий находят даже
удовольствие: но чтобы подражать тем делам, об этом никому не
приходит и в голову, как если бы это было дело не только трудное,
но даже и вовсе неисполнимое... Чтобы вывести людей из та-
2*'
20
Лекции 1848/49 г.
кого заблуждения, я счел за полезное изложить в особом сочи-
пении мои размышления по поводу дошедших до нас книг Ливия
и высказать то, что я думаю о подражании древним и вообще
о древних временах сравнительно с новыми, желая таким
образом способствовать уразумению истории и указать ее
читателям на настоящую пользу, которую они могут извлечь из
нее»*19.
Едва ли можно высказаться яснее. Смущенный, опечаленный
настоящим состоянием своего отечества, своей родной страны,
раздираемой внутренними несогласиями % смутами, тревогами,
волнуемой политическими партиями всех цветов, и в то же
время горячо любя Италию и желая ей силы, крепости и величия.
Макиавелли убежал в древность и там искал для Италии
великих образцов, подражая которым она могла бы лучше устроить
свою судьбу и возвратить утраченное ею величие.
Этого образца — где же скорее было искать его как не в
величии Древнего Рима, под властью которого Италия
представляла такое крепкое, такое могущественное целое? По крайней мере
ему, знакомому с летописями древнего мира, глубоко
вчитавшемуся в красноречивейшего историка римского величия, не мог
не представиться такой образец. Макиавелли, впрочем, не
ослеплен величием римского государства: он зпает его недостатки,
он созерцает все его исторические судьбы в продолжение веков
π вовсе не скрывает ни от себя, ни от читателей, что ход Рима
вовсе не был постоянным совершенствованием, что он часто
менял лучшее на худшее и, прошедши таким образом все
возможные перевороты, опять возвращался к первоначальному
состоянию: так но крайней мере понимал Макиавелли историю
Рима** и по ней составил свою общую теорию о ходе
человеческого общества, которой сущность состоит в том, что движение
политических обществ из одной формы в другую совершается в
некоторого рода кругу, так что, начав с одной формы, они в
неопределенное время возвращаются к ней снова, чтобы потом
продолжать свое движение прежним путем. Вообще Макиавелли
совсем не идеалист; он человек опыта, рассудка, не фантазии,
он не знает совершенного общества, не составляет себе идеала
его. Между тем, сравнивая римское государство с греческими,
спартанским и афинским, он не может не отдать преимущества
первому; он берет также для сравнения некоторые факты даже
из истории новых политических обществ, сколько они ему
известны: венецианского, флорентийского и некоторых других, но при
таком сравнении тем более чувствует превосходство Рима ***. Осо-
* Mach[iavelli]. Disc[orsi]. Lib. I. Proem[io].
8 Далее зачеркнуто— волаееиями.
** Discjorsi]. Lib. 1, cap. 2.
**** Ibid., cap. VI. (Цитата на полях опускается.— Примеч. сост.)
Вступительная лекция
21
бенно по тому благоразумному соединепию всех трех элементов
политического общества, какое он находил в римском устройстве,
он видел в нем образец возможного совершенства и искренно
думал оказать услугу своим соотечественникам, подробно
раскрыв им для подражания лучшие стороны своего образца.
Провести нить своих мыслей по декадам Тита Ливия или,
что то же, обозреть в последовательном порядке важнейшие
явления римской истории и разобрать их особенно с политической
точки зрения, казалось Макиавелли лучшим средством для его
цели. Эту самую задачу и старался он разрешить в своих Dis-
corsi: мы не можем следить за ним на всем этом
продолжительном пути, что было бы слишком утомительно; но остановимся,
однако ж, на первых главах его, чтобы по крайности иметь
некоторое понятие о методе автора и, судя по тем выводам, к
которым он приходит в своих исследованиях, составить хотя бы
приблизительное понятие о той общей идее, которую он должен был
вынести из всего своего труда.
Как я уже сказал, Макиавелли вовсе не идеалист*. Из
немногих заранее принятых им и, как кажется, подсказанных ему
опытом начал па первом плане становится у пего то, что «люди
ло природе своей более наклонны к худому, нежели к доброму»
(р. 53)20. И законодателю, который бы предпринял устроить
общество, он советует начать с того предположения, что «все
люди от природы испорчены и готовы на всякое зло при нервом
удобном случае, так что если и есть такие общества, которые
остаются чужды пороку, то этого вовсе не должпо приписывать
добрым свойствам людей, а скорее тому, что для них еще не
представился удобный случай показать себя в настоящем свете»
(р. 22). Потому-то особенно и нужно всякому вновь
устраивающемуся обществу тотчас, при самом его начале, оградить себя
известными законами и другими предупредительными мерами,
чтобы по возможности положить пределы этой естественной
наклонности ко злу и остановить ее развитие (р. 91). Если же
порча раз усилилась в нравах общества, тогда, по мпению
Макиавелли, уже никакие законы не сильны остановить, ни обуздать
развращения (р. 97). Этим мыслям Макиавелли не посвящает
особой главы в своем сочинении, они рассеяны у него в разных
местах, но так часто повторяются, так тесно связаны со всеми
убеждениями автора, что нельзя не признать их за первые
основные пункты всего созерцания, которое имел Макиавелли о
судьбах политических обществ.
* Что автор не идеалист, можтто также очень хорошо видеть из одного
места в II Principe, cap. 15: «I£t saue complures respublicas et principatus
quosdam animo ejfinxerunt, qui nimquam sub aspectum ullum venerunt,
tantum abest, ut rêvera extiterint», et cet. «Многие писатели изображала
государства и республики такими, какими им никогда не удавалось
встречать их в действительности» (пер. Ы. Курочкина).
22
Лекции 1848/49 г.
Вообще, в первом своем сочинении Макиавелли как не
идеалист, так далеко и не теоретик: он больше историк, он еще
только ищет себе твердой почвы, к которой бы мог привязать*
на которой бы мог раскрыть потом свои политические понятия.
Этой почвой служит ему римская история в ее последовательном
движении. Ее начало есть начало его рассуждений. Так самое
основание города дает уже ему повод говорить о различных
условиях построения городов и вообще основании первых обществ.
Затем, к слову о первых учреждениях римских, он исчисляет по
известной теории три главные формы политического общества,,
сам, впрочем, не отдает предпочтения ни одной из них, а хочет
для своего общества благоразумного слияния всех трех
элементов, так чтоб один из них был умеряем другим; т. е. он и здесь
не остается на идеальной почве, а хочет лучше держаться
действительной, римской, где находит это соединение. Переходя
потом к борьбе сената с народом, патрициев с плебеями,
Макиавелли восстает против тех, которые, видя здесь только один
раздор, безусловно осуждают все это время в римской истории,
и пользуется случаем сказать свою собственную мысль, которая
для того века должна была иметь вид совершенного
парадокса, т. е. что Рим одолжен этому времени самыми
благодетельными своими законами (р. 24)*. Но возразят, что та же
самая вражда (так по крайней мере понимал Макиавелли),
возобновившись при Гракхах, привела наконец римский народ к
утрате свободы. На это наш автор отвечает обозрением
политического устройства Спарты и Венеции, в которых, правда,
законодатели умели заблаговременно предотвратить подобную
внутреннюю вражду (своими благоразумными установлениями)**,
одни, исключив из своего гражданства всех инородцев, другие —
вовсе отказав известному классу народа в праве защищать
республику наравне с другими с оружием в руках (р. 36), но этим
самым исключением подвергли установленные ими общества
другим важным невзгодам. Так что, заключает наконец автор, нет
такого устройства, которое бы не страдало каким-нибудь пороком
|(р. 37), и часто по необходимости мы должны допускать многое
такое, что, по-видимому, вовсе не согласно с требованиями
нашего ума. Заметим эту мысль, Мм. Гг.: в ней зародыш очень
многого, что полнев раскрывается в позднейшей системе
Макиавелли.
Возьмем и еще несколько образчиков суждений его о разных
пунктах римской истории. Повод к очень важному рассуждению
подает ему рассказ Ливия о насильственной смерти Рема и о
согласии Ромула на убийство Тация Сабинского ***. Автор не
решается вдруг сказать, чтобы подобное действие было достойна
* Ibid. [Discorsi], cap. 4,
** Ibid., cap. 9,
*** Ibid., cap. 9.
Вступительная лекция
23
подражания. Но политическая точка зрения, на которой
исключительно поставил себя Макиавелли, скоро берет верх. В
смерти Рема и Тация он не видит никакого вреда для зарождающе-
гося общества, напротив, видит, как много выиграло общество,
получив единую крепкую власть вместо прежней, ослабленной
разделением. Этот исторический результат автор берет за цель
самого виновника действия и предполагаемою доброю целью
извиняет самое средство... «Человек рассудительный,— говорит
он,— не решится легкомысленно обвинить того, кто для
сохранения единства своей власти, необходимой для доброго устройства
нового государства, покусился на какой-нибудь насильственный
поступок: или по крайней мере, осудив этот поступок, ради цели
и того результата, который им достигается, извинит самого
деятеля. Ибо добрый результат, подобный тому, какой достигнут
был смертью Рема, всегда оправдывает и самое действие. Не тот
достоин порицания, кто делает насилие, желая пользы, но тот,
кто совершает его с злым намерением»21. То же самое повторяет
автор, рассуждая о смерти Тация *. Не вдруг, может быть,
решился выговорить Макиавелли такое мнение, к которому он,
однако, необходимо приведен был своей исключительно
политической точкой зрения, но выговоривши его раз — па какой но-
1шй вывод не уполномочивал он себя далее? Я замечу только,
что в заключение главы он уже не только извиняет сам действие
Ромула, но и говорит, что оно должно быть извинено.
Проводя мысль свою по всем первым основам римского
государства, Макиавелли не пропустил без внимания и учреждений
религиозных. Он понял их важность и посвятил им особую
главу в своем сочинении**. Нума, как учредитель римского культа,
для него в пекотором отпошении даже выше самого Ромула.
Не то чтобы автор вошел в сущность религиозного начала и
оценил его сам в себе: именно потому, что ему недоставало этого
понимания ***, а это довольно хорошо объясняется тогдашним
состоянием Италии, и мог он сделаться таким исключительным
политиком. Но у автора есть другие ресурсы: он верен себе и
здесь, он умеет оценить важность и религиозных отношений,
ибо видит их благодетельное влияние на политические
отношения. «Религиозный культ, установленный Нумою,— говорит
он,— чрезвычайно как благодетелен был в новом государстве,
как в особенности для обуздания своеволия в войске и
укрощения страстей народа, так вообще для того, чтобы добрых
граждан поддержать в исполнении их обязанностей и служить
грозою для злонамеренных. Так что если бы кто, взвешивая
доказательства в пользу той и другой стороны, спросил, кому Рим
* Ibid., cap. IX. (Цитата на полях опускается.— Примеч. сост.),
** Ibid., cap. 11.
*** Хотя о Савонароле говорит (в конце той же главы) с уважением.
24
Лекции 1848149 г.
обязан более, Ромулу или Нуме Помпилию? Я бы отвечал, что,
по моему мнению, последний сделал более»*.
Раз заговорив о религии в отношении к политическому
обществу, Макиавелли не мог удержаться, чтобы не взглянуть,
хотя мимоходом, с той же точки зрения и на свою современность.
А это значило — коснуться вопроса о современном состоянии
римской церкви и об отношении ее к политическому состоянию
страны. Вообще, как это ни странно, удаляться в древность,
чтобы оттуда смотреть на свою современность, но такова
действительно точка зрения Макиавелли: чтобы судить о
современных отношениях, он отправляется от политических начал
древности. Перенося свой взгляд на Италию**, автор не только не
находит, что римская церковь оказывает на нравы народа то
благодетельное влияние, которого бы он ожидал от нее, но что
тем менее истинно религиозного духа, чем ближе к Риму,
резиденции главной католической власти, и что если сравнить
настоящее состояние религии в Италии с первыми
установлениями христианства, то надобно прийти в совершенное отчаяние.
О состоянии нравственности внутри самой римской курии автор
выражается с особенным негодованием: ясно, что автору не к
чему привязать здесь свои pia desideria ***. Откуда же такой
извращенный порядок, или такой нравственный беспорядок?..
А между тем мысль автора поражает еще и другое явление
с той же самой стороны: откуда, в самом деле, происходит то,
что, тогда как, например, Галлия или Испания представляют
столько политического единства, Италия является
раздробленной на множество отдельных независимых владений и остается
беззащитною жертвою чуждых народов — германцев, французов,
испанцев? И это та же самая страна, которая некогда была так
сильна своим политическим единством? Откуда все это зло, и не
в связи ли между собой оба явления? Очевидно. Не только что
римская церковь поставила себя в совершенной независимости от
светской власти (чего не было в древнем государстве), они сами
присвоили себе власть над миром, они поставили себя выше
государства и, однако, не имея довольно силы, чтобы соединить
все в одной руке, привели необходимо страну к
раздроблению, накликали на нее врагов посторонних и вообще
повергли скоро ее в то жалкое состояние, в котором она теперь
находится22.
На этом я останавливаюсь. Я не считаю нуяшым идти далее
в анализе Discorsi. Метод автора для нас довольно определим,
главные пункты в его воззрении обозначились, и мы почти
можем угадывать путь, которым он пойдет далее в своих выводах.
* Ibid. cap. 11.
** Ibid. cap. 12.
·** Благие пожелания (лат.)
Вступительная лекция
25
Прежде чем, впрочем, перейти к Principe, соберем эти
главные пункты в воззрении Макиавелли, как они определялись для
него самого в исследованиях его о политических началах
римского государства. Убеждение, сочиненное автором из своего
собственного опыта, об испорченности человеческой натуры, о
преобладающей силе дурных наклонностей в человеке, не ослабело,
а разве утвердилось его исследованиями. Зато так очевидна стала
для него необходимость сдерживать эти наклонности
предупредительными мерами, постановлениями, законами, как
гражданскими, так и религиозными. Но чтобы доставить этим
постановлениям единство, прочность и силу, чтобы они не оставались
пустою формою, но были действительно залогом величия страны
и народа, Макиавелли видел наконец необходимость единства
политической власти. Этот крайний результат, это решительное
преобладание государственного начала над всем, не исключая
даже учреждений религиозных, выходило у Макиавелли из
созерцания всей истории римской древности и сверх того
уяснилось ему еще современным состоянием Италии.
Должен признаться, к таким началам можно было прийти,
даже и вовсе не принадлежа к христианскому обществу; такие
начала положены уже были древностью, в них нет ничего
такого, что собственно принадлежало лишь христианскому духу,
по в том-то и дело, что они были вынесены из наблюдений над
древним миром, и вопрос состоял теперь в том, что выйдет, если
автор приложит эти начала к миру своей современности и
обратит их в постулат?
Ум Макиавелли вовсе не был бесплодный. Приобретенное на
одной почве он хотел переносить на другую. Мы прямо знаем,
что он нарочно удалился в древность, чтобы там поискать
полезных уроков, что можно сделать для облегчения несчастного
состояния Италии. Принцип был добыт, принцип
государственный; оставалось приложить его к делу. Это сделал Макиавелли
в своем II Principe. Не ищите цели сочинения в самом его
начале: здесь ее нет, автор преспокойно начинает с разделения
политического общества на республики и принципаты и потом
определяет различия в последней форме. Цель является только
в самом конце сочинения, после того как автор совершенно
раскрыл свою идею и провел ее по всем подробностям. Эта цель,
или лучше сказать желание, утвердить или восстановить в
Италии доселе пренебреженное государственное начало во всей его
силе, полноте и обширности, восстановить его не в старой
республиканской форме, но в новой, в той, которая уже фактически
существует в Италии, т. е. в принципате: ибо автор вовсе не
революционер, он не желает никакого насильственного переворота,
он ищет лишь полного раскрытия того, что уже существует.
При этом случае Макиавелли в сильных чертах изображает
современное ему бедственное состояние Италии: едва ли с чем
26 щ
Лекции 1848/49 г.
может сравниться «то бедственное состояние, в котором теперь
находится Италия благодаря своему раздроблепию. Иго, под
которым она находится, тяжелее того, которое испытали некогда
евреи, рабство, на которое она осуждена, несноснее того, поя
которым стонали персы. Оно простирается в ширину и длину
на гораздо большее пространство, чем то, какое некогда
занимали афиняне, а между тем, не находя себе вождя, лишенная
порядка, она истощена бедствиями, ограблена, разделена на
партии, потрясена со всех сторон и принуждена терпеть всякого
рода несчастья»*23. И кто же должен сносить такое положение?
Итальянцы, народ, «который не уступит никому другому
богатством силы, гибкостью тела, присутствием духа»24. Но такое·
время автор и считает самым удобным, чтобы явился человек
из современных государей, который бы понял задачу времени,,
принял бы горячо к сердцу интересы народа или хотя бы из
собственного честолюбия решился действовать в его пользу. Не
может быть времени удобнее, говорит автор: ибо кто бы в Италии
не признал его своим избавителем, какие бы ворота не
отворились перед ним или какой из итальянских народов отказал бы
ему в повиновении? Очень прямо выговаривает потом автор свое
ожидание, что такой человек выйдет из дома Медичисов, который
уже по многим отношениям заслужил себе почетное имя в
истории Италии.
Но этот избавитель, который, положим, освободит Италию от
врагов внешних, избавит ее от бедствий внутренних, кто же
будет он такой? Какими средствами он исполнит все это, во имя
какого начала он будет действовать? Ибо в том вся сущность
проблемы, которую разрешить предположил себе Макиавелли.
Этот человек будет II Principe в том смысле, в каком понимает
его автор сочинения. Едва ли нужно говорить, что мы знаем
из тех убеждений, которые вынес Макиавелли из своего
изучения древности,— что такой Principe должен быть
представителем государственного начала во всей его силе. Мы, однако,
проследим за автором, чтобы видеть, как он раскрывает
заимствованные от древности начала на новой почве.
Как я уже заметил, автор нисколько не революционер, ему
все равно, ту или другую форму носит государство, ему важен
самый принцип государственный. Итак, отличив республику от
принципата, он рассматривает различные виды последнего и
останавливается преимущественно на принципате
наследственном, впрочем популярного происхождения, как самом
удовлетворительном**. Древность и здесь во многих случаях служит ему
указателем. Встречаются также многие черты, которые входили
в его воззрение при исследовании политических начал древней
* Il Principe, cap. 26 (Adhortatio ad Italiam a Barbaris liberandam).
·* Cap. 5, 6, 7 et cet.
Вступительная лекция
27
жизни, впрочем несколько смягченные: так, например, о
перемене счастья, о быстром и постоянном изменении всех вещей
человеческих, следовательно, и чел [овеческих] обществ. Вообще
здесь на современной почве автор по необходимости становится
скромнее: многое он выговаривает в выражениях менее резких,
иное не выговаривает вовсе, часто ирония заступает у него
место открытого нападения. С меньшей жесткостью говорит автор
даже о римском духовном принципате*, хотя вовсе не думает
скрывать своего настоящего мнения о нем, т. е. что это такая
власть, для сохранения которой не нужно ни доблести, ни
особенного счастья, что так уже она установлена искони, чтобы
облеченные этой властью оставались до конца на своем месте,
как бы ни мало они были способны к тому и каково бы ни было
их поведение; что, далее, это такая власть, которая хочет
владеть всеми, но никого не намерена защищать и т. д.25
Самые народы, ей покоренные, видя, что о них не заботятся,
так же и со своей стороны остаются беззаботны относительно
власти над ними поставленной. «Впрочем,— продолжает автор
с той же тонкой иронией,— так как они управляются каким-то
божеством, до которого не достигает самая мысль человеческая,
то я не стану о них говорить. Ибо когда сам бог сохраняет и
поддерживает их на известной высоте, то было бы слишком
дерзко и безрассудно пускаться в дальнейшие исследования об
их состоянии»26.
Вы видите, Мм. Гг.: папская власть никак не умещалась в
созерцании Макиавелли, от нее отрекалось его убеждение или
ее преследовала его ирония. Он допускал только светский
принципат, так что духовная власть не была выше государства, но
оставалась в зависимости от него, как это было в государстве
римском. Но этот принципат не должен быть лишь пустым
именем: он должен соединить в себе все те условия, из которых
слагалась государственная власть в Риме, какова бы, впрочем,
пи была его форма. Я должен признаться, автор не выговаривает
прямо этого заключения как потому, что он теперь на почве своей
современности, так и потому, что он не систематик. Сказав свое
мнение о папской власти, он прямо переходит потом к раскрытию
своей идеи светского принципата, каким он должен быть по его
ионятпю, а это понятие им предоставлено — мы знаем, откуда
оно взято. Итак, это все равно. Подробности лучше объяснят
нашу мысль и вместе мысль автора.
Я пропускаю те слова, в которых автор на том основании,
"что законы тогда только крепки, когда они поддерживаются
оружием **, рассуждает о составе войска, как главной опоры свет-
* Сар. 11. Впрочем, это не мешает ему назвать папу Александра VI прямо
обманщиком, impostor, см. cap. 18.
** Сар. 12, р. 70: «Bonae autem leges esse non possunt, ubi bona non sunt
arma». «Но хороших законов не может быть, где нет хорошего войска».
28
Лекции 1848/49 г.
ского принципата, и особенно восстает против наемных войск,.
так много повредивших Италии во всех отношениях. Этому
предмету, как известно, автор посвятил особое сочинение27.
Требовать, чтобы государь имел в своем распоряжении постоянную и
хорошо устроенную вооруженную силу, заставляет автора не
только то понятие, какое оп имеет о государственной власти,
но и пример Рима и Спарты, который он также постоянпо имеет
в памяти: благодаря своему оружию, говорит он, Рим и Спарта
извели целые столетия и остались свободны.
Но одной внешней силы недостаточно: автор требует еще ог
своей государственной власти некоторых внутренних качеств,
в которых он видит главное ручательство ее силы, π как
представитель этой власти у него есть Princeps — следовательно
яйцо, то и требование его [автора] необходимо приложить к лицу,
хотя по источнику своему должно бы собственно принадлежать
к отвлеченному понятию, общему представлению о власти, не
личности. Я настаиваю на этом пункте, Мм. Гг.: он очень
важен, в нем одна из главных причин того странного впечатления,
которое производил и производит Principe Макиавелли на
читателя: он представляется каким-то чудовищным почему, потому
что на него, на лицо, навязано то, что могло бы быть свойством
разве государственной власти вообще, в особенности же
полицейского государства.
Консервативность Макиавелли привела его в этом случае
к большой несообразности. К тому же постоянное опасение
автора, чтобы не сойти с действительной почвы и не
попасть на ложную дорогу фикций, мечтательных идеалов,
отнимает у него всякую охоту требовать от Principe каких-то
идеальных добродетелей. Даже составляя свой идеал, он хочет,
однако, быть верен положительной истине и вместо добродетелей,
пожалуй, готов требовать от своего Principe даже пороков, лишь
бы они соответствовали предположенной им государственной
цели... Словом, все на службу государственному началу, хотя бы
в человечествепном отношении то было и не совсем
облагораживающее свойство: «Почему,— говорит Макиавелли,— начиная
излагать свои условия для хорошего Principe, оставляя в стороне
то, что до сих пор обыкновенно выдумывали о Princeps, и
стараясь держаться истины, я говорю, что он может иметь
различные свойства: один щедр, другой скуп, иной милостив, другой
жесток и т. д. Вопрос в том, чем же должен быть Princeps,
впрочем оставаясь на той же действительной почве, без всяких
идеальных требований?»28
Автор сравнивает потом различные свойства Princeps, как они
являются в действительности, чтобы в каждой серии избрать то,
которое более соответствует его идее. Здесь всего интереснее то,
как мысль его постоянно более и более склоняется к
государственному началу. Должен ли быть Princeps щедр или береж-
Вступительная лекция
29>
лив? * — спрашивал он сначала. Конечно, гораздо лучше быть
щедрым. Но если уже быть щедрым, то щедрым ко всем. А эта
или предполагает неистощимый запас богатств, или ведет прямо
к истощению всех средств, т. е. к погибели. Итак, если Princeps
не может быть без вреда для себя щедрым для всех, то лучше
ему быть бережливым. Далее, прибавив еще некоторые
рассуждения, он уже прямо говорит, что Princeps может вовсе не
заботиться о том, что его будут упрекать в скупости. Второй вопрос
в том, должен ли быть Princeps милостив или жесток?** Было-
бы желательно, начинает автор свой ответ, чтобы он был не
жесток, а милостив> Но милость не всегда ведет к добру и
наоборот... Валентин (Цезарь Борджиа) считался человеком жестоким,
однако он соединил всю Флоренцию, восстановил ее целостность,,
водворил в ней мир и согласие.^ Итак, еще нет большой
важности, если Princeps будет слыть жестоким, лишь бы он умел
сохранить верность людей, ему преданных. Самое благоразумие
требует от него, чтобы он равно избегал излишней
доверчивости, как и совершенной недоверчивости. Но что же лучше из
двух: окружать ли себя любовью или страхом? И тем и другим,
отвечает сначала автор, но тотчас потом возвращается к своему
ultima ratio***: «Люди вообще так неблагодарны, непостоянны,,
неискренни, так не любят опасностей, так жадны до корысти,
что в добрую минуту, когда нет никакой нужды, то от них
только и слышишь, что они все готовы пролить sa тебя кровь
и принести за тебя в жертву все свое достояние, даже детей
своих, а чуть только явилась нужда, их и след простыл»****29.
Попробуй только коснуться во время нужды их достояния, они
не замедлят дать себя знать: «Скорей забудут они избиение
своих кровных, чем расхищение своего имения»30.
Итак, есть ли резон бояться упрека в бесчеловечности (по-
men inhumanitatis *****)? Что бы сделал Аннибал при всех своих
великих талантах, если бы не был постоянно вооружен
примерною жестокостью (eîfera saevitia)! Потому, если будет вопрос
о соблюдении верности со стороны государственной власти,
Princeps лучше должен избегать обещаний, которые могут быть
противны его выгодам ******. Такое правило было бы излишне, если
бы можно было полагаться на честность людей, но о людях эта
можно сказать всего менее. С другой стороны, впрочем, они так
просты, так легко вдаются в обман, что уже гораздо лучше поль-
* Сар. 16.
** Сар. 17.
*** Последвий довод (лат.)
**** Ср. об итальянском характере свидетельства Пиркгеймера (у
Hagen, I, 192): в самом дружелюбии итальянцев он видит обман и
притворство.
***** Понятие антигуманпости, бесчеловечности (лат.).
****** Сар 18
$0
Лекции 1848/49 г.
зоваться этой их слабостью и показывать им вещи в таком
виде, в каком они им нравятся, а на самом деле делать
совершенно другое, сообразно со своими целями. Таким образом можно
достигнуть с людьми очень многого. Ибо люди судят большей
частью по внешности и не обращают внимания на сущность
вещей. Словом, Princeps «должен иметь изворотливый ум, без
нужды не переставать действовать добрыми средствами, а в случае
необходимости употреблять иные»31.
Так дорога Макиавелли государственная власть, что первою
добродетелью для облеченного ею он поставляет быть
бдительным к сохранению своей власти, бояться всего, что может
повести к ее ослаблению, хотя бы это была самая честность и
умеренность. Страх за свою власть должен быть присущ ему
постоянно. Но страх может быть двоякого рода, и здесь вопрос
значительно расширяется: страх от врагов внутренних и страх от
врагов внешних *. То есть обязанность облеченного высшей
властью не только действовать против них, когда они восстанут
открыто, но и стараться предупредить всякую опасность с той
и другой стороны. Против врагов первого рода, которые
обыкновенно действуют посредством заговоров, самое лучшее
обеспечение, если Princeps будет уметь так держать себя, что не
возбудит в народе ни ненависти к себе, ни презрения. Трудно,
конечно, действовать по правилам политики Макиавелли и
сохранять к себе любовь подданных. Автор сам чувствует, но чтобы
не отступиться от своего первого требования, придумывает
следующий изворот: пусть Princeps, который не может же все
делать сам, поручит другим исполнение тех мер, которые могут
возбудить народное неудовольствие, себе же предоставит
действия противоположного характера. Против врагов внешпих
средство было указано еще прежде: оно состоит в хорошем
устройстве постоянного войска и в умении сохранить себе его
верность и преданность.
Из таких черт слагается тот тип, который Макиавелли
означает именем Principe. Характер довольно двуличный, даже
фальшивый, чего, впрочем, не скрывает сам автор, часто
прибегающий к сравнению с лисицей (vulpecula) как к самому
общепонятному образу, который во многих чертах так удачно
приходится к Макиавеллевскому типу. Но это лишь одна сторона, это
лишь внешность, под которой, как желает автор, должно
скрываться мужество льва. Когда оба эти свойства соединены в
одном лице, то какое дело, что тут будет двуличие, если только
посредством его достигается главная цель? Ибо в том все дело.
Как бы для того, чтобы показать, что составленный им тип
правителя вовсе не есть идеальный, автор указывает для него и
исторический образец. Разумеется, что он берет его из той же
■* Сар. 19.
Вступительная лекция
ЗТ
истории, из наблюдений над которой почерпнул он большую·
часть своих политических правил. Этот образец, это лицо есть
Септимий Север. Рассказав в главных чертах его дела, его
политику, автор заключает: «Всякий, кто всмотрится в дела этого
человека, увидит, что он был свиреп, как лев, хитер, как
лисица, что не только мирные граждане смотрели на него со страхом
и уважением, но что и самое войско он постоянно умел держать
в руках своих. После того можно ли удивляться, что он,
несмотря на свое темное происхождение, так долго умел
удержаться во власти? То достоинство и тот вес, который он умел·
доставлять себе, предохраняли его от народной ненависти, как
ни легко она могла бы возникнуть из некоторых его
насильственных действий»*.
Таков должен быть Princeps по понятию Макиавелли.
Осуждать ли такое представление? Конечно, осуждать, и прежде
всего во имя христианской нравственности, от духа которой так
отчужден был Макиавелли, во-первых, самой сферой, среди
которой он жил, во-вторых, слишком уж исключительным
погружением своей мысли в начала политики древних, которой он
придавал слишком общее значение. Но прежде чем осуждать,
надобно объяснить себе это явление, а потом определить его силу
л значение в истории и показать приблизительно, как широки
были те пределы, в которых оно могло оказывать свое влияние,,
ибо тем особенно и важно дело Макиавелли, что, выросши на
современной почве, опираясь своими основаниями на древность,,
оно, впрочем, более всего занято было определением цели в
будущем.
Что касается до первого, то мы частью это сделали, объяс-
пили, чем мотивировано было обращение Макиавелли к
древности, и показали в главных чертах самый процесс, который
совершался в его мысли при наблюдении над древностью сравнительно
с современностью. Самый важный результат, который вынес
Макиавелли из своих наблюдений над древностью и пересадил
па политическую почву своей современности, есть, без сомнения,,
государственное начало, или единая и крепкая государственная
власть, именно то, что недоставало средним векам, которых,
трудность именно состояла в том, что во все продолжение
их государственная власть, государство никогда не могло
совершенно высвободиться из-под тяготевшего над ним ига иерархии.
Что все атрибуты этой власти скопились у Макиавелли в одпом
лице, в лице самого правителя, это была лишь случайность.
Principe есть только символ государственной власти, которая,,
впрочем, для выражения себя может иметь множество органов.
Итак, совершенно новое начало внесено было в жизнь
политических обществ — начало полной автономии государства и со-
• Сар. 19, р. НО.
32
Лекции 1848/49 г.
©ершенного его полномочия над всем, хотя бы то была самая
иерархия.
В каких пределах мог заключиться круг действий такого
начала? Как далеко могло простираться его влияние? Так
далеко, как только простирались правильно устроенные
политические общества, [те] особенно, которые терпели от
средневековой иерархии. По самой обширности этих пределов их
трудно определить с точностью. Но это начало было внесено лишь
в теории. Его успехи, его полное и основательное развитие и
действительное приложение к жизни лежали еще в будущем,
и притом в отдаленном будущем. Ибо против него была
страшная сила. То, об чем с таким презрением отзывался
Макиавелли или говорил с легкой иронией, было вовсе не так
презренно на самом деле. Это было пока самое страшное могущество,
потому что оно коренилось в сознании. Бороться против него
государственной властью еще нельзя было с полным успехом,
ибо наперед надобно было высвободить самую эту власть. Итак,
чтобы ввести новое начало в жизнь, надобно еще было повести
брань с другой стороны и другими средствами, надобно было
подорвать самое сильное средневековое могущество в самом его
основании, т. е. в сознании. Одним словом, наперед был
необходим переворот религиозный *32.
1848 сент[ябрь] 17.
НБ МГУ, ф. П. Н. Кудрявцева, к. 3, ед. хр. 3.
[ГУМАНИЗМ И РЕФОРМАЦИЯ В ГЕРМАНИИ]
1
АНТИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВО ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ;
МАКИАВЕЛЛИ а
2
ТУМАНИЗМ В ГЕРМАНИИ
Из Италии studia humaniora переселилась в Германию**1.
Благодаря умному покровительству Энея Сильвия, который
везде старался найти друзей новому направлению, оно утвердилось
здесь прежде, чем схоластицизм успел воздвигнуть против него
* NB, Mach[iavelli]. Princeps, ed. Urseliis, 1600. К этому изданию
приложены и некоторые полемические сочинения против Макиавелли, в том числе
Ант. Поссевина.
а Эти материалы воспроизводятся во «Вступительной лекции в новую
историю».
** Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse, von Hagen. Geschichte
der wiederaufblühenden Wissenschaften, von Erhard
Гуманизм в Германии 33
опасное гонение. Гуманизму оставалось теперь только идти
вперед и увеличивать число своих приверженцев.
Это распространение гуманизма по Германии совершается с
удивительной быстротой. Неудивительно. После соборов Коп-
станцского и Базельского, после дела гуситов Германия не
чувствовала в себе почти ни одного нового интереса. Императорская
власть оставалась в руках Фридриха III, человека одинаково
равнодушного к величию Германии и к своей собственной
славе. У него так же мало было честолюбия, как и самолюбия.
Ни один обширный план никогда не занимал его мысли, вся его
политика состояла лишь в том, чтобы как только можно дешевле
расплачиваться с врагами своего спокойствия. Даже
оскорбительное властолюбие епископов не могло возбудить в нем ни
негодования, ни желания энергически противодействовать их
притязаниям. И это царствование наполнило собой более полувека.
Иерархия, укротив опасное для него восстание, ограничив его
пределами одной Богемии2, успокоилась снова и с невозму-
щаемою совестью продолжала все свои злоупотребления. Наука,
выросшая под сенью этой иерархии, никак не могла выйти из
ее тесного круга и служила ей искренно, от всей души. Не то
чтобы ей недоставало пытливости, любознательности; не то
чтобы ее вовсе не занимали пикакие вопросы; она знала и то,
и другое; но пытливость ее никогда не могла пойти дальше
известных границ, но всякий вопрос ее предполагал уже данное
прежде разрешение, которое не могло измениться ни в каком
случае. Таково было особенное свойство средневекового
сознания, что оно могло касаться самых глубоких вопросов, даже
находить в них особенный интерес — без чего, конечно, схоласти-
цизм не мог бы существовать вовсе,— но еще не чувствовало
потребности свободного их разрешения. Решение значило для
пего не свободный вы [вод] мысли, а приговор авторитета.
Такою скудною слепою жизнью жила наука в продолжение
нескольких веков. Самый Аристотель, которого она считала
своим первым руководителем, если не в заключениях, то в методе,
не пригодился ей [пи kJ чему. Впрочем, какой Аристотель?
[Ари] стотель, который еще не мог существовать для этого
сознания всей глубиною своих идей, а разве только своей
формальной стороною, Аристотель, большей частью известный только в
плохях переводах и притом еще искаженный произвольными
толкованиями,— словом, Аристотель, обработанный в смысле схо-
ластицизма. Догматизм давал наперед готовое заключение,
формализм мнимого Аристотеля облегчал нетвердой мысли путь к
этому заключению. Какой жизни, какого свободного движения
можно было ожидать от такой науки? Была, правда, еще одна
независимая отрасль науки, которая по крайней мере не
терялась в мечтаниях, которая предлагала любознательности
знакомство с одной из действительных норм народной жизни: эта нау-
3 П. Н. Кудрявцев
84
Лекции 1848/49 г.
21-й лист собственнорцчной записи лекций П. Н. Кудрявцева
(картон 4, ед. хр. 4).
ка была римское право. Но ум, воспитанный под главным
влиянием иерархии, еще был не производителен, не
самодеятелен: и здесь, и в этой сфере, он легко заключался в данные
рамки и не хотел ни видеть, ни признать достоинств того, что
лежало вне их, что в юридической жизни народа не подходило
под систему римского права.
Самая поэзия, пока только простой, безыскусственный голос
народа, также подавала свой голос. Ее не занимала более
упадавшая слава рыцарства, а в славе целого народа, империи,
Гуманизм в Германии
85
тогда вовсе не блестящей, она не находила себе никакой
привлекательности. Чаще она видела кругом себя или порок, или
злоупотребления и начинала принимать сатирическое
направление. Но ей еще надобно было бороться со многими трудностями,
ей надобно было создавать язык, литературные формы, тогда
как у нее не было почти никаких образцов, и в то же время
оберегать себя от преследований, стараться не заподозрить себя
в глазах иерархии.
И вдруг в самую среду такого запустения, такого
оцепенения жизни брошен был целый новый мир понятий, идей,
образов. Для фантазии открылся целый цикл высокохудожественной
поэзии, в высшей степени способной не только воспитать,
образовать эстетический вкус, но и удовлетворить его потребностям;
для ума любознательного — целый цикл науки, также
совершавшей свое движение и заключавшей в себе важнейшие
философские вопросы, и, сверх того, полная история Спарты, Афин,
Рима, всей древности, не в сухих отрывистых известиях летописцев
средних веков, но в живых образах, часто исполненных
художественного совершенства, и с свободным древним созерцанием
относительно сущности и форм различных политических
обществ. Умственный горизонт человека, которому был открыт
этот мир прошлой жизни, прошлой мысли, вдруг расширился
едва ли не более, чем сколько- раскрылся горизонт
мореплавателя с открытием Америки и пути в Восточную Индию. Не только
Аристотель являлся в настоящем своем виде — обличителем
Аристотеля схоластики, рядом с ним открывался еще сознанию
новый мир в великом идеализме Платона. Никто более не
способен был окрылить полет освобождающейся мысли. Он как
будто нарочно оставался сокрытым для средних веков, чтобы
сохранить всего себя, без исправлений и искажений, для нового
времени, чтобы тем с большей охотой обратилась к. нему мысль
нового поколения начал непредубежденных, чтобы пз него
заимствовали они силу и смелость для побед своих над
формализмом. И в самом деле, вновь открытый Платон еще в Италии
возбудил энтузиазм неописанный *3. Живое горячее увлечение
видело в нем человека вдохновенного; Савонарола говорил, что
па цер [ковных] кафедрах его не называли иначе, как
«божественный Платон». Косьма Медичи видел в нем высший цвет
всей древности и приказал перевести его творения; во
Флоренции основана была в честь ему особая академия под названием
академии неоплатонизма. В комнате Фичина4, знаменитого
переводчика Платопа, горел перед его изображением неугасимый
огонь.
Воодушевление очень понятное, особенно в Италии. Не менее
понятна, впрочем, и та жадность, та горячность, с которой гума-
* Об этом см. Carrière, р. 26.
3*
se
Лекции 1848149 г.
ническое6 направление, т. е. не один только Платон, но весь
этот литературный античный мир встречен и воспринят был в
Германии. На первый раз, может быть, нельзя было сказать —
весь древний литературный мир, потому что он только возникал
из забвения, знакомство с ним только что начиналось. Но
начинавшееся новое направление не знало никаких ограничений, оно
открывало путь ко всему древнему миру, его поэзии, его
истории, его созерцанию.
Как бы то ни было, во 2-й половине XV века главный
интерес умственной жизни Германии составляет распространение
гуманизма, т. е. любви к studia humaniora, но разным частям ее.
Сначала распространяли его друзья Энея Сильвия, потом
ученики и последователи его друзей; сверх того, многие действовали
отдельно, независимо, принося непосредственно тот же самый
интерес прямо из Италии. Схоластицизм был полезен не в том
отношении, что он приготовил почву, но тем, что своей сухостью,
своим безжизненным формализмом5 он произвел ту жажду,
с которой бросились на новое направление. Едва только из
общего средоточия проникало оно в какой-нибудь новый пункт,
как этот пункт, в свою очередь, также делался средоточием, из
которого лучи гуманизма распространялись на окрестную страну.
Везде чувствовалось то освежающее, то деятельное начало,
которое он приносил с собой. Еще при жизни Энея Сильвия,
благодаря обширному кругу его друзей и почитателей, оно уже
проникло из Вены * в Прагу, в Краков, в Базель, в Нюренберг, в Бам-
берг, в Вюрцбург, в Кельн, Аугсбург, Зальцбург и пр. и везде
почти было представлено людьми, пользовавшимися общим
уважением, или замечательными талантами своего времепи, каковы
были Георг von Heimburg, Феликс Hemmerlein и другие. Нюреп-
берг, центр промышленной и торговой деятельности во
внутренней Германии, особенно оказался восприимчивым для нового па-
правления. Из последователей его, граждан, ученых и даже
духовных скоро образовался там довольно значительный круг.
Пока еще новое направление не определилось вполне, пока не
обозначилось ясно его отношение к иерархии, оно находило себе
очень ревностных приверженцев даже между епископами.
Довольно было быть образованным человеком и не закоренелым
схоластиком, чтобы почувствовать в себе эту потребность и
отдаться ей.
Кроме старых ученых корпораций, которые припяли себе
новое направление (университеты Гейдельберг **, Эрфурт), скоро
β Далее: гуманистпческое.
* См. Hagen, I, р. 90.
** Цвет гуманистического направления в Гейдельберге под кураторством
Иоганна Дальберга, епископа Вормсского. Hagen, I, 137. В
университетах в то же время учреждались новые кафедры для класс [ической]
литературы, например в Нюренберге, ibid., 187.
Гуманизм в Германии
37
почувствовалась в Германии потребность новых учреждений,
новых школ для распространения того же самого направления.
Один из ревностнейших учеников Фомы Кемпийского, Лудвиг
Дрингенберг, еще в 1450 подал пример другим основанием такой
школы в Шлеттштадте, которая в короткое время привлекла к
себе до 900 слушателей * и сделалась превосходным
рассадником гуманистического образования. В ней самой или под ее
влиянием образовалось несколько талантов, которые потом продолжали
действовать в разных пунктах Германии на пользу
гуманистического образования (Дальберг, Вимпфелинг и проч.). Другая,
почти не менее знаменитая, школа была основана Гегием (Не-
gius) в 1470 в Девентере 6, которая вскоре пустила от себя новые
ветви по Северной Германии**. Даже многие монастыри
открыли свои стены новому направлению и образовали у себя ряд
литературных кругов, которых действие на пользу
гуманистического образования было не менее благодетельно. Нигде, может
быть, гуманизм не находил себе такого благосклонного приема,
как в монастыре, которым управлял ученый аббат Тритемий в
Спангейме ***. Он успел составить у себя прекрасную библиотеку
в 2000 томов манускриптов и книг латинских, греческих,
еврейских и любил окружать себя людьми, принадлежавшими новому
направлению. Другие деятели своей личностью образовали из
себя центр, около которого собирались их друзья и
последователи. Это были обыкновенно талантливейшие из людей, которые
приняли новое направление или которые уже успели
воспитаться под ним, каковы были Агрикола, Иоганн Рейхлин, Конрад
Цельтес. Последний особенно отличался своей ревностью на
пользу нового образования. Деятельный, неутомимый, он хотел
соединить всех приверженцев его в один большой союз (Verein)
и, приступив к исполнению своего плана, основал два
литературных общества — Рейнское и Дунайское ****.
Мысль Цельтеса предполагает уже значительное
распространение гуманизма по Германии. В самом деле, в последней
четверти XV века находим его здесь почти всюду; во всех углах
Германии, во всех сколько-нибудь значительных промышленных
или административных пунктах имеет он своих представителей.
Кроме тех пунктов, которые мы уже называли прежде, можно
еще прибавить Констанц, Баден, весь Вюртемберг, где центром
всей гумапистической деятельности был знаменитый Рейхлин,
Инголыптадт, где некоторое время учил сам Цельтес *****, Реген-
* См. Hagen, I, 136.
** Hagen, Ι, 159.
*** Ibid., I, p. 148. Сочинение Тритемия: Trithemii catalogue virorum illust-
rium. О других монастырях, принадлежавших к тому же направлению,
ср. Hagen, I, 218.
**** Hagen, 1, 146.
***** Он был нризван сюда в 1492 г., ibid., I, 154.
88
Лекции 1848/49 е.
сбург, Инсбрук и пр. Даже в северной, самой глухой части
Германии, которая всего более отдалена была от центра
гуманистического образования, особенно в некоторых ее пунктах, Мюн-
стере, в Гамбурге, в Магдебурге, были также достойные
представители гуманизма.
Рассеянные по всей Германии, гуманисты не были, однако,
так отрезаны, изолированы друг от друга, как могло бы
казаться с первого взгляда. Их соединял один общий дух, одно общее
лаправление; у них был один общий интерес — распространение
гуманизма среди схоластического варварства, и этот интерес
связывал их более, чем все внешние связи. Мысль Цельтеса
осуществлялась как бы сама собою. Все те, которые занимались
возделыванием новой науки, находились между собой в более или
менее частых сношениях. Обмен чувств, мыслей происходил о
удивительным жаром и живостью. Неутомимейшие из
гуманистов сами посещали своих друзей, пользовались всем своим
влиянием, чтобы доставить им самые видные ученые места,
беспрерывно переезжали с места на место, везде старались действовать
своим личным присутствием. Таков был Цельтес. На одном году
(?)7 встречаем мы его в Гейдельберге, Эрфурте, Лейпциге*.
Потом он остается некоторое время в Ростоке; отсюда он едет в
Италию, проводит там целый год, возвращает [ся], проезжает всю
Германию, от запада к востоку, и от юга к северу, везде спорит
с упорными схоластиками, везде ободряет друзей нового
направления. Впоследствии он нашел себе еще более горячего
преемника в этой своей деятельности в Ульрихе Гуттене. Другие, более
покойные, как нюренбергский Виллибальд Пиркгейхмер,
поддерживали те же самые связи постоянной деятельной перепиской.
Семь лет изучал он в Италии право **, но самым любимым его
занятием была humaniora. Возвратившись домой, он принес с
собой не только богатый запас знаний, вкус образованный, но и
глубоко человечественный характер, который скоро доставил ему
всеобщее уважение. Избранный в муниципальный совет
Нюренбергский, он скоро, однако, оставил эту службу, уступив своей
благородной страсти к свободным занятиям. Уступая настояниям
своих друзей, ценивших его талант, Пиркгеймер через три года
снова вступил в тот же самый совет, но никогда, даже во время
самой успешной деятельности, не покидал своих литературных
занятий и был одним из самых ревностных деятелей на пользу
гуманизма. Около него в самом Нюренберге, в котором новое
образование принялось с особенным успехом, постоянно был
круг людей, который оставался под непосредственным влиянием
его личности. Около него, словом, сосредоточивалось молодое
поколение, воспитанное под решительным влиянием гуманизма, от
* Hagen, I, 145—146.
·* Hagen, Ι, 192 et cet.
Гуманизм в Германии
39
него заимствовало оно благородный жар к знаниям*.
Благосклонный, приветливый, готовый служить другим своими
средствами, Ппркгеймер кроме своих советов служил еще для
удовлетворения этого жара своей библиотекой, о которой
современники говорят8, что подобную трудно было найти в Германии**.
Кроме большого запаса книг, сделанного им еще в Италии, оп
старался постоянно пополнять свою библиотеку всеми
литературными] новостями, выходившими тогда как в Италии, так и
в Германии. Но всего замечательнее его «письменная»
деятельность. Он состоял в постоянных сношениях почти со всеми
людьми, принадлежавшими к новому направлению. Конрад Цельтес
и Ульрих Гуттен были самые короткие его друзья. Первый лозпа-
комил его и с членами Рейнского общества. С того времени Пирк-
геймер состоял в постоянной переписке с Дальбергом, с Тритс-
мием, с Рейхлином. Посредством этих людей он завел новые
литературные знакомства и также поддерживал их очень
деятельной перепиской. Между друзьями, с которыми познакомил его
Цельтес, нельзя также пропустить доктора Экка, бывшего тогда
профессором в Инголыптадте и до времени решительного
переворота отличавшегося довольно свободным направлением. Наконец,
и тот, кто своим талантом, своей деятельностью наиболее
способствовал успехам гуманизма, в ком гуманизм нашел себе самое
полное и самое определенное выражение, словом, Эразм
Роттердамский, переселившись в Германию, также вошел в сношения
с Пиркгеймером ***; и пи с кем столько не был он доверчив,
откровенен. Через него потом сносится Ппркгеймер с учепыми
французскими и английскими и пр. Словом, около Пиркгеймера,
как около главного фокуса, собирались все лучи
гуманистического направления.
Был еще тогда один человек в Германии, которого
деятельность имеет некоторую аналогию с деятельностью Пиркгеймера,
это — каноник Mutianus Rufus ****, живший с 1501 года в Готе.
Оп также пользовался любовью и уважением гуманистов; ou
также своей личностью действовал непосредственно на избранный
круг, который собирался в доме его в Готе; он также привлекал
к себе молодых людей из ближайшего университета (в Эрфурте),
которые считали за особенную честь сделать знакомство с ним;
он, наконец, был в сношениях с другими гуманистами своего
времени, Рейхлином, Цазием, Вимифелингом, Вольцом и др. Но тем
только и ограничивалась его собственная литературная
деятельность: он писал только письма к своим друзьям и ничего не
издавал в свет.
* Ср. свидетельство Гуттепа у Hagen'a, 269.
** Cochleus, Hagen, Ι, 266.
*** Hagen, Ι, 274
**** О нем ibid., p. 227.
40
Лекции 1848/49 г.
Таковы были первые деятели гуманизма, таково было его
внешнее распространение по Германии. Уже одним своим
внешним движением он имел бы право на важное место в истории
литературы, мог бы составить в ней особую эпоху. Но значение его
было далеко не внешнее только; у него была еще своя
внутренняя, своя глубоко историческая сторона, которая делает его одним
из великих исторических явлений. «Я воздаю хвалу нашему
веку,— говорил доктор Экк в одной своей речи,— в котором
распростились мы с варварством, и юношеству открылась возможность
настоящего образования, в котором истинная диалектика, придав
достойному осмеянию юность софистики, сама заступила ее
место, в котором греческое и латинское красноречие разлилось по
всей Германии. Как везде начинают цвести у нас
восстановленные изящные искусства!.. Поистине мы должны считать себя
счастливыми, что живем в таком великом веке»*. Но не в том
только состояло дело гуманизма, чтобы распространить
несколько новых пли забытых мыслей, ввести опять в употребление
старые поэтические образы и образовать риторов или даже ораторов,
которые бы свободно объяснялись классической греческой или
латинской речью, одним словом, подле старого мира
средневековых понятий, впрочем совершенно отдельно от него, поставить
еще мир идей и образов иного происхождения и оставить оба эти
мира равнодушно существовать один подле другого. Это было
лишь первое, непосредственное его действие. Расширяя
созерцание идеями древнего мира, который богат был ими во всех родах,
гуманизм касался уже сознания; в нем возбуждал новые
представления, его выводил на новую дорогу. Соприкосновение со
старым миром было неизбежно. Сознание, освобожденное от оков
схоластицизма, не могло равнодушно видеть его владычество
над другими. Оно должно было искать, преследовать его всюду
и везде стараться заменить его представления своими. И в самом
деле, в эпоху самого распространения своего по Германии
гуманизм не существовал уже только сам по себе, как особый мир,
заключенный в себе самом, он в то же [время] проникал в
другие направления, он преследовал схоластицизм в самом главном
его убежище, в кругу наук философских, он в то же время
подавал руку популярному направлению, соединялся с народной
сатирой и, как новое живое начало, везде производил явления в
высокой степени замечательные.
Чем больше распространялся гуманизм, чем больше
воспитывалось людей под его влиянием, тем больше принадлежало ему
талантов, так что, наконец, в каждой особой отрасли он имел
достойных представителей. Это стало совершенно ясно в начале
XVI века. Об Цельтесе можпо сказать, что в нем выразился
чистый гуманизм, не с формальной только своей стороны, но и со
* Hagen, I, 215.
Гуманизм в Германии
41
стороны содержания, еще не смешавшийся ни с каким другим
направлением. Цельтес совершенно усвоил себе представления,
идеи, образ древнего мира — словом, все его созерцание; он жил
этим созерцанием и такими глазами смотрел на мир, его окру*
жающий *. Немудрено поэтому, что он не только подражал
древним в своих поэтических опытах и называл античными именами
даже христианские предметы, но даже думает, мыслит
по-древнему и смеется над тем, что не оправдывается ему с этой точки
зрепия. Но он только и ограничивается насмешкой: серьезного
последовательного нападения на современную жизнь у него нет;
он еще живет в своем гуманизме. Цельтес не защищает истинной
религиозности против ложной, потому что он вовсе не знает
религиозности, словом, он приближается к тому направлению,
которое принял гуманизм в Италии.
Совершенный контраст к нему составляет Рейхлин**9.
Античные представления не коснулись его религиозных убеждении:
весь погруженный своими занятиями в древность, он, однако,
остался в душе чистым христианином. Он взял для себя болео
формальную сторону гуманизма, обрабатывал его как науку и с
неутомимым усердием собирал и готовил сам материал для
будущей филологии или для облегчения средств занятиям ею. Наука,
ее истина были для Рейхлина дороже, важнее всего. Так, даже
посвящая свои труды еврейскому языку, его грамматической
разработке, он имел в виду прежде всего истинную эксегезу ***
Библии, имел уже, конечно, и самое ее приложение, чего он
также не отрицал. Словом, он открывал дорогу Эразму. Впрочем,
несмотря на все его миролюбие, несмотря на всю тишину его
кабинетных занятий, схоластицизм скоро заметил его как одного
из самых опасных своих врагов, если не в настоящем, то в
будущем, и преследовал его неумолимо. Схоластицизм заставил его
удалиться из Базеля, он же и после не оставлял его в покое.
Эразм, годами немного отставший от Рейхлина, был, впрочем,
по своему сознанию как бы целым поколением впереди его ****10.
Конечно, его натура была полнее, его талант разностороннее;
к тому л^е несчастья, по крайней мере неприятности, с которыми
он должен был бороться в своей юности, нужда, притеснения,
которые он терпел от монахов, все это ставило его ближе к
действительной жизни, оставляло в нем более горького впечатления
от нее и, следовательно, давало самым ученым его занятиям
более практический характерв.
* Hagen, I, 144—146
** Ibid., 139—147, Iohann Reuchlin und seine Zeit, von Mayerhoff.
*** Толкование, разъяснение (греч.).
**** Hagen, Ι, 203 et cet. Histor [isches] Taschenbuch, 1843, статья Эшера.
в Видимо, здесь вариант текста: «Усвоив себе древность, может быть не
менее самого Рейхлина — известно, что Эразм писал самым легким и
приятным латинским языком,— он, впрочем, там не остался при одной
42
Лекции 1848149 г.
Эразм был одарен от природы очень счастливым смыслом.
Еще в школе (в Девентере) знал он наизусть Горация и Тереи-
ция. Рано родилась в нем страсть к классическим занятиям; по
вместо того чтобы удовлетворить, отослав мальчика (13 лет) в
университет, опекуны Эразма (по смерти отца и матери)
поручили его на воспитание одному братству, которые всего более
заботились о том, чтобы приобрести его мопашескому чину.
Около трех лет боролся Эразм со своими воспитателями, терпя
всякого рода неудовольствия. Но чего не удалось обольщениям
монахов, то сделалось само собой. Возвратившись к опекунам, оп
встретил суровость и нелюбовь. Тогда настояния одного
товарища по школе и мысль, что монастырская жизнь даст средства
предаться любимым занятиям, расположили Эразма сделать
опыт — вступить в Августинский монастырь новицием11. Эразм,
в самом деле, нашел все, что ему было нужно,— покой, уединение,
библиотеку; по ходатайству своего друга Эразм был освобожден
от ночных бдений, от постов и пр. Словом, ему дали полную
свободу. После. трудной борьбы с самим собой Эразм решился,
наконец, принять монашеский обет. Но вместе с тем
кончилось для него и снисхождение: от него потребовали
строжайшего исполнения монастырских предписаний. Эразм должен был
покориться, но монастырская жизнь разрушительно действовала
на его здоровье, пост был для него невыносим, а если он вставал
ночью для бдения, то проходило несколько часов, прежде нежели
он мог заснуть снова. Все это мешало его занятиям, приводило
его в раздражение. Почти пять лет жизни в этой темнице
должны были оставить много огорчения в душе Эразма. Лишь в 1491 г.
епископ Камбрэйскпй выхлопотал Эразму позволение оставить
монастырь и ехать с ним в качестве секретаря в Италию.
Путешествие не состоялось, но Эразм уже не возвратился в мопа-
стырские стены.
По счастью, в тесном заключении Эразм сохранил всю
природную ясность своего ума. Воспитав ум свой классиками, он,
только ее формальной стороне. Он пошел далее, он усвоил себе не только
содержание, но и всю тонкость ума древних, всю ловкость,
изворотливость, игривость, остроумие и нервнее все это в свои критические занятия
теологией, которая, как известно, наиболее страдала от схоластицизма.
Ибо Эразм остался чужд индифферентизма, он сохранил свои основные
убеждения; но зато тем более возбуждали в нем отвращение эти дикиэ
наросты, произведенные схоластицизмом в науке, которой он
преимущественно посвятил свои занятия. Эксегезы ему было уже мало: ему еще
нужна была критика, здравый свободный анализ, чтобы не только
восстановить истинный смысл религиозного учения, но, из отвлеченной сферы
переходя к действительной, побивать предрассудок, равно как и софизм
во всяком виде, в каком бы оп ни встретился. Его знания, его ловкость,
его едкий, тонкий, саркастический ум с ясностью мысли делали его ouac-
пейшим врагом схоластикам. Он столько же преследовал, беспокоил их
своей беспощадной насмешкой, сколько поражал положительной силой
своих доводов».
Гуманизм в Германии
48
однако, долгое время не сознавал еще себя принадлежащим
новому направлению и, чтобы докончить свое образование,
выпросил у своего епископа позволение отправиться в Париж. Там был
главный авторитет науки, там был цвет схоластической мудрости.
Эразм обрек себя на лишения всякого рода, чтобы добывать
себе средства жить независимо и слушать лекции ученых
парижских теологов. Он решил посвятить всего себя на изучение
теологии. Но сухое педантическое изложение, которое он сверх
[ожи] дания нашел в парижских аудиториях, произвело на него
совершенно иное впечатление, нежели к какому он
приготовлялся. К тому же варварская латынь, на которой делалось это
изложение, подействовала самым неприятным образом на его вкус,
образованный латинскими классиками. Тем с большей любовью
обратился Эразм к классическим занятиям, к гуманизму, тем о
большим жаром принялся он за изучение греческого языка,
которое закончил потом в Англии, в Оксфордском университете.
Это новое изучение познакомило его, с одной стороны, со
многими отцами церкви, которых он теперь мог читать в подлиннике,
с другой — с Либанием, Плутархом, Лукианом.
С того времени Эразм почти на всю жизнь свою остал[ся]
странствователем, путешествовал по Нидерландам, Италии, был
снова в Англии, во Франции, жил то в Антверпене, то в Лёвене,
то в Базеле, но это уже не мешало его литературной
деятельности, в высшей степени плодотворной для своего века. В нем в
первый раз самым ясным и решительным образом гуманистиче-
ческое направление соединилось с теологией и подействовало
благотворно на освобождение ее от оков схоластицизма. Теолог
и гуманист в одно время, Эразм понял потребности науки и после
Лавренция Баллы первый почувствовал необходимость
восстановить и очистить текст Писания. Труд, который предпринял Рейх-
лин по отношению к Ветхому Завету, Эразм совершил над
Новым. Текст Вульгаты12 перестал быть единственной верной
нормой для слов Писания. Отсюда уже недалеко было до
перевода Библии на немецкий язык. Впоследствии, совершив этот
главный труд, он посвятил свои труды изданию отцов церкви
(Афанасия, Иринея, Амвросия, Августина, Златоуста, Василия
Великого и пр.). Но это была лишь одна сторона его
деятельности. Слишком много огорчений вынес Эразм из своей
молодости, слишком ясно видел он несообразности, даже бессмыслие
многих явлений жизни, чтобы не вооружиться, не восстать
против них всей силой своего ума. К тому же могли располагать
Эразма и особенные свойства ума Эразма — едкого, тонкого,
наблюдательного. Эразм как будто усвоил всю ловкость,
изворотливость, игривость, остроумие древних. Все эти свойства вместе с
мастерством изложения, которым вполне владел Эразм, делали
его самым опасным соперником схоластиков. Никто не наносил
схоластицизму ударов более метких, потому что.никто лучше не
44
Лекции ]848149 г.
знал его слабых сторон; никто не умел лучше подвергать его
осмеянию, потому что не имел ума столько саркастического.
Одна уже «Похвала Глупости»13, хотя направлена была не
против одного только схоластицизма, нанесла, однако, ему самое
чувствительное поражение. Никогда еще так не обнажена была
его внутренняя пустота, прикрытая многочисленностью
фразеологии, замаскированная бесконечным множеством разделений,
подразделении, самых тонких различий, посредством условных
терминов при отсутствии содержания. Все эти magistrales definitio-
nes, conclusiones, corollarii, propositiones explicitae et implicitae *,
termini a quo и ad quem, causae formales и inateriales, opus operans
и opus operatum, gratia gratis data и gratis gratificansl4 и тысячи
других бесплодных терминов, в которые любил убегать схоласти-
цизм, убегать от сущности вопроса или не имея довольно
смелости разрешать его,— никто лучше Эразма не знал им настоящей
цены, никто так искусно не выводил их на свежую воду. Мы
возьмем лишь несколько образцов, чтобы видеть всю меткость и
ловкость этих ударов.
Удивляясь Мудрости, всезнанию схоластиков**, Глупость
советует составить из них ополчение и выслать против турок, ибо
им никто не может противиться. «Они думают,— говорит
Глупость,— что они-то те самые, па которых держится вся церковь,
опираясь на их силлогизмы, как шар земной на Атласа. Они уже
точно великие мастера: из Писания умеют они сделать, что вам
угодно, как если бы оно было из воска. Они цензоры,
поставленные над целым миром: они заставят каждого отказаться от
своего мнения, чьи мысли не подходят под их explicitae et implicitae
conclusiones***. Пи крещение, ни Евангелие, ни Петр, ни Павел,
ни св. Иероним, ни Августин, ни даже Фома — глава аристоте-
ликов, ничто теперь не удостоится христианского имепи, если
на то не дадут своего согласия господа Baccalaurii ****. Они так
хорошо знают ад, как если бы сами провели там целый год. Они
даже открыли новое небо. Но всего больше смеюсь я, когда они
говорят мне, что только те настоящие ученые, которые ловко
говорят варварским языком, которые бормочут и лепечут, так
что их понимает лишь тот, кто принадлежит к их цеху. Это
называется у них остроумием, если их другие не понимают»15.
«Нет,— говорит в другом месте Глупость о схоластиках *****,—
не признательны они ко мне. А уж чем только не обязаны мне!
Блаженные в своем самолюбии, они воображают, что живут на
третьем небе, откуда с презрением могут смотреть на все осталь-
* Магистральные дефиниции, кооклюзии, королларии, очевидные и
подразумеваемые пропозиции (лат.).
** Hagen, 1.412.
*** Очевидные и подразумеваемые заключения (лат.),
**** Бакалавры (лат.).
***** Hagen, I, 409.
Г у манием в Германии
45
ное человечество, как на червяка, пресмыкающегося по земле.
Огражденные от всех нападений целой ратью своих дефиниций,
конклюзий*, короллярий** и пр., они везде, однако,
оставили себе на всякий случай мышьи норки, так что свяжи их хоть
Вулкановой цепью, и тогда они сумеют вывернуться. Своими
дистинкциями *** они развяжут все узлы, как не разрубят их
и самым острым мечом. Каких только тайн не знают они! Все
эти вопросы о создании мира, о происхождении греха в мире,
о таинственном рождении Мессии для них ничего не значат.
Решить подобные вопросы для них ничего не стоит. У них есть
вопросы гораздо помудренее, и за те, однако, они не боятся
взяться. Что было бы, например, если бы божественное начало
соединилось с дьяволом, с ослом, с камнем, с тыквой? Как бы
[тыква] г стал [а] проповедовать и делать чудеса? Или: что
освятил бы Петр, если бы ему нужно .было освятить еще в то время,
когда Христос был на кресте? Или: позволено ли будет есть и
пить после воскресения? Ибо они [схоластики] уже заранее
позаботились о том, чтобы и там можно было им удовлетворять и
голод, и жажду... Наконец, у них столько учености и в их
учености столько трудностей, что самые апостолы задумались бы,
если бы им пришлось дискутировать с новыми теологами о
подобных вещах»16.
Не одним только схоластикам, от Глупости доставалось
всему тогдашнему фарисейству, которое во соблюдение одной только
внешности поставляло всю нравственную обязанность и за этой
потребностью вовсе забывало потребности духа. Насмешка есть
самое сильное средство против недугов такого рода. Удар Эразма
был смел, удар был ловок — он подвергнул схоластицизм всеобщ
щему посмеянию****; еще при жизни Эразма «Похвала» была
переведена на немецкий и французский языки и разошлась в
27 изданиях 17.
Но иное дело было, поборов сильный закоренелый
предрассудок, поставить против него новый принцип в литературе, в
теории, и иное дело защищать его в самой жизни, отстаивать его
самым делом. Великий талант на первое, Эразм очень мало
годился на второе: для этого у него недоставало характера.
Впоследствии, когда гуманизм, не ограничиваясь более литературной
сферой, вышел прямо на сцену истории, когда надобно было
отстаивать свои убеждения против схоластического фанатизма не
словами только, но твердостью воли, Эразм затворил дверь
своего дома перед опальным Гуттеном и даже отказался от
знакомства с ним.
* Заключения (лат.).
** Выводы, добавления {лат.),
*** Расчленения (лат.).
г В рукописи описка: вместо тыква — камень.
**** Hagen, I, 417.
46
Лекции 1848149 а.
Но гуманизм имел на своей стороне не одни только
литературные таланты. В числе тех, которые принадлежали новому
направлению, были люди предприимчивые, характеры смелые и
решительные, которых деятельность по самой их натуре
просилась вон из тесного круга литературного, которые тем-то и
сгубили себя прежде времени, что, не подумав о своих средствах,
хотели тотчас привести в исполнение то, что им представлялось
истинным в теории. Между ними первое место занимает Ульрих
Гуттен. Он почти сполна принадлежит уже XVI столетию
(родился 1488)*. Ясно обозначалась эта отважная, не терпящая
никаких внешних принуждении и скорая на решения натура.
Почти в том же возрасте (11 лет), в каком и Эразм, Гуттен был
отдан в монастырскую школу в Фульде.
Обычаи монастырской школы пришлись ему не по нраву:
Эразм бы терпел их, скопляя горечь в душе своей; Гуттен не
выдержал и бежал. Он попал отсюда в Эрфуртский университет,
и как раз к тому времени, когда здесь собрался цвет гуманистов
(Эобан Гесс, Герман Буш, Crotus Rubianus и др.). Впечатление
было сделано в самое горячее время: Гуттен был восприимчив,
оно осталось с ним на всю жизнь. Перешедши из Эрфурта в
Кёльн, Гуттен и там нашел несколько талантов,
принадлежавших новому направлению (Rhagius и др.). Но здесь схоласта-
цизм был силен и бодр, и Гуттен был свидетелем, как учитель
его Рагий был изгнан озлобленными схоластиками из
университета. Горечь этого впечатления вместе с живой ненавистью к
схоластикам также осталась с ним на всю жизнь: Скоро он весь
проникнулся новым, направлением и, как натура
эксцентрическая, не способная заключаться сама в себе, горел нетерпением
разнести свои понятия по всей Германии, личпо познакомиться
с людьми, которые уже стояли под знаменем гуманизма,
соединить все силы вместе, чтобы действовать дружно против общих
врагов. Первое предпринятое им путешествие было по Северной
Германии. Оно не обошлось ему без неприятностей. В Грейф-
свальде его собственные товарищи поступили с ним
недобросовестно, бесчестно, и ничто не может сравниться с потоком того
негодования, которое излилось у оскорбленного Гуттена по
поводу этой несправедливости. Он поднял вопль, найисал целую
книгу жалоб (zwei Bücher von Klagen**)19, из своего личного дела
сделал общее дело гуманистов и призывал всех отмстить за него.
Так отзывалось оскорбление в душе этого человека, так
горячо брался оп за дело, так легко и скоро принимал свои личные
обстоятельства за дело общественное. Такой человек был создан
не для кабинетной жизни, но для деятельности общественной;
лишь одной своей стороной, своим быстро понятливым умом, об-
* Hagen, I, 244.
** Две книги жалоб (нем.).
Гуманизм в Германии
47
ращен он был к науке, но всеми другими сторонами своей
души — к массе, к народу; не для мирных ученых
разысканий рожден был этот человек, но для полной деятельности
публичной.
Так в самом уже начале, с самых первых шагов этого челове·
ка, в общественной жизни готовилось уже в нем что-то
решительное. В движение, произведенное в обществе гуманизмом, он
вносит с собой новый элемент — страсть. Посмотрим далее,
какое направление примет эта страстная натура: ибо в людях
такого свойства всякое чувство есть или любовь или ненависть«
Мы уже видели, что Гуттен с самого начала своих занятий
приобретен был к гуманистическому направлению. Как почти все
его талантливые современники, он также посетил Италию.
Впрочем, и не по одному только добровольному побуждению. Была
еще к тому потребность внешняя. - Эта потребность — странное
требование отца Гуттена, который видел в поведении своего сы-
па лишь беспорядочность и легкомыслие, даже просто
«глупости», и хотел, чтобы он исправился, взявшись за серьезное
занятие, например jure*. Отец Гуттена, очевидно, был даже не
затронут новым направлением: во всех стремлениях гуманистов он
видел лишь одно ребячество; он никак не мог понять серьезной
стороны этого движения. Ульрих, чтобы не остаться без
всяких средств ,к жизпи, которые он получал от отца, должен был
согласиться на его желание; он принялся за изучение juris, он
узнал науку благодаря своим счастливым способностям, но
известно, что значит принужденное занятие для такой натуры, как
Гуттен, особенно. Из своего изучения Гуттен вынес лишь
презрение к изучаемому предмету, в котором так мало видел
действительного к жизни, и весь свой жар, все свое страстное
расположение перенес на humaniora.
Это обстоятельство в жизни Гуттена было решительное, ибо
оно решило в нем любовь, преданность к гуманизму и,
следовательно, ненависть к схоластицизму. Последнему вырастал в нем
самый страшный, самый неумолимый соперник, какого только
он встречал когда-либо с тех пор, как пробудилось новое
сознание. Гуттен по натуре своей не способен был двоиться,
разделяться между двумя различными направлениями; он мог
принадлежать только одному, и это одно было вражда его,
устремленная прямо против схоластицизма и всех тех форм и явлений
жизни, которые образовались под его влиянием. Гуттен был
опасен схоластицизму уже не силой доводов, как Эразм: он был
человек пе теории, но дела; у него вражда к противоположному
направлению была вызываема не просто лишь необходимостью
обороны, но была его собственным, добровольным влечением,
потребностью его духа, который не мог помириться с противоречия-*
Право (лат.).
48
Лекции 1848149 г.
ми, какие встречал в жизни. Гуттен был смел и отважен: того,
что кипело в груди его, не стал бы он скрывать ни в каком
случае, он высказывал свои внутренние движения прямо и открыто.
То, чего недоставало в Эразме, здесь понималось, может быть,
с излишком. Как натура страстная, как характер решительный,
который все готов поставить на карту для своего убеждения, Гут-
тен не способен был к косвенным нападениям, он не
удовлетворялся даже сатирой, он нападал с открытым забралом и
прежде, чем его вызывали к тому. Одним словом, в Гуттене гуманизм
имел своего доблестнейшего рыцаря со всею его отвагой,
дерзостью, мужеством и увлечением.
Это главное, но не забудем о том его второстепенном таланте,
который должен был много послужить тому же самому делу. Это
его талант как писателя. Своими поэтическими произведениями
он составил себе имя еще до отъезда в Италию. Во время своего
путешествия он тоже не переставал поэтизировать. Но это была
лишь первая игра таланта. Когда созрело убеждение Гуттена,
когда определилось окончательно его направление, и талант его
перешел на почву более серьезную. Легко догадаться, против
кого он был устремлен. В нем была не столько тонкость и едкость
насмешки Эразма, сколько сила, живость и энергия нападения
(invectire). Ловкий оборот, тонкий намек не был делом Гуттена.
Каков был он сам, такова и его речь: бодрая, страстная,
решительная, без умолчаний, без прикрытия, с огнем и увлечением.
В ней не было убедительности и занимательности речи Эразмо-
вой, но зато она была гораздо более увлекательной.
И такой человек явился в такое время, когда уже спор между
схоластиками и гуманистами значительно разгорячился. Еще
один шаг вперед со стороны обеих враждующих сторон, еще
новая вспышка этого спора — и Гуттен уже был готов вмешаться
в это дело и внести в него весь огоиь своей страсти, всю злость
и ядовитость своей насмешки. Такое время было близко — оно
даже наступило... Но мы должны наперед рассказать
обстоятельства самого спора схоластиков с Р[ейхлино]м.
С первого появления гуманизма на германской почве схола-
стицизм смотрел на его распространение с недоброжелательством.
Он с самого начала отряхнул от себя то оживляющее начало,
которое приносил с собой гуманизм, и упорствовал в своей
исключительности. Некоторое время, впрочем, он должен был осудить
себя на бездействие и терпел успехи нового направления. Этому
были разные причины: во-нервых, может быть, то, что схоласти-
цизм не успел всмотреться в лицо своего врага, не понял
сначала всей опасности, которая могла угрожать ему со стороны
гуманизма; во-вторых, тогда как у него самого не было в Германии
такого центра, как Париж, гуманизм представлялся слишком
рассеянным по Германии, так что если бы схоластицизм и
собрался подавить новое направление всею своей тяжестью, труд-
Гуманизм в Германии
49
но было решить, куда прежде должен был он направить
свой удар.
Но с каждым годом больше и больше открывалось значение*
гуманизма; силы его возрастали, он мужал, наконец, под его
влиянием воспитались люди, которые принадлежали ему всем
своим образованием, и эти люди были первые таланты Германии.
Гуманизм, наконец, был смел и отважен: он проник в те самыо
убежища, где схоластицизм наиболее считал себя безопасным;
он почти завоевал у него науку, он отбивал у него самых
способных и полезных деятелей, оставляя ему только крайнюю
ограниченность, он смело вооружался против него сатирой, он но
боялся уже делать открытые нападения па него и даже на все
прочие явления жизни, как скоро они состояли в связи с схола-
стицизмом или от него вели свое начало. Эта дерзость была
ничем неизвинима, ничем не оправдаема в глазах схоластиков: они
еще не дали согласие на существование гуманизма, они еще но
признали этой незаконной силы, а он уже начинал заносить
руку на них. Схоластицизм не мог больше потерпеть такой дерзости.
Что на стороне гуманизма была сила доводов, сила здравого
чел [овеческого] смысла, это еще немного значило. На стороне
схоластицизма было оружие гораздо крепче и сильнее: это было
то оружие, на котором опиралось все средневековое сознание,
т. е. авторитет.
Схоластицизм вырос под сенью римской иерархии.
Схоластицизм имел, следовательно, на своей стороне римский авторитет.
Чего не в состоянии был сделать схоластицизм, действуя ега
именем, пока еще сознание не освободилось от этой тяжести? Он
мог обрушить на гуманизм всю тяжесть этого авторитета, т. е. он
мог заподозрить последователей нового направления в
неправильном отношении к церкви. Он мог, одним словом, обвинить их
в ереси — самое страшное обвинение, какое только могло пасть
на человека в те времена, потому что его не могла отвратить
никакая власть, потому что за ним следовали пытки и мучительная
смерть. Еще пе прошло и полного столетия по смерти Гуса,
сожженного по приговору неумолимого собора; еще инквизиция была
в полной силе и деятельности, еще ее бесчеловечие считалось,
приговором высочайшей справедливости. Уже в XVI веке были
у него свои жертвы: так, знаменитый инквизитор Гогстратеп,
еще прежде чем появился в Кёльне, сожег в Голландии одного
врача, на которого пало обвинение, что он принадлежит к
новому направлению*. Вообще, это был еще вопрос — новое
сознание так ли уж было сильно, чтобы было в состоянии одержать
победу над старым в общем мнении?
Итак, против гуманизма могла собраться страшная гроза.
Замечательно, что первый, кто вызвал на себя громы схоластицизм
* Hagen, I, 426.
4 П. Н. Кудрявцев
•50
Лекции 1848149 г.
ма, был Рейхлин *, самый невинный и самый кроткий из всех,
принадлежавших к новому направлению. Ни но характеру своих
занятий, ни по своему мирному нраву Рейхлин не способен был
заводить ссору, тем менее делать шум. Но с обеих сторон так
много уже накопилось горючего материала, т. е. вражды и
ненависти, что лишь бы только представился первый случай, откуда
бы он ни происходил — все равно, гроза должна была
разразиться.
Поводом к столкновению послужило известное дело
обращенного в христианство еврея Пфефферкорна. Как все прозелиты,
Пфефферкорп, хотя не столько по убеждению, сколько по
расчету, оказался самым неумолимым врагом своих прежних
единоверцев. Он издал против них несколько сочинений19,
исполненных ненависти и злобы, и, наконец, чтобы пресечь все зло,
представил императору Максимилиану свое мнение о необходимости
сожжепия всех еврейских книг за исключением Библии.
Максимилиан, вовсе не расположенный поддерживать своей властью
фанатизм, хотел наперед узнать мнение о еврейских книгах
известных германских ученых, в том числе Рейхлина, как одного из
первых знатоков еврейского языка и литературы20. Понятно,
какого отзыва можно было ждать на такой запрос от гуманиста:
Рейхлин в самом деле подал свое мнение, которое было
совершенно в пользу гонимых книг (1510). Оскорбленный фанатизм
Пфефферкорна тотчас же обратился против Рейхлипа и в
запальчивости ли полемики или из-за одной невежественной
дерзости не постыдился взвести на него обвинение, будто он был
подкуплен евреями21. В свою очередь, оскорбленный наглостью
этого обвинения Рейхлип также не мог смолчать и горячо,
запальчиво отвечал Пфефферкорну, причем личность соперника
тоже не была пощажена. Рейхлин не любил заводить ссоры, но,
дорожа своим достоинством, он никому не простил бы его
оскорбления. Так в частной полемике двух лиц пролита была первая
горькая капля, из которой потом возникло общее ожесточение
обеих враждующих сторон.
Пфефферкорн нашел себе ревностных покровителей в
доминиканцах. Одушевленные одной ненавистью ко всему, что не
признавало их авторитет, проникнутые одним фанатизмом, они не
могли не считать дело Пфефферкорна и своим собственным.
В Кёльне они были особенно сильны своим влиянием; там же
было и главное местопребывание схоластицизма в Германии.
Оставив в стороне евреев, они обратились теперь против
Рейхлина, их защитника, и на первый же раз дали ему почувствовать,
что, защищая такое дело, он становится наравне с еретиками.
Вновь понятая угроза была тем опаснее, что за нею скрывалось
лицо Гогстратена, неутомимого инквизитора трех провинций:
* Hagen, 1, 423 et cet.
Гуманизм в Германии
5Î
Майнца, Трира и Кёльна. Рейхлин пришел в ужас. У него упал
дух при мысли, что он должен будет отстаивать свое мнение
почти в виду еретического костра, и он спешил довольно
униженным письмом перерасположить в свою пользу Арнольда фон
Тунгерна, которому было поручено (кем?) исследование этого
дела. Скоро, впрочем, он оправился от своего страха; мысль об
общественном мнении, которое гласно держало его сторону,
ободряла его, и Рейхлин решился защищаться прямо перед
публикой. Это был очеиь важный шаг, ибо, сделав его, нельзя уже
было отступать вазад. В своих защитительных сочинениях
(1512—1513)22 он смело и бодро стал против своих противников
и резким тоном, без всякой уклончивости опроверг возводимые
на него клеветы. Таким образом, опираясь на общественное
мнение, Рейхлин явился самым передовым воином гуманизма в
открывшейся борьбе его с схоластицизмом.
С тайной радостью видел схоластицизм это увлечение,
которому отдавался Рейхлин, защищая свое дело. В горячности
человек может сказать много неосторожных слов, от которых бы
он сам отрекся в более спокойном состоянии. Едва только
показались защитительные сочинения Рейхлина, как Гогстратен
цитировал 23 его в Майнц — оправдываться в еретических мнениях,
которые оказались в его книгах (в особенности в Augenspiegel*).
Но дело давно уже перестало быть частным делом одного лица.
Все гуманисты пристали к Рейхлину и наполнили всю Германию
своим негодовааием против этой явной несправедливости. Дело
Рейхлина стало общим делом гуманизма. Общественное мнение,
просвещенное множеством брошюр, более и более оказывалось в
его пользу. Гогстратепу уже пе легко было привести в
исполнение свою угрозу. Рейхлин не явился даже сам в Майнц, а
отправил от себя поверепиого; и когда высокий суд не удовлетворился
его объяснениями, оп подал апелляцию римскому двору. В
ожидании решения этой высшей инстанции архиепископ Майнцский
предписал остановить процесс, начатый инквизиторами. Сверх
чаяния, счастье благоприятствовало на первый раз гуманизму
даже с той стороны, откуда он всего меньше мог ожидать его.
Римская курия поручила исследовать дело епископу Шпеерско-
му, и тот решил его в пользу Рейхлина, осудив вместе с тем
Гогстратена на уплату издержек процесса.
Это была первая победа гуманизма в Германии. Ею одолжен
был он не столько беспристрастию своих судей, сколько силе
общественного мнения, которое уже было на стороне гуманизма и
явно говорило в его пользу. Победа тем более важная, что с
того времени гуманизм, опираясь на общественное мнение, которое,
так сказать, озаконивало его существование, мог действовать еще
смелее и решительнее. В глазах людей образованных, который»
* Глазное зерцало (нем.)*
4*
52
Лекции 1848/49 г.
следили за движением умственной жизни в Германии, очень
ясно обозначались два класса — ученых и литераторов, не
только не сходные, но даже противоположные друг другу, из которых
один хотел свободного движепия в науке, другой — безусловного
подчинения с авторитетом24. Весьма естественно, что общее
сочувствие располагалось в пользу первого.
Но тем ожесточеннее становился схоластицизм, сознавши свое
первое поражение. Он не мог простить ни себе своего срама, ни
гуманизму его победы. Средства поиравить дело не все были
закрыты. Римская курия в своем собственном интересе должпа
была кассировать решение Шпеерского епископа и взять
сторону схоластиков, если бы только дело представлено было ей в
настоящем виде, т. е. показана та опасность, которая могла
угрожать ей от нового направления. Итак, Гогстратен решил с своей
стороны апеллировать к римскому двору. Употреблены были все
средства, чтобы доставить римской [церкви] благоприятный
оборот. Римская курия по своему обыкновению еще медлила, по
дерзость Гогстратепа возросла уже до такой степени, что прежде
чем произнесен был последний приговор в Риме, он осудил с
своей стороны сочинения Рейхлина на сожжение25. Как
гуманисты крепче смыкались друг с другом перед своим общим врагом,
так схоластицизм старался собрать все свои силы, соединить все
свои отрасли, чтобы нанести чувствительный удар гуманизму. По
вызову кёльнских схоластиков университеты Парижский, Лёвен-
ский, Майнцский, даже Эрфуртский со своей стороны такжо
произнесли осуждение на Рейхлина. Пасквили, карикатуры
посыпались на него и его последователей26.
Дело разгорячалось все более и более. Каждый депь
приносил что-нибудь новое в общее раздражение умов. Гуманисты пи-
сколько не наклонны были уступать своим врагам. Они
чувствовали свои свежие силы, они сознавали, что правда была па их
стороне и с лихвою возвращали своим противникам все их
порицания и насмешки. Тогда восстали самые доблестные поборпики
гуманизма, и каждый из них принес свой талант на поборение
общего дела. Я не говорю о других — о Пиркгеймере, Муциане;
я хочу говорить об Ульрихе Гуттене, который как легко свое
личное дело обращал в дело общественное, так и дело общее
гуманистов горячо принял к сердцу как свое собственное, личное.
Он был еще в Италии, когда вспыхнул спор между Рейхлином
и схоластиками; но там уже горячее его сердце не утерпело,
чтобы не писать в ободрение Рейхлину. Он писал к нему:
«Мужайся, бодрый Капнион27, мужайся. Не все на одном тебе —
большая часть твоего подвига лежит на моих плечах. Предоставь
мне всю заботу, если вспыхнет великий пожар. Сам же ты будь
покоен. Я найду тебе достойных соратников, которые принесут
на бой свежие юные силы. Скоро, скоро придет то время — ты
дождешься его, когда враги твои побегут перед тобой. И ты мог
Гуманизм в Германии
53
писать мне, чтобы я не оставил такого дела, которое есть дело
«самой правды? Чтобы я оставил его или тебя, его
представителя? О Капнион, и у тебя так мало веры. Худо же знаешь ты
своего Гуттена. Да, я говорю тебе, что если бы ты и отступил
теперь, то я собрал бы все свои силы, сколько у меня есть, чтобы
«нова начать ту же самую борьбу, и поверь мне, я не остался бы
без союзников. Я окружен такими воителями, что достаточно
было бы и одного из них, чтобы нанести врагам нашим
поражения»28.
Тогда же издал Гуттен своего «Никто»29, в котором прямое
явное нападение на схоластицизм не прикрыто было даже
иронией, как в «Похвале глупости». Это была уже не сатира, но
явная инвектива. Мужи ученые, говорил он о схоластиках, все
основывают на одном титле. «Мы бедные, которые посвящаем
себя гуманистическим занятием, мы, по их мнению, совершенные
невежды... Все, что мы производим, тогда только эначит
что-нибудь, когда они удостаивают это своего одобрения. Прежде всего
они хлопочут о том, нет ли тут какой ереси. Чуть только нашли
они что-пибудь такое, что не по их вкусу, уже они кричат:
пожар, пожар! Никто так йе скор на порицание чужих недостатков,
как эти мудрецы. А если их спросишь об их поведении, то они
покажут тебе на свои внешние украшения (Pallium*, Kutte**),
и как бы сделали самый удовлетворительный ответ. Ты говоришь
ям, что это ровно ничего не значит — они вносят тебя в список
еретиков... Посмотрите на Эразма: что более исполнено
христианского духа, как его сочинения? И однако для томистов30 нет
ничего более ненавистного. О, как они скрипят на него зубами!
Как наморщили себе брови, как надувают губы! У них сердце
разрывается от злости, когда они читают его сочинения. Так
завистливы эти люди к чужой славе, так мучит их сознание
собственного ничтожества... Но как скоро хоть один из тех, которых
они заклеймят названием еретиков, попадется в их руки, тогда
начинается истинный ужас. Они все делают во имя Христа, но
Христу их недостает одного — сострадания, жалости. Смотря на
их бесстыдную наглость, всякий скорее захочет подвергнуться
осуждению, чем получить от них признание. Вот они, эти
лицемеры, которые, потребляя наше наследие, на нас же обращают
свои жестокие преследования»***.
Гуттен сдержал свое слово, данное Рейхлину. Он взялся за
«го дело, как за свое собственное, т. е. со всей страстью, и,
возвратившись в Германию, вместе со своими друзьями составил
план общего нападения на схоластиков. Так как все дело
происходило в пределах литературы, то и это нападение могло быть
* Верхнее платье, плащ (лат.).
** Ряса монашеская («еле.).
*** Hagen, 1, 434-437.
64
Лекции 1848149 г.
только литературное. На этот раз, впрочем, Гуттен отказался ог
прямой инвективы. Как если бы на месте ему виднее стали
смешные стороны схоластицизма, он предпочел инвективе насмешку,
т. е. тот способ, которым так удачно действовал Эразм. Но чтобы
придать своей сатире еще больше интереса в глазах читателей,,
чтобы сделать ее еще чувствительнее для противников, Гуттен:
и его друзья пошли далее Эразма. Не ограничиваясь одшшя
общими нападениями на схоластицизм, они вошли во многие
личные отношения своих противников, они вывели на сцену
самих действователей в Рейхлиновом процессе и заставили их в
искренней дружеской переписке передавать друг другу свои
мысли, желания, самые действия. Словом, плодом соединения
талантливых гуманистов, взявших на себя защиту Рейхлинова
дела, была знаменитая сатира — Epistolae obscurorum virorum *31*
Собственно говоря, мы не имеем прямого окончательного
доказательства, что первая мысль и самое написание этого
сочинения принадлежат Гуттену. Но кроме того, что общее мнение
того времени ему приписывало письма, есть еще весьма сильные
косвенные доказательства в пользу такого мнения. Во-первых,
Гуттен так горячо взялся за это дело; во-вторых, едкое
остроумие, какое находим в письмах, составляло одну из самых
блестящих сторон его таланта. Далее, в письмах встречаются но
только те же самые мысли, но нередко также самые суждения,,
которые находим в других сочинениях Гуттена. Наконец, сюда
же относятся очень ясные признания в письмах его друзей,
Пиркгеймера и других, которые приписывают Гуттену если не
все, то большую часть этих писем. Почти несомненно также, что
друзья его принимали деятельное участие в этом деле, более
других Crotus Rubianus, потом Peter Fberbach, граф von Nuenar,.
Иаков Fuchs, Friedrich Fischer32.
Все письма написаны, как я сказал, от имени известных
схоластиков. Адресованы же они к магистру Ортуину Грацию,
известному тогда преподавателю поэзии и логики в Кёльнском
университете, который был великий мастер в схоластическом
искусстве и который самым именем своим заставлял приятно
осклабляться своих последователей: они производили его то от
gratia**, то от Гракхов и видели в нем высокое значение ***
• Epistolarum obscfurorum] vir forum] ad Doc. M. Ortuinum Gratium.
Volumina omnia. 2 T. Francfurti, 1757.—-Об авторе их см. Hagen, Ι, 447 etc.
** Благодать (лат.).
·** Ер. obsc. vir., Ι, 104. Profecto magister Ortuinus dicitur Gratius a supernali
gratia, que vocatur gratia gratis data, quia alias non poteritis scribere tarn
profunda distamina poeticalia sine illa gratia gratis data vobis per spiritum
sanctum, qui ubi vult spirat; et vos eam impetrastis per humilitatein vest-
ram: deus enim resistit superbis, et humilibus dat. gratiam.— Alia ratie
multo melior, propter quam vocatur Gratius videlicet a Graccis. Romanis,
deposita una litera propter malam sonantiam... (p. 106). «Очевидно, что
магистр Ортуин называется Граций от дара (gratia), данного свыше*
Гуманизм с Германии
55
(очень удачно схваченные автором замашки схоластиков — в
случайном звуке находить великий смысл). Этот Ортуин Грацпус
есть для своих последователей не только авторитет в науке, по
некоторым образом и в семейной жизни, и потому они весьма
доверчиво обращаются к нему со всеми своими вопросами,
сомнениями, возникающими из самой их науки, и откровенно
передают ему то, что случается с ними в жизни замечательного.
Таким образом, деятельность схоластиков обнажена с двух сторон:
со стороны их созерцания и со стороны самой их жизни. Тот же
самый Ортуин Граций был один из самых неутомимых
противников Рейхлина — новое титло на уважение последователей: это
даст автору повод опять возвращаться к знаменитому спору и
заставить схоластиков высказывать их смешную ограниченную
ненависть гуманизму.
Мы возьмем обе эти стороны отношений к Ортуину Грацию
его корреспондентов. Схоластики, как люди науки, постоянно
заняты какими-нибудь важными вопросами. Они почти всегда
отправляются от известного авторитета, Аристотеля или Святого
Писания, и потом уже высказывают свой вопрос (всего
замечательнее, что авторитет приводится там, где он по сущности дела
был бы вовсе не нужен*). Так, уже в первом письме занимает
автора его (бакалавр теологии Форматий) глубокомысленный
вопрос о том, как должно называть того, который готовился в
доктора богословия — magister nostrandus или noster magistran-
dus33, вопрос, подавший повод к очень важным прениям в одном
собрании схоластиков. Вопрос второго письма более
нравственного свойства. Он возник у одного из схоластиков по случаю
встречи с двумя евреями, перед которыми он снял свой барет,
принявши по костюму за магистров. Беда бы еще не велика, но
сграшны последствия: но схоластической логике выходит, что
поклон, сделанный еврею, есть смертный грех, что такое
действие подходит под разряд идолопоклонства, что оно прямо
направлено против первой заповеди. Виновный думал бы
извиниться тем, что сделал он это по ошибке, но его привел в
сомнение товарищ его, также из схоластиков, который по этому случаю
рассказал ему следующее: «Шел я однажды по церкви» и т. д.
(см. па поле)34. С той же точки зреппя представляется одному
схоластику вопрос о том, можно ли изучать грамматику по сочи-
который называется „дар, данный даром14: ведь иначе не могли бы вы
писать столь глубокомысленные поэтические сочинения, не обладая тем
даром, который даром дай вам св. духом, так как он дует всюду, где
только хочет. Вы получила его за вашу скромность, так как бог
отказывает в иросьбах гордым, а смиренным ииспосылает свои дары».—
«...Другое, гораздо лучшее доказательство: доказывают, что имя Граций
производится от римских Гракхов, если мы,—чтобы не было плохого
созвучия,—опустим одну букву» (нер. //. Л. Куна)ч
-* Epist. 1, 6-7.v
56 Лекции 1848/49 е.
нениям языческих (seculares*) поэтов и писателей: Вергилия,
Тулия, Плиния и других**? Потому что, как говорит
Аристотель, поэты выдумывают, следовательно, лгут, следовательно,
грешат, а что основано на грехе, то против Бога — итак, изучать
язык по языческим писателям противно Богу.— Один схоластик
из Майнца — в большом негодовании на своих сограждан, между
которыми заметил он страшное нечестие. «Недавно еще,—
пишет он к Ортуину ***,— один говорил мне, что не верит, чтобы
туника, которая хранится в Трире, была точно Спасителя; что
точно так же не верит он, чтобы волос святой Девы мог
сохраниться до сего времени; а другой даже сказал, что очень
возможно, что три так называемых царя в Кёльне есть просто три
крестьянина из Вестфалии... Когда я воскликнул,— продолжал
схоластик,— в огонь, в огопь такого еретика, так он только
насмеялся надо мной, а когда я указал ему на Гогстратена, так он
назвал его „maledicta bestia"****, начал восхвалять Рейхлина и
сказал, что те поступили несправедливо, которые осудили на
сожжение книгу его „Spéculum oculare" *****».—-На такую дерзость
схоластик должен был привести слова Екклезиаста: не осуждай
судящего, ибо что судит он, то судит по правде, и потом сослался
на приговор Парижского университета, на что противник отвечал»
что Парижский университет есть «mater omnis stultitiae»******.
Можно вообразить себе ужас схоластика! Он просто в отчаянии
и готов при первой возможности бежать в Кёльн, чтобы не жить
только с такими «maledictis hominibus»*******.
А вот образчик знаний и вкуса схоластиков в древней
литературе ********. Один из них, Конрад Долленкопф, пишет к
Ортуину, что он занимается в Гейдельбергском университете
(теологией) и каждый день выслушивает лекцию по пиитике (Poetice);
он прибавляет, что уже сделал в этом предмете значительные
успехи, так что знает наизусть (?) все метаморфозы Овидия я
* Светские, мирские (лат.).
** Epist. I, 17.
*** Epist. Ι, 57.
**** Проклятая скотина (лат.).
***** Глазное зерцало (лат.)
****** Мать всякой глупости (лат.).
******* Проклятыми людьми (лат.).
******** Epist. I, 74. Сюда же относится р. 293, письмо одного схоластика
из Италии, которому Ортуин поручил поискать там новых, т. е.
неизвестных книг. Исполняя поручение Ортуина схоластик
посылает автора, неизвестного между схоластиками, но о котором он
слышал от одного знатока, что он источник поэзии. Автор
называется Гомер. «Тот же знаток,— продолжал схоластик,— сказал мне,
что есть еще Гомер на греческом. Но я отвечал ему: на что мне
греческий? Латинский лучше: я пошлю его магистру Ортуину
Грацию, который не очень жалует греческие бредни. Я спросил только,
что заключается в той книге? И он сказал мне, что он рассказывал
о некоторых мужах, которые называются греки, что они вели
войну с другими мужами по имени троянами — имя, которое мне
случалось слышать и прежде» и т. д.
Гуманизм в Германии
57
умеет объяснить их — naturaliter, litteraliter, historialiter et spiri-
tualiter. Еще недавно поставил он в тупик несколько «поэтов»,
т. е. гуманистов. Одного опросил он: что значит «девять муз»
аллегорически? Тот, разумеется, но знал, и схоластик
принужден был сказать всем: семь чинов ангельских. Другого опросил
он: отчего происходит название Меркурий? Тот опять не знал,
и схоластик должен был сказать ему, что это — mercatorum
curius*. Схоластик сам не нарадуется своими успехами. Но
откуда же столько знаний? Из уважения к Ортуину схоластик но
хочет скрывать перед ним, что достал одну удивительную книгу,
написанную магистром Thomas de Walleys, в которой
необыкновенно удачно сводится Святое Писание с поэтическими
вымыслами (concordantias inter sacram scripturam et fabulas poetales).
Например, о Пифоне змее говорит Псалтырь: наступишь на
аспида и василиска; Диана означает деву Марию, и об ней
писано: приведутся девы вслед ея и т. п. Все эти сближения
доставляют схоластику верх удовольствия. Другой схоластик
рассказывает **, как победил Эразма в одном диспуте. Дело происходило
в доме Эразма. Хозяин вздумал хвалить Цезаря, особенно за его
сочинения. Схоластик смело отвечал, что он не признает Цезаря
автором комментариев. Он подтвердил свое мнение следующим
силлогизмом: всякий, проводящий время в войнах и
беспрестанных трудах, лишен возможности изучать латинский язык. Но
известно, что Цезарь вечно воевал или готовился к войне, итак,
не мог быть ученым или уметь по-латыни. В заключение
схоластик сказал, что считает автором комментариев Светония,
потому, что не знает никого, чей бы стиль так подходил к Цезаре-
ву, как Светониев. На такой аргумент Эразм засмеялся только,
но не нашелся ничего ответить. И вот вам человек, которого
выдают за всезнающего!
Так узка, так тесна та сфера, в которую заключил сам себя
схоластицизм. Нельзя было более заморить науки, как она была
заморена в схоластицизме, нельзя было сделать ее более тупою,
более лишенною здравого смысла. Правда, что в письмах все
вещи представлены в преувеличении, в карикатуре: но под
карикатурою скрывается верное основапие, но верны все основные
тоны. Говорят же***, что некоторые поклонники схоластицизма,
нисколько не предупрежденные насчет настоящего характера
сочинения, приняли его за серьезное и наслаждались им, как
верным воспроизведением образа мысли, чувств и нравов
схоластиков35. Неудивительно. Схоластицизм последнего времени уже
сам в себе был карикатурою науки, и это ее искажение в нем не
видно было разве тому, кто не иначе смотрел на вещи, как его
* Попечитель. Покровитель купцов, торговцев (лат.),
** Epist., I, 114.
*** Где-то у Гагена.
58
Лекции 7848/49 г.
глазами. Явлеиие не совсем редкое в жизни, что явление
переходит в карикатуру самого себя, и, однако, пока не освободится
от него сознание, носит вид прежнего достоинства. Как в
комическом и здесь надобно стать со стороны, надобно сделаться
посторонним зрителем, чтобы понять комизм явления. Тем более
заслуга литературного произведения, которое то дает настоящую
верную точку зрения на предмет, или, увеличив его недостатки
до карикатурного вида, откроет глаза тем, которые без того их
бы вовсе не заметили. Такова, между прочим, и заслуга писем
по отношению к схоласгицизму.
Всего более, кажется, этого преувеличения в тех письмах,
которых содержание составляют не столько умственные вопросы,
сколько действия схоластиков, их правы, их образ жизни,
сколько все это могло здесь отразиться. Но это преувеличение здесь
может быть еще более достигает своей цели, чем в первом
случае. В основе всех рассказов схоластиков об их поступках лежат,
кажется, многие действительные случаи, которые как анекдоты
ходили между учеными. Другие, вероятно, составлены уже
авторами писем но образцу подлинпых. Такое предположение
становится довольпо вероятпым, когда подумаешь о том, что поступки
и действия схоласгиков, рассказываемые в письмах,
приписываются часто действительным лицам, каковы, например, были сам
Ортуин Граций, Арнольд фоп Туигерп и др. А поступки эти
такого рода, что они не изобличают большой нравственный
скрупулезности в людях, которым приписываются они в сатире, что,,
впрочем, весьма естественно предполагается в тех, которые
погрузились всей своей мыслью в один внешний формализм.
Авторы писем, кажется, с особенным тщанием собирали самые
скандалезные анекдоты, бывшие в ходу о схоластиках, вообще об их
противниках, которые до такой степени были погружены в свой
формализм, что яйцо, съеденное в постный день, беспокоит их
гораздо больше, чем поступок в собственном смысле
безнравственный. Нет ничего чаще, как рассказы схоластиков об их
домашних попойках, в которых они проводят время и которые
обыкновенно оканчивались ссорами: это у них в обыкновенном
порядке вещей. Но это еще самое малое. С той же паивпостыо
рассказывают схоластики о своих галантных похождопиях — все,
от самого последнего из них до самых знаменитых*36. Ортуин
Граций, Арнольд фоп Тупгерп, Пфефферкорн играют здесь
первые роли, их похождепия гласно рассказываются между всеми
схоластиками, опи в этом отношении пример для других.
Некоторые из схоластиков прямо поздравляют Ортуина о новых успехах
его в этом роде, сколько опи знают об них по слухам. Как много
цинизма в этих отношениях, могут дать понятие разве самые
* В этом отношении особеппо отличаются письма Конрада de Zviccaviar
pp. 34, 54 - p. 241.
Гуманизм в Германии
59
письма. Для примера возьмем одно из самых скромных мест.
Один очень преданный Ортуину схоластик (Конрад de Zviccavia.
магистр) пишет * к нему: Quando scribitis mihi quid facit vestra
amasia? Nuper dixit mihi unus quod, quando ipse fuit Coloniae,
tunc fuistis in rixa cum ipsa, et percussistis eam, quia fortassis non
fecit secundum opinionem vestram: et ego miror quare potestis ita
pulchram mulierem percutere, ego flerem si viderem: potius debetia
dicere quod non faciat amplius, tunc ipsa emendaret se, et de nocte
esset vobis amicabilior. Tarnen quando legistis nobis Ovidium dixis-
tis nobis quod nullo modo debemus percutere mulieres, et allegas-
tis ad hoc etiam sacram scripturam: ego sum contentus, quod amica
mea est hilaris et non irascitur mecum, quando venio ad eam, tunc
etiam facio talia, et sumus in letitify et bibimus cerevisiam et
vinum, quia vinum letificat cor hominis, sed tristitia exiccat
ossa **.
Поведение мона [ше] ствующих братии схоластиков предстать
ляется не в лучшем виде. Сами отказываясь верить, схоластики,
впрочем, не забывали передавать друг другу слухи, сколько их
доходит до них, и случаи, которые они рассказывают или о
которых упоминают, тем замечательнее, что о некоторых из них мы
знаем также и из положительных исторических известий. Так,
один схоластик из Страсбурга*** спешит предупредить Ортулна,
что там готовится против известного ордена проповедников
(praedicatorum) сочинение, в котором будут рассказаны все их
проделки, например то, что случилось в Берне: как приор и
другие власти ввели всех женщин за ограду (introduxerunt meretri-
ces ad claustrum), как они поставили одну из них на св.
Франциска (fecerunt novum s. Fr[ancisc]um), как все это потом
открыто было некоторым Нолардом (Nolhardus) и как, наконец, монахи
[хотели] отравить его ядом в причастии; или как в Майнце один
монах — supposuit in ecclesia ante altare unam meretricem ****,
или как, наконец, в Страсбурге монахи того же ордена — duxis-
sent mulieres ad cellas eorum per ripam que fluit apud claustrum
* Epist. I, p. 22.
** «Когда же вы мне напишите, что поделывает ваша возлюбленная? Не·
давно рассказывал мне один человек, что вы, когда он был в Кёльне,
поссорились с ней и били ее за то, что она не сделала чего-то по ваше«
му желанию. Я очень удивляюсь, как это вы бьете такую красивую
женщину; я бы заплакал, если бы увидел это! Вы должны были лучше
сказать ей, чтобы она этого больше не делала, и она тогда бы
исправилась и была бы к вам благосклоннее ночью. А ведь вы, когда читали
нам Овидия, сами говорили нам, что пи в коем случае не должны бить
жепщин и привели в доказательство этого даже слова из Священного
Писания. Я очень доволен, что моя возлюбленная весела и не ссорится
со мной, когда я прихожу к ней. Поэтому, когда я бываю у нее, я тоже
весел; и вот мы оба веселимся, пьем пиво и вино, „которое веселит
сердце человека...", „а унылый дух сушит кости..."» (пер. Я. Куна).
*** Epist. I, 131.
**** «..имел дело с блудницей в церкви пред алтарем» (пер. Н. Куна)щ
60
Лекции 1848140 г.
eorum, et raserunt eis crines abinde, et ille mulieres iverunt longfr
pro monachis, et iveruat ad forum et emebant pisces a viris sui&
qui erant piscatores *, et cetera. Схоластик, передающий это
известие, не столько не верит подобным делам, сколько боится их
публичности. Вообще самое действие, какого бы рода оно ни
было, не скандализует человека с средневековым сознанием; он
считает всякое дело для себя позволительным, лишь бы только
его никто не видел, что же* касается до высшей нравственной
ответственности, то он утешает следующим схоластическим
софизмом**: postea tarnen facimus [confessionem], et Deus est miseri-
cors, et debemus sperare veniam***.
Это нравственная сторона схоластиков, как она представляется
в сатире. Отделив необходимое нреувеличение, опять нельзя не
сознаться, что и это представление основано было на
действительном фоне, тем более что, как сказано, некоторые случаи
подтверждаются историческими известиями. Можно теперь судить,.
какое впечатление должны были произвести они, когда были
преданы публичности в сатирической форме, с прибавлением тонкой
ирония. Нет спора, что сатира в своем преследовании
предрассудка зашла слишком далеко, так далеко, что дальше нельзя
было идти: у Эразма она еще довольствовалась общим паиадением\
теперь она перешла прямо в личность. Но это доказывает лишь,
что письма обскурантов родились в минуту самого сильного
ожесточения партий, когда полной справедливости, может быть, нет
ни на одной стороне и когда обоюдная ненависть ищет только,
где удар может быть больнее, чувствительнее. Схоластицизм
вооружил против гуманизма ипквизицию, т. е. грозил ему костром,,
гуманизм рассказывал тайную историю своих противников.
Нам остается взглянуть на последнюю сторону — на
отношение схоластиков к гуманистам, как оно представляется в письмах.
Само собою разумеется, что схоластики или магистры делают вид,
будто презирают гуманистов или поэтов, и что они совершенно
убеждены в том, что вся истина сполна на их стороне. Отчасти
таково было и их действительное убеждение: иначе ови не могли
бы быть врагами гуманизма. Но дьявол силен: он хотел
возмутить их спокойствие и воздвигнул им Рейхлина. С того времени
Рейхлин у них как бельмо на глазу: об чем бы они ни говорили,
без Рейхлина дело не обойдется. Он говорит ложь, он еретик, оп
должен быть побежден и осужден за свое нечестие. Но сквозь
* «...по реке, протекающей мимо их монастыря, они привозили к себе в
кельи женщин и остригали им волосы. Долго эти женщины сходили за
монахов; они даже ходили на рынок и покупали рыбу у своих мужей,,
которые были рыбаками» (пер. Н. Куна).
** Epist., I, 23.
*** «...засим, конечное дело, потребно покаяться: господь Бог есть
Бог милосердный, и должно нам уповать на прощение» (пер. В. Xu/t-
киса).
Гуманизм в Германии
6Î
эту мнимую уверенность беспрестанно проглядывает опасение*
что Рейхлин может одержать верх, что римский двор, римские
кардиналы могут расположиться в его пользу, что сочинения
его противников не достигают своей цели, что усилия
схоластиков недостаточны. Так или иначе, но везде Рейхлин. Дело,
наделавшее так много шума во всем образованном свете, не могла
иначе отразиться и в сатире.
Но сатира показала еще свою ловкость в том, что под видом
наивных признаний схоластиков показала напраслину,
фальшивость их действий. Так, один из схоластиков, рассказывая
Ортуину довольно нескромные похождения одного монаха из
ордена проповедников, с которым он был в ссоре, прибавляет*:
«Но вы не пересказывайте этого никому, потому что братья
проповедники держат теперь вашу сторону против доктора Рейхлина
и защищают церковь и веру католическую против тех поэтов;
как жаль, что этот монах не из другого ордена! Потому что тот
орден есть удивительнейший из всех». Другой схоластик** иа
Тюбингена спешит сообщить своему магистру печальную весть*
только что привезенную из Рима, что будто папа хочет утвердить
приговор, сделанный Шпеерским епископом в деле Рейхлина. Он
признает, что эта новость две ночи кряду не давала ему спать,,
и не скрывает даже своей досады на папу. В самом деде, к одной
обиде присоединилась другая: Гогстратен, находящийся в Риме,
хотел было оставить курию, ссылаясь на свою бедность, но суд.
удержал его под тем предлогом, что он приехал в Рим на трех
лошадях, что потом давал здесь обеды членам курии, угощал
кардиналов и епископов и раздавал подарки заседателям
консистории, что, стало быть, на бедность ссылаться ему нечего.
«Матерь божья,— взывает схоластик— что остается нам де*
лать? Неужели один юрист победит всех теологов? Я готов по«
думать, что папа вовсе не добрый христианин: если бы он был
добрым христианином, оставил ли бы он дело теологов? Впрочем,,
если уж подает свое мнение против них, то кажется мне, мы
должны будем сделать апелляцию к собору: потому что ведь
собор выше папы, а на соборе теологи перевешивают все другие
факультеты». Еще один схоластик прямо заклинает Ортуина
стараться всеми силами, как бы только заставить Рейхлина
замолчать ***. «Потому что,— говорит он,— если не заставить этого
юриста отречься от своего мнения, тогда всякий невежда
возьмется рассуждать и писать об теологии, не изучавши никогда ни
Фомы, ни Альберта, ни Скота. Этого не должно быть; всякий
должен знать свое дело: пусть сапожник остается сапожником,,
кузнец кузнецом. Итак, смело защищайте ваше дело, а я буду
молить Бога, чтобы он просветил ваш ум, да не посмеется дьявол
со своим служителем над правдой».
* Epist. I, 12. ** Ibid., p. 31. *** Epist Ι, 40.
€2
Лекции 1848/49 а.
Другой, еще более усердный схоластик * даже читал особую
мессу в монастыре проповедников, чтобы Бог послал ему свою
благодать или — как он выражался — послал ему добрую память
на силлогизмы в диспуте с поэтами-рейхлинистами. Иной
занимается дистинкциями Скота **, «щитом» Фомы, сочинениями
Боэция — все на ту же борьбу. Конрад Долленкопф*** говорит
наотрез, что Рейхлин не может написать ничего истинного, ибо
он не соблюл веры, потому что стал защищать иудеев, т. е.
врагов веры, и говорил против учения магистрова, одним словом,
потому что он грешник, как называет его Пфефферкорн в своей
книге под названием «Набатный колокол» (Sturmglock)37,
а грешнику какая честь в Св. Писании? **** Некто из ордена
проповедников в Италии извещает своего собрата в Кёльне, что
в Риме по приказанию папы сделан новый перевод Рейхлинова
Augenspiegel, что он всеми читается и что в Риме говорят о
прежнем кёльнском переводе, что магистры наши исказили
подлинник или что они не знают ни латинского, ни немецкого.
«Кто же после того,— прибавляет он с душевным огорчением,—
будет заниматься нашей наукой (теологией) и воздавать пашим
магистрам должное почтение? Если уж так говорить, то
надобно допустить, что доктор Рейхлин глубокомысленнее всех
магистров, что невозможно».
Вообще все они в большом беспокойстве насчет исхода дела
Рейхлинова и готовы па все, чтобы только, если можно,
остановить успехи его. Некоторые самые решительные советуют: тот —
прогнать всех поэтов и юристов, тот — сжечь все их книги, тот —
запретить им писать вновь. Один желал бы даже, чтобы
запрещено было вводить в теологические сочинения изобретенное
Рейхлином и Эразмом*****. Против этих двух novos latinisato-
res ****** особенно советует он принять решительные меры. «И
если они скажут, что знают греческий и еврейский языки, то вы-
можете сказать им, что теолог не нуждается в этих языках. У нас
есть перевод Писания, а другого нам не нужно. Мы даже не
должны изучать эти языки, потому что если иудеи узнают, что
занимаемся их языком, они скажут, вот уж христиане без нашего языка
не могут защищать своей веры, и это утвердит их в их суеверии.
Что же касается до греков, то они отделились от церкви, и мы
должны считать их за своих противников и не изучать их науки».
Кстати, об языках. Схоластики вооружались против так
называемой новой латыни, введенной гуманистами. Каким же языком
* Ibid., р. 27.
** Ibid., р. 65.
*** Ibid., р. 78.
**** Epist. I, 96.
***** Ibid., p. 267.
с***** Новые латиндзаторы (испорч. лат.)4
Гуманизм в Германии
6?
писали они сами? Мы это сейчас увидим, потому что язык писем
подделан под язык схоластиков. Одно письмо начинается так*.
Valde miror, venerabilis vir, quare mihi non scribitis et tarnen
scribitis aliis, qui non scribunt vobis ita saepe sicut ego scribo
vobis mihi...A
Таким представлялся схоластицизм в этой сатире, т. е. он
представлялся в ней в своих собственных чертах, но в
преувеличенном виде. Те, которые знали его прежде, не могли не узнать
его и в этом изображении. Он все еще считал себя наукою, он
думал, что владеет всей истиной, он даже никому не давал
права искать истины мимо себя, думал, что он непогрешим, с
педантической важностью брался за все вопросы, а между тем
занимался только мелочами, играл словами, в звуках видел высокую
мысль и не видел, не признавал ее в явлении, везде боялся
смертного греха и сам лицеприятствовал, презирал своих врагов
на словах и внутренне дрожал перед ними, отрицал у них
всякое знание, а между тем сам весь был погружен в невежество.
Сатира не прибавила ему ни одной лишней стороны, но она
взяла его со всех сторон и всего подвергла посмеянию. Она была
так умна, что вывела его самого на сцену, умела его сделать
искренним перед публикой, как мог быть он искренен только
перед своими друзьями; словом, она умела сделать из пего почти
комическое представление, и все это не выходя из настоящей
своей сферы. Какими глазами должна была смотреть после того
публика на явление, над которым она так много смеялась в
своем кабинете? Письма выходили частями38, талант был
неистощим, впечатление поддерживалось: схоластицизм мог еще,
пожалуй, грозить кострами, но не мог уже ни в ком поселить
убеждение, что своими инквизиционными средствами делает
святое и великое дело.
Вместе с тем, с другой стороны, выходил на сцену гуманизм
и более и более становился доступным публике своими челове-
чественными понятиями. Вместе с гуманизмом росло новое
сознание, бросая свет своих идей на все стороны жизни. Хотеть
* Epist. I, 39.
д Далее латипская цитата опускается; см. ее рус. пер.: «Я очень
удивляюсь, достопочтеппсйший муж, что вы мне пе пишете, однако вот
другим вы пишете, хотя они пишут не так часто, как я вам пишу. Если
вы враг мой и поэтому не хотите мне больше писать, то напишите мне,
почему вы пе хотите мпе больше писать, чтобы я зпал, почему вы не
пишете мне, хотя я всегда пишу вам, подобно тому, как я и теперь вам
пишу, хотя я знаю, что вы не напишете мпе ответа на мое писание.
Но я все-таки умоляю вас от всего сердца: все-таки напишите мне,
и если вы один раз напишете мне, тогда я напишу вам десять раз, так
как я охотно пишу моим друзьям и хочу, кроме того, поупражняться
в искусстве писать, для того, чтобы уметь писать изящные сочинения
и письма» {пер. Н. А. Куна).
64
Лекции 1848/49 г.
следить за последующим развитием гуманистических идей —
значит хотеть пройти с этой точки зрения историю всех трех
последних столетий. Мы ограничимся только его победой над схоласти-
дизмом. Здесь перестает он быть исключительным фактом нового
сознания. Другие элементы выходят на сцену, другие деятели
воспринимают его действия: так в особенности элемент
религиозный, к которому впоследствии присоединяется политический.
Но разве не довольно было одного гуманизма, чтобы
совершить весь переворот в сознании? Я думаю, что не довольно: не
по недостаточности его содержания, которое, наоборот, было
очень полно, а по его вначале также несколько исключительной
односторонности, по его враждебности к христианству (которое,
к сожалению, он не мог признать вполне, ибо узнал его прежде
всего из тех форм, в которых оно было заключено схоластициз-
мом)39 и, наконец, по внешней своей постановке. Это
последнее обстоятельство вовсе не так маловажно, как могло бы
казаться 40.
Гуманизм легко принялся на германской почве, скоро
распространился по ней и пустил в оборот множество идей. Но где,
собственно, в какой сфере происходило его движение? Сказать
ли — в целом германском народе? Но стоит вспомнить, что везде
орудием распространения гуманизма был лат[инский] язык, что,
нападая на схоластицизм, сам он, однако, не переставал
держаться научной формы; и даже когда переходил в сатиру, и
тогда не переставал выражаться латинским языком. Самое
остроумие гуманизма могло расходиться только в тех классах, которым
было доступно образование (за исключением той части, которой
еще владел схоластицизм); оно могло расходиться, как и все
новое направление, между аристократией, какого бы рода она пи
была, и ученым сословием. До массы народа могли достигать
лишь слабые его отголоски. Просвещая одни классы, гуманизм
должен был оставить совершенпо в тени другие и тем резче
проводить между ними разделение. Когда говорим о потребности
переворота в сознании, не разумеем, конечно, лишь
привилегированные классы; надобно, чтобы этот коренной переворот
коснулся и массы. Надобно было, следовательно, чтобы для него
употреблено и средство более общее, нужен был такой элемент,
которого действительная сила не заключалась бы в известном
кругу, но простиралась бы на все человечество, по крайней мере
в пределах известного пространства, не на отдельные только его
классы. Что же может быть общедоступнее, что может быть
ближе ко всем, как не элемент религиозный? И мы находим его в
полном действии тотчас после победы гуманистов над
схоластиками.
NB. О влиянии религиозного убеждения па силу характера.
Этого недоставало Пиркгеймеру. См. о действии на него папской
буллы у Гагена41.
Элемент религиозный
65
ЭЛЕМЕНТ РЕЛИГИОЗНЫЙ
Источниких. Необходимость религиозного элемента, чтобы
переворот в сознании был полный и всеобщий. Гуманизм метил
в подробности, не всегда попадая в цель. Лишь немногие из
гуманистов замечали за схоластицизмом римскую иерархию. Она
вязала сознание, мешала его свободному движению, тяжесть ее
падала на все и везде. Прежде всего в Италии. Впрочем, и в
других местах самая государственная власть еще не довольно
решительно освобождалась от римской иерархии. Карл VII в
1438 г. издал прагматическую санкцию, которою признано
решение Констанцского собора2. Капитулу предоставлена свобода
выбора, уничтожены папские резервации3, экспектативы4 и пр.
Но Людовик XI в 1461 обещал отменение санкции, что и
исполнено в 1462 г. Парламент протестовал, дело осталось
нерешенным. В 1515 Франциск I заключил новый конкордат5 с папой
Львом X, которым упичтожены важнейшие привилегии
галликанской церкви (свободное избрание епископов, аббатов и пр.);
отказываясь от резерваций и экспектатив, папа удерживал
аннаты.
В Германии еще менее6. Папство и империя связаны были
более тесными узами *7, никогда не чувствовали они нужды
делать конкордат после Вормсского8. Резервация была здесь в
полной силе, аннаты (род налога на всех епископов и всех
прелатов, которые утверждались в Риме; налог равнялся годовому
доходу). Со времени Иоанна XXII все бенефиции подвергнуты
Пыли особым налогам. Коменды. Наконец чрезвычайные поборы,
каковы были индульгенции. Vollkommene Absolution **,
введенное Бонифацием VIII. Церковный суд, апелляции к папскому
двору.
Собор Коистанцский начал дело реформы (состоявшей в
отмене папских злоупотреблений), и оно с успехом было
продолжено собором Базельским. Дело предоставлено было на
решение курфирсгов, и они благодаря усилиям Фридриха III и Энея
Сильвия удовольствовались тем, что папа Евгений IV
предложенные ему пункты собора утвердил па условиях. Это так
называемый Княжеский конкордат, подтвержденный после также
и 1446 году. Евгений хотел выиграть время. Требуя себе
вознаграждения, он обещал послать в Германию легата для
заключения окончательного конкордата, и до того времени всякий
должен считать себя свободным. Наконец, при посредстве Энея
Сильвия в 1448 действительно был заключен конкордат в Вене
между папой9 и Фридрихом, по которому папа в
вознаграждение получил резерваты 1418 года (Констанцские) и удерживал
* Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, 1808—1818.
** Полное отпущение (нем.).
5 Π. II, Кудрявцев
66
Лекции 1848/49 г.
аннаты по тому же договору. Затем Фридрих воспретил городу
Базелю (впрочем, еще в 1448 году) допускать в своих стенах
дальнейшее местопребывание собора. Папа не думал созывать
нового собора, и к концу периода почти все права папские
были восстановлены в прежнем объеме.
В Англии также резерваты и т. п. В Генрихе VIII римская
иерархия имела себе очень усердного защитника *10. Ему
обещано было даже название христианнейшего. Никто не
подозревал тогда, что тот же самый Генрих по одному личному делу u
будет врагом папы.
Но публичная власть, король или императоры имели еще
средства защиты: что же сказать о частном человеке? Он был
покоен, пока Рим не знал и не имел нужды знать его имени.
Но он уже не мог ручаться ни за себя, ни за свою жизнь, как
скоро имел он несчастье навлечь на себя внимание римской
курии. Его умственная жизнь была под постоянной опекой. О нем
заботились прежде, нежели он сам о себе заботился.
Предупредительное попечительство о спасении души. Индульгенции.
Все это делалось именем самого святого, именем религии**12;
но религиозное совершенно перешло в понятие о существующей
римской церкви, и понятие о церкви совершенно слилось с
понятием о папе. Это было истинное «вавилонское пленение».
Кроме понятия святости, заблуждение поддерживалось еще целой
системой (канонического) права, которое в XIII ст. достигло
своего полного развития и которое все опиралось на
декреталиях 13. Не столько то важно, что папство опиралось на таком
фальшивом источнике, сколько то, что за ним оно совершенио
оставляло в тени то, на чем бы только должно было опираться,
что должно бы стать первым источником всего христианского
права, с Евангелия. Слово папское шло впереди слова
евангельского. От папского произволения зависело дать тот или другой
смысл евангельскому слову. Те, которые хотели быть
последовательны в этом систематизме, особенно доминиканцы, доходила
до невероятных нелепостейА.
Но, как сказано, все прикрывалось именем церкви, и первое
сомнение о непогрешительности такого состояния было уже шаг
«в грех смертный». Совесть была связана, и если бы еще не
достаточны были догмы о непогрешительности, то были
постоянные наблюдатели за тем, чтобы человек оставался в таком
состоянии,— скитающиеся монашеские ордена, которые
рассыпались по всему западноевропейскому миру. Под этой эгидой, под
эгидой совести запуганной и связанной со всех сторон, чего
* Mackintosh, Geschichte ν [on] Engfland], Heinr[ich] VIII.
·· Cm. Plank, Geschieh [te] der Ent[stehung]... T. V.
* Здесь опущена обширная цитата на нолях из «Писем темных людей»,
которая повторяет сюжеты, рассматриваемые в разделе о гуманизме (л. 39),
Элемент религиозный
67
только не народилось в теории и практике католической церкви!
Суеверию в самых грубых его формах был полный простор.
Учение об индульгенциях. Первый изобрел его doctor irrefraga-
bilis Alexander von Haies в XIII в.*14, и Климент VI не
замедлил обратить это учение в догмат веры. Излишек благодати как
основание учения — Христа и святых,s. Всем этим излишком
кому же распоряжаться, как не наместнику Христа? Итак, на
пользу человечества он употребляет его на покрытие
человеческих] грехов. Каждый грех был оценен, при Иоанне XXII
составлена такса грехов. Бонифаций VIII изобрел vollkommener
Ablas ** для тех, которые личным присутствием или даром
хотели участвовать в юбилее,— и до 200 000 пилигримов
собиралось в Риме в один месяц. Из столетнего юбилей превратился
потом в 25-летний. Для большего удобства грешников дозволено
было благодать, соединенную с римским юбилеем, продавать на
всех местах. В Рим не нужно было больше ездить: то же самое
можно было получить за деньги всюду.
Что же находим в практике? Кроме того, что все с
жадностью бросаются на индульгенции, есть множество других
вещей, оскорбительных для истинно христианского чувства. Так в
Виттенберге, в церкви всех святых, показывали отломок от Ное-
ва ковчега, часть6... трех отроков, кусок дерева от яслей Христа,
волосы из бороды святого Христофора и 12 000 других подобных
редкостей ***. В Шафгаузене показывали дыхание св. Иосифа,
которое святой Никодим успел захватить в свою перчатку.
В Виттенберге однажды явился продавец индульгенций с пером
из крыла архангела Михаила на голове. Вообще христианская
любовь заменилась так называемыми добрыми делами.
Обрядовая внешность, пилигримство всякого рода, принижение церкви
св. Петра и т. п. заступили место христианских обязанностей.
«Епископы,— говорит Миконий,— более не проповедовали,
только и знали, что посвящали священника или освящали колокола,
церкви, капеллы, образа, книги». Масса народа погружена была
но тьме суеверия, и папы не заботились просвещать его. Куда
пришло бы человечество, если бы оно продолжало идти этой
дорогой?
Но старая Европа вечно обновлялась, она обновляется
народами, обновляется учреждениями. Это ее обыкновенная история,
что она дает идее, лежащей в основании учреждения,
развиваться до крайних ее результатов, чтобы потом тем больше
почувствовалась ее несообразность, ее несоответствие требованиям
времени и чтобы тем с большей энергией мог восстать против нее
* Geschichte der Reform [ation], von Merle cPAubigné, T. I, p. 21.
** Полное отпущение (нем.).
6 Далее слово не разобрано.
*** Merle d'Aubigné, Ι, 30.
5*
68
Лекции 1848149 г.
дух человеческий. Своими крайностями иерархия возбудила
очень рано неудовольствие (имепно в то время, когда, по
крайней мере в теории, идея раскрыла все свое содержание); но то
были попытки неудачные, преждевременные, которые скоро
пали пред превозмогающей силой. Виклефет 16, альбигойцы,
гуситы. Но есть вечные идеи, которые не умирают от поражений.
Чем больше злоупотреблений в папстве, чем больше в нем
самозабвения, тем сильнее потребность преобразования. Смерть
Гуса,7 не запугала всех его современников, тем менее
следующее поколение. В том же полустолетии восстал во Фландрии
кармелит Томас Conecie *18, проповедуя необходимость
всеобщего исправления нравов: он сожжен в Риме в 1432 году. Дело
обошлось в этот раз без особенного шума.
Но потребность становилась ощутительнее с каждым днем.
В самой Италии, поблизости от папского престола, она сказалась
раз сильнее, чем где-нибудь. Доминиканец Иеропим
Савонарола**19. Он никогда не формулировал своих идей о необходимости
реформы, не излагал их в определенных пунктах. Это скорее
было предчувствие реформы, горячее непосредственное чувство
ее потребности, как оно могло родиться в Италии, как оно
могло воспламениться в итальянской натуре. Это был
олицетворенный укор тогдашнему нравственному состоянию общества, с
которым ясно соединены были лишь та мысль, что тяжкая вина в
таком состоянии лежит на римской курии, и пророчество,
предсказание будущего близкого переворота. Три пункта особенно
ясно выходили из его учения: что церковь должна обновиться,
что перед тем Бог пошлет для очищения Италии страшную
кару, что и то и другое должно случиться скоро. (Он довольно
ясно предсказал поход французов на Италию20.) Были и еще
m которые пункты, которые с некоторою очевидностью выходили
иа его учения. Так, проповедовал он, что «церковь Христа
возвратилась к Ветхому Завету, который преисполнен был обрядов,
церемопип. Но Христос за тем и пришел, чтобы снять с нас эго
бремя, для того и соединил он все предания закона в одпу
заповедь любой и, не делая земных обещании, указал нам лишь на
небесные блага. Но с того времени придали Евангелию так
много чужого, что оно было хуже, чем еврейские законы»***.
Не раскрывая своего учения последовательно,
систематически, не заключая его в определенные постулаты, он сначала не
обращал на себя большого внимания, но скоро огонь его
одушевления сообщился слушателям, передался почти всем
жителям Флоренции. Человек показался опасным. Паиа
Александр VI приказал одному епископу опровергнуть Савонаролу,
* Gieseler, Т. II, Ausg. 4, р. 465.
** Gieseler, Π, 4, 467; Carrière, 318 etc.
**· Carrière, 320.
Элемент религиозный
6!>
чтобы таким образом заставить его молчать. Епископ нашел, что
у вето пет достаточно материала, чтобы опровергнуть
проповедника; по римскому обычаю он советовал лучше купить его
молчание кардинальской шапкой. Получив это предложение,
Савонарола сказал, что будет отвечать па другой день в проповеди,
и заключил эту проповедь словами: «Я не хочу другой красной
шапки, кроме мученической, но она будет обагрена моей
собственной кровью», а иапу сравнил в то же время с вепрем,
который опустошает Христов вертоград. Тогда Рим запретил ему
проповедь, правительство флорентийское также обратилось
против него; по он продолжал проповедовать, говоря, что
повинуется одному закону, закону любви. Его приверженцы взялись
выдержать за него огненный суд божий, но враги его умели
сделать так, что толпа, ожидавшая зрелище перед костром,
обманулась в своих ожиданиях. Он был сЯвачен, и когда не согласился
признать себя за лжепророка, его поставили на горящие уголья,
ему связали руки на спине, его поднимали на веревке вверх а
потом быстро опускали вниз, впрочем не давая стать на ноги.
Невыносимое физически иобедило на минуту человека: темпьте
полупризнания в смысле следователей как будто вырывались
у него во время страдапий; но едва только прекращали пытку,
Савонарола был так же неумолим к своим судьям-мучителям,
как прежде на кафедре. Папа Александр сказал, что такой
человек должен умереть, хотя бы то был сам Иоанн Креститель.
Он был8 сначала посажен на костре, потом труп его сожжен,
и пепел брошен в Арно.
Во Франции попытки слабее. Там кроме высшей иерархии
держала еще в своих руках совесть народа Сорбонна. Но
потребность наконец сказалась. Еще в Германии не раздавался голоо
Лютера, в Париже около одного учителя, Jacques Lefèvre d'Etap-
les *, собралась группа теологов и других ученых, молодых
людей, исполненных жаром к науке. То, что их соединило, были,
без сомнения, идеи учителя, его воззрения. Мало знаем мы об
учении Лефевра. Но известно то, что он во многом сходился с
учением Савонаролы, что он также был поражен упадком
нравов, успехами схоластицизма и высказывал своим ученикам свое
твердое убеждение, что Бог в скором времени не оставит,
обновит мир, что в установлениях предстоит важное изменение.
Общество не состояло — сколько мы знаем — в связях с
гуманистами. Но когда дело Рейхлина стало гласно, один из учеников
Лефевра не усомнился защищать Рейхлина перед Сорбонною.
Другой, Guillaume Farel, впоследствии прямо пристал к учению
Лютера. Общество действовало скромно, и потому его оставили
некоторое время в покое. Но когда идеи реформ, провозглашен-
в Далее зачеркнуто: возведен.
* Revue de deux mondes, 1848, Février.
70
Лекции 1848/49 г.
пые Лютером, проникли и во Францию, когда поняли связь,
катая была между лютеранами и учениками Лефевра, тогда
Сорбонна приняла свои меры. В 1521 она предала осуждению
учение Лютера. Вслед за тем явилось запрещение печатать что-либо
о религии без позволения иерархии. Наконец, один
фанатический монах прямо обнес Лефевра, назвавши его
предшественником антихриста. Лефевр, предупреждая казнь, должен был
скрыться из Парижа.
Но Германии предоставлена была особенная участь в этом
деле. Первый ее просветитель Бонифаций21 был вместе первый
ее устроитель. Учреждения церковные предшествовали здесь
гражданским. Империя боролась с папством, учреждения
церковные продолжали развиваться наравне с гражданскими — не
внутри их, но самостоятельно, независимо. Они наконец успела
постановить себя в особые духовные государства. Курфирсты
духовные наравне с светскими участвовали в избрании
императора; с Золотой буллы22 это обыкновение сделалось законом
империи. Находясь под высшей ленной властью императора, как
его вассалы, три архиепископам были внутри своих владений
почти самостоятельными государями. Не одни только они: и
многие другие епископы стояли в этом отношении почти
наравне с ними, кроме права избрания императора. Это были
некоторым образом тоже папские престолы, с властью, впрочем,
ограничивавшеюся только некоторыми германскими провинциями.
Жители этих провинций состояли прежде под властью
иерархической, чем государственной, и как курфирсты в выборе
императора имели влияние на дело целой империи, то можно сказать,
что посредственно влияние местной иерархии, кроме папской,
простиралось и на целую империю. Тем сильнее должна была
здесь почувствоваться потребность реформы.
Была еще одна сторона в Германии, которая могла служить
верным ручательством, что Германия не удовлетворится одной
обрядовой внешностью, в которую хотела заключить римская
иерархия все западное человечество. Это ручательство — в самом
духе народном. Созерцательность, потребность мышления,
углубление в предмет, есть одно из коренных свойств германской
народности, есть ее существенная потребность. Напрасно
схоластики средних веков думали привязать к себе все мышление:
большинство, масса следовали, правда, указанной дорогой, но всегда
были в Германии блестящие исключения, умы избранные,
которые, стремясь к одной цели со всей средневековой наукой, шли,
впрочем, своим собственным путем. Свободное мышление всегда
существовало в Германии. В средние века предмет был дан, он
уже лежал во всеобщем сознании. Это божество. На этот
предмет, на раскрытие свойств божественной натуры, па постижение
ее внутреннего существа обратилась мысль избранных
мыслителей Германии. На чисто философической, созерцательной почве
Элемент религиозный
71
старались они достигнуть решения своих вопросов и впадали,
правда, в другую крайность — мистицизм; но, признавая
некоторые их заблуждения, мы не можем не признать и высокого
полета их мыслей, мы не можем даже некоторым образом не
разделить того воодушевления, которым проникнуты были эти
люди, увлеченные своим возвышенным настроением.
XIV век в Германии особенно богат такими мистическими
мыслителями. В них можно видеть уже расцвет новой
философии 24. Более, нежели в ком-нибудь, их созерцание сливалось с
самой их натурой. Это не было лишь чисто отвлеченное
мышление; идеи, к которым приводило мистиков их созерцание,
наполняли все их существо, окрыляли самую их фантазию и уносили
их далеко, может быть, даже слишком далеко от действительного
мира. Некоторые из них заслуживают особенного помина. Мейстер
Эккард, Сузо, Таулер *. Эккард был. провинциалом
доминиканского ордена в Саксонии и Богемии. Впоследствии жил он на Рейне
и был главою общества «Братьев свободного духа». Там собрал
он около себя целую школу, к которой принадлежали Таулер и
Сузо. Сочинения25 его впоследствии были запрещены папской
буллой (1329). В ней же сказано, что Эккард под конец своей жизни
обратился к католицизму; но это клевета на Эккарда: никогда л
ие думал он отрекаться от католической веры, в самом своем
увлечении он думал быть верным истолкователем христианских
истин. Сущность его учения заключается в следующем: Бог есть
всеединая сущность (Wesen) и само видение; все существует
потолику, поколику составляет момент его жизни; мир есть
вечное его проявление, в котором он, впрочем, пребывает сам в
себе (bei sich selbst Heisst). Душа есть вечное самоположение
(Selbstsetzen) Бога, в котором он сам себя сознает, так что Бог
и человек есть то же самое сознание, самоисповедание
(Bekennen) духа; поэтому мы должны отречься от нашей конечности и
нашего я, чтобы сделаться участниками вечной жизни; тогда и
Бог родится в нас, и все во всем, и будет вечное исхождение я
вхождение.
Состояние человека по отречении его от самого себя он
изображает так**: тогда дух обратит себя в нем, и это знание
составляет его блаженство, и Бог тогда полюбит эту душу, потому
что он будет любить в ней себя; тогда возвратится состояние
первоначальной невинности и справедливости; тогда человек не
имеет более нужды ни просить, ни брать, как в том состоянии,
когда он находится вне Бога, ибо теперь он находится
непосредственно в нем и в нем владеет всем; он чувствует (пассивно)
действие Бога и молчит, да не возбранно изрекается вечное
слово; тогда он выше всякого внешнего положения, он чужд
* Carrière, р. 152 et cet.
'* Carrière, p. 155.
72
Лекции 1848149 а.
всякого греха, и нет у него другого предмета хотения, как воля
Божия; ибо грех и есть это состояние раздвоения, погружение
человека в ничто, и ад есть мучительное сознание отделения от
божества. Состояние же праведности есть, наоборот, состояние
свободы. Тогда во всем познает и любит человек все то же
божественное, и таинство троичности непрестанно совершается в
явлении, ибо человек как сын возвращается к отцу и живет
в нем.
По учению Сузо*, Бог есть простое, истинное, всяческое
бытие (alles Wesen), основа всех вещей, заключающее в себе
все сотворенное, как начало и конец; он во всем и над всем; о»
круг, которого центр всюду и которого окружность нигде. Его
сущность есть его жизнь и действие; его разумность познает все
вещи в себе самой и само собой, и пр. Как совершенно благо,
должен он по самой натуре своей изливаться из себя, ибо ничто
так не сообщительно, как благо. Но как все истекает от Бога,
так все опять должно в него возвратиться, как он изливается в
сыне, так любовь возвращающая есть святой дух. Человек в
разумной душе своей носит вечный образ Божий, потому он весь
должен устремляться к истине, он должен отрешаться от твари,
переродиться со Христом, преобразиться в божество... Он вечно
остается я, самим собой, но уже не вне Бога, а в Боге. Его
истинное рождение есть это возрождение, чрез которое он уже
сознает себя как единое со своим началом и творит единое дело в
тихой невозмущаемой свободе и т. д. Это слияние человека с
Богом Сузо поэтически изображает в следующей апострофе Бога
к любящим людям: «Я хочу так внутренно облобызать (dich
küssen) и так любовно обнять вас, что все я и я, вы и мы, все
имеете будем на вечные века одно неразделяемое единство».
И слово Таулера** исполнено поэтического полета и
одушевления, хотя ум его более способен сосредоточиваться в себе и
погружаться в чистую мысль. В общих идеях — о сущности
божества, его раскрытия в мире явлений, о троичном его
проявлении — учение его сближается с Эккардом и Сузо: Бог как
свободный дух отличается и определяется в нем самом; таким
образом он сам существует (есть) в моментах своей жизни. Но эти
моменты отличаются от него и существуют сами по себе (для
себя); как свободный и дух, он может истинно открываться
только в свободных духах; единство с Богом есть сущность
человека, но он в то же время состоит в различии с ним и должен
осуществить это единство актом собственной воли; таким
образом, жертвуя своею конечностью, он сам себя приобретает вновь
в Боге. Как это, может быть, есть самый важный нравственный
вопрос для Таулера 26. Хочешь ли, чтобы Бог говорил в тебе, то
* Ibid., р. 164.
** Ibid., р. 166 et cet.
Элемент религиозный
73
ты должен молчать, хочешь ли, чтобы он вошел в тебя, то пусть
выйдет все другое. Ниспровергни наперед в твоей душе, в храме
Божьем, столы торжников, и он придет и поселится в тебе.
У того, кто ищет царство Божие, все делается само собой; так
лилии полей, их ни ткут и ни прядут, а как много лучше они
самых пышных царских тканей!27 И Бог, которого ты хочешь
принять в свою совесть, хочешь, чтобы она украшена была
разнообразными цветами добродетели. Речь тут не о внешних
делах, а о чувстве, о внутреннем расположении (Gesinnung)
человека. Мало можем мы, но многое можем желать мы, что растет
и зарождается в Боге. Итак, если человек не может быть велик
иным образом, то он может быть велик волею, и что он хочет
быть от всей души, от всего сердца, от всей мысли и пожелания,
это есть он без сомнения.
Состояние человека в единении* с Богом Таулер изображает
так: «Кто нашел этот мир, в том действует Бог, в том любит
Вечный себя самого, и человек стал небо, ибо в нем нашел Бог
свое отдохновение и покой. Любящий страшился сам от себя в
возлюбленном им, в котором он потерялся как капля воды
в глубоком море... Здесь все раны исцелены, все долги
уплачены, здесь поселилось блаженство. Для такого человека Бог не
существует вне его, ибо где бы он ни находил Бога, там находит
он самого себя, поелику Бог и он одна суть... Так он находит
себя в целом, он чувствует свое единство со всем живущим... Он
умер для разнообразия, для своекорыстия, и во всем видит одну
сущность, одно действие. Тогда живет он божественной жизнью,
и дух его, распадаясь на тысячу лучей, узнает сам себя во всех
вещах, и наконец снова собирается, сосредоточивается в
горящем пламени любви, которое есть сам Бог».
Эта высокая настроенность мистиков не имела ничего общего
с тем внешним направлением, которое дано было католической
церкви римской иерархией и ее доктриной. Мистики, однако, п«з
нападали на существующий порядок; они обходили его, они
держали себя в стороне, они слишком были погружены в свое
восторженно-созерцательное направление, чтобы заниматься тем,
что происходило вокруг их. И со стороны римской церкви они
мало были замечены: их учение было слишком высоко, чтобы
собирать около себя толпы, оно не делало шума, оно почти не
выходило из известного круга. Впрочем, и не останавливалось:
плоды мистического мышления собраны в XV столетии в двух
книгах — Von den neun Felsen и Deutsche Theologie r.
Deutsche Theologie 28 представляет лишь в более полном
развитии те же идеи о сущности божества, о необходимости
проявления божественной натуры в твари; о возвращении человека к
г Далее приводим текст вставки, сделанной на полях.
74
Лекции 1848/49 а.
Богу и т. п. Но мистическое видение делает уже в ней новые
успехи, открывает новые светлые пункты. Некоторыми своими
идеями Немецкая теология есть как бы уже вступление в новую
философию. Так, истинное знание и любовь для нее уже не·
раздельны (Carrière, р. 174)29. Это значит сказать, что действия
самой любви должны быть освещены светом разума. Но не одно
только внешнее знание разумеет автор: он требует от человека
самоуглубления, самосознания. «Как ни полезно знать, что
делали и потерпели святые и благочестивые люди, но во сто раз
лучше, когда мысль человека обращается на него самого, когда
рн в себе самом ищет брата, есть ли в нем Бог и способен ли он
сам быть орудием его воли».— Немецкая теология уже довольно
определенно выговаривает, что сущность истинной субстанции
есть субъект, самосознание. Но если бы она оставалась лишь в
своей чистой сущности, то не было бы никакого определения,
ш как ого различия и потому не было бы в ней собственного
шания, она была бы только возможностью. В других словах, по
щее Немецкой теологии, это [же] самое (Ibid., р. 176). Точно
гак же, как и предшествующие мистики, называет она единение
с Богом и послушание в его волю началом неба для человека
(р. 180). Но она умеет уже оценить достоинство человеческой
воли и чел [овеческого] разумения. То, что есть во всем
создании благороднейшего и отраднейшего, это разум и воля, и оба
эти качества одно с другим неразлучны (sind bei einander): где
одно, там и другое; не будь ни того, ни другого, не было бы и
никакого разумного творения, была бы одна животная жизнь.
И потому видение и разум даны вместе с волею, разум должен
руководствовать волю и самого себя. Вечная воля пребывает
первоначально и субстанциально в Боге, та же воля в человеке
или сотворенном духе является уже деятельною, т. е. хотящей
и действующей. Ибо такова натура воли, чтобы она хотела; она
была бы напрасна, если бы не имела никакого действия. А этого
ле могло быть без твари: потому она должна была выйти из
небытия, чтобы воля имела в ней свое произведение и в ней
действовала... Но и эта сотворенная воля, чтобы не остаться
недеятельною, должна иметь свои собственные дела, а чтобы она
могла хотеть, она должна быть свободной, хотя бы даже то
было с опасностью отпадения, которое, впрочем, происходит лишь
в ней же самой. Но под всей свободой нет ничего свободнее,
как самая воля; и тот, кто присвояет себе эту волю, кто
связывает ее в ее свободе, в ее благородной свободной деятельности,
тот поступает неправо; так действует дьявол, Адам и их
преемники; кто же оставляет действовать волю с полной свободой, тот
действует право, так поступал Христос и все его преемники.
Только там, где воля остается на всей свободе, вполне удается
ой ее дело; где же она ищет другого (не того, что есть она
сама), там она более несвободна, там она связана этим другим,
Элемент религиозный
75
ибо кто хочет присвоить себе что-нибудь, кто привлечен чем-ни·
будь, тот уже связан им.
Так выражая свои идеи мистическим языком и постоянно
имея в виду мистический предмет, мистицизм высказывал
глубочайшие идеи разума. Отняв от них мистический покров, мы
будем иметь в них чисто рациональное учение. Но корни
мистицизма лежали еще в средневековом сознании; он не был
освобожденным от него, он был только первой попыткой
освобождения путем философического созерцания: он не мог освободиться
от всех условий своего времени. Впоследствии Лютер не мог
отказать в полном своем сочувствии этой книге, в которой с
видимым удовольствием замечал он так многое, что принадлежало его
собственной мысли. Он сам предпринял новое издание Немецкой
теологии и говорил в предисловии30: это благородная книжка,
как ни скудна она словами, как ни мало сведуща в человеческой
мудрости, тем богаче она искусством (истины), тем много
ценнее она по содержащейся в ней мудрости божественной. После
Библии и св. Августина не знаю я ни одной книги, из которой
бы я столько научился и могу научиться еще больше тому, что
есть Бог, Христос, человек и все вещи. Я благодарю Бога, что
на родном моем немецком языке я могу так слышать и
находить Бога, как я еще никогда его не находил ни на латинском,
ни на еврейском, ни на греческом языке (Carrière, р. 182)д.
Заключенный сам в себе, изолированный своим
оригинальным направлением, мистицизм впадал еще в другую
крайность — в аскетизм, в страдания жизни человека в обществе.
Чтобы войти деятельным элементом в жизнь, чтобы очиститься
от своих крайностей, ему надобно было подать руку иному
направлению, которое бы более было обращено к действительной
жизни, лучше видело ее действительные противоречия, как
например, гуманизм, или самому собою, без всякого посредства, но
ближе подойти к действительной жизни. И с годами германский
мистицизм делает этот успех. Чем больше нарастает
злоупотреблений, чем больше вымирает живой дух в римской церкви и
остается египетская обрядность, тем нетерпеливее становятся
германские мистики, тем больше раздражены они существующими
несообрааностями. Такие явления встречаются уже в XV и
XVI веках.
Гуманизм во многих отношениях имел большое влияние но
развитие в Германии элемента религиозного. Поддерживая
общее движение умов, он в то же время своими собственными
усилиями, своими филологическими работами приближал к ио-
вятию человека источник истинной христианской мудрости,
Евангелие, он больше и больше обнажал злоупотребления в
римской иерархии и всей ее доктрине, и больше и больше вы-
д Здесь кончается текст вставки на полях.
76
Лекции 1848149 г.
водил мистицизм на настоящую дорогу. После того как
открылось гуманистическое движение, нельзя уже было самим
мистикам оставаться заключенными в своем исключительно
созерцательном направлении; действительные раны, открытые в
римской церкви, были слишком ярки, чтобы не видеть их, чтобы
не требовать прежде всего им излечения. Словом, чистый
мистицизм был уже более невозможен. Умы по натуре своей чисто
созерцательные должны были устремиться на поборение
вопиющих предрассудков римской иерархии.
В конце XV и начале XVI столетия такие люди, такие умы
были уже не редки. Религиозное движение растет вместе с
гуманистическим. Лишь примыкая к гуманистам, но в то же
время действуя совершенно самостоятельно, повые немецкие
теологи, которые успели свергнуть в себе иго схоластицизма, не
погружались более в мистическое созерцапие, но выходили
открыто против злоупотреблений церкви, против ее погружения в од-
ау механическую внешность, против ее любостяжания и
принимали на себя защиту угнетенной человеческой природы.
Во множестве следовали они один за другим и, подобно
гуманистам, показывали необыкновенную деятельность, старались
разносить свои идеи по всей Германии и везде приобретать себо
людей единомыслящих. Мы ограничимся лишь двумя именами.
Это—Geiler von Kaisersberg (1440—1509) и Iohann Wessel *31.
Гейлер действовал в Южной Германии. На нем особенно
заметно влияние античного элемента, сколько его могло переходить к
теологам из гуманистического направления. В своих
теологических воззрениях он был умереннее других, но он решительно
отделяется от средних веков своим воззрением на человеческую
природу, па природу вообще. Он защищает ее достоинство, он
хочет, чтобы ей также отдано было должное. «Человек не
должен лишать себя того, в чем он чувствует потребность, он
должен все употреблять в той скромной мере, в какой требует его
нужда. Это совсем пе признак истинной духовной жизни, когда
человек презирает свое тело и делает для него лишь столько,
сколько это нужио для поддержания его на службе духу. Пить
и есть каждый должен по требованию своего здорового рассудка,
только бы это пе преступило пределов умеренности». Одного
только не хотел бы он — это чтобы чувственность получила
решительный перевес, чтобы физический элемент взял верх над
духовной природой. Потому же он вовсе не поборник и
монастырской жизни. «Стены,— говорит он,— еще не составляют
монастыря. Монастырь должен быть создан внутри самого сердца.
Одни стены и монастырское платье еще не придадут нам
духовности, можно исправлять с точностью все монастырские
предписания и, однако, нисколько не исправиться» (Hagen, 124—125).
Вообще благочестие, по мнению Гейлера, состоит не в удалении
* ttüguü, 1, 117-119.
Элемент религиозный
7\
от мира и подавлении естественных потребностей, но в
известном внутреннем настроении (Gesinnung).
Иоанн Вессель (1420—1489) *32, годами несколько
предупредивший Гейлера, по духу был гораздо ближе к Лютеру. Его
справедливо называли предшественником великого реформатора.
Погребность реформы была велика, она, наконец, была, так
сказать, в самом воздухе. Лютер мог бы явиться еще в XIV веке,
если бы все дело состояло только в известном образе мыслей.
Вессель лучшее тому доказательство. В самом деле, трудно
найти согласие в направлении и частных мыслях более
определенное. Сам Лютер впоследствии с приятным удивлением встретил
у Весселя большую часть своих собственных идей. Вот главные
пункты его учения: основанием и источником христианского
учения считал он Евангелие; благочестие и богоугодную жизнь
полагал он не во впешних обрядах и отдельных действиях
человека, но в его духовном настроении и в вере; под церковью
разумел он общество людей, стремящихся к святой жизни, союз,
их соединяющий, видел в любви, главой ее признавал Христа,
а ре папу; наконец, подобно Лютеру, он также не признавал
исключительного права одного сословия на священнослужение и
проповедь, но считал призвание к нему общим достоянием
разумной природы.
Кроме своего учения, Вессель замечателен и как человек,
как характер. Честный, открытый, прямой, он любил
выговаривать свои убеждения свободно, без принуждения пред кем бы то
пи было. Однажды, во время пребывания Весселя в Риме, папа
на аудиенции предложил ему просить у него какой-либо особой
милости; Вессель выразил только свое желание, чтобы
управление папы было так безукоризненно, что он мог бы потом без
страха предстать на суд Божий.
Те же мысли, те же убеждения разделял с Весселем друг
его Иоанн фон Везель**. Но он был столько смел, что не
боялся высказывать свои убеждения прямо народу с церковной
кафедры и притом самым популярным языком. Вессель спокойно
провел свою старость, но судьба Везеля была иная. Он попал
под инквизиционный суд, принужден был сделать отречение
от своих мнений, и, несмотря на то, умер в темнице.
Но инкивизиционный трибунал уже досчитывал свои
жертвы: то были последние. Приходило то время, когда новый
принцип свободного вероисповедания должен был занять место
средневековой нетерпимости. Времена порождают людей, люди
творят события, которыми побеждаются старые времена со всеми
их предрассудками. Это громадное здание в готическом стиле,
которое называли средними веками и которое сложилось иерар-
* Hagen, Τ, 117; Carrière, 105.-—Iobann Wessel, von Ullmann.
** Hagen, I, 121.
78
Лекции 1848140 г.
хическим образом с двумя вершинами во главе, было уже
подкопано со всех сторон. Гуманизм, с одной стороны, новая
свободная теология — с другой, подкопали самое основание здания:
они создали новое сознание, которое не думало более попадать в
смертный грех, начиная сопротивляться средневековым
авторитетам, но полагало в том свою первую обязанность. Новые
люди не понимали более старых. Но они еще были рассеяны,
их соединяло лишь единство их мысли, но они еще не
соединились ни в одном учреждении, их силы не получили никакой
организации. Та великая сила, тот крепкий дух, который должен
был собрать различные силы поборников реформы и дать им
солидную организацию, чтобы они были прикрыты от ударов
противников, тот дух уже был близок (ибо дело состояло не в
ίομ, чтобы, говоря истину, самому избежать тюрьмы
инквизиции, но в том, чтобы основать крепкое учреждение, в котором
бы все, ищущие свободной истины, могли укрываться от
преследований римской иерархии). Этот человек был Мартин Лютер,
родившийся в 1483 г.
Как все избранные быть великими деятелями в истории,
Лютер не походил ни на кого из тех, которые стояли тогда на
первом плане во всей умственной деятельности в Германии. Это
была натура совершенно особого рода. Не то чтобы у него вовсе
не было недостатков, которыми страдали его предшественники
в том же деле; но то, что в других было лишь более или более
менее случайным достоинством, что в других возбуждалось
вследствие увлекающих потребностей времени, то в Лютере
было необходимым свойством его духа, его натуры. Если бы он
родился и прежде, чем открылось движение в Германии, он вынес
бы из своей собственной жизни те же самые убеждения, к
которым другие приходили возбужденные духом времени. Потому
что Лютер, прежде чем вышел на историческую сцену, жил
своей внутренней глубокой жизнью. В то самое время, как
Германия была наполнена шумом гумапистического движения,
когда уже в ней слышался не один энергический голос в пользу
церковной реформы, Лютер еще совершал свое воспитание,
сначала в школе, потом в стенах монастыря, совершенно удаленный
от всех движений, которые тогда волновали Германию.
Л[ютер]*. Последуем за ним в этом приготовлении его к
великой борьбе с римской иерархией. Поучительна жизнь великого
человека в самых мелких ее подробностях. Семейство, в котором
родился Лютер, не могло похвалиться большим достатком.
Но не было недостатка ни в трудолюбии, ни в трезвости, ни в
честности со стороны главы семейства, Ганса Лютера; мать же
Мартина имела очень любящее сердце. Жизнь проходила тихо в
маленьком немецком городке (сначала в Эйслебене, потом
• Merle d'Aubigné, Ι, 98 et cet.
Элемент религиозный
79
8 Мансфельде). Ганс Лютер любил серьезную беседу и отдыхал
от дневных трудов, беседуя с духовным или школьными
наставниками, которые собирались в его доме. Под впечатлением этих
бесед прошли первые годы Мартина. Страх Божий внушен был
ому с самого первого возраста. Упорный, непреклонный нрав,
который рано начал обозначаться в мальчике, старались
обуздать суровыми наказаниями. Отец, сам человек крутого
характера, не потерпел бы ни малейшего непослушания в сыне, и в
таком случае сама мать не раз налагала руку на Мартина.
В раздражении нередко переходила настоящую меру наказания.
«Мои родные,— говорит Лютер,— поступали со мной очень
сурово, и это сделало меня робким. Однажды мать наказала меня
до крови. Она от всей души думала, что делает мне добро; она
не умела различать, что один дух не приходится на другой и
что сообразно с тем надобно умерять наказание»*33.
Между тем Мартина ждала школа, школа первоначального
образования, устроенная по схоластическим требованиям.
Мартин начал посещать школу в Мансфельде. Первые знания,
приобретенные им здесь, ограничивались катехизисом, апостольским
символом, церковными песнями и молитвами, грамматикой
Доната34 и календарем Цизио-Янус (X или XI столетие). В
мальчике замечали добрые способности и довольно прилежания;
ъ нем было также много религиозного чувства, но это
выражалось очень странно: мальчик не мог слышать без трепета имени
Иисуса Христа, так привык он представлять его себе в виде
разгневанного судьи. Мальчик был восприимчив, впечатлителен.
То, что действовало на него в молодые годы, оставалось у него
глубоко и надолго в душе.
Успехи Мартина в первой школе пробудили в отце его
честолюбивую мысль — сделать своего сына ученым, адвокатом
может быть. Он отправил его (1497) в Магдебург в
францисканскую школу. Лютеру также назначено было не миновать
монашеского воспитания. Что выйдет из него с его
впечатлительностью, когда в таком нежном возрасте он станет под влияние
аскетического образа мыслей? — можно бы было спросить,
провожая Лютера в Магдебург. Ему было тогда не более 14 лет.
И то время в Магдебурге раздавался голос одного смелого
провозвестника реформы, Андрея Proies, провинциала августинского
ордена; но Мартин был еще слишком юн, чтобы важные слова
проповедника могли запасть в его душу. Он еще не понимал
потребность, потому что мало был знаком с светом. Трепетный
страх к наставникам принес Лютер в А[вгустинский]
монастырь], но в новой школе ждали еще его испытания другого
рода. Оставленный один в большом городе, часто лишенный
самой необходимой поддержки, Мартин принужден был иногда
* Luth. Op. W. XXII, p. 1785.
80
Лекции 1848/49 г.
вместе с другими школьными товарищами вымаливать себе хлеб
под окнами, panem propter Deum *. Под большие праздники они
собирались гурьбою, отправлялись в соседние селения и ходили
там от дома к дому, распевая хвалебные стихи в честь Христа.
Но Мартин везде приносил с собой страх к людям. Однажды —
это было на праздник Рождества,— когда они таким образом
распевали перед домом одного крестьянина, хозяин вышел из
дому со своей скромною дачею, но, не видя их в темноте,
спросил наперед: «Где вы тут, ребята (Jungen)?» Грубый, суровый
голос крестьянина так испугал мальчиков, что они, ничего [ое]
отвечая, тотчас разбежались. Почти можно подозревать, что
Лютер был зачинщик этого бегства.
Между тем в самой натуре Мартина вовсе не было этой
мрачности, которая заставляет убегать от людей и иногда
перерождается в действительную ненависть к ним. Его только
сделали, к нечастью, недоверчивым. Имей он меньше страха оеред
людьми, к нему близкими, будь он меньше знаком с темнотою
жизни, он бы менее оказался способным к аскетическому
расположению. И потому, когда из Магдебурга Мартин перешел в
Эйзенах, где его приняло к себе одно доброе семейство**, когда
он был обеспечен в своих нуждах и мог свободно предаться
своим занятиям, сердце его открылось радостям жизни. Он стал
весел, занятия его быстро пошли вперед. Его несколько жесткая
натура смягчилась еще более, когда ему представился здесь
случай заниматься еще музыкой. Мартин полюбил флейту и лютню
и в часы отдыха охотно соединял свой высокий голос с звуками
инструмента. Эта страсть осталась с ним потом на всю его
жизнь.
Вообще в Эйзенахе Мартин был гораздо счастливее на
людей. И в самой школе, среди людей, которых один вид прежде
приводил его в страх, встретил он человека. Это был Иогаи Тре-
бониус, который умел быть приветливым к своим ученикам, не
теряя своей ученой важности. Правда, что если он при входе в
классы снимал шляпу перед учениками, то это оп делал из
особенных побуждений; он говорил ***: почему знать, может бытьг
между этими мальчиками много таких, которые, если будет
угодно Богу, сделаются со временем бургомистрами,
канцлерами, докторами, чиновными людьми. Но из каких бы мотивов на
происходило это человечественное обращение Требониуса с уче-
* Хлеба ради Бога (лат.).
** Женщина, принявшая его в свой дом, была супруга Копрада Котты и
дочь бургемейстера в Ильфельде. Бе добрый прием, когда все другие
грубо отталкивали от себя мальчика, сделал на него такое впечатление,
что впоследствии, принимая к себе в дом ее сына, он сказал: «Es gibt
nichts Lieberes auf der Welt als ein Frauenherz, in wechem Frömmingkeit
wohnt». Merle d'Aubigné, p. 1Û6. «Нет ничего милее на свете, чем
женское сердце, в котором живет благочестие» (нем.).
*** Merle d'Aubigné, p. 107.
Элемент религиозный
8Г
никами, в то педантическое время оно уже много говорило в
его иользу.
Итак, жизнь, хотя не открылась Мартину со всех своих
сторон (ив этом, конечно, частью виновато было аскетическое
направление, развившееся в нем в монастырской школе), впрочем,
не вытеснила в нем совершенно человеческого чувства.
Уважение к личности, признательность за благодеяние были ему
знакомы. Но главный его интерес сосредоточивался в науке. Эйзе-
нахская школа только сильнее возбудила в нем
любознательность, удовлетворить же ей не могла. Мартин горел желанием
посвятить себя академическим занятиям. С этим стремлением
его вполне согласовалось и желание его отца, который
становился тем честолюбивее, чем больше сын его оказывал успехов.
Ему уже представлялись впереди довольно блестящие
перспективы: он уже мечтал видеть сына с честью занимающим какой-
нибудь важный государственный пост. Мартин поступил в Эр-
фуртский университет (1501 г.). Ему было тогда 18 лет,
горячее время: что в такую пору поражает мысль или воображение
человека, то часто остается в нем на целую жпзнь. В эту иору
образуется склад ума. Попадет ли человек на ложную дорогу,
на фальшивые убеждения, он принимает их так же горячо, как
самую истину. По несчастью, Эрфуртский университет еще не
успел совершенно освободиться от схоластической философии.
Лютер устремился на то, что ему предлагали (очевидно, что он
еще [не] иринес с собой никаких твердых убеждений). Итак,
оп не ушел от схоластицизма. Впоследствии его здоровая натура
сказалась, и он —страшно подумать—приходил в негодование
от одного имени Аристотеля; но на первый раз пока еще
материал был незнаком и суждение не утвердилось, он должен был
пройти и эту школу и изучает средневековую философию в
сочинениях Оккама, Скота, Бопавентуры, Аквина. Классическая
же древность вошла в его образование постольку, поскольку она
ьходпла вообще в круг схоластического образования: вместе с
другими и Мартин изучал Вергилия, Цицерона и других
классиков. Владея превосходной памятью, сильным воображением, он
быстро шел вперед, опережая других, и вообще своими
счастливыми способностями возбуждал удивление своих наставников.
Но скоро и здесь, в самых академических занятиях Лютера,
обозначилось, что одни знания не удовлетворят его. Не
останавливаясь преимущественно ни на философии, ни на
классической древности, Мартин искал чего-то еще сверх своих
академических занятий. Может быть, бессознательно для самого
Мартина в нем поселился дух нового времени; то, чего он так
усильно искал, была потребность убеждения. Направление было уже
ему дано в францисканской школе *; но не так легко было най-
* Что Лютер перенес и в университет свое аскетическое направление, это
6 П. Н. Кудрявцев
#?
Лекции 7848/40 г.
ти убеждение, соответствующее этому направлению. Между тем
он не переставал искать его всюду в свободные часы, особенно
и библиотеке. Он переходил от одной книги к другой... Однажды
(уже через два года после поступления его в Эрфуртский
университет), когда он начал свой обычный перебор, глаза его
останавливаются на одной открытой книге... Это была книга в
то время столько редкая: Библия. Он читает и не может
довольно надивиться; сверх того, что слышал он в церкви из
Евангелия и посланий, находит он целые главы и даже книги,
которые до сих пор оставались ему неизвестны. С нетерпением,
о ощущением самым живым перелистывает он драгоценную
книгу и не знает, на чем остановиться. Перед ним открывается
история Анны и юного Самуила: это посвящение юноши на
служение Богу по самую смерть и похвальная песнь Анны
восторгают его сердце. А как много еще других сокровищ должно
было заключаться в этой вновь открытой им книге!
Удовлетворенный на первый раз, Мартин с полным сердцем возвратился
домой — с того времени ничего так не желал, как иметь у себя
драгоценную книгу. В те времена такое желание не вдруг могло
исполниться. Но путь к источнику христианской мудрости не
был уже ему закрыт. С того времени он не переставал посещать
библиотеку и с постоянно возрастающим вниманием читал
драгоценную ему книгу.
К одному обстоятельству не замедлило присоединиться
другое. Усиленные занятия, которые предшествовали испытанию на
степень бакалавра, повергли Мартина в опасную болезнь.
Истощенные силы мало подавали надежды к выздоровлению,
больной сам ожидал себе скорой смерти. Пастырь, которому он
открыл свои мысли, вместо того, чтобы приготовить его к смерти«
»конечно для утешения больного, сказал ему довольно
решительно, что он не умрет от этой болезни, и прибавил еще, что Бог
готовит в нем человека, который принесет утешение многим
другим. Точно: Мартин выздоровел, и слова старого пастора
явились как бы предсказанием.
Все это должно было сделать сильное впечатление на дух
Лютера, крайне восприимчивый и наклонный к мистицизму. Но
оставались еще некоторые сомнения, Лютеру еще не вполне
ясно было его призва[ние], он еще колебался и, уже сделавшись
доктором философии (1503), все еще думал, согласно желаниям
огца, посвятить себя юриспруденции. Для этой цели он начал
заниматься этикой Аристотеля и другими отраслями философии.
Но ему уже не давал покоя внутренний голос, постоянно
напоминавший ему об участи его души. Эти представления о грехе,
видно из всех его действий. Он каждый день начинал молитвою, шел
потом и церковь и приступал к самой работе пе иначе, как с молитвою.
«Прилежная молитва,— говорил он,— стоит половины занятий». Ibid., 1,109.
Элемент религиозный
83Г
о следующих за тем наказаниях, о гневе Божьем,
представления, которые он возрастил в себе вместе с годами, они
постоянно наполняли его воображение и часто заставляли его
спрашивать самого себя: чувствует ли он себя столько чистым, чтобы
мог совершенно положиться на милость Божью? И совесть его,,
запуганная, связанная, не давала ему удовлетворительного
ответа. Потребность спасения души, таким образом, заменяла для
Лютера предположенную им [потребность]6 для временной жизни^
Два случая не замедлили решить колебания. В состоянии
сильного внутрепнего раздражения, в каком находился Мартин,,
каждый новый случай должен был отозваться в его натуре
сильным потрясением и исключить решение на одну сторону^
Первым таким случаем была внезапная насильственная смерть
его друга и товарища по занятиям Алексиса, который погиб от
руки убийцы. Мартин содрогнулся, когда до него дошла весть
о погибели его друга, и в страхе спрашивал себя, какая участь
ожидает его, если его застигнет подобная смерть? Спустя
несколько времени он вздумал посетить свою родину. Руководило-
ли его простое желание видеться с отцом и матерью или он
тогда уже решался принять монашеские обеты и хотел па то
просить согласие своих родителей, мы не знаем, Но вот что
случилось на возвратном пути Лютера из Мансфельда.
Уже понедалеку от Эрфурта застигла его страшная буря *35,.
гроза разразилась пад ним со всей силой, и один удар так
оглушил его, что он упал на колени и думал, что уже пришел его·
последний час. Тогда в ужасе и мучительном предчувствии
смерти дал он обет: если Бог сохранит ему жизнь, бежать от
мира и посвятить всего себя Богу. Произнесши этот обет,
Мартин оправился от страха и стал на ноги; гроза прошла, по он
принес уже с собой в Эрфурт непреклонное решение вступить,
в монастырь.
Решение досталось Лютеру нелегко. Оно стоило ему
подавления в себе других весьма благородных инстинктов,
обращенных прямо к жизни. Ибо Лютер по природе своей не имел
никакой наклонности к мизантропизму, но на пути к убеждению
он встретился с мистическим направлением, и оно взяло в нем
перевес. Прибывши в Эрфурт, Мартин несколько времени тапл
от своих друзей свое намерение; наконец, собрал их всех у себя
на вечернюю беседу и, прежде чем они начали подозревать что-
нибудь, объявил им, что в скором времени оставит мир. Друзья
его удивлены, опечалены; они обращают к нему свои
убеждения, чтобы он отказался от своего необдуманного решения.
Тогда из опасения, может быть, чтобы сердце не уступило
увещаниям друзей, он сказал им свое последнее прощание, взял с со-
е В рукописи, видимо, пропуск слова.
* Merle d'Aubigné, 113.—Luth. Epist. И, 101,
6*
*4 Лекции 1848149 г.
бой из всех книг Вергилия и Плавта и с ними оставил комнату.
Недалеко находился монастырь ордена св. Августина. Мартин
пааравляет туда свои шаги и просит себе приюта. Дверь перед
ним отворяется и запирается снова. Мартин Лютер отрекается
от всех своих близких, от целого мира. Это было в 1505. Ему
было тогда 21 год и 9 месяцев. Через несколько дней Лютер
бросил к своим друзьям даже кольцо магистерское.
NB. Важный шаг в жизни был сделан. Решение Лютера
приведено в исполнение. Отныне он не принадлежит более миру,
и тревога, волнение, которыми тогда был полон этот мир, более
не занимают его; отныне он принадлежит только себе и Богу.
Но точно ли он нашел спокойствие, которого он искал? Лучше
сказать, точно ли нашел он то убеждение, потребность в
котором загнала его в монастырь? Это другой вопрос, на который
ответит самая жизнь Мартина в монастыре.
Отец Мартина с ужасом узнал об его отречении от света. Он
не надеялся на него, он знал его страстную натуру и боялся,
что, когда пройдет первое увлечение, Мартин не выдержит
монастырского стеснения и впадет в другую крайность. Угадывая
многое верно, отец, впрочем, плохо знал Мартина. Того, чего он
боялся, пе случилось: случилось совсем иное. Лютер пришел в
монастырь, как в лечебницу: он принес с собой свой недуг, свою
греховную совесть и искал от ней искупление в исполнении
монашеских обетов. Исполняя их в точности, он думал таким
образом достигнуть уверенность в своем спасении. Предписания Ав-
густи некого ордена были очень строги. Новый брат, бывший
magister artium *, был обречен на самые тяжелые работы.
Мартин, в монашестве Августин, заглушил в себе всякую гордость
и смиренно исполнял все, что ему ни предписывали: он
исправлял должность привратника, заводил часы, убирал в церкви,
выносил сор из комнаты, и едва только эти работы были
исправлены, как ему клали на плечо мешок и посылали его в
город для сбора подаяния. Опять должен был он нищенствовать,
как некогда нищенствовал от нужды вместе со школьными
товарищами! Напрасно думал он урвать час-другой, по старой
привычке, для своих любимых занятий: у него с бранью отнимали
книги и снова навязывали ему братский мешок. Мартин не
роптал и, оставляя книги, исполнял свою новую обязанность.
То есть он умел задушить в себе тайный внутренний ропот, он
хотел быть господином своих желаний, и воля его крепчала в
борьбе с самим собою.
Но в то самое время, как в тяжелом испытании росла его
воля, как во внутреннем борении крепчал его характер,
сомнения не переставали волновать его душу. Уверенности, которой
он искал, еще не обреталось. А за недостатком уверенности не
Магистр искусств (лат.).
Элемент религиозный
85
*>ыло в никакого мира в душе Мартина. Время его проходило в
тяжелой борьбе с самим собой. То, чувствуя
неудовлетворенность одной внешностью, со всем жаром пылкой души
возвращался он к книге, к науке, чтобы отыскать недостающую
уверенность и в ней успокоиться; то опять в нем брало верх
сомнение, что занятие такого рода отвлекает его от исполнения
прямых обязанностей, и он снова со всей строгостью отдавался
монастырскому аскетизму.
Когда, по ходатайству университета, приор монастыря
уволил Лютера от низших монастырских послушаний, он со всем
жаром принялся за изучение. Библия, которую он нашел в
монастыре прикрепленною цепью к одному месту, составляла
краеугольный камень его изучений и размышлений. Часто
возвращался он к ней и просиживал целый день над одним местом,
стараясь разгадать его замысел. Чтобы иметь себе
руководителей к уразумению Писания, он призвал в пособие сочинения
знаменитых теологов: Оккама, Жерсона, Петра Д'Альи и
творения отцов церкви. Умы глубокие с наклонностью к мистицизму,
они, впрочем, заплатили в свое время дань схоластицизму и не
могли удовлетворить жажды Лютера. Никто в таком положении
не мог лучше помочь ему, как тот, кто сам испытал в себе
подобное борение, кто знал все эти сомнения и в глубине своего
собственного духа долго искал им разрешения... Это был
Блаженный Августин. Два великие духа встретились, и Мартин
приложился всей душой к учению великого учителя IV века.
Его объяснение Псалмов и книга о духе и букве стали любимым
мгением Мартина. Не мог не сочувствовать он и тому, что было
плодом глубокой внутренней жизни человека и борьбы его с
самим собой; не мог не сочувствовать он и воззрению Августина
на человеческую природу, на ничтожество заслуг человека и на
силу благодати, покрывающей и восполняющей все
недостатки,— воззрение, которым разрешались в душе Августина
подобные же сомнения, как и те, которые ваиимали Мартина.
Впечатление, производимое на Лютера этим учением, было
глубоко: если он хотел разрешения своих сомнений, успокоения в се-
ύο самом, он мог найти их только в учении Августина: по
крайней мере, наконец он находил настоящую дорогу.
Но ничего не совершалось в этом человеке без сильных
внутренних потрясений; в то время, как он уже так близко был к
своей истине или к тому, что для него должно было заменить
истину, он взглянул назад, он вспомнил с ужасом столько пре-
небреженных благочестивых упражнений, которым обязывал его
монастырский устав — ибо, увлеченный своим изучением, он
часто пропускал обычные молитвенные бдения,— он с ужасом
вообразил себе то повое бремя, которое наложил на свою совесть,
и онять устремился на другую крайность. Чтобы исправить своо
опущение, он онять со всей строгостью отдался аскетической
86
Лекции 1848/49 г.
жизни. Исполнения предписанного казалось ему мало: он хотел
наказать себя всеми возможными лишениями, он забывал пить
и есть, проводил целые ночи в молитвах и думал задушить в
себе все дурные мысли, вырвать из сердца с корнем все дурные
пожелания. Лютер еще думал, что своими собственными
успехами он может заслужить себе небо или хотя приобрести себе эту
уверенность. О своих аскетических подвигах он сам писал после
к герцогу Георгу Саксонскому: если только когда-нибудь
человек заслуживал себе небо монашеством, то именно был бы там
и я. Это засвидетельствуют все духовные лица. Если бы это
продолжалось еще долее, то моими бдениями, молитвами,
стояниями и другими трудами я изнурил бы себя до смерти *. А уье-
ренности все не было, успокоения не приходило! Никогда в себе
самом не находил той чистоты, того подобия святости, которого-
идеал почерпал он из слова Божия. Лютер был слишком
чистосердечен, чтобы, чувствуя в себе недостаток, не сознавать его \
А то же сознание опять возмущало душу, опять повергало ее?
в волнение. В сильной, горячей натуре Лютера это волнение
возбуждало целые бури. Никогда он не мог совладать сам с
собой, и раздражение его выражалось так странно, что собратья
его не знали, что подумать. Однажды, когда другие слушали
обедню, пришел и он в церковь, с выражением глубокого стра-
данья на лице, несколько времени он оставался спокоен;
наконец, он не мог выдержать и, едва только прочли Евангелие, как
он упал на колени и во услышапии всех присутствующих
воскликнул жалобным голосом: нет, это не я, не я! Имели ли зги
слова отношение к тому, что было прочтено в Евангелии **, и.πι
это был ответ на внутренний голос, никто не знал, но смущенно
было так велико, что на минуту остановилось самое
богослужение.-— В другой раз, весь погруженный в свое мрачное отчаяние,,
тяготясь присутствием людей, Мартин заперся в своей комнате
и несколько дней никого не впускал к себе. Тогда один из
близких к нему (Lucas Edemberger)***, сильно беспокоясь об его
участи, пришел к дверям его кельи и начал стучаться. Ответа
никакого не было, не слышалось никакого движения. С
посетителем было несколько хоровых мальчиков. С их помощью он
выломал дверь и вошел в комнату: на полу комнаты лежал
Мартин без чувств и без всякого признака жизни. Все усилия
друга возвратить ему сознание были безуспешны: Мартин
оставался недвижим. Тогда мальчики запели мелодию, и их светлые
* Merle d'Aubigné, 120.
ж Приведенные на полях цитаты из писем Лютера опускаются.
** Евангелие, как говорит Cochlaeus, было о немом, из которого Иисус
изгнал беса. Может быть, Лютер хотел сказать, что его молчание — ибо
в последнее время он убегал всякой беседы с монахами — происходила
не от того, что он был обладаем злым духом.
*** Об нем рассказывал Seckeiidorf.
Элемент религиозный
87
голоса так благодетельно подействовали на Лютера, что он
снова пришел в чувство.
Еще Лютер носил на себе все признаки изнурения, как
возвещено было в монастыре близкое посещение провинциала
ордена 36 Штаупица. Судьба вела его сюда в самое нужное время.
Не было человека, более способного понять состояние Лютера,
как Штаупиц. Он сам частью прошел ту же школу внутренней
борьбы, сомнений, недоумений. Он также был человек,
преданный науке и искавший согласить ее требовапия с практикой в
жизни; он также чувствовал потребность уверенности своего
веления и искал ее то в Библии, то в Августине. Натура более
кроткая, менее состоявшая под властью воображения, менее
впечатлительная, он, впрочем, рано, кажется, остановился на
учении Августина о благодати и успокоился в вере во Христе.
С того времени он горько жаловался на упадок нравов в
римской церкви, на искажение евангельского учения доктриной
римской иерархии; но, несмотря на то что пользовался полною
доверенностью курфирста Саксонского Фридриха Мудрого,
который под его руководством основал в своих владениях новый,
Виттенбергский, университет, по недостатку силы воли, по
нерешительности характера никогда не думал выступать
реформатором церкви.
Прибыв в Эрфуртский монастырь, Штаупиц скоро отличил
от прочей братии этого молодого человека, который своим
преждевременно угасшим взором, своим до крайности изнуренным
видом давал заметить проницательному взору сильные борения,
выдержанные им в самом себе. Этот бранник меланхолии вместе
с торжественною важностью, которые выражались в лице
Лютера и во всех его движениях, не могли укрыться от внимания
Штаупица. Узнавши его историю, он почувствовал к нему еще
более влечения и старался приблизить его к себе. Кротость
Штаупица и его приветливость победили робость, недоверчивость
Мартина. Несмотря на аскетическое направление, развитое в
высшей степени монастырской жизнью, натура Лютера никогда
не закрыта была для человеческого чувства: он доступен был
ему, доступен влиянию человеческой личности вообще, и в
таком случае он даже становился мягче обыкновенного. Видя
расположение к себе провинциала, от недоверия он перешел к
чрезвычайной доверчивости и поверил Штаупицу все свои
сомнения, свои страхи, свое отчаяние. В этих признаниях
Штаупиц слышал как бы свою собственную историю, тем легче было
^му руководить Лютера. Более сильный своею опытностью и
уже приобретенным спокойствием, он охотно взял на себя
это дело.
Так начались между провинциалом ордена и братом
Мартином замечательные беседы. С своей стороны, Штаупиц также
открыл Лютеру, «что он несколько раз давал Богу обет благо-
88
Лекции 1848149 г.
честивой жизни, но наконец отказался давать вперед подобные
обеты, ибо сознал неисполнимость их». Лютер, которого
воображение с малых лет занято было более карающим божеством,
нежели милующим, согласился на правосудие Божие. В ответ на
это Штауниц указал только на искупительные раны Христа.
Лютер соглашался, что действительно благодатью Христовой
могут быть покрыты все грехи, но он не находил в себе достаточно
раскаяния, чтобы принять в себя эту благодать. Но, отвечал
Штаупиц, истинного раскаяния, совершенного раскаяния,,
и нельзя ждать от самого человека: оно само есть дело любви
Божьей, человек может сделать к тому лишь начало. Итак, ecjj:i
ты хочешь повинного раскаяния, то сначала должен полюбить
Бога: одни лишения тут не помогут.— Любовь, любовь
христианская *37 — вот чего именно недоставало Лютеру, вот какого
посредствующего понятия недоставало ему, чтобы связать его
представления о благодати с понятием о своем собственном hü-
достоинстве. Открытие было очень просто, но оно крайне
обрадовало Лютера. Оно осветило ему внутренний мрак, оно
заставило полюбить самое раскаяние. «Доселе,— писал после Л m-
тер,— во всем Писании ни одно слово не было мне так горько,
как Reue (раскаяние); я скрывал перед Богом то, что
происходило внутри души моей, и та любовь моя, которую я приносил
ему, была только обман и принуждение. Теперь для меня это
самое приятное, самое драгоценное слово»38.
Получив эту уверенность, Лютер уже готов был идти далс.
Его живой, деятельный ум поднял множество новых вопрос [ов :,
на новом, только что приобретенном основании он уже готол
был строить новое здание; он уже хотел бы снова определи! ι>
себе самые действия благодати, хотел знать, берет ли она
начала от человека, т. е. от обращения человека к Богу, или о г
предназначения Божия, словом, он хотел бы наконец,
проникнуть самые сокровенные Промыслы. Штаупиц остановил его в
этом опасном стремлении: он опять указал ему на раны Христа,
он сказал ему, что только в нем и через него может постигать
человек Бога, а в заключение советовал ему отныне искать всей
мудрости не в школьной системе, не в схоластическом [сокро-
венничестве], а в Библии. И чтобы данный совет не остался
неисполнимым, он подарил Лютеру Библию. Так исполнилось
одно из давних желаний Лютера.
Еще раз потом посетила Лютера опасная болезнь, опять
готовился он к смерти, и страх смерти снова вызвал пред его
воображение все прежние страшилища. Один старый монах
посетил его в таком состоянии и принес ему самое простое
утешение. Когда Лютер открыл перед ним свою душу, старик оперся
* «До сих пор я думал,— писал он,— что правосудие есть грозный гнел.
Божий, которым он карал грешников», Ranke, I, 296.
Элемент религиозный
89
* «Впоследствии, еще более утвердившись в этой мысли чтением
Августина, Лютер писал: тогда радость проникла в мою душу, ибо я понял,
я увидел, что справедливость Божия есть его милосердие, что в нем-то
и мы находим свое оправдание; тогда праведность и справедливость стали
для меня одно, и не было больше места сомнениям». Ranko, I, 296.
90
Лекции 1848/49 г.
Занятия Лютера
в Виттенбергском университете
Известно, что приносил с собою Лютер на новое поприще*:
убеждение (не одно только направление). Теперь это
убеждение, его собственность, должно было сделаться общим
достоянием. Для этого было у него теперь два средства: кафедра
профессорская и кафедра церковная, Лютер хотя учил философии и
сначала должен был много читать Аристотеля: но под руками
Лютера схоластическая наука перерождалась в учение,
основанное па Писании, становилась проводником тех убеждений,
которые читал Лютер. Он сам продолжал заниматься изучением
Августина, проповедью Таулера и посланиями апостола Павла.
Штаупиц был в то же время первым деканом теологического
факультета в Виттенберге. Университет с самого начала назвал
Августина своим патроном. Кафедра церковная: на это поприще
вызвал Лютера также Штаупиц. Нет нужды говорить, что это
место было еще приличнейшее для того, чтобы убеждение Лю-
iepa распространялось в народе. И слово его действовало.
Между тем Лютер вовсе еще не думал держать оппозицию
римскому двору. Как мистики, он еще долгое время не замечал
того противоречия, которое выходило из его учения в отношении
к римской доктрине. Лютер еще сам себе никогда не давал
отчета, что такое Рим и его иерархия. С его убеждением оставалось
многое, что продолжало жить в нем бессознательно. Это
обнаружилось особенно во время путешествия его в Рим, которое он
предпринял по делам (поручению) своего ордена. Для человека
со средневековым сознанием Рим был почти такой же
святыней, как Иерусалим. И Лютер, завидевши еще издали его
стены, пал на землю и в умилении сказал: приветствую тебя,
священный Рим. Прибывши в город, он прежде всего занялся тем,,
чтобы исполнить все так называемые добрые дела 39, посетил все
святые места, не остановился даже перед Scala Santa и вполз по
ней на коленях. Сравнивая громадные руины языческого Рима с
скромными остатками первоначального мира христианского,
с гробами мучеников, Лютер еще более убеждался в том, что
«праведный от веры жив будет» (Римлян., I, 16)40.
Но там же, в этом самом Риме, должно было пробудиться &
нем и первое сознание о том, что его убеждение несовместимо
с римской иерархией в ее настоящем состоянии. На престоле
папском восседал тогда Юлий II, в руках которого меч Петра
превратился в меч завоевателя. Но, кроме того, в Риме еще
свежо было предание об Александре Борджиа. Но всего более
должен был поразить его тот индифферентизм, который так
распространен был между римлянами вообще, между духовным со-
* Merle d'Aubigné и Ranke·
Элемент религиозный
9t
словием, может быть, всего более*. Одна важность, и никакого
духа. Он часто сам совершал в римских церквах литургии, но
прежде чем он успевал сполнить одну, соседственный капеллан
служил их до семи. Однажды он еще приступил к чтению
Евангелия, как соседственный пастырь, кончив свою службу, сказал
ему: Passa, Passa, ну же, скорее, поторапливайся, да и дело с
концом. Другой в подобном случае сказал ему: пора, пора,
посылай скорей сына к матери **. В застольных беседах, на
которые сходились многие знаменитые прелаты, Лютеру доставалось
слышать и гораздо хуже того. О самых священных предметах
говорили они с таким легкомыслием, что Лютер не верил ушам
своим. Так, между прочим, рассказывали они со смехом, как
некоторые вместо известных слов, произносимых при
совершении таинства41, говорили: panis es et panis manebis, vinum es et
vinum manebis***. Лютер не мог скрыть своего изумления и
своего ужаса при таком кощунстве, и римские прелаты смеялись
над его простотой. Чем более жил он в Риме, тем больше Рим
разсвящался в глазах его. Под конец он писал: «Нельзя
поверить, какое множество грехов и всякого рода позорных дел
совершается в Риме; надобно видеть и слышать самому, чтобы
поверить всему этому. Недаром говорят, если есть где-нибудь
ад, то Рим должен быть построен на нем; это смрадная
пропасть, из которой вытекают все пороки»42. Потом он говорил, что
за 100 000 гульденов не согласился бы снова ехать в Рим. Вот
с каким чувством покидал он столицу римской иерархии.
Так более и более выходил Лютер на свою прямую дорогу.
Чем больше падала в его глазах святыня римская, тем меньше
вприл он в заслуги так называемых добрых дел, в которых Рим
видел все спасение, тем более утверждался он в мысли, что
«праведный от веры жив будет»43. Секкендорф **** рассказывает,
что в самое время, как виттенбергский профессор со всем
благоговением всползал на коленях по Пилатовой лестнице, в душе
его послышался тайный голос, который в роде упрека говорил
ему, что праведный будет спасен верой. Тайный ужас объял его
среди самого совершения благочестивого обета, он устыдился
сноего суеверия, встал потом на ноги и бежал от места, к
которому приступил с благочестием. Возвратившись в Виттенберг и
сделавшись доктором теологии — 1512 (впрочем, лишь по твер-
* Однажды, проходя одной улицей к церкви Петра, он [Лютер] с
удивлением остановился перед статуей, которая изображала папу в виде
женщины: с папской мантией на плечах, со скипетром в руке, с дитятей
у груди. Лютер изумился и спрашивал: как же сами папы могут
[терпеть] такой позор? Ему отвечали, что папы никогда не ходят этой
улицей. Merle d'Aubigne, Ι, 144.
** Merle d'Aubigne, I, 142.
*** Ты —хлеб и хлебом пребудешь, ты —вино и вином пребудешь
(лат.).
**** Merle d'Aubigne, 146.— Ranke, 300, цитирует, впрочем, и самого Лютера.
92
Лекции 1848/49 е.
дому настоянию Штаупица), Лютер всего себя посвятил
теологическим занятиям. Принцип был найден; он перешел в
глубокое убеждение Лютера; опираясь на своего руководителя —
ап. Павла, он старался теперь раскрыть свой принцип в полном
учении. Может быть, и самая клятва, произнесенная им перед
принятием докторского достоинства (juro me veritatem evange-
licam viriliter defensurum)44, возжигала в нем еще сильнее
ревность к этому делу*. Ибо ни одно слово не произносилось им
всуе. На кафедре профессорской и церковной Лютер отныи^
явился открытым провозвестником «библейской или
евангельской теологии», прямо отрицал схоластицизм и всю его
мудрость. Он уже явно и определенно учил, что «Писание
апостолов и пророков выше и истиннее, чем все софизмы и школьные
теории»45; он уже начинает высказывать, что в этих школьны*
доктринах много вымыслов и басен, которые выдаются за
истину слова Божия; он учил, что нет оправдания, иного
оправдания, как только через веру; он требует от всякого отречения от
самого себя, он при всяком случае повторяет изречение
Августина: Fides impetrat, que lex imperat**.
Еще не все совершенно ясно было в новом учении, еще
оставались в нем некоторые противоречия, по уже новая наука
была основана. Еще представители старой науки думали
противопоставить сопротивление. Но Лютер, вдохновленный своим
убеждением, победоносно разил всех номиналистов и реал истой,
томистов и скотистов. Он смело и решительно наиадал на
главный авторитет их, на Аристотеля, он говорил, что сорвет эгу
греческую маску, которую шарлатаны навязали римской церкви,
и обнажит весь позор, скрывающийся под ней. Чем больше
возрастала ревность Лютера, тем больше упадал жар схоластиков.
Скоро пристали к нему убежденные силой его доводов и
собственным чтением Августина и Писания самые горячие
защитники прежней системы, Петр Lupinus и Андрей Карлштадт. Голос
Лютера стал господствующим в целой академии, новый дух
проник все юношество, которое стекалось туда искать знания. Те,
которые не хотели примкнуть к новому направлению науки, не
находили себе более слушателей. «Бог действует,— писал
Лютер,— наша теология и святой Августин чудесно идут вперед и
уже господствуют в университете. Аристотель с каждым днем
идет к верному падению. Схоластические чтения возбуждают зо-
* «Желание оправдания себе становится источником душевного
беспокойства. Но кто приемлет Христа как спасителя, тот уже нашел мир, и не
только мир, но и чистоту сердца. Всякое освящение сердца есть плод
веры. Вера есть в вас дело Божие; она изменяет нас, она возрождает
нас в Боге. Она умерщвляет в вас Адама, дает нам чрез Св. духа сердце,
творит из вас новых людей». Ranke, I, 301. Merle d'Aubigaé, 156,
** Вера просит того, что закон требует (лат.).
Элемент религиозный
9$
воту. Тот, кто не хочет знать Немецкой теологии, не находит
себе слушателей»*.
Так торжествовала новая наука. Слухи об успехах ее дошли
до гуманистов. Личность Лютера и его учение возбуждали все
их участие. Хотя это учение шло из другого источника,
впрочем, они видели, что их дело есть общее. Хотя еще и не было
прямой оппозиции (Лютер шел мистической дорогой), однако
уже и в его учении попадались многие пункты. Еще он не
повергал письменные отпущения грехов **, но уже выражал
сомнение, что этим средством человек мог получать благодать; он
уже сомневался и в том, чтобы в известных немощах надобно
было прибегать к известным небесным покровителям; наконец,
об сомневался, чтобы так называемые добрые дела могли быть
полезны человеку сами собой, и утверждал, наоборот, что всякое
дело хорошо и богоугодно, если только оно совершается в
страхе Божием. Гуманисты охотно подали ему руку на союз с ним.
Пиркгеймер, Муциан, сам Гуттен вошли с ним в переписку.
Уже в 1510 г. Лютер принял сторону Рейхлина в споре с
доминиканцами; впоследствии, в 1514 ***, он даже очень энергично
восставал против кёльнских схоластиков, особепно против их
страсти заподозревать всякое мнение именем ереси. Только с
одним из гуманистов, с главой их, Эразмом, не мог никогда
Лютер сойтись; даже гораздо более: чем более они старались
сойтись, тем более расходились по различию своих убеждений.
Сталкиваясь с противоположным мнением Эразма, Лютер тем
более вырабатывал свои собственные идеи. «Чго не нравится
мне в многоученом Эразме,— писал он в 1516,— это мнение его,
чго под оправданием от дел или от закона, о котором говорит
аностол, неудобно разуметь исполнение обрядового закона.
Оправдание от закона состоит в исполнении не одних только
обрядов, но и всех предписаний закона. Но если и они совершаются
без веры в Христа, то в глазах света такие л годи могут,
конечно, показаться совершенными, но их дела так же мало могут
служить оправдапием для них, как дикие ягоды могут быть
названы смоквою. Ибо не то что, как говорит Аристотель, мы
оправдываемся праведными нашими делами, но когда мы бываем
оправданы, тогда мы делаем и добрые дела. Наперед должен
измениться тот сам, кто хочет творить добрые дела, а дело ужо
последует за тем. Авель был угоден Богу прежде, чем угодил
ему своим делом». В другом месте он говорит, что в Эразме
«человеческое берет перевес над божественным»****. Глубокое слово,,
ь котором действительно выражается вся сущность различи*
* Merle d'Aubigné, Ι, 153.
** Ranke, 303, 307.
*»*■ Hagen, II, 11.
**** Merle d'Aubigné, Ι, 161.
jW
Лекции 1848/49 г.
между Эразмом, теологом-гуманистом, и Лютером, мистиком-
теологом.
Влияние Лютера, впрочем, не ограничивалось одним
университетом и гуманистами: всякий, кто только имел случай близко
подходить к нему, слышать его проповедь или назидание,
состоял уже под влиянием его великой личности. Круг его действий
распространялся с каждым годом. В 1516 Штаупиц, отъезжая в
Нидерланды, назначил его своим наместником, и Лютер
принялся с ревностью за свою новую обязанность: он обозревал
монастыри, перемещал монахов, низлагал приоров, которых находил
недостойными своего поста, и везде сеял свет своего учения *.
Но всего лучше, всего усиленнее принималось оно в самом
университете. У него уже были не только слушатели, но и ученики,
которые усвоили себе его учение и продолжали развивать его
далее. В 1516 один из них, Беригард фон Фельдкирхен,
публично защищал тезисы, в которых прямо слышалось учение
Лютера. Вот некоторые: «Человек вне благодати Божьей не может
исполнить заповедей Божьих, ни в целом, ни частью не может
приготовить себя к восприятию благодати, он остается под
грехом».— «Воля человека без благодати не свободна, но связана,
хотя и состоит из свободных элементов (und zwar aus freien
Stücken)»**.
В этих тезисах видны уже и те крайности, к которым
впоследствии склонялось учение самого Лютера: не только дела
бесплодны без благодати, но и сама воля несвободна, бессильна
что-нибудь сделать, прежде чем удостоится благодатного
освящения ***. Диспут сделал много шума между учеными, но дело
не пошло далеко.
Из друзей, которых приобрел себе Лютер на стороне,
замечательнее других был Сиалатин, умный капеллан46 при дворе
курфирста Фридриха. Через него и через Штаупица Лютер слал
* Об этих посещениях см. Merle (TAubigné, 105 et cet. Лютер везде
исправлял злоупотребления и давал везде истинно хрпстиапские советы.
Между прочим он посетил и тот монастырь, в котором сам провел три года
своей монашеской жизни. Он поставил там приором друга своего Иоанна
Ланга, человека строгой испытанной честности.
** Merle d'Aubigné, 164.
=*** Через несколько времени Лютер сам выступил на сцену с 99 тезисами,
в которых его учение о благодати и повреждениях человеческой воли
достигло своей окончательной определенности. Так, например: то
несомненно, что человек, ставший дурным деревом, может хотеть и делать
только злое.— Или: лучшее и непогрешительное предуготовление и
единственный способ достижения благодати есть вечное предызбра-
ние и предопределение божие.— Также: природа человеческая сама по
себе не имеет ни правильного знапия, ни доброй воли.— Нет негодного
нравственного действия без гордости или без огорчения, следовательно,
без греха.— Мы оправдываемся не праведными делами, но оправданные,
мы получаем способность делать добрые дела. Все эти тезисы обращены
не только против схоластицизма, по и против рационализма: здесь
•Лютер расходился с гуманистами. Merle d'Aubigné, 1, 172. 175.
Элемент религиозный
9*
известия самому курфирсту. Фридрих слушал его проповедь и
остался им весьма доволен. Однажды, в знак особенной
благосклонности, подарил он ему сукно на монашескую одежду (kul-
le); иное действие произвела проповедь Лютера на другого
владетельного князя из Саксонского дома — герцога Георга,
известного поборника старых мнений. Когда спросили его мнение, он
сказал: я бы дорого дал, чтобы не слыхать этого проповедники:
такие речи ведут лишь к тому, что люди грешат спокойнее. Так
уже разделялись в мнениях о Лютере и его учении.
Недоставало лишь случая, чтобы между приверженцами и противниками;
его произошло окончательное разделение.
Наперед несколько слов об учении Лютера. Убеждение его
перешло в определенное учение (см. выше тезисы)47. Он
говорил, что оправдание возможно только через веру; он
совершенно отвергал достоинства заслуг сов стороны человека, он
принимал коренное повреждение человеческой воли, он утверждал,
что он не способен и помыслить что-нибудь доброе без
благодати.— Это была крайность, без сомнения. Но эта крайность была
прямой противоположностью учению римской доктрины. И &
этом ее достоинство. Римская доктрина, раба иерархии, занята
была в последнее время лишь только тем, что старалась
оправдать существующую власть и существующий под ней порядок и
по необходимости обратилась в апологию этой внешности, этой
обрядности, которой преисполнена была тогда римская церковь.
Она требовала от человека лишь так называемых добрых дел..
Одна крайность побеждается другою.
Новая наука начиналась не от авторитетов, а от убеждения..
Весьма важную часть этого убеждения составляла мысль о
бесплодности добрых дел, о невозможности самых добрых желаний,
полной чистоты сердца, и известное наблюдение, что одна
внешность убивает дух, превращается в механизм. Из этого
убеждения родившееся убеждение не могло пе обратиться в другую
крайность. Полной истины не было, без сомнения, ни на одной
стороне, но на стороне Лютера было победоносное оружие
против того, что, доведенное до своих крайних результатов,
обратилось в решительное заблуждение, что вязало совесть людей,
что препятствовало успехам ума человеческого. Ибо в состоянии
своей собственной окаменелости римская церковь должна была
смотреть на всякий новый успех ума, на всякое новое его
приобретение как на ересь. Доказательством — страх Коперника,,
участь Галилея и т. п.
К главе о религ [иозном] элементе
История Лютера заменила нам на несколько лет историю
вообще. Таковы истинно великие исторические лица. В Лютере
зарождается и совершенствуется то, что потом должно наполнить-
m
Лекции J84S/49 г.
европейскую историю более нежели в продолжение одного
столетия, и мы увидим, как уже в конце спора об индульгенциях
дело Лютера становится делом сначала Виттенбергского
университета, потом самого города, наконец, даже делом некоторых
князей. На Вормсском сейме именно оно перестало быть делом
частным, оно стало делом всех людей, принадлежавших
известному направлению. Но прежде чем перейдем к истории этого,
теперь уже общего дела, не забудем упомянуть об одном
параллельном явлении. Это явление есть Цвингли в Швейцарии...8.
СПОР ОБ ИНДУЛЬГЕНЦИЯХ
В 1517 году, в то самое время, как Виттенбергский
университет так занят был новой наукой, в окрестностях Саксонии
показался продавец индульгенций, доминиканский монах Тецель.
Дело было не новое: оно так часто уже и прежде повторялось в
Германии. Папе Льву X нужны были деньги для постройки
храма св. Петра; как говорилось, частью же и для других
расходов. Интересы Майнцского архиепископа сошлись с интереса-
ми папского престола. Альбрехт, тогда избранный Майнцскнй
архиепископ, должен был достать пане 30 тысяч гульденов за
срой паллиум1. Он занял эту сумму у аугсбургских банкиров
Фуггеров и, чтобы скорее очистить свой долг, согласился на
продажу индульгенций в своей духовной провинции под условием,
чтобы половина сбора поступала к нему. А чтобы счеты были
еще короче, то к продавцам индульгенций приставлены были
приказчики от банкирского дома, уполномоченные тотчас брагь
половину сбора к себе *2.
Для продажи дешевой благодати множество комиссаров
разослано было по всей провинции. Дело происходило обыкновенно
таким образом: комиссары, которым поручена была продажа,
разъезжали в добром экипаже в сопровождении трех всадников
и с многочисленного прислугою. Подъезжая к какому-нибудь
городу, они посылали от себя известить городовой магистрат, что
«приближается милосердие Вожие и благодать св. Отца»**3.
Тогда весь город приходил в движение. Все сословия, духовпые,
монахи, городовой совет, бюргеры, ремесленные цехи, мужчины,
женщины, старый и малый со свечами в руках, при звоне
колоколов спешили встретить приближающуюся святьшю. После
этой встречи процессия отправлялась в соборную церковь.
Впереди несли на бархатной подушке папскую буллу, потом с дере-
а Далее материалы дополнения к главе «Элемент религиозный» опускаются
(л. 73а —73з).
* Ranke, I, 310.
** Merle d'Aubigné, Ι, 182.
Спор об индульгенциях
97
вянным крестом в руке шел главный комиссар. В церкви их
опять встречали с музыкой и пением. Потом крест утверждали
на алтаре, комиссар выходил на кафедру, чтобы в пышной алло-
куции * представить им чудесные действа индульгенций и
возбудить их усердие к приобретению такого драгоценного дара.
В своих панегириках индульгенциям комиссары доходили иногда
до крайних нелепостей. Исчисляя все достоинства своего товара,
продавцы делали потом к слушателям воззвания, обращались к
самым страстям их, старались подействовать на них то страхом,
то обещаниями и в заключение приступали к самой продаже4.
Индульгенции различались на большие и малые. Большая
индульгенция, или полное отпущение, простиралась на все
грехи и давалась, кроме денежного взноса, под условием
исповеди **. Вот почему, когда открывалась продажа индульгенций,
в церкви расставлялись известные -исповеднические шкафы, как
это обыкновенно бывает в католических церквах. Другие
индульгенции, смотря по желанию покупающего, давали ему или
право избирать себе духовника, который бы мог по желанию
разрешать его в известных обстоятельствах, или искупление душ
умерших из чистилища, или участие во всех добрых делах
воинствующей церкви — в постах, молитвах и т. п. Последние
давались просто лишь за деньги. Впрочем, епископские инструкции
очень много смягчали строгое предписание и в отношении к
первой индульгенции. Они говорили, что для этого достаточно
купить исповедное свидетельство. Тому же, кто бы желал
искусить души умерших из чистилища и им доставить искупление
от грехов, довольно положить деньги в ящик, но от него не
требуется пи угрызений совести, ни устной исповеди.
Впрочем, как никогда не было недостатка в желающих
полного отпущения грехов и как исповедоваться становилось
дешевле, чем покупать исповед [альное] свидетельство, то
исповедников всегда набиралось очень много. Дело шло очень споро; от
исповедника переходило потом к продавцу индульгенций.
Смотря по виду покупателей или по их достоинству и достатку,
комиссар назначал различную цену за свой товар. Высшие особы:
короли, князья имперские, архиепископы и епископы платили
по 25 дукатов; графы, бароны, аббаты — по 10; другие
отделывались 6 дукатами и меньше, смотря по состоянию. Но при этом
еще комиссары уполномочены были за особые грехи давать
особые отпущения, разумеется, за взимание известной платы***.
Для этого у них была и особенная такса, так что стоило только
назвать грех, чтобы тотчас видеть, чего он стоит. Так, убийство
ценилось в 8 дукатов, святотатство и клятвопреступление — в 9,
* Речь, обращение с речью (лат,).
** Папке, I, 311.
*** Merle (TAubigné, Ι, 188.
7 π, Η. Кудрявцев
98
Лекции 1848/49 г.
многоженство — в 6 л проч. *. В других местах, впрочем, были
свои особенности; так, Симеон, продававший индульгенции в
Швейцарии, брал за братоубийство по 1 дукату, за
детоубийство — по 4 ливра и т. п.
Позорная страница в истории! Человечество жило, наконец,
таким убеждением, что оно может откупиться деньгами ог всех
грехов вообще и от каждого в особенности, и самые высокие
духовные учреждения поддерживали его в этом заблуждении!
Одним из таких комиссаров был Тецель. Как бы ни смотрели
в самом Риме па промысел индульгенциями, Тецель видел в нем
самое святое и чистое дело. Он не мог бы понять пи
существования света, ни счастья человека без такого неоцененного дара.
Тецель исполнял свое дело с фанатизмом. В своих аллокуциях к
народу он обыкновенно возвещал, что письменное отпущение есть
величайшее из всех даров божьих, что индульгенция имеет
[силу] и на будущие грехи; что при них не нужно и самое
покаяние, что индульгенции примиряют с Богом не только живых, но
и мертвых, и проч. Воззвание его к пароду отличалось особенной
наглостью: «О вы, малосмысленные, еще ли хотите вы
уподобиться скотам и презреть с такой щедростью предлагаемую вам
благодать? Небо само открывается перед вами: еще ли медлите вы
вступить в него? О, беззаботный человек! За 12 грошей можешь
ты искупить твоего брата из чистилища, и ты так неблагодарен,
ты еще останавливаешься!» Или он возвращался к главной цели
своих усилий и. старался возбудить страсти изображением того
бесприютного состояния, в котором будто бы находились останки
Петра и Павла. «Знаете ли,— говорил он,— ради чего открывает
вам Господь свою великую милость? В Риме строится церковь
Петру и Павлу, которой равной не будет во всем свете. В ней
будут положены тела св. апостолов и мпогих мучеников. Теперь
же эти тела не прикрыты и не защищены, они остаются без
всякого призора, на них лежит пыль, падает дождь и град. Неужели
вы захотите потерпеть, чтобы их святой прах долго еще терпел
такое поношение?»** и т. д. И те, которые не хотели помогать
Льву X, спешили сделать свои приношения в пользу
беззащитных останков Петра и Павла.
Люди рассудительные, те особенно, которые состояли в связи
с движением гуманистическим или с новым движением
религиозным, с глубоким огорчением слышали об этой новой профанации
святынп. Но никто не смел восстать против того, что выдавалось
* Все эти деньги действительно шли в казну. Комиссары не брали из них
даже на свое содержание. За издержки во время пути и на месте они
расплачивались теми же индульгенциями; смотря по тому, сколько они
были должны, они давали индульгенцию на 2, 4, 5 и более душ, так что·
письменные отпущения, как вексель, принимались, наконец, в
гостиницах и на рынках. Merle d'Aubigné, 197. Ср. 191.
·· Merle d'Aubigné, Ι, 184.
Спор об индульгенциях
99
за знак высшей милости Божьей, что предписывалось папской
властью. Опи уже довольны и тем, что могли спокойно
оставаться дома и в домашнем кругу высказывать свое негодование.
Между тем толпа, падкая, как всегда, на все, что только носит имя
святыни, и погруженная во мрак суеверия, со всех сторон
сбегалась на проповедь Тецеля и с жаром теснилась к ящику, в
котором заперта была мнимая святыня. Обошедши Пруссию, собрав
обильную дань с суеверия в Берлине, Тецель продвигался к
Саксонии. Мудрый курфирст Саксонский, одаренный светлым умом
от природы и руководимый советами таких людей, как Штаупиц
и Спалатин, запретил торгашам вход в свои владения.
Ревностный Тецель никак не хотел, однако, упустить тех выгод, которые
он вправе был ожидать от ревности по вере жителей Саксонии,
л расположился в Ютербоке, местечке, пограничном с Саксонией,
но во владениях Магдебургского епископа (он же Майнцский).
Расчет был верный: едва он остановился здесь, как к нему
начали стекаться жители окрестных городов. В том числе были
многие из Виттенберга.
Такое соседство не могло не возмутить того, кто уже
поставил задачей своей жизни восстановление или защищение
сванг[ельской] истины во всей чистоте ее. Дело могло бы не
скоро выйти наружу, если бы среди своей духовной паствы Лютер
не встретил несколько человек, которые на обычное увещание
его отказаться от некоторых порочных наклонностей отвечали
отрицательно, ссылаясь на то, что они уже имели индульгенции.
Лютер был, однако, непоколебим: со своей стороны он не обещал
им никакого отпущения, если они тотчас не дадут ему слово
отречься от своих пороков. Когда его спрашивали, что же он
думает об индульгенциях, он отвечал советом держать себя подальше
от благодати подобного рода. Это было нечто новое. Внушать
подобные мысли значило восставать против положений церкви,
потому что церковь и папа — одно.
Тецель пришел в ярость, узнавши, что есть в Виттенберге
дерзкий нововводитель, который позволяет себе сомневаться в
достоинстве индульгенций и внушает подобные мысли другим.
Иметь такие мысли может только еретик, а какая участь
угрожает еретику, Тецель напоминал это стекавшейся около него
толпе символически: он велел сложить на площади костер и
зажег его. На Лютера намекалось слишком ясно, чтобы он мог
смолчать. Он не смолчал, хотя даже с опасностью навлечь на се-
<бя гнев курфирста, который прямо от папы получил особую
индульгенцию для своей придворной церкви. То, что прежде
передавалось в виде совета, Лютер перенес в свою проповедь. Он,
наконец, учил с церковной кафедры, что только ленивые ищут
письменные отпущения, но что настоящие христиане должны
■быть далеки от подобных мыслей. В заключение своим резким
тоном, не способным ни к какой уклончивости, он говорил: «Пусть
7*
100
Лекции 1848/49 г.
бранят меня за это еретиком те, которые чувствуют, что такая
истина повредит их ящику или карману; подобные толки очень
мало занимают меня, потому что они распускаются темными
людьми, которые Библии никогда и не нюхали, учения
христианского никогда не разумели и существуют лишь несколькими
отрывочными, бессвязными мнениями. Я молю Бога, чтобы он
вразумил их в истинный смысл»*.
Сделав свое дело как проповедник, Лютер должен был еще
повторить его как ученый, как профессор, которого мнение
имело огромный вес в целой академии. Этого требовала совесть
Мартина, его ученое убеждение, он сказал свое мнение не обинуясь.
Здесь ему была дана и более соответствующая форма.
Воспользовавшись стечением народа в Виттенберг по случаю праздника
всех святых, он прибил к дверям соборной церкви свои тезисы
против индульгенций5. Пилигримы толпами сходились к церкви,
в которой по случаю праздника также объявлено было особое
отпущение, и с изумлением читали при дверях ее, что
«проповедующие письменные отпущения заблуждаются, говоря, что
посредством их можно избавиться от всякого наказания и
сделаться блаженным; что те готовят себя прямо в ад, вместе со своими
учителями, которые, купивши письменное отпущение, думают,
что они могут больше не сомневаться в своем спасении; что
всякий истинный христиан, живой или умерший, может
сделаться участником всех благ Христа и церкви одною силою
божественной благодати и без письменного отпущения; что надобно
внушать христианам, что мнение папы вовсе не таково, будто
письменное отпущение может быть в каком-то отношении
сравнено с каким-либо делом христианского милосердия, также, что
недостаточные люди гораздо лучше делают, когда вместо того,
чтобы покупать письменное отпущение, удерживают деньги для
домашних нужд»**, и так далее, всего 95 тезисов. В заключение
было сказано, что автор положений готов на другой день
защищать их публично, утверждаясь на Писании.
Вопрос был, конечно, специальный, но он был в связи с
ходячей церковной доктриной о достоинстве добрых дел, о непогреши-
тельности папского авторитета в делах церковных. Многие, без
сомнения, вовсе не прозревали этой связи (сам Лютер думал,
что он не нападает на папство, а защищает его же достоинство
против тех, которые могли бы повредить ему своими
нелепостями), но поражало всех это открытое, прямое небоязненное
нападение на один из пунктов всеобщего верования. Кто вызывал, кто
просил этого человека? Что за охота была ему накликивать на
свою голову беду неминучую? — И все, кто только мог,
поражались новостью дела, старались вапастись экземпляром дерзких
• Merle d'Aubigné, 205.
·· Merle d'Aubigné, Ι, 211.
Спор еб индульгенциях
SOI
записей Виттенбергского доктора, чтобы возвратившись домой,
сообщить свое изумление всем знаемым.
Через пилигримов и через знакомых Лютера, так же как и
через тех, которых он вооружал против себя этой дерзостью,
тезисы скоро распространились по всей Германии. Через м [еся] ц они
были уже в Риме *. Никогда жители этой страны не были так
настроены, умы не были так приготовлены к принятию подобной
новости. Впечатления были различные. Понятно, что одни были
в негодовании и не хотели иначе смотреть на Лютера, как на
еретика; зато другие, дивясь смелости мужа, видели в его деле
исполнение своих давнишних желаний. Об них, об эти тезисы
пспытывались умы и сердца людей: робкие, ограниченные
фанатики становились по одну сторону; те, которые чувствовали
тяжесть суеверия, которые были доступны голосу правды, откуда
бы она ни приходила, отдались на другую. Даже между
высшими духовными лицами в Германии нашлись люди,
принадлежавшие к последнему из двух разрядов. Епископ Вюрцбургский
Лоренц Бобра, человек просвещенный и очень уважаемый в
империи, не скрыл своего удовольствия при чтении тезисов Лютера
и явно принимал его сторону.
Доктор Флекк, приор одного монастыря, нашедши тезисы в
монастырской трапезе, тоже не мог удержаться от радости и
сказал вслух: «Ого! Так вот, наконец, приходит тот, которого мы так
долго ждали. В этом уме будет пищи ла целый мир»**. Один
пастор в Вестфалии, прочитавши тезисы, воскликнул в восхищении:;
«...О, милый брат Мартин! Ты будешь истинно великий человек,
если вместе с этим торгашеством успеешь ниспровергнуть и
чистилище»***. Кроткий епископ Бранденбургский писал по тому же
случаю к Лютеру: «В тезисах твоих я не нахожу ничего, что бы
противно было католической вере; я и сам не одобряю этой
торговли, но из любви к миру хотел бы, чтобы об этом не говорили
и не писали более». То же опасение завязаться в спор, который
мог простираться очень далеко, которого исхода нельзя было
и предвидеть, удерживало курфирста Фридриха объявить себя
покровителем Лютера. Но император Максимилиан тотчас понял
политическую важность такого явления, как брат Мартин, и
спешил передать насчет его свой совет курфирсту: ты побереги нам
брата Мартина; он нам может очень пригодиться со временем.—
Так возбуждено было тезисами общее внимание.
* M[erle] d'Aubigné, 219.— Мпконий: в две недели они распространились
до всей Германии, в месяц — почти во всем христианском мире, как
если бы ангелы были вестниками и спешили разнести их между людьми.
Через несколько времени они были переведены на голл [андский] и
испанский языки, и, наконец, один путешественник продавал их в
Иерусалиме.
** Merle d'Aubigné, Ι, 221.
·*· Ibid., Ι, 225.
102
Лекции 1848/49 г.
Посмотрим теперь, какое впечатление произвели тезисы
между гуманистами. Естественно, что они не могли не сочувствовать
такому явлению, но у них при этом высказывалась какая-то
робость, нерешительность, так вообще им свойственная, опасение
за самого Лютера. Адельман фон Адельмансфельден (в Аугсбур-
ге) писал к Пиркгеймеру: Я боюсь, что достойный муж скоро
должен будет отступать назад (не будет иметь никакого успеха)
перед силой и влиянием доминиканцев. Дай Бог, чтобы власти
поддержали его, чтобы это не было для него лишь посланным
свыше искушением. Я теряю всю твердость духа, когда подумаю
только, какая опасность грозит ему. Историк Альбрехт Крана
(в Гамбурге), получивши тезисы Лютера, сказал с искренним
сожалением: ты говорил правду, брат Мартин, но успеха не жди
себе. Бедный монах, иди скорее в свою келью и проси Бога,
чтобы он умилостивился над тобой. Эразм, находившийся тогда в
Нидерландах, защищая Лютера от нападений, выразился так:
«Бог посылает людям врача, который режет тело на куски,
потому что видит, что болезнь иначе неизлечима». После, когда кур-
фирст Фридрих просил у него совета в деле Лютера, он писал
к нему: «Меня не удивляет, что он наделал так много шуму; он
сделал две непростительные ошибки, напал за один раз и на
посланца товару, и в то же время неосторожно коснулся
монашеских желудков»*. Ульрих фон Гуттен без всякого стеснения
принимал также горячее участие в деле Лютера, но он молчал до
1520 года 6, не упоминая даже имени Лютера в своих сочинениях,
чтобы не бросить тень на Альбрехта — Майнцского архиепископа,
у которого он был тогда на службе **7.
Между тем с противной стороны явно и гласно высказывалась
ненависть против дерзкого нововводителя. Тогда как
просвещенное меньшинство держалось в отдалении, не смея подать голоса
в пользу Лютера, приверженцы старого порядка вещей влияли
против него как против самого вредного члена христианского
общества. Их было большинство; мнения нерешительные,
которые подавали о себе добрые надежды, пока дело шло только о
гуманизме, не могли вместить в себя нового движения и теперь
прямо становились в передовые ряды защитников индульгенций
и всего существующего порядка. Подле себя, за исключением
разве своих учеников, Лютер не видел никакой опоры.
Университет не подавал голоса... Между его собратьями по ордену нашлось
очень много порицателей. Монахи того монастыря, в котором жил
Лютер, пришли в келью Мартина и умоляли его оставить
несчастное дело, которое должно покрыть позором целый орден8.
Упреки сыпались на него и с другой стороны; его упрекали
в легкомыслии, гордыне, заносчивости. Иные обращались прямо
* См. также: Merle <TAub[igné], II, 135,
·* Hagen, Bd. II, S. 91.
Спор об индульгенциях
103
к сердцу Мартина и, порицая его действия, уверяли, что делают
это из желания ему добра. Лютер был человек: оставаясь один
тогда, когда против него поднималась буря, он не мог не
почувствовать некоторого смущения. Он думал, что истина так ясна,
что нужно только ее выговорить, чтобы все тотчас обратились
к ней; он мечтал, что не только все истинно ученые будут с ним
заодно, но что, может быть, даже сам глава церкви примет его
сторону, видя в нем такого горячего поборника евангельской
истины; и вот между тем друзья его или молчат или отрекаются
от него; те, которых мнения он привык уважать, видят в его
политике безрассудство, легкомыслие, а враги прямо грозят ему
осуждением. На кого же положиться, от кого ожидать помощи?
И не ошибся ли он в самом себе? Не увлекся ли он своим личным
мнением? Сомнения снова начинают тесниться в эту душу, уже
испытанную внутренними борениями; Лютер готов был впасть
в уныние. Он с ужасом воображал, что возбудил против себя всю
церковь, нарушил в ней тишину и спокойствие, разделяя
общество христианское на партии, и все, может быть, лишь из
одного самолюбивого увлечения. Зло уже так велико: в состоянии ли
он будет исправить его?
Но если, озираясь кругом себя, Лютер точно тогда не
встречал ободрительного взора, то внутри самого себя он находил
непоколебимое убеждение, которого не могли потрясти никакие
внутри*. Что бы ни было, но отступить от своего мнения он уже
был не в состоянии, отречься от него — значит отречься от своей
натуры. Хотя бы один против всех, он должен был выступить на
борьбу, к которой уже был сделан первый шаг. В вере почерпал
для себя Лютер и утешение. Он думал: если дело мое от Бога,
то оно пойдет, хотя я и слаб; если же оно не от Бога, то его не
поддержит никакая сила; но пусть оно идет вперед, и, если
Богу будет угодно, оно достигнет своей цели. Такой ответ дал он
монахам, которые пришли просить его, чтобы он оставил все дело.
Любопытно собственное признание Лютера об этой борьбе
его с самим собой: «Ни один человек не знает, сколько я
потерпел в первые два года, как велико было мое уныние, сколько раз
я впадал в отчаяние. Этого не знают те надменные умы, которые
после нападали на папу с такой отвагою и которые при всей
своей ловкости никогда бы не могли повредить ему, если бы
Христос через меня, свое слабое и недостойное творение, не нанес ему
неисцелимой раны. Они смотрят лишь его стороны и оставили
меня одного в дни опасности, и не был я ни спокоен, ни уверен
в самом себе, ибо тогда еще не знал я многого, что — благодарение
Богу — знаю теперь. То правда, что нашлись благочестивые
люди, которые не без удовольствия читали мои тезисы, но не мог
я признать их за орудие (органы) св. Духа; и мои взоры еще об-
• Так в рукописи.
104
Лекции 1848/49 г.
ращены были тогда на папу, на кардиналов, на теологов,
юристов, монахов и пр.; оттуда только ожидал наития св. Духа.
Только опровергнув посредством Писания все приводимые против
меня доказательства, победил я в се§е самом, после многих усилий
и тяжелой борьбы, при содействии Христа ложную мысль, будто
и сама церковь должна прекратиться (будто восставая против
римской церкви, я поборю церковь истинную): ибо на папскую
церковь я еще смотрел тогда как на настоящую, и даже с
большим чистосердечием и благоговением к ней, чем все эти
бесчестные порицатели, которые из вражды ко мне готовы содействовать
ей всеми своими силами. Если бы тогда я столько же презирал
папу, как те, которые столько восхваляют его на словах, я бы
каждую минуту с трепетом ожидал, что земля разверзнется под
йогами моими и поглотит меня живого, как поглотила она Кору
i(Korah) и всех, которые были с ним»*.
Итак, благоговейный страх перед папой, который еще
сохранил Лютер, перед папским авторитетом, вера в его
непогрешимость, которая еще жила в нем нетронутая, вот что еще спасало
в Лютере будущего реформатора. У него также, может быть,
недоставало духа, когда бы он подумал, что, выступая против
индульгенций, он вместе с тем выступает против самого папы.
Увлеченный своим убеждением восстать против индульгенций, он
шаг sa шагом зашел, наконец, так далеко, что очутился прямо
перед авторитетом папы и отступать было уже невозможно.
В отрицательном смысле никто не сделал столько для дела
Реформации, сколько Тецель. Грубый, невежественный фанатизм
со всей страстью, которая делает его мстительным, даже
кровожадным, часто служит, сам того не зная, сильным орудием для
того, чтобы подвинуть дело истины. Тецель был одним из таких
людей. С бестрепетностью человека, как следует отважному
рыцарю непогрешительности, поднял он перчатку, брошенную
Лютером; он отвечал ему на проповедь проповедью, на тезисы
тезисами. В каждом его слове, в каждом тезисе заключались или
наглая брань или новый вызов (провокация). В заключение он
вызывал Лютера в Франкфуртский университет, чтобы там еще раз,
лицом к лицу, померяться аргументами: «Там увидим мы, кто из
нас есть еретик, отступник, лжеучитель и наглый клеветник...
А я за мои положения готов перетерпеть палки, оковы, огонь
и воду»**.
Письменно опровергнув положения Тецеля, Лютер со своей
стороны заключил так: «здесь я, в Виттенберге, доктор Мартин
Лютер, и если есть где такой Ketzermeister***, который берет на
[себя] глотать железо и сокрушать самые утесы, тому-де будет
* Merle d'Aubigné, Ι, 227«
** Merle d'Aubigné, I, 229. ;
*** Знаток еретиков (нем.)*
Спор об индульгенциях
105
видимо, что ему открыт свободный вход, что его не задержат ни
перед одними воротами, что его не заставят даже платить за
издержки по милостивому изволению нашего досточтимого и
христолюбивого князя, герцога Фридриха, курфирста Саксонского.
Никогда не захочет он потерпеть у себя ереси»9. Никто не
явился на этот прямой добросовестный вызов. Дело могло бы
затихнуть, пожар погаснуть в самом начале, не погорячись Тецель, не
разнеси он огонь по всей Германии. В нем было много
фанатической ярости, мало истинного духа: не терпя самой мысли, чтобы
тезисы Лютера остались без опровержения, чтобы дерзость его
прошла ему даром, он обратился к ревностным теологам
Франкфуртского университета, между которыми Вимпина был особенно
ревностным партизаном римской доктрины. Вимпина был рад
случаю выразить свою ненависть к виттенбергскому теологу. Он не
только написал по желанию Тецеля антитезисы, но еще перенес
вопрос на новую почву. Не только утверждалось в них, что папа
один имеет власть исследовать и произносить решения в делах
веры, но и что всякий, осмеливающийся выражать сомнение
в этой власти, подвергается осуждению как виновный в
оскорблении величества. Это значило прямо поставить Лютера
противником папской власти и воздвигнуть против него всю иерархию«
Диспут был держан со всею торжественностью; нарочно
созвали более 300 монахов из соседственных монастырей; Лютеру,
хотя заочно, хотели нанести конечное поражение. Теологи
университета едва осмеливались возражать даже для формы,
приверженцы Тецеля и Вимпины уже торжествовали. Только один
голос смутил несколько почтенное собрание. Это был один студент
по имени Иоганн Книпстров *. Сверх всякого ожидания он начал
серьезно возражать Тецелю; слышалась в словах его сила
убеждения; Тецель, нисколько не приготовленный к подобному
нападению, спешил передать диспут Вимпине, но и тот, истощив
все свои убеждения, кончил тем, что в качестве президента
закрыл диспут и объявил Тецеля достойным докторской шляпы.
Книпстрову не обошелся даром его смелый поступок. Вимпина
тотчас отдал его под строгий надзор в далекий монастырь в
Померании. С своей стороны торжествующий Тецель, нетерпеливо
желая подвергнуть Лютера как обличенного еретика достойному
наказанию, тотчас вступил в должность инквизитора, велел
воздвигнуть на площади одного из франкфуртских предместий
костер и кафедру, долго вопиял и глумился с кафедры над
нечестивым еретиком и в заключение бросил в огонь тезисы и проповедь
Лютера, говоря, что так должен погибнуть и сам виновник их.
С того времени имя Лютера как злостного еретика разнеслось
по Германии. Все фанатики римской иерархии ободрительно
подняли головы и спешили присоединить свой голос к голосу Тецеля,
• Merle d'Aubigné, Ι, 237, 239.
106
Лекции 1848/49 в.
Задача состояла в том, чтобы как можно больше опорочить
его перед народом и заподозрить в глазах всех властей, духовных
и светских. Гогстратен один из первых откликнулся на голос Те-
целя. Он был так рад новой жертве, на ней-то по крайней мере
желал он выместить поражение, потерпленное им в деле Рейхли-
на. Гогстратен не считал нужным делать обличение Лютеру: дело
было решено, обличение произнесено, осталось только возбуждать,
как следует, чтобы Лютер был немедленно выдан в руки
правосудия. «Воздвигните костер для еретика,— вопиял он.— Если он
будет жить еще час, мы все повинны будем церкви в
предательстве». Третий, не менее энергичный, голос против Лютера
раздался из самого центра Германии, из Инголыптадта. Здесь,
правда, не было речи ни об инквизиции, ни о костре; все дело
состояло в том, чтобы обличить Лютера с научной точки зрения,
чтобы показать его невежество, но из всех нападений, устремленных
на Лютера, это последнее должно было произвести на него
самое грустное впечатление. Оно шло от доктора Экка, сверстника
Лютера по первым занятиям, человека, которого он привык
уважать за его обширные знания, за его основательный ум. И теперь
этот человек становился в один ряд с инквизиторами!
Но таков был Экк: натура низкая, ограниченная и притом
в высшей степени самолюбивая; он мог понять добрую сторову
гуманизма и быть даже одним из его распространителей, но для
высших принципов он не существовал; и в нападении на старые
принципы, от которых он не мог отрешиться, видел прямое
нападение на свою личность. В Лютере особенно не мог он
потерпеть его превосходства, того значения, которое он начал
приобретать в Германии. Словом, ему хотелось победы не над
убеждениями Лютера, но над самим Лютером. Сочинение его
«Обелиски»10 было написано с озлоблением. Так весь этот схоластицизм,
еще недавно воевавший с гуманистами, восстал теперь на
Лютера. Он стоял непоколебим, как утес, твердый своей верой *. Не
знали его эти люди, не знали они свойства глубокого истинного
убеждения: в борьбе оно не слабеет, но укрепляется. Если у
Лютера оставались еще некоторые сомнения, то они рассеялись
именно в этой борьбе. Не смущаясь, Лютер отвечал порознь каждому
из своих горячих противников. Но наперед нельзя не упомянуть
о том горячем участии, которое вовсе неожиданно обнаружилось
в его пользу в Виттенбергском университете. Это было тотчас
после франк [фуртского] диспута. Тецель послал несколько сот
экземпляров своих тезисов в Саксонию. Едва только посланный
явился в Виттенберг, как студенты окружили его толпой и частью
купили у него тезисы, частью взяли силой. Еще ни сенат, ни
ректор ничего [не] узнали об этом, как на университетской доеке
* Он мог прийти в некоторое уныние, когда узнал, что ему делают упрек
в ереси, но и самое уныние не могло поколебать его убеждения.
Спор об индульгенциях
107
читалось следующее объявление: кто хочет присутствовать при
сожжении и всей погребальной процессии Тецелевых тезисов, тот
имеет в два часа явиться на площадь. В назначенное время они
в самом деле собрались во множестве и с триумфом сожгли
тезисы.
Лютер нисколько не участвовал в деле сожжения: он даже
порицал его*; иным оружием хотел он сражаться со своими
противниками, оружием слова и мысли. Чем больше противники
его выставляли ему на вид непогрешительность папского
авторитета, который, говорили они, он оскорбил своим учением, тем
больше укрывался он за авторитет слова Божия. Когда ему
говорили, что «тот, кто не утверждается на указания римской
церкви и римского папы, как на единственном непогрешительном
источнике верования, от которого само Св. Писание получит свою
силу и значимость, есть еретик», Лютер ответил своим
положением или, лучше сказать, словами ап[остола] Павла: Если бы
кто, хотя бы сам ангел, иначе проповедовал вам Евангелие, чем
как мы его вам проповедовали, тот да будет проклят. Отсюда
было весьма близкое заключение, что как папа, так и соборы
могут ошибаться. Это не было еще совершенное отрицание
папского авторитета, но постановление авторитета слова Божия
выше всех других авторитетов.
Гогстратен более других раздражал Лютера своей
фанатической неумеренностью. Отвечая ему, Лютер сам не мог
[воздержаться] от резкого тона. «Продолжай свое дело,— говорил он в
заключение своего ответа,— неистовый человекоубийца, ты,
который живешь кровью твоих братьев; да, я желаю, чтоб ты
никогда не называл меня истинно верующим христианином, пусть у
тебя я буду еретиком. Понимаешь ли ты это, кровожадный человек,
враг невины? И если ярость твоя дерзнет что предпринять
против меня, то поступай осмотрительно, не ошибись во времени.
Бог знает мои мысли, недаром он щадит мою жизнь. Если
угодно ему, мои надежды и мое терпение не обманут меня»**.
Нападение Экка более тронуло, нежели раздражало Лютера. «Меня
называют в Обелисках человеком опасным, богемцем11, еретиком,
возмутителем, дерзким, наглым — не говоря уже о мелких епитетах,
как-то: невежда, пьяный и т. п. А между тем сочинитель их
человек, достойный всех похвал, муж высокого ума, исполненный
знания и, что мне особенно больно, человек, связанный со мной
старой дружбой, которая недавно была возобновлена еще
теснее — словом, это Иоганн Экк, доктор теологии, канцлер в Ин-
голыптадте, муж, знаменитый своими сочинениями. Если бы я не
внал всей злобы сатаны, я бы не мог надивиться этому
ожесточению, с которым он разорвал столько свежие узы нашей
♦ Merle d'Aubfigné], Ι, 243.
■· Merle d'Aubigné, I, 251.
ä08
Лекции 2848/49 в.
дружбы, не предваривши меня, не известивши меня наперед ни
одним словом»*.
Но все это было только началом злу. Искры пожара,
зажженного Тецелем, скоро долетели до самого Рима. Там лежали громы
ватиканские, разразившиеся некогда над Гусом и Иеронимом 12f
они же могли теперь разразиться и над Лютером. Первый,
которому попались в руки тезисы Лютера и который поднял тревогу,
был генерал-приор доминиканцев, он же и римский цензор,
Sylvester Mazzolini von Prierio**. Понятно, чего можно было ждать
От такого человека; но опасно было то, что его слова раздавались
уже под сводом папского дворца. Приерио не замедлилб отвечать
Лютеру в особом диалоге 13, в котором не взял даже на себя
труда серьезно разобрать положения Лютера, думая уничтожить
противника римской церкви одним надменным презрением,
цинической насмешкой. «Собакам свойственно лаять,— говорил он,
отвечая Лютеру,— твой отец верно был собака»***. В заключение,
впрочем, он уже принимал другой тон: «Римская церковь имеет
δ папе вершину духовной и светской власти, она может
справляться с отщеп [ен] цами и светской властью и не имеет нужды
оепременно прибегать к доводам, чтобы опровергать
вольномыслящих». Но Лютер не испугался даже угроз, которые выходили
прямо из Рима; с тем же умом, с тем же спокойным убеждением
отвечал Приерио, как отвечал Тецелю, Экку и другим. Этого
мало: чтобы предотвратить ложное объяснение своих тезисов, он
написал к ним объяснение (Resolutiones)14, в котором,
разумеется, сказал свою мысль еще яснее. Здесь он вошел в анализ
своих кратких положений и высказался гораздо больше, нежели,
может быть, желал сам. Он ничего не брал назад, он только
пояснял! Еще яснее, следовательно, высказалась здесь и та мысль,
что папа тоже человек и может не только заблуждаться в своих
мнениях, но даже и впадать в пороки, и что были действительно
такие папы — мы это знаем из истории,— которые позволяли
себе невероятные вещи. Еще о настоящем папе Лютер говорил
с уважением, еще он восхвалял его ученость и чистосердечный
нрав, но уже гнева римского он избежать более не мог.
Рим начал с того, что курфирст Фридрих получил от папского
двора предупреждение — отступиться от Лютера и отказать ему
в покровительстве, если он не хочет подвергнуть сомнениям свое
правоверие. Явно, что Лютеру готовилось на первый раз
отлучение. По счастью, что письмо адресовано было к такому челове-
• Ibid., 252.
** Сам папа сначала был очень равнодушен к делу Лютера. Он выразился
так: это монашеский спор, лучше ne мешаться в него. В другой раз он
сказал: тезисы написал пьяный немец; дайте ему проспаться, и он сам
заговорит другое. Merle d'Aubigné, 245.
0 Далее зачеркпуто: сделать доклад папе и в то же время.
*** Merle d'Aubigné, 247.
Спор об индульгенциях
109
ку, как Фридрих: благоразумная осторожность и медленность
в решении была главной чертой его характера. Если он не
способен был увлекаться, зато и не принадлежал к числу тех
упрямых натур, для которых вовсе недоступна новая мысль. Если он
сначала не одобрял поступки Лютера, предвидя, как далеко
может пойти он, то теперь так же мало показал он готовности
служить римскому двору по его желанию. Как ни важно было
письмо (оно всякого способно было заставить задуматься), Фридрих,
однако, не хотел произнести решение прежде, чем оно созрело.
Что касается до Лютера, он, узнавши о письме кардинала к кур-
фирсту, при первом случае взошел на кафедру и сказал
проповедь об отлучении. Он различил два рода отлучения *: одно
внутреннее, действительно отлучавшее от общения с христианским
обществом, другое внешнее, отлучающее человека от обрядов
церкви. Разумеется, что вся важность приписана была первому,
о котором Лютер учил, что как включить человека в общение
верных может только Бог, так исключает себя из него сам человек
своим грехом, но не папа. О папе тут не было никакой речи,
кроме разве того, что в заключение Лютер назвал блаженным того,
кто умирает под несправедливым отлучением.
Римский двор, не видя со стороны местного князя готовности
содействовать его видам, приостановил произнесение опалы**.
Он ждал удобного случая, чтобы войти с ним в ближайшее
сношение. Случай представился, когда все имперские князья,
созванные императором Максимилианом, собрались в 1518 году на сейм
в Аугсбурге. Обстоятельства весьма благоприятствовали папе.
Максимилиан, предпринимавший тогда обеспечить наследство
императорским правлением своему внуку Карлу Испанскому 15, имел
всю нужду в содействии папы. Он был на этот раз так
предупредителен, что и сам вызвался способствовать папским решениям
относительно опасной ереси, возникшей в Германии. Начались
переговоры. Курфирст Фридрих должен был уступить силе, т. е.
сознаться, что он вовсе не думал защищать доктора M [артина]
Лютера и его сочинения и довольствовался лишь предложением дать
Лютеру охранную грамоту, чтобы он без всякой опасности мог
предстать на суд беспристрастных ученых и не лишенных
христианской любви судей и защищать перед ними свое учение.
Едва прошло два дня после писем императора и курфирста
к папе, как Лютеру возвещена была цитация в Рим. Не столько
на него самого, сколько на его друзей цитация произвела тяже-
* Merle d'Aubigné, 249.
** Впрочем, он [Римский двор] готовил дело у себя дома: составлена
была особая комиссия, чтобы судить над Лютером, и в ней заседал
Прперио, в одно и то же время судья и обвинитель. Mferle] d'Aubigné,
283. По словам Ranke, I, 321, обвинителем был папский фискал, Mario
Perusco. Процесс шел быстро и кончился тем, что Лютер в продолжение
60 дней должен был предстать к суду в Риме.
по
Лекции 1848/49 г.
лое впечатление. Все были в беспокойстве: опасность была ва
всяком случае, как если бы Лютер отправился в Рим, так если
бы он остался в Виттенберге: он одинаково подвергался
неминуемому осуждению. Любопытно узнать расположение Лютера в эту
критическую минуту. Вот что писал он к Спалатину: «Смотри,
какие сети расставляются мне, и как я отвсюду окружен
терниями. Но Христос жив и царствует, вчера, днесь и в целую
вечность. Моя совесть говорит мне, что я учил истине, и я не
перестану учить ей, хотя бы зло простиралось еще далее. Церковь
есть то чрево Ревекки, в котором борются дети, хотя бы то было
с опасностью жизни для [их] матери 16. Впрочем, молю бога,
чтобы я не слишком предавался радости в таком испытании. Бог да
простит им их несправедливость ко мне». На этот раз, ввиду
крайней опасности, друзья Лютера начали действовать
решительнее. Они писали к Фридриху, прося его заступления. От
имени курфирста Спалатин написал к секретарю императора —
сообщить ему вызов Лютера стать перед университетом (кроме
Франкфуртского, Лейпцигского и Эрфуртского) как перед судилищем*
Сам Фридрих писал к папе так (см. письмо Фридриха,
приведенное выше). Наконец и университет Виттенбергский принял на
себя посредничество в этом деле. Он писал к папе, извиняя Лютера
болезненностью, и в то же время давал со своей стороны
уверение, что Лютер никогда не отступал от рим[ской] церкви. В тог
же день он писал к камергеру папскому Карлу Мильтицу, родом
саксонцу, уверяя его в отличных качествах доктора Мартина
Лютера *.
Не столько ходатайство друзей Лютера, сколько отношение в
Аугсбурге подействовало благоприятно на решение папского двора
относительно Лютера. Не столько хотели поберечь Лютера,
сколько покровителя его Фридриха Саксонского: ибо в предстоящем
избрании императора хотели в нем иметь опору для
противодействия Максимилиану, так как выбор Карла не совсем
соответствовал желаниям папского двора. Впрочем, по соглашению
с Фридрихом папский легат, Томас de Vio (Каетан), просил
у папы позволения исследовать дело на месте. Папа согласился.
Каетан получил по сему случаю следующую инструкцию: «Мы
уполномочиваем тебя — сказанного Лютера, который нашим
любезным епископом Аскуланским объявлен еретиком, допросить
лично, нарядить против него следствие и посадить его под
стражу. Для сего ты можешь потребовать содействие возлюбленного
* В то время, как все были так озабочены участью, которая готовилась
Лютеру, он сам писал к Спалатину, отклоняя от себя даже посредничество
курфирста: «Я не желаю, чтобы наш курфирст предпринял что-либо в
защиту моих тезисов, я не хочу, чтобы кто-либо еще потерпел за меня
от моих врагов. Пусть вся буря разразится на меня одного. То, что я
начал защищать, я буду уметь выдержать до конца. Пусть уступлю я силе»
но никогда не изменю истине». Merle d'Aub[igaéj, Ι, 296.
Спор об индульгенциях
m
нашего сына во Христе Максимилиана и всех наций Германии,
всех университетов, всех светских и духовных властей. Храни
его бдительно, чтобы он мог быть представлен и пред наше
присутствие. Если он сознается в своем проступке и добровольно, без
всякого понуждения будет просить себе помилования, то мы
уполномочиваем тебя снова принять его в единство Св. церкви.
Если же он будет продолжать упорствовать и не явится на вызов
твой, то мы даем тебе власть произнести над ним опалу во всех
концах Германии, отлучить его от церкви, предать проклятию,
произнести отлучение и над всеми его приверженцами и повелеть
всем христианам, чтобы они избегали всякого сношения с ним.
А чтобы истребить злой недуг до самого корня, то получаешь
право произнести отлучение над всеми прелатами, орденами,
университетами, обществами, графами, герцогами и над всеми
вообще властями, за исключением императора, в случае, если он
не поспешит задержать сказанного Мартина Лютера и его
сообщников π не доставит их к тебе под крепким прикрытием... Что же
касательно частных людей (Laien*), то они обязываются
немедленно и без всякого противоречия оказывать твоим повелениям
всякое послушание; в противном случае объявляем мы их, за
исключением лишь достопочтимого императора, бесчестными,
лишенными всех прав, недостойными церковного погребения, и с
потерею всех ленов, будут ли они иметь их от апост [ольского]
престола или от кого другого»**. Нельзя было лучше высказать того
Вавилонского пленения, в котором находилась вся церковь, т. е.
все чины римской церкви, в отношении к римскому папе и всей
церковной иерархии.
Лютер, тогда занятый изучением Библии в подлиннике при
руководстве Меланхтона, который вызван был (1518) курфир-
стом в Виттенберг по рекомендации Рейхлина, должен был
теперь готовиться и неминуемо предстать на суд, от которого он мог
ждать себе только осуждения. Новый страх овладел его
друзьями, когда пришло приглашение явиться в Аугсбург. Спасение было
только одно: в отречении от своих мнений. Но могли ли ждать
«го от Лютера те, которые сколько-нибудь знали его? Штаупиц
думал уже о том, как бы найти Лютеру безопасное убежище, где
€ы он мог укрываться до тех пор, пока пройдет гроза. Он
справедливо думал, что если так пойдет дело, если не спасен будет
Лютер, то надобно будет совершенно отчаяться в возможности
исследовать Писание (испытайте Писание) без папского
позволения. Потому Штаупиц готовил Лютеру временное убежище в
одном Зальцбургском монастыре, в чем, по его словам, курфирст
Фридрих был одного с ним мнения.
Лютер не принял предложения Штаупица. Нравственное его
* Светские люди, миряне (нем.)%
** Ср.: M[erle] d'Aubigné, I, 285.
ttl2
Лекции 1848/49 a.
чувство возмущалось при мысли, что он должен бежать, он,
который глубоко сознает правоту своего убеждения. «Я стал, как
Иеремия, муж вражды и раздора; чем больше скопляется угроз
над моей головой, тем больше моя радость. Мои жена и дети
((говорил он иронически)17 устроены, мои поля, мой дом, мои
имения находятся в добром порядке. Лишь мою честь и мое доброе
имя попрали они ногами. Мне ничего уже больше не остается,
кроме этого жалкого праха (тела)18, который они также могут
отнять у меня, т. е. сократить жизнь мою несколькими часами.
Но души моей похитить они у меня не могут. Тот, кто хочет
возвестить миру слово Бога, каждый час должен быть готов к
смерти,ибо жених наш есть жених крови для нас (из Моисея)»*.
Не многое еще нужно было Лютеру для ободрения; ему
нужно только было узнать, что по представлению Фридриха папа
согласился под условием, что Лютер лично явится в Аугсбург, не
требовать его более в Италию и поручить дело особой комиссии,
наряженной в самой Германии. К этому извещению
прилагалось еще несколько денег на дорогу путешественнику. Итак,
с надеждою на Бога Лютер вышел из Виттенберга и пешком
направился в Аугсбург, не взявши с собой никакой охранной
грамоты. Пришедши в Веймар в день Михаила (Michaelis), он пе
утерпел, чтобы не выйти на церковную кафедру, и вместо того,
чтобы по обычаю проповедовать об ангелах, говорил против тех
суеверов, которые хотят от дел своих оправдать себя. Отсюда
продолжал он путь до Нюренберга, и как ряса его износилась
дорогой, то он должен был занять себе другую у одного нюренберг-
ского пастора. Двое из нюренбергских друзей Лютера (Венцель
Линк и Леонгард, августинский монах), зная его непреклонный
характер и видя его изнеможение, решились ему сопутствовать
до Аугсбурга.
Все князья уже разъехались, когда Лютер прибыл в Аугсбург.
Оставался один представитель папской власти, кардинал de
Bio 19, в ожидании, что виновный принесет ему свою покорную
голову. Кардинал de Bio вышел также из доминиканского ордена
(которого был даже генералом), и притом — ревностный
последователь томистической системы20 (смесь схоластицизма с
мистицизмом). Он слыл sa одного из самых ученых теологов своего
времени. Привилегии папской [власти] входили в его ученое
убеждение как непреложный пункт. И по самому образу жизни
немногие из римских кардиналов пользовались такой доброй
славой, как Каетан. Достойный представитель папской власти, не
менее исполненный уважения своему собственному достоинству, он
любил держать себя высоко. Сомнения в роде тех, которые
тревожили Лютера, никогда не прорезывались в его гордую душу.
Он не мог понять того состояния духа, в котором находился Лкь
* Merle d'Aubigné, Ι, 297.
Спор об индульгенциях
Ш
тер, и думал, конечно, что одним своим величием он заставит
смириться перед собой бедного август [инского] монаха.
Лишь известная безбоязненность Лютера приводила
кардинала в некоторое сомнение. Почти несомненным казалось ему то,,
что перед кардиналом Лютер не осмелится защищать своих
мнений и возьмет их назад. Но что, если он вздумает оправдываться?
Каетапу казалось, что уже от одного такого оправдания
потерпит достоинство власти, им представляемой. Кардинал решился
наперед разведать намерения Лютера и подослал к нему одного*
бывшего у него на особых поручениях кавалера Серра-Лонгу. Он
явился к Лютеру под предлогом искреннего участия в его деле·
и с желанием дать ему добрый совет. Совет состоял в том, чтобы
Лютер беспрекословно покорился кардиналу. Лютер сказал, что он
не прочь, что он готов уступить — если только ему докажут, что
он учил против римской церкви. Доброжелательный кавалер
начал свои красноречивые убеждения. Лютер начал догадываться,
в чем дело, и коротко ответил последнему, что он знает свой долг
и покорный кардиналу во всем, если в чем заблуждался.
Обрадованный кавалер спешил известить кардинала об успехах своей
миссии.
Лютер уже готов был предстать пред свои судьи, как аугсбург-
ские друзья его —ибо они были везде, но держали себя в
тайне — внушили ему свои опасения, представили ему, какой
опасности подвергался он, не имея никакого письменного обеспечения.
Они гораздо больше боялись за него, чем он сам. Именем кур-
фирста должны были они настаивать на том, чтобы он не
соглашался иначе явиться к кардиналу, как если ему выдадут
охранный лист. «Курфирст поручил тебя нам, так слушайся нас и
делай то, что мы скажем тебе». И уступая их убеждениям, Лютер
стал крепко на том, что ему наперед должны выдать охранный
лист. Все усердное посредничество кавалера Серра-Лонга * не
могло поколебать этой новой его решимости. Лютер остался при своем
до тех пор, пока не получил охранной грамоты от императорских
советников. Таким образом, еще не видавши Лютера в лицо,
кардинал должен уже был почувствовать, с каким непримиримым
характером имел он дело.
Наконец назначен был день аудиенции. Лютер явился к
кардиналу в сопровождении своих друзей. Кардинал принял его·
со всей важностью, подобающей его высокому сану и личному
достоинству. Лютер был перед ним только смиренный брат
Мартин. Вошедши в приемную, он по принятому обычаю упал
кардиналу в ноги, и он оставался на коленях до тех пор, пока карди-
* Он беспрестанно являлся к Лютеру и говорил ему: зачем ты нейдешь
к кардиналу? Он ждет тебя с таким снисхождением. Ведь от тебя
требуют только шесть букв: revoca, Иди же, тебе вовсе нечего бояться.
Ibid., 307.
8 П. Н. Кудрявцев
ш
Лекции 1848/49 г.
нал не пригласил его встать. Лютер ждал, что кардинал начнет
речь, но он молчал. Тогда он начал говорить: «Досточтимый отец,
по приглашению его папского святейшества и по желанию моего
милостивого курфирста явился я здесь как всеподданнейший и
послушнейший сын своей христианской церкви и объявляю себя
сочинителем известных положений. Я готов со всяким
смирением выслушать, в чем меня обвиняют, и если я заблуждаюсь,
принять назидание, сообразное истине».— По этим словам уже
кардинал мог судить, что подсудимый действительно был таков,
каким его видывали. Еще, однако, он надеялся победить его своим
важным спокойствием и холодно, не показывая ни гнева, ни
раздражения, сказал ему требования папы. Они состояли в
следующих 3 пунктах: чтобы он отрекся от своих заблуждений; чтобы
он обязался воздерживаться от них и впредь; чтобы он дал слово
избегать впредь и всего, что может возмутить церковь *.
Выслушав пункты, Лютер со всем почтением изъявил желание видеть
самое Brève ** папское. Кардинал, хотя изумленный этой
дерзостью, впрочем все еще называя Лютера «любезным сыном»,
ответил, что не может удовлетворить такому желанию, но
настаивал на требуемом отречении. Тогда Лютер изъявил желание знать,
в чем состоят его заблуждения. Несмотря на эту новую дерзость,
кардинал был так снисходителен, что не только по желанию
Лютера сказал ему главные пункты обвинения, но даже позволил
себе выслушать возражения Лютера и собственно устно
опровергнуть его.
Обвинительные пункты, выставленные Каетаном, касались
в особенности двух положений Лютера: о несправедливости
мнения, будто избыток заслуг Христовых может составить запас
благодати для письменных отпущений, и о том, что при всяком
таинстве для воспринятия благодати необходима вера. Что всего
удивительнее, кардинал простер свою благосклонность до того,
что, остановившись на первом пункте, вызывался спорить с
Лютером не как кардинал, а как теолог, а чтобы не оставить в нем
никакого предубеждения, сказал, что не будет ссылаться ни на
какой схоластический авторитет, ни даже на самого Фому 21, но
будет доказывать словами Писания. По крайней мере он
почувствовал, что на Лютера можно подействовать одним оружием —
убеждением. Но он имел в Лютере бдительного противника. При
первом случае, как только кардинал вместо Писания стал ссылаться
на одно из постановлений позднейших пап (Климент VI),
Лютер заметил, что это вовсе не достаточное доказательство, что
подобные постановления часто извращают смысл Писания.
Кардинал возразил, что папа, однако, имеет власть над всем. Только
не над Писанием, заметил Лютер. Кардинал сказал, что папа,
* Merle d'Aubigné, Ι, 311.
** Положение, краткий перечень (лат.).
Спор об индульгенциях
11S
однако, стоит выше соборов, что недавно еще произнес он свой
приговор над собором Базельским. Лютер напомнил кардиналу,
что, однако, Парижский университет протестовал.
Итак, шаг за шагом он теснил кардинала, не уступая ему ни
одной мысли, ни одного положения. Терпение кардинала
истощилось, самолюбие его было оскорблено. Из ученого теолога он
опять превратился в легата и инквизитора. «Я пришел сюда,—
замечал он,— не с тем, чтобы препираться с тобой. Отрекайся или
готовься принять наказание, которое ты заслужил». Когда Каетан.
заключился в свою кардинальскую важность, Лютер заключился
в свое молчание. Он пожелал только, чтобы ему позволено было
ответить письменно. Кардинал не мог его удержать и проводил
с иронической улыбкой, под которой старался скрыть свое
оскорбление.
Так расстались совершенно недовольные друг другом эти два
человека, они сошлись как будто только для того, чтобы понять,
что между ними нет ничего общего. Что оставалось делать со
строптивым монахом? Кардинал, верно, решился бы прибегнуть
к крайнему средству, но ему дали знать, что Лютер уже
выхлопотал себе императорский охранный лист *. Заставить генерал-
викария ордена вынудить у Лютера отречение в силу
монастырского устава, повелевающего безусловное послушание? Но, как
бы предвидя возможность подобной развязки, Штаупиц нарочно
прибыл в Аугсбург и свершил над Лютером церемонию
отрешения его от монастырского послушания. Итак, кардинал опять
взялся за переговоры. Лютер предлагал свой письменный ответ,,
в котором, признавая общую человеческую слабость
заблуждаться, говорил, что готов взять назад всякое мнение, которое
признают за ложное четыре знаменитейших университета (Париж,
Базель, Фрейбург, Лёвен), но в заключение протестовал против
всякого покушения вынудить у него отречение, не опровергнувши
наперед его доказательств. Еще раз кардинал, отклоняя
письменный ответ, притворился отцом подсудимого, говорил, что можно
уладить дело и без того, и потребовал снова, чтобы Лютер
отрекся без всяких возражений. Но шесть букв 22, о которых так легко
говорил итальянский кавалер, были слишком дороги Лютеру,
чтобы он решился признать их лишь в угождение кардиналу.
По просьбе Штаупица, который присутствовал при втором их
свидании, Каетан согласился, чтобы Лютер представил ему
подробный письменный ответ о спорных пунктах. Напрасные усилия!
Согласившись принять письменное оправдание Лютера,
Каетан в третьей аудиенции хотел непременно сам опровергнуть
Лютера по пунктам, увлекся спором, разгорячился, забыл свою кар-
* «Schon gut,—отвечал Каетан,—ich thue doch, was der Papst befiehlt".
Merle d'Aubigné, Ι, 317. «Хорошо, ...я делаю только то, что приказывает
папа» (нем.).
8*
U16 Лекции 1848/49 г.
дипальскую важность и в горячности приводил такие
доказательства, которые давали противнику его только новое оружие,—до
того, что наконец или должен был сознаться, или замолчать. Он,
конечно, не замолчал, но с большим нетерпением потребовал
от Лютера отречения. «Отрекайся,— говорил он.— Если же не
хочешь, то я отправлю тебя в Рим: там ждут тебя другие судьи,
которым поручен суд над тобой. Я же со своей стороны, в силу
данной мне власти, отлучаю тебя и всех одномыслящих с тобой от
церкви. Ты думаешь, твои покровители могут удержать меня? Ты
думаешь, папа побоится Германии? Но один перст папы
сильнее, чем все князья империи»*.
Приговор был произнесен. Кардинал и Лютер расстались,
чтобы никогда больше не встречаться. Но Лютер должен был
возвратиться с тяжелым сердцем. Всякий путь к мирному
соглашению был прерван. Ему оставалось выбирать между отречением
или отлучением. В крайности Штаупиц принял было на себя
посредничество: но что мог ответить этот искренний друг Лютера,
когда тот сказал ему, что отречься — значило бы идти против
совести. «Что же ждать от человека, если он из одного
подобострастия будет отвергать истину против своей собственной совести?»23
Немногие из друзей Лютера, в том числе Штаупиц, готовились
между тем оставить Аугсбург. В неведении о будущей участи
своего друга они согласились перед разлукой с ним принять вместе
приглашение. Они совершили это дело в той мысли, что, может
быть, виделись в последний раз. Растроганный до глубины этим
действием, умиленный, может быть, последними увещаниями
и советами Штаупица, Лютер, оставшись один по отъезде своих
друзей, почувствовал в себе потребность мира и пробовал подать
руку кардиналу к примирению**. Он написал к нему письмо24,
которое начал действительно извинениями в запальчивости во
время спора, сознавался, что ему следовало бы вести себя
гораздо скромнее и с большим почтением к епископской власти, «а не
отвечать глупому по глупости его, чтобы совершенно поравняться
с ним»; далее он просил о милости, обещал исправиться и
никогда не говорить вперед об отпущении под условием только, чтобы
противники его также замолчали; говорил также о готовности
отречения и, однако, этого отречения не произносил, прося
кардинала отослать дело на последнее решение к папе.
Кардинал не отвечал, потому ли, что ждал полной покорности
со стороны Лютера или что выжидал ответа от папы, который
должен был развязать ему руки, связанные охранным листом,
* Merle cTAubigné, Ι, 325 et cet.
** К тому же и кардинал в это время уже уступил наполовину: он требо«
вал только, чтобы Лютер взял назад свое положение об отпущении«
оставляя другое — о вере в таинство. Ibid., 320.
Спор об индульгенциях
117
который был в руках Лютера. Может быть, даже он вел
переговоры с императором. Прождавши напрасно несколько дней,
Лютер написал еще письмо к Каетану25, в котором извещал
кардинала о своем отъезде и говорил опять уже более смелым образом
[(«так как я не знаю никакой вины за собой, то и не жду себе
никакого наказания»*). Написав это письмо, Лютер
приготовился к отъезду. Друзья его оказали ему самое достойное
пособие. Взяты были все нужные предосторожности, чтобы отъезд
остался в тайне. Встав еще задолго до рассвета, Лютер нашел
у ворот монастыря, в котором жил, лошадь, приготовленную для
него Штаупицем. Обняв в последний раз своих друзей, Лютер без
оружия и даже без топора, с одним проводником, снова
пустился в дорогу. Чтобы не встретилось препятствия при выезде из
города, друзья Лютера (Langemantel, который был членом
магистрата) доставили ему средства выехать одной дверью,
проделанной в городской стене, и которую они нашли отпертой. Целые 14
[часов] ехал он потом, не вставая с лошади, сколько позволяли
силы бедного животного; прибывши вечером в гостиницу, он упал
на солому в совершенном изнеможении. На другой день он уже
был в Нюренберге.
В Аугсбурге оставил и свою знаменитую апелляцию к папе,
падписанную: von dem übel berichteten allerheiligsten Vater, dem
Papste, an den besser zu berichtenden allerheiligsten Herrn und
Vater in Christo, Leo den X dieses Namens von Chr[isti] Gnaden26.
Возвращение Лютера в Виттенберг. Письмо Каетана к кур-
фирсту: или выслать Лютера в Рим, или выгнать его из Саксонии.
Письменное оправдание Лютера курфирсту, вследствие которого
курфирст дает отрицательный ответ Каетану. Однако, вероятно
из опасения подпасть под гнев папы (этот пункт не ясен
у M[erle] d'Aubigné, I, 344), курфирст наконец выразил Лютеру
желание, чтобы он удалился из Виттенберга (но не из Саксонии).
Но последующим письмом предыдущее решение отменялось
(новый посланный от папы подал надежду, что все может быть
устранено посредством переговоров).
Лютер издает Аугсбургские акты27 — против желания кур-
фирста, который, впрочем, когда уже дело было сделано,
одобрил его.
В Риме остались недовольны Каетаном: говорили, что он был
недовольно искусен, недовольно хитр, что он просто показал себя
упрямым схоластиком. А между тем новый шаг со стороны папы:
булла (без упоминания имени Лютера), которой подтверждалось
весьма определенно учение об отпущении, так что Лютер прямо
становил [ся] под нее [буллу], если бы вздумал возобновить свое
нападение. Прежде нежели этот декрет был обнародован в
Германии Каетаном (3 дек. 1518), Лютер уже апеллировал от папы
• M[erle] d'Aubigné, I, 333.
118
Лекции 1848/49 г.
к всеобщему собору (28 ноября)28. Это было повое нападение на
доктрину.
Еще этот протест едва ли достиг Рима, как дело сверх чаяния
приняло там новый оборот. Вероятно, не думая, чтобы Лютер
осмелился на новую дерзость, а между тем видя, что курфпрст не
перестает покровительствовать Лютеру, в Риме попробовали
действовать кротостью и умеренностью.— Карл Мильтиц; поручение
доставить курфирсту Золотую розу (представляющую тело
Христа и ежегодно освящаемую папой). В декабре 1518 он был уже
в Германии.—Смерть Максимилиана в генваре (12) 1519 еще
более расположила папу к миролюбию. Курфирст был нужен
более, нежели когда-нибудь (собственно, впрочем, Мильтиц прибыл
в Саксонию еще до смерти Максимилиана). Свидание Мильтица
с Спалатином; Спалатин против. Тецель. Урок, данный Мильти-
цем Тецелю. Свидание Мильтица с Лютером; непреклонность
последнего * 29.— Мильтиц успел выговорить главное требование, на
мягко и уступчиво. Согласились на следующем: чтобы на обе
стороны положено было запрещение писать и проповедовать; чтобы
избранный папой ученый епископ назначил те пункты (Artikel) >
от которых Лютер, как от ложных, должен произнести
отречение, и чтобы после того Лютер не предпринимал ничего против
чести и власти римской церкви. Мильтиц плакал от радости,
пригласил Лютера разделить с ним вечерний час и, прощаясь, обло*
бызал его, впрочем, как думал Лютер, иудиным лобзанием. Потом
он направился в Лейпциг и там поднял грозу на Тецеля.
Но и Мильтиц был папский поверенный: главная цель у нега
была одна с Каетаном. Не видя решительного отречения от
Лютера и посоветовавшись с Каетаном (они встретились, кажется,
в Трире), он предложил Лютеру принять посредником в его деле
курфирста Трирского и приглашал его в Трир. Курфирсту было
писано о том же. Заманив туда Лютера, они могли сделать с ним,.
что хотели. Но Лютер был уже осторожен. Он сослался на то,
что не было папского приказания из Рима (он не получил
никакого ответа на свое письмо), и остался в Виттенберге. Курфлрст
Трирский условился между тем с Саксонским отложить дело да
будущего сейма.
* Впрочем, вот что писал Лютер в письме к папе (от 3 марта): от меня
требуют, чтобы я отрекся от моих положений (meine Disputation), если
бы мое отречение достигало предполагаемой при том цели, я бы не
замедлил им. Но как чрез упорное противоречие моих противников сочинения
мои далеко распространились и укоренились в сердцах многих людей
слишком глубоко, чтобы можно было надеяться изгладить их моим
отречением, то я, наоборот, должен взять все меры, чтобы только не был
принужден отказаться от чего-либо, как я, впрочем, римскую церковь
ни высоко ценю и уважаю. В заключение он свидетельствуется Богом и
всем творением, что никогда не думал нападать на римскую церковь в
признавал власть ее пред всеми. Merle d'Aubignc, II, 10.
Спор об индульгенциях
119
Дело, казалось, еще раз могло бы затихнуть, забыться, когда
общее внимание так занято было переменою в империи30,— если
бы не предполагать, что в мысли Лютера не происходило
никакого процесса, что он оставался на тех мыслях, с которых начал
свои нападения на доктрину, что в нем самом не произошло
потом никакого развития. Но в два года созрело в немв
(изучением и разночтением) мнение, что прежде недоставало для того,
чтобы борьба была решительнее. Но оно оставалось еще внутри
его.'Недоставало только нового провокатора, чтобы вызвать
наружу все, что скопилось в душе Лютера в последние два года.
Таким правокатором был доктор Экк*.
Папа мог помириться с Лютером, но Экк не мог ему простить
пи его непокорности папской власти, ни его успехов. Ибо Лютер
с каждым новым шагом становился более и более народным
лицом в Германии. Экк был первый боец своего времени: он
хвалился не менее как осьмью победами па диспутах в разных
университетах. Его тщеславие требовало еще победы над Лютером.
Чтобы вызвать Лютера на бой, Экк воспользовался своей
полемикой с Карлштадтом и предложил ему окончить спор публичным
диспутом в Лейпциге, но побед над Карлштадтом ему было мало:
и потому он объявил для диспута положения, которые обращены
были прямо против Лютера (особенно о примате папы)31. Лютер
понял, что удар направлен против него: он не выдержал
(предчувствие Лютера, что этот спор должен повести к важным
результатам, II, 18)32, он почувствовал себя перед старым своим
противником и против тезисов Экка написал свои. «Я обещал
молчать,— писал он курфирсту,— и молчал до сего времени... Но
доктор Экк нападает не на меня только, а на целый университет
Виттенбергский. Я не мог спокойно смотреть, чтобы истина была
покрыта таким позором». Убеждения друзей Лютера не повели
ни к чему. Он хотел лично быть на диспуте, назначенном в
Лейпциге. Сопротивление Георга Саксонского. Он дозволил
Лютеру только присутствовать при диспуте. Но когда противники
съехались в Лейпциг, Экк объявил прямо, что он не будет вовсе
диспутировать, если не примет участие в диспуте [Лютер], и,
заранее уверив герцога в поражении Лютера, доставил и
последнему позволение участвовать в диспуте.
Громкие тезисы Экка и Лютера привлекли на диспут
множество любопытных: герцог Георг, его сын, принц Ангальтский,
герцог Померанский, графы, рыцари, аббаты, теологи. Перед
заседанием совершено было торжественное богослужение. Диспут
открыли диспутом Экка с Карлштадтом о чел [овеческой] воле
(II, 31), о свободе ее, о благодати. Спорили три дня и не могли
согласиться. Но верх оставался, очевидно, за Экком. Противник
в Вместо зачеркнутого: приобретено им было.
* M[erle] d'Aubigné, II, 16.
Î20
Лекции 1848/49 г.
его был слишком медлен, он долго обдумывал свой ответ. Этим
временем пользовался Экк, чтобы покрыть своего противника
и своей ловкостью, и своей непостижимостью, и своим громким
голосом. Присутствующие разделились на две стороны; даже
в городе отдавалось впечатление диспута: и там почти на
каждом пункте происходили споры, и нередко дело доходило до
того, что от слов переходили к другого рода доказательствам
(П, 37).
После небольшого промежутка (праздник11...)33 спор
возобновился уже между Экком и Лютером. И оба противника, и
предмет спора (папский примат*)34 возбуждали все внимание
слушателей. Сначала спор шел в приличных формах: сдерживая себя,
противники спокойно приводили каждый свои доказательства,
ссылались на отцов церкви; но чем далее, тем больше дело
разгорячалось. Лютер был не Карлштадт: победа над ним не могла
достаться так легко, как над тем. Экк даже вовсе не ожидал от
Лютера такой учености. Притом же ясный ум Лютера не
позволил Экку запугать его, сбить с толку. Чтобы не дать вырвать
победу из рук, надобно было прибегнуть к какому-нибудь
отчаянному маневру. Такой маневр был почти под руками, стоило
только догадаться, вспомнить о нем. Если доказать, что Лютер в
своих положениях сходился с Гусом, тогда и победа решена.
Обличать не нужно более: ибо Гус уже обличен. Экк сделал это очень
искусно: «От самых древних времен все добрые христиане
думали и признавали, что примат римской церкви установлен
Христом (следовательно, существует по божественному праву), а не
по человеческому. Правда, что последнее убеждение нашло себе
в богемцах горячих защитников. Я враг богемцев, ибо они враги
церкви, и я прошу извинения у почтенного собрания, если они
теперь приходят мне на ум, ибо, по моему малому разумению,
положения доктора весьма близко подходят к их учению, и
говорят даже, что этим хвалятся и сами гуситы» (II, 42)35.
Лютер, кажется, не ожидал такого оборота. На первый раз он
удовольствовался лишь тем, что в общих выражениях произнес
свое неодобрение дела гуситов, так как они, забывая закон
христианской любви и единодушия, отделились от единства церкви.
Но потом, когда это заседание окончилось, Лютер не мог не
задуматься над своими словами. Его искренняя натура не могла не
сказать ему упрека: вдумываясь в свое учение, не мог он, в
самом деле, не видеть сходство во многих положениях с учением
гуситов; за что же он был несправедлив к ним?— Признание,
правда, было бы шагом опасным. Но что бы ни угрожало впереди,
разве он должен бояться сказать истину?— Итак, когда сошлись
в следующий раз, Лютер начал с того, что сказал: есть между
г Далее слово не разобрано.
* Лютер: глава церкви есть Христос. Экк —глава церкви есть папа.
Спор об индульгенциях
121
положениями гуситов и некоторые весьма христианские.
Например, что есть только одна всеобщая перковь, что для спасения
души не необходимо верить в верховную власть римской
церкви. Все равно, кто бы то ни сказал, Гус или Виклеф36: для меня
это не важно.
Всеобщее волнение в собрании. Смятение герцога Георга.
Произнося одобрение гуситских положений, Лютер вместе с тем
отвергал авторитет собора — он, который недавно еще
апеллировал к собору! Экку оставалось теперь только, так сказать,
выводить Лютера на чистую воду, что он и сделал. Ужас, объявший
собрание, распространился потом и на город. Монахи,
доминиканцы особенно, смотрели на Лютера как на отъявленного еретика.
Однажды (в воскресенье), когда он пришел в доминиканскую
церковь к обедне, монахи тотчас взяли с алтаря св. тайны (Monst-
rans) и унесли их в сакрастию * (Tabernaculum), чтобы глаз
еретика не профанировал святыню (II, 45). Другие вовсе ушли из
церкви.— Еще оставалось несколько предметов спора: чистилище,
покаяние и т. п. Но диспут принес уже известный оборот: чем
больше высказывался Лютер, тем больше утверждалось мнение
в его еретичестве. Экк продолжал ссылаться на схоластиков,
[Лютер] д на слова Писания. «Доктор,— заметил, наконец, Лютер,—
бежит от Писания, как дьявол от креста. При всем моем
уважении к учителям церкви я, однако, предпочитаю авторитет
Писания и рекомендую его будущим судьям».
17 дней37 длился таким образом диспут и заключился речью
ректора, после чего собрание разошлось при звуках музыки и
пения Те Deum38. Диспут Лейпцигский имел неизмеримые
следствия: он решил дело Лютера, дело Реформации; он поставил
теперь между папой и Лютером преграду необоримую —
ересь.
После того и той и другой стороне оставалось лишь довершить
свое дело: одному признать окончательное осуждение над
еретиком, другому — дать своей ереси законное существование.
Со стороны романистов: Экк, раздраженный неудачею на
диспуте, более и более переходил черту полемики и переходил на
сторону инквизиции. Он не удовольствовался тем, что издал
новое сочинение в защиту папского примата **, в котором всеми
силами старался доказать, что все думающие противное — еретики,
но, окончив с этой книгой39, направился в Рим, чтобы там
утвердить мнение об еретичестве Лютера и раздуть огонь как можно
далее. Там он нашел себе деятельного, неугомонного помощника
в магистре Приерио, который также издал книгу в защиту
папского всевластия 40, где от излишнего усердия дошел до неверо-
* Святилище; помещение для хранения священпой утвари (лат.),
д В рукописи ошибочно: Экк.
** В марте 1520 — Ranke, I, 425.
Й22
Лекции 1848/49 г.
ятных крайностей, доказывая, что папа есть не только последний
решитель всех вопросов и сомнений, что папское владычество есть
истинная пятая монархия6 Даниила, что папа глава всех
древних властей, отец всем светским, но что он есть глава всего мираг
одним словом, целый мир. Старый враг Лютера, кардинал Каетан,
также подоспел к тому времени в Рим. Их соединенным усилиям:
удалось наконец подвигнуть Римский двор и подумать о
преследовании еретика. Составлена была из 8 теологов новая комиссия,
чтобы судить Лютера. Все полумеры были отвергнуты; хотели
действовать решительно, изготовлена была папская булла (в мае
1520), которою над еретическими положениями произносилось
осуждение, а ему самому только из милости оставлялось 60 дней,
чтобы он одумался и признал бы отречение, а в противном
случае он подвергался одинаковой участи со всеми еретиками: как
иссохшая смоковница, он осуждался на посечение, и всем
христианским властям предписывалось немедленно представить его
в распоряжение папы. Булла была готова в июне 1520 года.
Исполнение ее вместе с кардиналом Алеандром поручено было
Экку, который при этом получил титло папского протонотария4l
и нунция.
Какой триумф должен был готовить себе Экк! В его руках
была теперь судьба Лютера и всех его единомышленников. Ему
дано было полномочие вставить по своему произволу в буллу
несколько имен, которые он признает достойными осуждения
наравне с Лютером. Экк мог таким образом отплатить одним разом все
старые вражды и неприятности, заставить молчать всех своих
противников. И, как мы знаем, ему удалось с некоторыми, но не
с Лютером.
Со стороны Лютера. [Для] Лютера Лейпцигский диспут также
имел великое значение. Наконец ему ясно было, что хотели его
противники; наконец он видел, что они начали его осуждение,
а не оправдание. Сближение, сделанное Экком между учением
гуситов и положениями Лютера, заставило последнего обратить
внимание на учение Гуса. Вникая в него, он с изумлением нашел
здесь не только свои положения, но учение Павло-Августинское
во всей чистоте его*. Сравнивая потом с ним те мысли, те идеи,
которые занимали его самого, он с удивлением замечал, что
слово Экка было гораздо справедливее, нежели как он сам думал
сначала, что он не раз сам излагал Гусово учение, вовсе того не
подозревая. Это так поразило,что он писал: мы все гуситы, сами
того пе зная, Павел и Августин также гуситы; я в таком
изумлении, что не знаю, что и подумать42. Это значило, вернее, что
в мысли его переворот прошел гораздо далее, чем он сознавал до
сих пор. Достигнув этого сознания, Лютер должен был уже без-
6 Далее зачеркнуто: Вавилова
• Ranke, I, 409, 410.
Спор об индульгенциях
123
остановочно идти вперед, этой дорогой. К тому же друг его Ме-
ланхтон, хотя другим путем, достигал тех же результатов. При
том общении мыслей, какое существовало между Лютером и Ме-
ланхтоном, немудрено, что они подкрепляли друг друга. Наконец,
слухи о той последней грозе, которая готовилась против Лютера
в Риме, должны были окончательно побить в нем все сомнения,
всякую нерешительность. В то самое время, как там составляли
буллу, Лютер писал свое знаменитое послание (23 июля 1520)
к «Христианскому дворянству немецкой нации» (an den
christlichen Adel der deutschen Nation)43, в котором он в первый раз
являлся уже нападающим, а не защищающим только от
нападений. Если Рим начинал смотреть на Лютера как на источник
ереси, то Лютер со своей стороны начал находить, что гнездо всех
ересей в Риме *. Уже не на один только специальный пункт
нападал Лютер в своем сочинении, но· открыто без умолчания
нападал на все ложное, что только находил он в доктрине римской
иерархии **. Он говорил, что римляне оградили себя тройной
стеной: если их хотят понудить к реформе силою светской власти,
они говорят, что духовная власть выше светской; если их
обличают Писанием, они говорят, что право толкования принадлежит
только папе; если, наконец, обращаются к собору, они
утверждают, что никто не имеет права сзывать соборы, кроме папы.
«У нас присвоили они себе три бича, но после чего без
всякого страха творят у себя всякое бесчинство, не боясь никакого
наказания. Итак, помоги нам, Боже, и пошли нам одну из этих
чудесных труб, от звуков которых пали стены Иерихонские, да и мы
ниспровергнем их, соломенные и бумажные стены, и выведем на
свет все хитрости и ложь дьявола»44. И в самом деле, с редкой
анергией напал на самые капитальные основания, на которых
покоилось могущество римской иерархии: не на самое папство
только, но и на всю иерархию, на всех членов, восставая против этого
резкого разделения римск[ой] доктрин [ой], по которому один
класс исключительно считает себя посвященным и личным
посредником между Богом и человеком (Лютер учил наоборот, что
все христиане тем самым принадлежат к лику духовному,
посвящены самым крещением). Но не на одну только власть папства
и иерархии напал Лютер, но и на все ее любостяжание, на то,
как именем Христа обирала она Германию; и обращался он к
немецкому дворянству, прося его скорее положить конец этому
злу. Далее, с той же силою устремил он свое слово против
тунеядства монахов, против безнравственности, происходившей от
безбрачия духовенства и пр. и пр. Словом, он коснулся всех тех
ран, которыми покрыта была со всех сторон римская иерархия.
* M[erle] d'Aubfigné], II, 69.
** Merle <TAub[igné], II, 74 et cet«
124
Лекции 1848/49 е.
В самое короткое [время] «Послание» в 4000 экземпляров
разошлось по всей Германии. Итак, булла папская должна была
найти Лютера далеко не тем, каким оставил его Экк на диспуте·
Лютер в это время далеко ушел вперед. Чем больше приближался
Экк к Виттенбергу, тем отважнее становился Лютер. «Хочу я
или нет,—писал он (в книге о Вавилонском пленении церкви),—
но меня вынуждают с каждым днем становиться ученее эти до-
стопочтимые магистры, которые не дают мне никакого покоя и
бросаются на меня один вслед за другим. Два года тому назад
я писал об индульгенциях, но так, что теперь я очень
раскаиваюсь, что эти книги вышли в свет. Ибо тогда во мне самом
оставалось еще много сомнений: так, я исполнен был суеверного
подобострастия перед рим[ской] тиранией. После того Экк с
братией взяли на себя труд научить меня тому, что такое примат
и верховная власть папы, и я не скрываю, что очень много
высказывался об них. Потому что, хотя я отрицал, чтобы папства
было учреждение божественное, я допускал, однако, что оно
существует по человеческому праву. Но когда я послушал и
прочел все тонкие тонкости этих софистов, я узнал по крайней мере,
что папство есть царство Вавилонское и власть Немврода,
сильного ловца. Потому и прошу я всех читателей, чтобы они сожгли
все то, что я прежде писал об этом предмете, и заменили бы все
одним положением: папство есть травля (starke Jägerei*)
римского епископа»**45. Очевидно: Лютер становился уже сам
неумолим к недостаткам римской церкви, он, которого она
подвергала стольким глумлениям, таким тяжелым испытаниям. Таким
духом проникнуто и все сочинение, из которого заимствовали мы
это место. Это сочинение имеет название «О пленении
Вавилонском церкви»46 (издано в октябре 1520).
Мильтиц и другие пробовали еще кончить дело миром, т. е.
уступкою со стороны Лютера; но все эти попытки ни к чему уже не
привели***. Итак, булла не могла уже произвести своего
действия: по всему она должна была произвести противное. В
сентябре Экк уже обнародовал ее в Мейсене, Мерзебурге, Бранден-
бурге (саксонских городах). Но чем дальше, тем больше встречал
[Экк] препятствий47. В Лейпциге студенты сочинили на него
песню и пели ее на улицах. Угрозы. Экк бежит ночью из [Лейп-
ци]га. В Эрфурте студенты порвали ее [буллу] и бросили в водуг
говоря, что это «пузырь»!48 В Виттенберг Экк вовсе не посмел
явиться ****, он послал буллу к ректору, грозя в случае непс-
* Жестокая охота, травля (нем.).
** Merle d'Aubfigné], И, 98.
♦** Merle d'Aubigné, II, 100 et cet. Лютер пишет еще письмо к папе, в
котором изъявление покорности соединялось уже с упреком и
иронией, р. 116.
·*** Из виттенбергских профессоров один Адриан восстал против Лютера.
Он оставил даже Виттенберг и удалился к Экку. В совете университета
Спор об индульгенциях
125
полнения закрыть университет. Когда Лютеру была объявлена
булла, он писал: «Вот наконец передо мной и римская булла;
я презираю ее и восстаю против нее — как на безбожную,
исполненную лжи и достойную одного Экка»*49. Через месяц потом
он написал новое сочинение, которое носило название «Против
буллы Антихриста» (ноябрь 1520)50. За тем не замедлило
последовать второе, относящееся к Вселенскому собору 5l.
Но раздражение с обеих сторон не должно было остановиться
на том: уже романисты в разных пунктах Германии отбирали
сочинения Лютера; в Майнце, Инголыптадте, Кёльне, Лёвене они
даже были сожжены публично на костре. Монахи, граждане,
даже студенты толпами сходились на это auto-da-fe, и каждый
старался выразить свое усердие, бросая в огонь книги, которые он
считал нечестивыми. В Лёвене, впрочем, открылось после, чта
вместо сочинений Лютера сожжены были сочинения схоластикой
и папистов... ** Лютер был раздражен: он тоже решился на
крайнюю меру. 10 декабря Лютер прибил в университете объявление,
которым все члены его и студенты приглашались к одним из
городских ворот. Там среди костра приготовлен был целый эшафот,
и когда один из магистров зажег его, Лютер подошел к костру
и побросал в огонь каноническое право, декреталии, позднейшие
папские постановления, сочинения Экка и его последователей и,
наконец, самую буллу, говоря: «За то, что ты смутила святого
божия, да смутит и пожрет тебя вечный огонь»52. «Это будет
началом дела (ein Anfang des Ernstes),—писал он потом,—ибо до
сих пор я только шутил и играл с папою»*** 53. Это в самом
деле было начало открытой борьбы на жизнь и смерть. Когда
упрекали Лютера, что он слишком далеко идет в своих нападениях
на папство, он отвечал: я бы желал, чтобы каждое слово было
ударом грома ****.
Тогда же произнес он и желаемое от него отречение. Он
говорил: «В честь святой высокоученой буллы отрекаюсь я от всего,
что я учил об индульгенциях, и говорю, что если книги мои
сожжены, то они сожжены по праву, ибо в них я слишком много
уступал и потворствовал папе и его приверженцам; я сам
осуждаю их на сожжение».— Другое отречение: «Да, я точно
заблуждался относительно Гуса. Теперь я говорю, что не некоторые
только пункты, но все положения Иоанна Гуса, осужденные на
Констанцском соборе, исполнены христианского духа, и что, осуж-
Лютер и Карлштадт допущены были к заседанию, в котором рассуж-
далось о булле.
* Merle d'Aubigné, II, 114.
** Ibid., 118.
*** Ibid., p. 122.— Также к Штаупицу: «До сих пор все было только
шуткою... что-то чудесное предстоит впереди. Я сожег буллу и сначала
дрожал от страха, но теперь я ощущаю новую радость, как если бы
этот поступок был главным делом целой моей жизни», 125,
·**♦ Ibid., 124.
Э26
Лекции 1848149 г.
дая Гуса, папа осудил самое Евангелие... Гус говорил, что
порочный папа не может быть членом христианского общества, и я
говорю, что если бы теперь сам св. Петр восседал на римском
престоле, я бы продолжал отрицать, чтобы папа был по
божественному праву главою прочих епископов».
С таким противником не оставалось ничего более делать, как
вооружить против него и светскую власть. Действовать на одного
Фрпдриха было не достаточно, ибо он явно склонялся в пользу
Лютера. Папскому нунцию Алеандру он прямо выразил свое
неудовольствие (в Кёльне)*54, что, несмотря на обещание
решить дело в Германии при посредстве курфирста Трирского, он
произнес свой приговор в Риме **. Оставалось действовать на
Карла, нового императора. Казалось, в успехах с этой стороны не
могло быть сомнения 55. Карл был воспитан в строгих
католических правилах; его собственные интересы могли бы потерпеть,
если бы он не стал действовать заодно с папой. (Все имперские
власти вместе со своим главой собраны были тогда в Вормсе для
сейма.) Но при всем своем добром желании Карл не мог уже
сделать решительного шага. Вся Германия была уже объята
новым учением; протест против папской власти слышался громко
в разных пунктах Германии; самые власти присоединялись к тем,
которые с голоса Лютера восставали против [папской власти]*.
Решать всю участь Лютера одним императорским эдиктом
казалось уже делом опасным. Карл хотел наперед знать мнение
князей и потом отвечать папе***. Сначала он хотел вызнать мнение
Фрпдриха и получить от него ответ отрицательный, несмотря на
все усилия нунциев (Алеандра и Caroccioli). Император выразил
потом курфирсту свое желание, чтобы Лютер явился по
крайности перед сейм для оправдания. Когда Фридрих известил (чрез
Спалатина) Лютера о желании императора, Лютер не только
выразил свою готовность явиться перед собрание, но даже прямо
говорил, что он «не хочет бежать, но отрекаться еще менее»****.
Что же? Тот, кто всех более испугался императорского
решения, был папский нунций. Он воспротивился всем своим
влиянием, чтобы Лютер лично явился на сейм. Он говорил, что это
позор для церкви, если дело, уже решенное папой, еще
подвергнется снова пересмотру и суду со стороны светских властей.
Когда увещания не помогли, нунций начал грозить. Карл должен
был уступить. Он писал к курфирсту, что так как срок, назиачен-
ный Лютеру, прошел и он не представил отречения, то он под-
* Ranke, I, 433.
** К тому же самая совесть воспрещала Фридриху сделать этот
решительный шаг: он мог предать в руки папы человека невинного.— Так же
самого Эразма, призванного на совет. Merle d'Aubigné, II, 135—136.
ж Здесь описка: против Лютера.
*** Merle d'Aub[igné], H, 131.
**** Ibid., p. 150.
Спор об индульгенциях
127
вергается папскому отлучению во всей его силе. Вместе с тем ему
объявлено было, что он может оставаться в Виттенберге, что
присутствие его в Вормсе более не нужно.
Тогда в Риме и по всей Германии, вследствие новой буллы
папской, загремела папская анафема *. В торжественные и
праздничные дни во время богослужения объявлено было во всех
церквах об отлучении от общения с [привержен] ными нечестивого
еретика Мартина Лютера. Сосуды и все священные вещи
снимались с алтаря, крест ставился на землю, духовные зажигали
свечи и с произнесением известной формулы бросали их на землю и
топтали ногами. Так разорван был и последний узел, еще
соединявший Лютера с римской церковью.
Теперь Алеандр решительно требовал от Карла
исполнения папского приговора. Но после совета с князьями Карл
предложил Алеандру наперед убедить -собрание **. Речью,
продолжавшейся целых три часа, в которой истощены были все
средства красноречия, Алеандер, казалось, сильно подействовал на
собрание; судя по первому впечатлению, казалось, что оно
единогласно произнесет осуждение Лютера и всех его
последователей. Но едва прошло несколько дней, как от впечатления
оправились, и на сейме слышались уже голоса, которые говорили
если не в защиту Лютера, то против известных злоупотреблений
римской церкви, и громко требовали реформы. Первый был
личный враг Лютера, герцог Георг Саксонский. К нему пристали
даже некоторые из прелатов. Комиссия, составленная по этому
делу, соединила вместе все предъявленные жалобы: число их
было 101. Уступая общему требованию, Карл согласился взять
назад свой эдикт, которым предполагалось сожжение сочинений
Лютера: он удовольствовался тем, что потребовал выдачи их
местным властям. Осуждать Лютера заочно было уже невозможно, не
выслушав наперед его оправдания. Собрание потребовало, чтобы
Лютер предстал лично перед ними. Все усилия Алеандра
остановить это решение были напрасны. Требование направлено было
в Виттенберг. Друзья Лютера, Меланхтон, Спалатин, опять не
могли подавить в себе страха. Лютер писал к Спалатину (на
присланные им пункты, в которых требовалось от него отречение):
«Оставь всякую мысль, что я могу произнести отречение... Вот
мой ответ императору Карлу: если я должен явиться в Вормс
лишь для того, чтобы произнести отречение, то я не пойду туда...
Если же его императорское Величество требует меня для того,
чтобы решить мою погибель и считать меня за врага империи, то я
готов идти, ибо не думаю я бежать, ни оставлять слово Божие в
минуту опасности, доколе милостив будет ко мне Христос»***56.
* Ibid., 154.
** Ibid., p. 162.
··· Ibid., p. 173.
$28
Лекции 1848/49 е.
Наконец императорская цитация пришла в Виттепберг
(24 марта). Вместе вручен был Лютеру и охранный лист,
исходатайствованный ему от императора Фридрихом; подобные же
листы от курфирста, герцога Саксонского, ландграфа Гессенского,
через владения которых он должен был проезжать. Впрочем, Гус
также был снабжен охранным листом императора Сигизмунда...
Некоторые из людей, наиболее преданных Лютеру, вызвались
сопровождать его в Вормс (Амсдорф и другие)*. Прощаясь с Ме-
ланхтоном, Лютер сказал ему: «Если я не возвращусь, если
враги мои произнесут мне приговор, продолжай учить ты на место
меня и будь непоколебим в истине. Если я не могу, то
подвизайся ты за меня. Был бы ты жив, моя смерть еще не повредит
нашему делу».
Несмотря на опальное имя, которое всюду проносил с собой
Лютер, путь от Виттенберга до Вормса был торжеством его.
Вся страна отозвалась на голос учителя, учением которого
напитывалась она в продолжение нескольких лет. Его встречали с
радостью, напутствовали со слезами. Жители городов с жадностью
стекались слушать его проповедь. Свет наконец осиял эти головы.
В Веймаре он нашел добрый прием у герцога (брата Фридриха);
не доезжая до Эрфурта, он встречен был целой депутацией из
членов университетов и почтеннейших граждан. На улицах, на
площади толпы народа приветствовали его радостными кликами.
В Эрфурте и Готе Лютер проповедовал при многочисленном
стечении народа. Чем больше приближался Лютер к Вормсу, тем
больше возрастало к нему общее участие. Его старались
удержать, напоминали ему участь Гуса, Лютер отвечал: «Если бы
даже они разложили огонь от Вормса до Виттенберга, я бы не
усомнился пойти через него во имя Господа. Я бы стал перед ними,
я бы прошел через пасть бегемота, сокрушил бы его зубы и
исповедовал бы Господа нашего Иисуса Христа»**. Из Франкфурта
он писал в Вормс к Спалатпну: «Я слышал, что Карл издал
новое повеление, чтобы страхом остановить меня. Но жив Христос,
и ни враты адовы, ни самые темные силы не удержат нас — мы
будем в Вормсе. Итак, позаботься о том, чтобы мне было где
остановиться».57
Враги Лютера гораздо больше боялись прибытия его в Вормс,
чем сам Лютер. Все казалось позволительным, чтобы только
удержать его... Между тем срок охранного листа, данного Лютеру,
истекал; оставалось только три дня до истечения этого срока, как
Лютер, приближаясь к Вормсу, встретил всадников***, которые
именем Франца фон Сиккингена приглашали его в замок
рыцаря, говоря, что там найдет он себе верное убежище от злобы сво-
* Ibid., р. 184.
** Ibid., р. 188.
**♦ Ibid., 192.
Спор об индульгенциях
129
их врагов. Между всадниками находился и Буцер, один из самых
ревностных последователей Лютера в Западной Германии.
Приглашение казалось искренно, таково было оно и в самом деле.
Но какие особенные опасности предвидел Сиккинген для Лютера
в Вормсе? Незадолго перед тем импер [атор] скии камергер и
духовник явились к нему в замок и уверили его, что Лютер погиб,
если решится приехать в Вормс... Сиккинген поверил им, а дело
между тем состояло лишь в том, что срок охранного листа
прошел еще до прибытия Лютера в Вормс .— Лютер не подозревал,
что тут скрывалась хитрость, но твердый своей верой, он
отклонил от себя даже и это дружеское приглашение. «Я еду далее,—
сказал он,— и если духовник имеет мне что-нибудь сказать, то
он найдет меня в Вормсе. Таково мое назначение» *.
В самом Вормсе, несмотря на присутствие императора и
имперских князей, Лютер имел прием торжественный. Город
давно ждал с нетерпением монаха Августина. Более ста
всадников из свиты князей выехали к нему навстречу еще sa городом.
iA при самом въезде его в город толпа была еще многочисленнее,
чем при въезде императора. Процессия едва могла подвигаться от
чрезвычайной тесноты. Тем дело не кончилось. Едва только
остановился он в отведенном ему жилище, как начались посещения.
Графы, рыцари, духовные, граждане, люди всех сословий желали
видеть Лютера и говорить с ним. Друзья были с ним почти
неотлучно. Между тем дом, в котором остановился Лютер, целый день
был окружен толпой любопытных.
На другой день после приезда (16 апреля) Лютер получил
приглашение представиться в тот же день собранию**. В
назначенный час он отправился туда в сопровождении герольда и
маршала. Народ до такой степени стеснили на улицы, что герольд
отчаялся наконец пройти к ратгаузу прямой дорогой и должен
был обводить Лютера боковыми проходами через домы и сады.
В доме собрания то же самое. Едва оставалось места самим членам
собрания. Это было одно из самых великолепных собраний, какие
только видела империя в последнее время. Все князья империи,
курфирсты, герцоги, графы, епископы, маркграфы, бароны
сошлись в Вормс, чтобы приветствовать нового императора; сам
Карл с братом своим Фердинандом и со свитой своих
испанских сановников, иностранные послы — всего более 200 человек.
Когда позвали Лютера, в зале наступило молчание. В первую
минуту Лютер как бы смутился несколько перед этим высоким
собранием, видя, что все взоры обращены на него, что все с
нетерпением ждут его слова. Он не привык к подобному блеску.
• На последней станции перед Вормсом один из советников курфирста
напомнил ему еще раз участь Гуса и советовал ему не въезжать в город.
«Я поеду туда, хотя бы столько же дьяволов целили па меня, сколько
кирпичей па крышах». Ranke, I, 481.
** Merle d'Aub[igné], Ι, 197.
9 Π. Η. Кудрявцев
изо
Лекции 1848149 в.
Среди вала на столе разложены были книги — сочинения
Лютера. Канцлер, обратившись к Лютеру, спросил его, признает ли он
эти сочинения за свои и готов ли он отречься от их содержания
или намерен настаивать на нем. Когда исчислены были заглавия
всех сочинений, Лютер на первый вопрос отвечал утвердительно,
но на второй медлил решительным ответом и просил себе от«
срочки до другого дня. Эту просьбу он мотивировал таким
образом: «Так как дело идет о вере и о спасении души и касается
слова Божья, то было бы слишком самонадеянным с моей
стороны, если бы я решился отвечать, не обдумавши наперед моего
ответа. Ибо я мог бы сказать менее, чем сколько нужно, или
больше, чем требует истина, и в том и другом случае я повинен был бы
суду, который произнес сам Христос: кто отвергнет меня перед
людьми, того я отвергну перед отцом моим небесным».
Император и вся стража удалились на время в конференц-залу, и после
краткого совещания канцлер объявил Лютеру, что император по
свойственной ему снисходительности дает ему день на
размышление.
Противники Лютера ободрились. Нерешительность Лютера они
приняли за боязнь. Им даже показалось, что робость слышалась
в самом его голосе. Они надеялись на другой день торжествовать
полную победу. Они не поняли ни духа Лютера, ни того
состояния, в котором он находился. Для него наступили самые важные
минуты в жизни. Он предстоял собранию, которое должно было
решить дело его собственное, дело всего его учения. Восставши
против иерархии, никогда Лютер не восставал против светских:
властей: он привык смотреть на них с уважением, в них искал
он себе защиты и опоры против преследований иерархии. Потом
самая эта добросовестность, которая составляла одно из
отличительных качеств Лютера, должна была потребовать от него
глубокой обдуманности прежде, чем он произнес бы последний
ответ, который должен был повлечь за собой приговор ему. Он
должен был помнить свою ошибку на Лейпцигском диспуте, когда,
не обдумавшись, произнес сначала неодобрение дела гуситов и
потом должен был взять его назад. В тот же день, возвратившись иа
собрания, Лютер писал Куспиниану (импер [аторскому]
советнику)*: «Я пишу к тебе, окруженный шумной толпой (которая
стояла подле дома). Сейчас только стоял я пред императором
и его братом, римским королем. Я признал книги моими, а на
вопрос об отречении буду отвечать завтра. Но я не отрекусь ни от
одной буквы, если только милостив ко мне Христос»59.
На другой день, когда приближалось время в другой раз
явиться перед собрание, Лютер пережил с собою много трудных минут*
Религиозная мысль, что он должен отказать в послушании тем,
которым Бог дал высшую власть на земле, тревожила его в выс-
► Merle d'Aub[igné], II, 202.
Спор об индульгенция»
131
шей степени. Дух его был возмущен, слабела самая вера, он не
видел числа своим врагам. В этой тяжкой борьбе с самим собой
он упал на эемлю и в беспокойной, но горячей молитве излил
чувства свои перед Богом. «Вечный всемогущий Боже!.,
поддержи меня против всей мудрости мира, не оставь меня; ты не
оставишь это дело, ты совершишь его, ты один, ибо это дело не
мое, но твое... Для себя я не имею тут ничего, и не подумал бы
я иметь дело ни с кем из великих мира сего, для себя я хотел бы
только тихих покойных дней, но твое есть это дело, Господи, ты
справедлив и силен; ты не захочешь оставить меня,
неизменный, вечный Боже, я не полагаюсь ни на кого из людей. Все
напрасно, все рушится, все темнеет! Слышишь ли ты меня, Боже?
Или ты умер? Нет, ты не можешь умереть, ты только сокрыт (от
смертного взора), ты сам избрал меня для этого дела, клянусь —
я в него верую: итак, поддержи меня во имя твоего отца, который
есть мой щит, покров и крепость». И снова душа его впадала
в беспокойство, и он опять взывал: «Где ты, мой Бог? Приди,
приди, я готов отдать жизнь мою за истину, терпеливо как
агнец. Ибо праведно дело, и это дело есть твое. Я не отступился οι
тебя ни теперь, ни в вечности... Душа моя принадлежит тебе и
останется при тебе вечно. Аминь, о Боже, не оставь меня. Аминь»*.
Тогда только душа его успокоилась. Она снова исполнилась
надежды, он уже с радостью думал о том, что должен предстать
пред собрание. Когда наступило время идти туда, он раскрыл
лежавшую перед ним Библию и, положив левую руку на нее,
а правую подняв к небу, дал клятву оставаться верным
Евангелию и своей вере. С ясностью в лице, со спокойствием вступил
он потом в залу собрания. Уже накрыла ночь (собрания были
послеобеденные), зал был освещен лампами. Общее внимание
было настроено больше, чем когда-нибудь. Тогда канцлер обра-*
тплся к Лютеру, напоминая ему, что он обязан и императору, и
сейму ответить. Спокойным и твердым голосом начал ответ свой
Лютер 60. Он разделил свои сочинения на три разряда: на те,
которых предметом было христианское учение, на те, которые были
направлены против злоупотреблений римской церкви, и, наконец,
на сочинения полемические. Относительно первых, сказал он, я не
могу сделать отречения уже потому, что некоторые из них даже
папская булла признает безвредными. Отрекаясь от вторых,
продолжал он, я бы сделал дело не только противное моей совести,
но и дал бы полную свободу римской тирании, которая тяготеет
над всей Германией. Что касается до третьего, то я не считаю
себя святым и признаю, что в спорах моих с противниками я не
всегда соблюдал меру; но отречься от них значило бы только
прибавить дерзости тем, которых все усилия направлены лишь
* Эту молитву слышал и записал один из друзей Лютера. Merle d'Aubin*
né, II, 204.
3·
1*2
Лекции 1848/49 ζ.
к тому, чтобы заглушить истину в народе. Впрочем, продолжал
он, я человек, я могу и погрешить; а потому и прошу Ваше
Императорское Величество, курфирстов и князей и всех
присутствующих, кто бы то ни был, высшего или низшего чина, рассмотреть
мое учение и обличить меня пророческими и апостольскими
писаниями, если я в чем погрешил. Когда я буду убежден в том,
обещаюсь я отречься от моих заблуждений, и первый брошу мои
книги в огонь. Затем он указал на чудесные свойства слова
Божья, на его таинственную силу, которая выше всякой земной
власти, и прибавил: «Все это я говорю не потому, чтобы считал
нужным делать поучение таким высоким особам, но потому, что
этого требовал от меня долг мой немецкой нации, моему
любезному отечеству». Эту речь, произнесенную сначала на немецком,
Лютер повторил еще по-латыни (второй ответ особенно
понравился Фридриху).
За исключением немногих лиц, такой ответ не понравился
почтенному собранию. Ждали отречения, услышали смелое
утверждение. Канцлер Трирского курфирста заметил Лютеру, что
он уклонился от дела, что от него требуют простого,
положительного ответа. Тогда Лютер без замедления сделал следующий
простой ответ: «Так как Его Величество, император, и их
светлости, курфирсты и князья, желают от меня простого, ясного,
гладкого ответа, то я буду отвечать так, что в ответе моем но
будет ни рогов, ни зубов. Надобно, чтобы меня обличили и
убедили свидетельством Св. Писания или ясным и определенным
доказательством, ибо не верю я ни папе, ни одним только
соборам, потому что ясно как день, что они заблуждались и
противоречили сами себе; а так как я в приведенных мною положениях
вполне убежден и совесть моя связана словом Божьим, не могу
и не хочу я ни от чего произносить отречение, ибо нет спасения
в том, чтобы делать что против своей совести. Здесь стою л, я не
могу иначе. Боже, помоги мне, аминь. (Hier stehe ich, ich kann
nicht anders, Gott helfe mir, amen)»61. Бессмертные слова, в ко·
торых сказались все необоримые силы нового убеждения. И
Лютер был велик в эту минуту, он был выше всего собрания.
Что же высокое собрание? Оно еще не осмелилось произнести:
решительно свою опалу над ослушным и еще раз пробовало
склонить Лютера к отречению. Оно, очевидно, и тогда еще ne
умело не только оцепить, даже понять Лютера. После краткого
совещания императора с князьями Лютер снова был введен в
залу, и канцлер еще раз сделал ему упрек в неприличии ответа
и потребовал от него снова односложного объявления. Лютер
лишь повторил свое последнее объявление. Ему велено было
ожидать императорского решения.
Впрочем, впечатление, произведенное речью Лютера в
собрании, далеко было не одинаково. Это обозначилось тотчас поело
того, как разошлось собрание. .Тогда как одни гласно выражали
Спор об индульгенциях
133
свое неудовольствие даже па то, что канцлер позволил говорить
Лютеру, не прервал тотчас его речи, другие спешили через
посланных или лично выразить Лютеру участие в его деле. Так
герцог Эрих Брауншвейгский прислал ему бокал с вином со
своего стола. Графы, бароны, рыцари в особенности, почти не
выходили из дома, в котором жил Лютер. Однажды посетил
его 17-летний Филипп Гессенский, впоследствии ландграф,
дружески подал ему руку и сказал в знак своего участия: «Любез*
ный доктор, желаю, чтобы Вы были правы, и чтобы Бог помог
Вам». Курфирст Фридрих позвал к себе Спалатина, друга Лкь
терова, и не умел нахвалиться речью, которою говорил Лютер
перед императором и империей. «Я боялся только,— прибавил
он,— не слишком ли смело говорил он».— В этих словах
сказалась нерешительная натура самого Фридриха.
Впрочем участие некоторых членов сейма не было еще вьь
ражением его мнения. Решение императорское не должно было
замедлить, и оно, к несчастью, более и более наклонялось не
в пользу Лютера. К тому побуждали Карла политические
отношения к папе и угрозы Алеандра, что папа примет сторону
Франциска, в котором Карл уже предчувствовал своего
постоянного совместника и соперника. На другой же день после ответа
Лютера Карл издал прокламацию к им[перским] князьям, в
которой объявлял, что, верный преданиям своих отцов, королей
испанских и императоров германских, он также хочет быть
защитником римской церкви и всей своей властью восстанет
против ереси, не пощадит ничего для ее искоренения. Фанатики
Рима говорили уже, что тот же Рейн, который за сто лет принял
в себя прах Гуса, должен принять и прах Лютера. Но те времена
уже прошли. Некоторые князья, курфирст Пфальцский,
Георг Саксонский, явно восстали против подобной мысли
(собственно против нарушения охранного листа*). Последний прямо
сказал, что князья не потерпят такого нарушения законности.
Когда слухи о предложении Алеандра распространились в
городе, в народе, особенно между рыцарями, обнаружилось
сильное неудовольствие. На стенах ратгауза начали показываться
угрожающие плакаты. Одним из них объявлялось, что 400
рыцарей** поклялись отмстить за народную честь, если она будет
оскорблена романистами в лице Лютера. Объявление
оканчивалось воззванием к общему восстанию. В самих комнатах Карла
подняли грамоту, в которой написаны были слова: горе стране,
в которой царствует Рим.
Тогда снова начали склоняться к умеренности, опять думали
увещаниями склонить Лютера к уступчивости. Некоторые
лучшие князья взяли на себя это дело, курфирст Трирский во главе:
* См.: Merle d'Aubigné, II, 215.
** Ranke, Ι, 486.
U34
Лекции 2848/49 г.
он взялся быть посредником между императором и Лютером. Так
все еще не понимали Лютера! Нарочно собрал он у себя всех
князей, наиболее расположенных к Лютеру. Один из
присутствующих выразил мнение, что власть должно уважать, если бы
она и погрешила, что надо уступить даже из одной христианской
любви. Лютер отвечал, что он и не противится, чтобы сочинения
его подвергнуты были исследованию, но что совесть его связана
словом Божьим. Итак, Вы не хотите никого признать своим
судьей, кроме Св. Писания?— спросил другой из присутствующих.
Да, милостивый князь, я стою на том. Видя, что посредничество
ни к чему не ведет курфирст отказался от него. Император дал
еще несколько дней на размышление Лютеру. В эти дни опять
не было недостатка ни в увещаниях, ни в убеждениях.
Некоторые, уже не приводя никаких доказательств, просто просили
Лютера покориться сейму. Нет, отвечал Лютер, проклят тот человек,
который полагается на людей. Наконец, решились сделать
Лютеру последнюю уступку: если он не хочет признать своим
судьей ни папу, ни императора, то пусть признает, по крайней мере,
собор и предоставит ему решение. Один из советников спросил
Лютера: мы слышали, любезный доктор, что Вы хотели
предоставить Ваше дело на решение собору? — Я могу все снести,
только не могу отступиться от слова Божия. Курфирст Трирский
убеждал его, чтобы он-то, по крайней мере, взял назад те
положения, которые уже осуждены на одном соборе (Констанцском).
Лютер отвечал, что от них он отречется всего менее.
Видя, что все попытки бесплодны, курфирст наконец сказал
ему: «Тогда уезжай отсюда»— и взялся выхлопотать ему у
императора охранный лист. Лютер действительно получил охранный
лист и приказание в 20 двей возвратиться домой, с воспрещением
писать или проповедовать дорогой. Лютер принял это
приказание со свойственной ему твердостью. Он отвечал посланнику:
«Ради его Императорского Величества и империи готов я
перенести все — жизнь ли, смерть ли, честь или бесчестие, но
ничто не помешает мне свободно исповедовать слово Божие, ибо,
как говорит Павел, слово Божие не может быть связано».
Простившись с друзьями, он в сопровождении толпы народа выехал
из Вормса. Еще Лютер был в дороге, как в Вормсе произнесена
была над ним императорская опала*. Эдикт от 8 мая62. Лютеру
оставались только данные ему 20 дней, а потом никто не должен
был его принимать, и всем предписывалось, где бы он ни был,
немедленно захватить его и представить его в руки импер [аторско-
го] правосудия. Но еще прежде, чем прошли эти 20 дней, как
пять всадников напали на Лютера за Эйзенахом и отвели его
в замок Вартбург. Фридрих спасал в нем от гнева
императорского великого реформатора.
♦ Merle d'Aubigné, II, 231,
Обозрели* истории Реформации
135
ОБОЗРЕНИЕ ИСТОРИИ РЕФОРМАЦИИ
Такою личностью, как Лютер, обеспечены были успехи
Реформации. После такого опыта, как Вормсский сейм, дело его не
могло более потеряться. Оно должно было укрепиться в Герма?
нии и распространиться потом повсюду, куда только
простиралась власть римской иерархии, следовательно, во всей Западной
Европе. Впрочем, не везде одинаково. Два главных народных
элемента находим мы в Западной Европе: романский и
германский, или лучше тейтонский. Католицизм был скорее создание
романского духа, наложенное и на германские народы. Учение
реформационное, в котором религиозный элемент отделился от
церковного, был плодом германской мысли; между германскими
народами должно было оно наиболее иметь и успеха.
Мы обозрим сначала успехи Реформации между германскими
народами: в собственной Германии и в прежней части ее
Швейцарии, в Скандинавских государствах, наконец, в Англии. Потом
обратимся к романским народам, покажем причины неуспехов
ее в Италии и Испании и, наконец, заключим обозрением
гугенотских войн !. После того мы можем возвратиться к обозрению
дальнейших успехов Реформации и окончании ее в Германии
(вторая половина XVI века и Тридцатилетняя война, в которой
принимала участие и Швеция). Последнюю главу составит
обозрение успехов реформы в Англии, где она потом соединится
с принципом политическим и произведет Английскую революцию.
В Германии прежде всего, ибо здесь всего более была
приготовлена почва и брошено первое семя. Ни над какой страной
не тяготела так иерархия, и никакая страна не представляла
столько удобств в полит [ическом] отношении для успехов
Реформации — если предполагать, что здесь дело ее не могло выйти
от самого главы государства,— как в Англии2. Власть
императорская, ее идеальное основание3. В противоположность к ней —
поместные власти, которые гораздо ближе к настоящей почве и
свободные от иерархии. От успехов Реформации зависит успех
их собственного дела. Зато, впрочем, в некоторых частях
Германии тем более сопротивления должна встретить Реформация, что
Германия сохранила еще у себя местные иерарх [ические] власти
с правами курфирстскими и близкими к суверенитету. Вообще,
хотя более ручательств за успех, но дело очень трудное.
В первой части после Ворм[сского] сейма Лютер, скрываясь
от двойной опалы (впрочем, вовсе не добровольно), скрывается
вообще от глаз народа. Он остается лишь душою всего
предприятия и кладет печать своего духа на все вновь сооружаемое
здание, на весь его характер, частью на самых его деятелей,
которые более или менее действуют все под влиянием одного и
того же духа; но как дело не есть уже только сознание, но вместе
и дело политическое, ибо касается всех политических интересов,
ЙЗв
Лекции 1848/49 е.
то на внешней политической сцене находим уже и других,
политических, деятелей.
Сделаем наперед обозрение главных действующих лиц как
со стороны старого порядка вещей, так и со стороны
Реформации. Император Карл V, Самый умеренный рост, сложение
болезненное, не крепкое, вид несколько меланхолический, впрочем,
отличный наездник и мастер владеть копьем. Как бы для того,
чтобы возвысить дело Реформации, судьба поставила во главе
империи — и необходимо противником реформы — человека,
который соединил в руках столько разнородных владений в
Старом Свете с огромными владениями в Новом. Но Карл был
опасен тем, что вырос в сознании величия своего положения. Он но
был ни страстен, ни раздражителен, но он не мог бы понять
никакого противоречия своей власти, откуда бы оно ни выходило.
Всякое противоречие было в глазах его так же странно, как ересь
в глазах иерархии. Он не был фанатиком римской иерархии,
в уме его было слишком ясности для того; но он стал слишком
высоко для того, чтобы иметь истинные потребности блаженства,
и во всем, что не исходило из его собственной воли, видел
только ослушание.
Фридрих поступил очень умно, скрывая Лютера от его глав
и гнева: то же самое дело Карл лучше мог понять со слов кур-
фирста, чем со слов простого августинского монаха. С другой
стороны, впрочем, то же самое сознание своего величия долго
мешало ему 8аняться пристально делом Лютера. Дело частного
человека, оно казалось ему слишком маловажно, чтобы могло
занять все внимание такого властителя, как Карл. Он унизил бы
себя в своих собственных глазах, если бы занялся им более, чем
своим соперничеством с Франциском. Это был достойный его
соперник, и никогда Карл не потерпел бы над собой его
преимущества. Продолжая с ним средневековую борьбу в четырех
войнах4, он часто оставлял Реформацию вовсе без внимания и
дает ей полную свободу созревать. Только тогда считает он
Реформацию делом, достойным того, чтобы обратить на него всю
свою силу, когда уже она образовала целую лигу5 для своей
защиты, когда одна часть империи враждебно стояла против
другой (и притом по окончании всех войн с Франциском). Он
тотчас дал почувствовать Лиге всю силу своих рук: она была
разбита, и глава ее, курфирст Саксонский, был взят в плен. Но
успех Карла был непрочен: и первый человек политический,
принявший сторону Реформации 6, вырвал из рук его победу, и
Карлу досталась печальная участь — пережить все свои успехи,
видеть бесплодность и бессилие всей своей власти против дела,
которое он столько презирал сначала, потому что не понял его*..·
• Далее характеристика отдельных политических деятелей (противников
и союзников Лютера), имеющая описательный, подчас конспективный
характер, опускается (л, 125 об.— 131 об.).
Обоаренив истории Реформации
137
Поищем далее причины медленного, сначала даже несколько
нерешительного, хода Реформации в самих событиях,
последующих после Вормсского сейма, потому что в той же самой сфере,
в которой действовал Лютер, но независимо от него, находим мы
целый ряд событий, которые также не могли не остаться без
влияния на дух главных действователей Реформации. После
движения, произведенного гуманистами и Лютером, состояние умов
в Германии было совершенно особенного рода. Еще реформа не
получила характера прочного учреждения, еще ей предстояла
тяжелая борьба в будущем, а между тем сознание было уже
освобождено от самых тяжелых уэ, которые наложены были на
него средними веками — от иерархического начала. Оно не
замедлило предаться чувству своей свободы и, уже не
ограничиваясь более началами, поставленными Лютером, произвело в
области мысли явления, которые угрожали самому делу Реформации.
Такова натура человеческой мысли: долго может быть связана
она одним началом, наложенным на нее извне, но едва
только раз освободится от него, как уже в ней является
потребность испытать себя в приложении ко всем явлениям жизни.
Стремление опасное, потому что, не признавая над собой
никакого авторитета, мысль становится враждебно ко всем жизненным
явлениям, ко всем учреждениям, которые не вытекали из нее
же, и посягает даже на их конечное уничтожение. Притом
освободившись от авторитета, мысль перестает иметь характер
универсальный, она становится чисто индивидуальной и
раздробляется на тысячи оттенков. Но во всех них преобладающие
инстинкты будут разрушительные. Если дать им полную свободу,
то они произвели бы явление самое хаотическое. На первый раз
особенно нужно бывает сдержать эти неумеренные порывы
освобожденной мысли, а это возможно лишь посредством какого-
нибудь другого всеобщего начала. Не будь такого начала во
время Реформации или не успей оно утвердиться вопреки всем
индивидуальным стремлениям, свет представил бы самое
печальное явление.
Лютерово начало имело, конечно, вначале характер
субъективный: но его энергией, его волей, его собственной преданностью
общему религиозному началу оно было возведено на степень
общего. Первые попытки освобожденной мысли проявить себя
вне движения Лютерова, или независимо от него, сказались
вскоре после Вормсского сейма в самом Виттенберге. Лютера
тогда не было в городе. Пылкий, увлекающийся Карлштадт, один
из первых, которые приняли сторону Лютера в университете
прежде других, обнаружил беспокойную наклонность стать на
место отсутствующего Лютера во главе движения и идти вперед.
Карлштадт не способен был обдумывать каждый свой шаг, он
смело хватался за первую встретившуюся ему мысль и,
недовольный тем, что передавал ее с кафедры своим восторженным почи-
ш
Лекции 1848/49 ·.
тателям, он тотчас хотел привести ее в исполнение. Появление
в Виттенберге некоторых фанатиков из Цвиккау *7,
последователей Шторха (Claus Storch), который учил, обходя Библию,
принимать вдохновение от самого духа, придало Карлштадту еще
более дерзости. Каждый день рождалась у него новая мысль,
и каждая мысль была отрицанием чего-нибудь в прежнем
порядке вещей. Электризуемая им публика также увлечена была
жаром нововведений. Уже не довольно было Карлштадту отменить
устную проповедь, всякое приготовление к причастию, ввести
в обычай принимать таинство собственными руками, он уже
явно восставал против икон, называл поклонение им явным
идолопоклонством и возбуждал народ к действиям, которые должны
были возобновить в Европе времена иконоборчества. Это было
первое проявление того разрушительного духа, который выходил
как неизбежная крайность из нового движения, должен был
потом пройти многие места Европы и лишить многих памятников
искусств.
Народ, увлеченный Карлштадтом, действительно устремился
против икон, врывался в церкви, выносил образа и разбивал их,
как самые ненавистные предметы. И на том не остановился Карл-
штадт: встретив некоторое сопротивление со стороны городских
магистратов, он не убоялся высказать уже и ту мысль, что в
случае недостатка ревности со стороны начальства община имеет
право сама приступить к нововведениям. В этой мысли было
самое резкое отступление Карлштадта от Лютера, с этой мыслью
можно было наконец прийти к уничтожению всякого
общественного порядка. До какой степени это направление становилось
исключительным, в известной степени даже аскетическим, можно
видеть уже из того, что один из последователей Карлштадта,
профессор того же самого университета, учил с кафедры, что не
нужно более ни науки, ни ученых, и советовал слушателям
разойтись по домам и заняться земледелием, чтобы исполнилось
слово Писания: в поте лица твоего съешь хлеб твой 8.
Произведенное Карлштадтом движение было так велико, что
угрожало охватить не только Виттенберг, но и окрестные страны;
одним словом, Виттенберг мог сделаться центром самого
опасного {движения для целой Германии. Меланхтон был слишком юн,
не довольно тверд, чтобы противиться общему увлечению;
магистр Виттенбергский также не показывал особой решительности;
миролюбивый курфирст не считал себя вправе произнестиб между
обеими сторонами и давал полную свободу беспокойной реформе
Карлштадта. Слухи дошли до Лютера. Уже убежденный в своем
великом признании, он счел своей первой обязанностью
противодействовать непризванным. Пренебрегая страхом, забывая
папскую анафему и императорскую опалу, явился в Виттенберг,
* Ranke, II, 20.— Hagen, III, 49 et cet,
6 Так в рукописи.
Обозрение истории Реформации
Ш
начал проповедовать против Карлштадта (семь проповедей)9;
беа страсти, без ненависти обличал нововводителей в повинности,
в увлечении и старался возвратить жителей Виттенберга к миру,
к христианской любви. Столько же словом, сколько и своим
авторитетом, Лютер успел образумить увлеченных и восстановить
спокойствие в городе. Движение утихло, Карлштадт принужден
замолчать, и большая часть его последователей снова приняла
сторону Лютера. С того времени он остался в городе и
продолжал руководствовать движением.
Едва только улеглось одно движение, как уже готово было
другое *. Оно, впрочем, было гораздо более сложное, нежели
первое. Первым поводом к нему было то неудовольствие,
которое низшее дворянство империи, рыцарство, владетели вамков,
самый беспокойный элемент в Германии, давно питало к
правительствующей комиссии империи (Reichsregiment)**, видя
в нем выражение власти княжеской ко вреду рыцарства. Но это
неудовольствие долго еще таилось бы под пеплом, если бы не
присоединились к нему новые идеи, бывшие тогда в ходу в
Германии. Рыцарство из всех сословий показало наиболее сочувствия
к гуманизму, оно же в своих лучших представителях, Гуттене и
Сиккингене, рано приняло и сторону Лютера. Старое
неудовольствие, питаемое новыми идеями, возросло до явной вражды.
Франц Сиккинген, доблестный рыцарь, в замке которого —
Эбенбурге месса совершалась по новому обряду, взялся
вооруженной рукой настоять на требованиях недовольного
верхнерейнского дворянства ***. Гуттен в сочинении своем, обращенном к
имперским городам, изготовил манифест недовольной партии
(Beklagung der Freistätte deutscher Nation10). По старой вражде
к архиепископу Трирскому Сиккинген против него решился
обратить свой первый удар. Выступая против Трира, он объявлял
его жителям, что идет «освободить их от тяжелого поповского
закона (Gesetz der Pf äff er) и возвратить к евангельской свободе»11.
В этих словах слышался не только защитник привилегий
рыцарства, но и поборник религиозной реформы. Когда
правительственная комиссия издала свои увещания к соседствующим князь·
ям, чтобы они воздержались от всякого участия в предприятии
Сиккиигена как в противозаконном, Сиккинген объявил, что он
именно предпринимает ввести новый порядок в империи, что он
вамышляет дело, о котором не думал ни один император.
В самом деле, предприятие могло бы пойти очень далеко,
если бы рыцарство германское поддержало Сиккинген a: on о
могло ниспровергнуть существующие политические учреждения в
Германии. Но прежде чем последовало соединение рыцарей с
* Ranke, II, 101; Hagen, III, 49.
** Имперское управление; имперская власть [нем.).
*** См. о нем Ibid., р. 119.—Он оторвался от герцога Вюртембергского,.
отстал от союза Швабского и примкнул к франконскому рыцарству.
140
Лекции 2848/49 β.
Сиккингеном, отдельные отряды их были разбиты в разных
местах; курфирст Трирский успел между тем найти себе
деятельных союзников в пфальцграфе, ландграфе Гессенском и других.
У Трира Сиккинген встретил сопротивление, к которому он
нисколько не приготовился. Он должен отступить от города и
потом искать собственное спасение в своем укрепленном бурге. Все
союзники Сиккингена один за другим покорились врагам его,
с которыми теперь соединился и Швабский союз. Вместе с
швабским должно было покориться и франконское рыцарство,
которое также готово было подать руку Сиккингену. Еще ждал он
сам помощи себе из нижней Германии, с верхнего Рейна и с
Богемии, ждал содействия Лютером и до того времени надеялся
еще задержать осаду в своем укрепленном бурге. Однажды с
высоты бурга заметил он толпы приближающихся всадников: уж
он готов был приветствовать их как своих союзников, но скоро
оказалось, что мнимые союзники было войско врагов его,
которые пришли осаждать его в самом бурге (Landstadt). Сиккинген
не потерял духа: он хотел защищаться. Но осадные орудия
противников произвели в укреплении значительные новреждения.
Старые твердыни, простоявшие целые века, разрушались в
главах рыцаря от действия нового искусства. Еще, впрочем,
Сиккинген не унывал, еще он думал воспользоваться остающими [ся]
ему средствами обороны, как одна пуля положила его замертво.
Его понесли в единственное строение замка, уцелевшее от
разрушения, еще он дышал, когда вошли сюда его противники,
овладевшие крепостью, и каждый из них обратился к нему с
упреком: что сделал я тебе, говорил курфирст Трирский, что ты
напал на меня в моей земле? А я, сказал молодой ландграф,
чем заслужил, что ты не пожалел моих молодых лет и угрожал
моей земле?— Скоро я должен держать ответ перед тем, кто
больше всея всех, отвечал умирающий Сиккинген. В свою очередь
капеллан обратился к нему, спрашивая его, не желает ли
исповедаться. Сиккинген отвечал: я уже покаюсь Богу в сердце.
Еще капеллан произносил слова христианского утешения, как
Сиккинген закрыл глаза...
Последняя судьба Гуттена. Вместе с Сиккингеном пали и все
мятежные бурги, пало рыцарство; территориальная власть
князей и герцогов империи стала еще выше: одним элементом
сопротивления было менее. Попытка, впрочем, замечательная: это
была первая попытка перенести свободу религиозную на другую
почву, попытка одного сословия употребить в свою пользу
приобретения религиозного движения и с их помощью изменить
существующий порядок в империи. И здесь Лютер был против
такого партикуляризма: несмотря на все приглашения
Сиккингена, не только он остался в Виттенберге, но и не переставал
убеждать его, чтобы он оставил свое безрассудное предприятие.
,Так действовали на Лютера все подобные попытки: чем боль-
Обозрение истории Реформации
141
те увлекали его на сцену политическую, тем больше хотел
он держаться в сфере религиозной л никогда не соглашался
употребить своего универсального дела в пользу лишь одного
сословия.
Но едва только утихли одни попытки, как уже готовились
другие; как будто все недовольные сословия должны были
стараться обратить в свою пользу реформационное движение.
Таково было свойство религиозной реформы, что она по самому
существу своему должна была проникнуть все классы, не
остановиться только на поверхности общества или, если угодно, на его
вершине, как движение гуманистическое. Следовательно, она
должна была коснуться самого низшего слоя общества. Но чем
она опускалась ниже, тем становилась опаснее: в низших
классах всегда было гораздо больше неудовольствия, а между тем
они меньше были приготовлены к тому, чтобы принять реформу
во всей чистоте ее; да и самые нужды их были такого рода, что
не могли они, восставая против иерархии церковной, не восстать
и против иерархии светской, которая лежала на них еще
тяжелее первой. Если бы здесь последовал взрыв, он был бы
страшен, он бы устремлен был разом против всех иерархических
начал, следовательно, против всего общественного порядка, как он
был развит и устроен средними веками. Реформа должна была
превратиться в революцию, из которой в те времена ничего не
могло выйти, кроме хаот [ического] состояния.
Самое низшее и самое многочисленное сословие в Германии
составляли поселяне. Мы все внаем ту тяжесть, которая
наложена была на это сословие средними веками. Но самое большое
несчастие было для него то, что у него отнято было его, так
сказать, природное (германское) право*, что вместо его навязано
было ему право римское. Это было право письменное, право
ученых адвокатов, следовательно, нисколько не выходившее из со-»
внания народа и потому ему чуждое. В этом отчуждении народа
от права, под которое он был поставлен, вышло множество новых
влоупотреблений, которые все падали на то же сословие.
Состояние подобное тому, в каком находились плебеи до введения
законов XII таблиц 12. Неудовольствие копилось годами, новое
движение придало ему более силы и энергии. Сам Лютер не мог
не заметить того страшного неравенства, которое отделяло одни
классы от других, и время от времени делает увещания к
сильным мира, чтобы они со своей стороны старались умерить зло.
В духе христианской любви Лютер призывал их от права
формального к праву разума. «Всякий, облеченный властью
(Fürst),— говорил он,— должен так же крепко держать право в
своих руках, как и меч, и измерять собственным умом, когда и
где должно употреблять право во всей строгости или смягчать
* Hagen, II, 332.
ш
Лекции 1848/49 е.
его так, чтобы во всякое время всем управляло право, и так,
чтобы высшим правом и господином всякого права оставался
разум.— Это я говорю для того, чтобы не подумали, что делают
великое дело, если следуют письменному праву или совету
юристов (собственно — юридическим советникам): нет, этого одного
еще далеко не достаточно»*. (В 1523 году.) Иногда даже он
высказывал мысль, что не должно быть различия между
дворянством и гражданами**, что у народа избранного был же один
царь. То, что у Лютера было только увещанием в духе
христианской любви13, у людей, менее воздержанных в движении
мысли, переходило в требования. Идеи Лютера в несколько лет
сделались популярными, приучили народ к чтению, вызвали у него
потребность размышления. Это размышление от религиозных
злоупотреблений легко уже могло потом перейти и на
злоупотребления политические, от которых низшие классы терпели еще
более. В удовлетворение этой последней потребности народа
скоро образовалась целая беглая литература брошюр, которая
должна была сильно расшевелить его старое неудовольствие. В ней
открыто, смело говорилось против тех податей, которыми в
особенности были обременены низшие классы.
«Князья и бояре,— говорит один автор,— издерживают на
церковные приношения по две, по три тысячи гульденов, даже
гораздо более, а если бы кто из них вздумал только на один год
уволить бедных своих подчиненных от налогов, так он больше
не был бы тем, чем он есть. Бедный человек должен заплатить,
хотя бы он сам, его жена и дети должны были потом терпеть
голод и холод. Да, не одна бедная беременная женщина бывает
свидетельницей погибели своего плода, который она носила под
сердцем, оттого что бедный работник вследствие неурожая или
другого несчастья не может уплатить свои повинности и sa то
терпит побои и разного рода мучения: все это не вопиет ли к
небу об отмщении?»*** — Другие прямо называли тиранией всякое
действие власти, которое не направлено к общей пользе и
благосостоянию страны и народа. «Далее,— проповедовал Венцесл [ав]
Линк,— она простираться не может; в этом, конечно, мы
обязаны по нашей совести помогать ей и служить ей всеми нашими
средствами, но не далее. Там же, где она [власть] переступает
эту черту, она действует противно христианству, тиранически.
Потому что тот — тиран, кто, будучи облечен властью,
употребляет ее не на общую пользу, но для собственной своей чести,
пользы, на служение своим страстям, и, следовательно, служит
самому себе, даже дьяволу, но никак не Богу. Власть или
начальство есть слуги Божий, а тирания — дьявола... Там, где
дело не касается общей пользы, никто не обязан платить повин-
* Hagen, II, 333.
** Ibid., 329.
*** Hagen, II, 322.
Обозрение истории Реформации
143
ности: по доброй совести их можно и отклонить», и т. д.—
Некоторые и еще прямее восставали против существующих властей,
говоря таким образом: «Если мы посмотрим на королей, князей
и господство, то мы найдем, что это большей частью дети или
что они имеют женский вид. Рим (die grosse Hure zu Rom*)14
яепотребствует с ними, заставляет их играть самые глупые роли:
я думаю, что она (diese Hure)** дает им на содержание, что
они не могут отстать от нее, хотя бы сами видели все свои
гнусные дела, пока они находятся в этом упоении. Итак, о этой
стороны едва ли чего можно надеяться, хотя и должно просить.
Помогут просьбы, хорошо; не помогут, во имя Божие! Но
наперед мы должны знать, как далеки от нас наши князья»***.
Или: «Хотя святое Евангелие и слово Божие не противятся
светской власти, ибо по изречениям Петра и Павла всякая
власть от Бога, и потому каждый-обязан тем властям, как от
Бога поставленным, быть послушным; впрочем, святое
Евангелие противится всякой беспорядочной власти,
злоупотреблениям и расточительности правителей». Потому-то высшие мира
сего и боятся так, если в их землях начинают проповедовать
слово Божие без утайки и т. д.
Между множеством брошюр появлялись даже опыты нового
социального построения, на основании новых общественных
начал — равенство сословий участие народа в правлении ****. Одна
из них носит титло: «Der 11 Bundesgenosse, ein neue Ordnung
weltlichen Standes, das Pfitacus angezeigt hat in Wolfaria
geschrieben» и принадлежит Эберлину von Güntzburg 15 (1521 год);
другая выдана под видом проекта реформы Фридриха III и носит
название: «Reformation Friedrich III»16.
Глухо волновалась страна, напитанная и беспрестанно
возбуждаемая подобными учениями, которые находили себе в
низших классах живой отголосок. Недоставало только огня, чтобы
поджечь эту легко возгорающуюся массу, чтобы пламя
выбросило наружу и страшный пожар объял всю страну. Искру всего
скорее мог бросить фанатизм. В учении Лютера его не было,
но он (фанатизм) мог привязаться ко всему, следовательно и
к лютеранизму. От фанатизма человечеству освободиться труднее,
чем от многих обычаем утвержденных злоупотреблений, потому
что многие рождаются фанатиками. Такие люди рано или поздно
должны были явиться и внутри реформационного движения. Мы
уже видели попытки этого рода — в Цвиккау, в Виттенберге.
Они были подавлены в самом начале, но там же остались корни
учения, и фанатизм не замедлил снова поднять свою голову»
* Великая римская блудница (нем.)ч
** Эта блудница (нем.),
**♦ Ibid., р. 326.
**** Hagen, II, 334-338.
ш
Лекции 1848/49 в.
Он олицетворялся на этот раз в лице Томаса Мюнцера*. Он
начал свою проповедь неподалеку от Эйзенаха ** — начал с то-
того же, с чего начинали и его предшественники: с учения о
внутреннем откровении, а оканчивал тезисом, достойным не только
таборптизма, но даже самого исламизма — что неверующих
должно истреблять мечом и основать новое благодатное царство,
которое бы состояло из одних верующих — в смысле Мюнцера.
Уже начала здравой умеренной реформы взяли свою силу в
Саксонии, и потому Мюнцер, так же как и Карлштадт, должен был
скоро оставить страну. К несчастью, эта мера только
содействовала к распространению зла. Мюнцер удалился в пределы
верхнего Рейна. Но там всего сильнее было неудовольствие низших
классов ***. В продолжение последних 30 лет там особенно
скопились элементы недовольства: еще в 1513 году некто Иосс Фриц
в Брейсгау возбуждал народ к поголовному восстанию, говоря,
что того требует правда Божия; в следующем году некто Кунц
в Вюртемберге объявил, что он готов поднять руку, чтобы
открыть ход справедливости и праву божественному. Дело было
уже готово, когда Мюнцер принес сюда свой фанатизм. У него
он обращен был против злоупотреблений иерархии ****: его тотчас
перенесли на злоупотребления власти светской — предмет,
гораздо ближе занимавший низшие сословия. В началах Мюнцера,
лучше сказать в началах его фанатизма, вовсе не лежало такого
исключения, чтобы одну власть он хотел щадить другою": ему
самому легко было увлечься общим направлением в тех странах.
Итак, дело недовольных сословий соединилось с религиозным
фанатизмом. Подогретое этим жаром общее неудовольствие
явно подняло голову. Выше упомянуто о предприятии Буль-
генбаха. За ним последовали другие восстания в окрестной
стране. На первый раз они были подавлены, но лишь до весны
* Ranke, II, 185; Hagen, III, НО.
** В то же время Шторх основал в Готе новую общину и окружил себя
12 апостолами, которые должны были распространять его учение в
Германии. Ranke, ibid.
*** Кроме общих причин были некоторые особенные, местные: близость
Швейцарии, преследования, воздвигнутые австрийским правительством
в том краю, в Эксисгейме в Ротвейле и других местах; наконец,
действия града, который в 1524 истребил большую часть жатвы в Cletgau,
так что в августе того же года некто Ганс Мюллер фон Бульгенбах
выставил черно-красно-белое знамя (в Вальдсгуте), прямо объявляя,
что он намерен основать еванг[ельское] братство, чтобы освободить
крестьян во всей империи.
**** Впрочем, еще в 1524, находясь в Саксонии, он уже проповедовал, что
безбожный (в его смысле) не имеет никакого права пользоваться
жизнью: я говорю с Христом, что безбожных правителей, особенно
попов-монахов, должно убивать. Или: «Ach, lieben Herren, wie hübsch
wird der Herr unter die alten Topf schmeissen mit einer eisern Stangen»,
Ranke, II, 207. «Ах, любезные господа, как славно будет господь бить
по старым горшкам железным шестом» (пер. М. М. Смирина),
» Так в рукописи.
Обоаренив истории Реформации
US
1525 года, когда пожар должен был обнять большую часть
Германии.
Восстание шло и распространялось с неимоверной
быстротой*17. В гепваре поднялись приписные к аббатству Кемптен.
Аббат принужден был заключить с ним очень невыгодный
договор. В феврале движение охватило берега Боденского озера»
в марте оно уже было так сильно, что могло выдерживать
борьбу с целым Швабским союзом. В следующем месяце ополчились
и все жители Шварцвальда. Предводители мятежа, в красных
мантиях, в красных баретах, со знаменами, повитыми зелеными
ветвями, разъезжали от селения к селению; колокола иначе не
звонили, как только для набата. Всюду разослан был манифест,
в котором восставшее сословие предъявляло свои требования.
Это известные «12 артикулов»18. В них высказывались обе
тенденции: социальная и антииерархическая. Отменение всех
феодальных привилегий дворянства и некоторых новых повинностей,
наложенных в последнее время, составляло первое требование.
В заключение они хотели быть свободными, так как Христос и
их искупил своей кровью, не хотели платить так называемой
малой десятины (телята, ягнята, горох, сено и пр.), требовали
себе право избирать по собственной воле своих проповедников,
которые бы наставляли их в истинной вере, «без чего они были
бы только плоть и кровь, и потому ни к чему не годны»19. Всем
тем, которые бы изъявили согласие на принятие артикулов, обе-
щано было допущение их в новое общество; тем же, которые бы
отвергли их, угрожала опала, т. е. лишение всех гражданских
прав.
Еще Швабский союз нисколько не успел управиться с мятеж-
ными толпами Шварцвальда, как искра перелетела в Оденвальд
и произвела там подобный же пожар. И там восстали целые
селения, избрали себе предводителем самого отважного из среди
себя и двумя толпами с «12 артикулами» в руках начали
производить неистовства в окрестностной стране. Одна толпа шла
от Ротенбурга, где она успела низложить прежнее правление,
под предводительством Ганса Кобеншлята, другая — от Оден-
вальда, под предводительством Георга Мецлера. Владельцы со-
седственных поместий и бургов, захваченные врасплох, спешили
подписывать предлагаемые условия, чтобы по крайней мере
спасти жизнь от опасности. Некоторые принуждены были лично
явиться в лагерь мятежников и там выносить непривычные
унижения, т. е. слышать, как их подвластные называли их своими
Ρ Ranke, И, 191.—Hagen, III, 135. Также сочинение Циммермана; также:
Der Bauernkrieg in Ostfranken, von Bensen, Erlangen, 1840.— Старое
сочинение Сарториуса: Versuch einer Geschichte α [er] deutsche
Bauernkrieges.— Heinr. Pfeifer und Thomas Münzer in Mühlhausen, Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft, IV, 4 (1845, Oktober).
10 Π. II. Кудрявцев
M46
Лекции 1848/49 9.
братьями *. Самые дикие, самые неистовые страсти не замедлили
восстать в рядах мятежников; владетель одного бурга (Гельфен-
штейн), взятый ими в плен, был брошен на копья и погиб —
самым несчастным образом. Другие, чтобы спасти себя, заранее
подписывали все условия. Некоторые, как Гец фон Берлихин-
ген**, уступая столько же воинственной отваге, сколько страху,
сами вступали в службу крестьян и даже предводительствовали.
Так как в той стране 20 не было учреждения, подобного
Швабскому союзу, которое бы могло противопоставить довольно
значительное сопротивление, то восстание скоро распространилось
по всей Франконии и не остановилось уже перед Вюрцбургом;
епископ и рыцарство должны были искать себе спасение в Фре-
денберге. Впрочем, и председатель войска Швабского союза
(Truchsess) вскоре должен был склониться на переговоры с
крестьянами при посредничестве городов, между тем как
маркграф Баденский искал спасения в бегстве, а епископ Страсбург-
ский потерял даже свою резиденцию (Цаберн), которая осталась
в руках мятежников.
Уже здесь, во Франконии, стремление восставших крестьян
приняло характер радикальной реформы ***. Гейльброн назначен
был центром всего движения, откуда оно должно было
рассеяться по целой Германии. Идеи радикального переворота — они
простирались на все политические и социальные учреждения в
Германии и должны были выйти от крестьян. Правильное, почти
систематическое развитие начал новой конституции21, которую
возмутившиеся крестьяне готовили Германии, выработано было
здесь двумя предводителями крестьян: Weigant von Miltenberg
и Wendel Hipler, из которых последний был канцлером у Гоген-
логе. Главное положение: крестьяне должны быть свободны;
секуляризация всех церковных имений; отменение всех пошлин;
из властей признается только одна власть римского императора,
для которого собирается единственный налог, и то раз в десять
лет; новые судилища (Freigerichte)**** с заседателями из всех
сословий; преобразования в том же духе в высших судилищах;
далее, в импер[ском] суде (Kamergericht) заседатели из низших
сословий; одна монетная система, одна система мер и весов22.
Смелая идея восстановления единства Германии [на]
национальных началах, но, к сожалению, для своего времени совершенно
неисполнимая! Ненависть нововводителей потому особенно
обращалась против докторов римского права23: они исключались от
* «Брат Георг и ты, брат Альбрехт,— говорил один к графам Гогенлоге,—
подите сюда и обещайте крестьянам быть с ними как братья, потому
что ведь вы уже больше не господа, а те же крестьяне, что и мы»«
Ranke, II, 196.
** Гец предводительствовал Оденвальдской толпой, Флориан Гейер—»Р<н
тенбургской.
*** Ranke, И, 202—203.
**** Независимый, открытый суд (нем.).
Обозрение истории Реформации №7
всех судов и оставались терпимы только при университетах..·
Такою ненавистью платили крестьяне sa отчуждение их от
права народного представителям права письменного.
Определяясь самое в себе, движение никак не
ограничивалось одними теми пределами, в которых уже взяло перевес. Из
приобретенных пунктов оно угрожало всем соседственным
странам: так, из Франконии оно уже проникло в Гессен, отсюда
начинало угрожать Саксонии, так же, как из верхней Швабии
угрожало Баварии, из Эльзаса — Лотарингии. Его же отрасли
находились потом в Мюнстере, в Вестфалии, в передних
Австрийских] владениях, даже в Тироле, в Зальцбурге. Наконец,
восстание вспыхнуло даже в Турингии.
Самое опасное при последнем восстании было то, что Мюнцер
явился здесь лично и успел стать твердою ногою в Мюльгаузене.
ДЗму удалось вдесь ниспровергнуть прежнее правление, учредить
новый городской совет, в котором заседал сам не столько в
качестве члена, сколько в качестве диктатора и пророка: власть
тем более опасная, что она была облечена мистическим
характером. Каждое слово его принималось как приговор свыше
вдохновенного человека. Он подписывался: Фома Мюнцер с мечом
Гедеона *. Учение, принесенное им сюда, в сущности было та
же: освобождение крестьян от всех тяжестей. Но он дал ему
характер еще большего ожесточения, нежели какой оно имело
до сего времени. Кроме того, что он соединял с своею
проповедью самую непримиримую оппозицию Лютеру, которого
Евангелие, т. е. учение, называл выдуманным Евангелием; а
Христа— «сладеньким» (honigsüß)24, он фанатически требовал
истребления плевелов во время жатвы, он указывал на пример
Иисуса Навина, который острием меча истребил прежних
жителей Палестины; в своем фанатическом увлечении за свободу он
уже отрицал все власти, не был даже доволен мирными
сделками, которые заключали крестьяне с владельцами; он хотел
истребления, а не пощады нечестивым. Заседая в совете, он
управлял отсюда разрушительными действиями своих последователей
по всей окрестной стране, как только далеко могло
простираться его влияние: по его распоряжению толпы фанатиков
вторгались в монастыри, разрушали памятники, сожигали библиотеки,
подвергались разграблению замки и домы баронов и делались
все воинственные приготовления. «Братья,— писал он в Манс-
фельд,— не дайте места жалости в вашем сердце и да не
соблазнит вас Исав льстивыми речами; не смотрите на слезы
нечестивых; и пусть не охладевает меч ваш от горячей крови»25.
Если подумаете, что к нему как к нравственному центру
приливали все стремления восставших сословий, что несметные
толпы ждали только его приговора, чтобы устремиться на одно об-
* Ranke, II, 209,
10*
Й48
Лекции 1848/49 а.
щее предприятие, нельзя не почувствовать опасность, которая
угрожала целой Германии. Никто так живо не восчувствовал
опасности, как Лютер. Сначала он довольствовался словами
мира, увещевая к нему обе стороны26; но когда он увидел
торжество одной стороны без пощады к другой и с торжеством
возрастающего ожесточения против побежденных, тогда душа его во-
зопияла против «проповедников убийства»; энергический голос
его снова раздался по Германии и уже не для того, чтобы
призывать ее к миру, но чтобы подвигнуть все власти к одному
соединенному удару против того разрушительного духа, который
разливался по всей Германии вместе с крестьянским восстанием 27.
Фанатизм и убийство были две вещи, которых никогда и после
не мог простить Лютер этому движению, к которым он
исполнился тогда глубокого отвращения. Укрощение этого восстания
он считал священной обязанностью князей, и смерть в таком
случае считал заслугой мученическою.
С голоса Лютера сказал свое убеждение и Меланхтон *.
Впрочем, это было лишь повторение мыслей Лютера, только без его
силы и энергии, в спокойном, догматизирующем тоне, с
прибавлением некоторых крайностей в пошлом умеренном духе. Так,
он отрицал уже совершенно всякое право у подданных перед
властями (Regenten) и говорил далее, что гордый народ
немецкий заслужил своим безумием, чтобы князья с ним так
поступали, что они стоили бы, чтобы о ним обходились вдвое
хуже 28.
Начались вооружения против мятежников. Князья
внутренней Германии, те, которые приняли на себя защиту Реформации,
ополчились первые: ландграф Гессенский, курфирст Иоанн,
также герцог Саксонский и герцог Брауншвейгский. Рыцари охотно
следовали их призыву. Удар был направлен прямо против Мюн-
цера. Мюнцер вовсе не был полководцем, но он имел много
слепой веры в свое высокое призвание. Он не сомневался, что
сверхъестественная помощь, чудо, отдаст в его руки победу. Он
сам выступил навстречу своим противникам и стал лагерем у
Франкенгаузена на высотах. Духовными песнями готовились его
ратники к битве. Последовал удар, и беспорядочная толпа,
несмотря на все уверения своего пророка, с первого раза
смешалась и потеряла битву. Это было скорее побоище, чем битва,
так что до 700 человек осталось на месте, Мюнцер и Пфейфер
были захвачены в плен (первый в Франкенгаузене). Суд был
короткий: вместе с другом своим Пфейфером Мюнцер был
казнен в лагере перед Мюльгаузеном. Впрочем фанатизм остался
с ним до последней минуты. Когда ему, во время пытки (?)
напоминали о том, сколько людей погубил он, Мюнцер не скрыл
улыбки и отвечал, что он сам того хотел, Мюльгаузен был взят,
• Hagen, III, 140.
Обозрение истории Реформации
149
совет распущен, и все виновные преданы казни. Князья
занялись потом восстановлением порядка в окрестной стране.
Падение Мюнцера было началом падения всего восстания.
Почти в одно и то же время восставшие крестьяне были
атакованы со всех сторон, еще с большим рвением восстали против
них князья, чем против Сиккингена. Начальник ополчения
Швабского союза Трухсесс укротил восстание в Швабии и отсюда
направился ко Франконии, где навстречу к нему вышел
пфальцграф и курфирст Трирский. Герцог Лотарингский между тем
успел подавить восстание в Эльзасе (при одном случае погибло
до 17 000 человек, впрочем вследствие нечаянного нападения,
когда они мирно выходили из Цаберна). Оставалось восстановить
спокойствие в Оденвальде и Франконии, но нигде не могли
устоять против латников плохо воруженные крестьяне. Трухсесс
разбил снова франконские толпы и-принудил к сдаче Вюрцбург,
между тем как с другой стороны подошел маркграф Бранден-
бургский и взял Бамберг, Швейнфурт, Ротенбург. Наконец и
последние толпы инсургентов на Среднем и Верхнем Рейне скоро
должны были смириться под воинственной рукой курфирста
Трирского и Георга Фрундсберга.
В три месяца укрощено было все опасное восстание.
Победители не хотели быть ни великодушными, ни умеренными.
Страшные казни, секвестры и т. п. последовали за победой. После
одной франкенгаузской победы казненных было 700 человек.
В Вюрцбурге также более 200 человек. Всякая мысль о
подобной попытке впредь должна была уничтожаться. Семена
недовольства оставались, но у них отнята была всякая сила.
Территориальная власть еще раз вышла торжествующей из
опасности, еще одним элементом сопротивления было менее.
Последнее восстание окончательно определило будущее
направление Лютера*. До Шторха, Карлштадта, Мюнцера был он
во главе всего умственного движения, совершавшегося в
религиозной сфере. Теперь он должен был навсегда остановиться на
том пункте, на котором застали его все эти беспокойные
попытки силою уничтожить прежний порядок вещей, мечом основать
новый. С самого начала питал Лютер отвращение к крови, к
насилию: он пришел в ужас, видя, что его собственная реформа —
к разрушению всякого порядка в империи. К чувству
негодования против всех насильственных средств присоединилось еще
старое уважение к властям светским, которым фанатизм
отказывал во всяком послушании, и этот фанатизм прикрывал себя
также именем реформ и старался привлечь Лютера на свою
сторону! Некоторого рода ожесточение должно было естественно
родиться в Лютере против тех, которые злоупотребляли его
учением, которые давали ему правовой характер. Неудивительно,
• Ср.: Ranke, II, 33·
Ê50
Лекции 1848/49 $.
что Лютер подал голос против возмутившихся сословий, что оа
возбуждал князей ополчиться против них; но также мало уди*
вительно и то, что он с втого времени теснее соединился с
светской властью и принял направление решительно консервативное,
т. е. прямо противодействующее всем нововведениям, которые
не лежали в принципах его собственной реформы. Обвинять ли
его sa такое направление? Но это значило бы обвинить его в
недостатке мечтательности, что у него было столько верного так,,
что он гнал, где остановиться, что он нашел точку опоры своей
реформе и, не пускаясь в утопии, основал свое дело прочным
образом.
Но, с другой стороны, семена, брошенные Карлштадтом ж
Мюнцером, никогда не могли быть совершенно подавлены.
Разные мистические представления в связи с некоторыми
рационалистическими попытками постоянно ходили в Германии и везде
находили себе более или менее ревностных последователей *.
Тогда как Лютер больше и больше утверждался в своем догмате
о повреждении чел [овеческой] воли, более свободные мыслители,
те, которые не были поставлены в его положение, больше и
больше отдалялись от этого догмата, но утверждая полную свободу
воли, выводили отсюда разноречащие заключения и потом
разделялись на множество отдельных сект29·
* Ranke, III, 506 et cet.
НБ МГУ, φ. П. Η. Кудрявцева, к. 4, ед. хр. 4Ч
Сочинения
О ДОСТОВЕРНОСТИ ИСТОРИИ1
Достовернее ли становится история?
Записка, представленная в Академию Наук президентом ее
гр. С. С. Уваровым*.
Недавно в нашей литературе возник вопрос об исторической
достоверности вообще. Уже иэ одного уважения к имени автора 2,
который принял на себя труд высказать относительно этого
предмета некоторые свои сомнения, мы, с своей стороны, также не
можем обойти вопроса, не поискав ему более или менее
удовлетворительного разрешения. Вопрос поставлен: нельзя же
литературе вечно оставаться при нем; надобно, чтоб нашелся и
приличный ответ на него и чтоб рано или поздно дело было совершенно
очищено. Мы берем на себя лишь первую попытку.
Признаемся: мы встретились с вопросом вовсе неожиданно; мы
не имели никаких предварительных сомнений относительно
достоверности истории вообще. И откуда бы взялись они или что могло
бы на них навести? Давно существует наука истории; недостатка
в материале нет: наука не сочинила его — она нашла его готовым
во всех почти эпохах, благодаря верному инстинкту человека,
который всегда хотел сохранить для потомства память дел, им
виденных или слышанных; материал растет с каждым годом,
постоянно увеличиваясь не одними только записями новых дел,
но и открытиями древних памятников, которые одна пытливость
усердно добывает из земли и из могил, чтоб потом передать их
с рук на руки другой, более возвышенной пытливости, любящей
доспрашиваться смысла у каждого обломка отжившего мира;
иногда одним таким открытием вдруг озарится целая эпоха, целая
темная страница истории, и там, где прежде нельзя было
различить ни одной ясной черты, довольно раздельно выходят полные
образы. Между тем критика продолжает работать неутомимо; она
как будто соревнует усердию тех антиквариев-гробокопателей,
которые роются в вемле на историческом кладбище; она никак не
хочет дать им опередить себя и особого рода процессом очищает,
один за другим, все исторические памятники, как только они
становятся ей доступны; ведется постоянный пересмотр уже добытых
результатов, делается свод им, и в то же время идет деятельная
разработка новых приобретений, поверка старого новым. Жизнь
* Под этим названием напечатан в 1-м № «Москвитянина» на 1851 год
перевод мемуара, представленного графом С. С. Уваровым в
Императорскую Академию Наук. Тот же мемуар в русском переводе помещен и в
«Современнике» (№ 1) на 1851 год под другим заглавием: «Подвигается
ли вперед историческая достоверность?». Приводимые места я беру из
перевода «Москвитянина», хотя никто, конечно, не назовет его
удовлетворительным.
U52
Сочинения
историческая уходит все вперед и вперед от своих первых
зачатков, а там, позади ее, над самыми этими 8ачатками все больше и
больше разгорается свет, которым отражается на них современное
внание. Наука ощутительно вреет как по форме, так еще более
по содержанию; не в одном месте, не систематически по
принятому наперед плану производится разработка ее, но из суммы всей
этой деятельности слагается один огромный капитал, который
весь наука по праву может считать своим достоянием, без
различения местности, где выработана та или другая его доля: ей,
бесспорно, принадлежит всякое историческое исследование, будет ли
оно предпринято на старом или новом полушарии, лишь бы было
написано на человеческом языке, доступном анализу и
пониманию. Всемирная историческая библиография — указатель успехов
науки, никогда не пустеет, и страницы ее громки не одними
только заглавиями: во множестве титл и имен, вдесь встречающихся
и постоянно прибывающих, всегда есть несколько таких,
которыми обозначаются неоспоримые приобретения, сделанные вновь в
пользу науки, действительное движение ее вперед. Немаловажный
труд принял бы на себя тот, кто захотел бы исчислить все
открытия и приобретения, которыми обогатилась историческая наука
лишь в продолжение последнего десятилетия.
На почве неверной, обманчивой, все больше и больше
расступающейся под ногами, по мере того, как по ней стараются идти
вперед, как могла бы развиться такая обширная деятельность, как
возможны были бы те прочные и истинно великие результаты
исторического исследования, которые так высоко подняли историю
в ряду современных знаний?
И потому еще, казалось нам, нельзя сомневаться в солидности
исторической почвы вообще, что история идет вперед не одна —
она подвигается дружно, об руку с другими знаниями, ей
особенно родственными, и нередко полагает в основу себе ими добытые
и утвержденные положения. Филология, археология, нумизматика
никогда не отказывали ей в своем деятельном пособии, никогда
она сама не отрекалась от права заимствовать свой свет прямо из
общего с ними источника. Редкому филологу не приходилось
иногда быть и историком; в свою очередь историк также не считает
область филологии вовсе ему чужою; напротив, иногда он
совершенно заключается в этой области, так что лишь точка зрения
на предмет и некоторые особенности в самом способе занятия»
в приемах отличают его от прямого филолога. В области
классической древности, ее истории это даже обыкновенное правило.
И Восток открывает свое прошедшее прежде всего тем, которые
берут на себя труд ближе ознакомиться с его языками. История
Египта тогда только продвинулась вперед, когда установилось
внание иероглифики. Почти вся внутренняя история старой
Индии заключается в санскрите. Все это, кажется, довольно твердая
почва, чтоб история могла пустить в ней свои корни и разрастись
О достоверности истории
153
многоветвистым деревом, не боясь падения. Там же, где нет более
©той богатой основы, разве история лишена уж вовсе своих
собственных средств, чтоб по крайней мере вести непрерывную
летопись событий? И разве у всякого поколения историков не
найдется столько исторического смысла, чтоб отличить события,
делающие эпоху, от тех, которые, не выступая из ряду, составляют лишь
необходимое звено в последовательной цепи прочих исторических
явлений? Недаром классический мир, умирая, завещал новым
поколениям свою грамотность: прежде чем варвары научились чему-
нибудь, они уж выучились писать по-латыни, и, прежде чем
нашлось место литературе, у них уж была своя писаная летопись.
Можно бы сказать, что первое искусство, которое новая Европа
переняла у старой, было искусство писать историю. Начала она,
правда, с Проспера 8, Идация \ Иорнанда, но скоро дошла до
Григория Турского, Эйнгарда, Ламберта Ашаффенбургского5. Едва
один приводил к концу свою летопись, как другой уже вел ее
далее. Случалось и так, что несколько рук, нисколько не
сообщаясь между собой, в одно и то же время продолжали вести перепись
событий, которые совершались в современности. Не было ни
стачки, ни передачи — а дело шло своим чередом, и история новой
Европы не знает таких пробелов, от которых бы особенно
потерпела столько необходимая в науке связь между предшествующим
и последующим. Оттого и существует целая наука, что есть для
нее все важнейшие условия...
Не из круга самой науки — сомнение в достоверности истории
могло возникнуть только извне. Но тем не менее наука должна
принять к сведению всякое основательное возражение, которое
может быть сделано со стороны против одного из самых первых
условий ее существования: иначе вся ее обширная деятельность
осталась бы под сильным подозрением, как не имеющая никаких
прочных оснований и потому совершенно бесплодная. Возражение,
которое мы эдесь имеем в виду, получает еще особенный вес
оттого, что ва него ручается авторитет, давно уже признанный в
литературном и ученом мире. Что же может быть сказано против
принятой наукой исторической достоверности и в чем,
собственно, повод к сомнениям в ней?
Когда спрашивают, «достовернее ли становится история»,
прилагая этот вопрос к нашему времени или, правильнее, к целой
истории новых времен, естественно хотят сказать, что относительно
истории древнего мира считают степень ее достоверности весьма
недостаточной. И в самом деле, здесь начало сомнениям. Еще
Вильмен 6 отделил историю древнюю как особый род, присвоив ей
название «гадательной». Автор мемуара нисколько не
сомневается, что эпитет, изобретенный Вильменом для древней истории,
выражает не просто лишь одно из случайных ее свойств, но
главный и существенный ее характер, по которому она отличается
гораздо более, чем по времени, ею изображаемому. «Нет сомнения
Й54
Сочинения
(говорит он), что история древних времен основана на догадках:
она скорее дело веры, нежели обсуждения. За то и вынуждены
мы допустить ее едва ли не в том виде, в каком построили нам
ее поэты, историки и риторы» («Москв.», кн. 1, стр. 97).
История древности — гадательная... Мы, впрочем, позволим се·
бе несколько усомниться в вероятности этого положения. Для нас
авторитет Вильмена не столько решителен, чтоб мы могли, на
веру ему, безусловно приложить изобретенный им эпитет к целой
истории древнего мира. Есть в ней, без сомнения, темные и
шаткие стороны, о которых можно рассуждать не иначе, как гада-
тельно; есть целые отдельные явления, которые никак не
покоряются силе анализа. Мифология древних, несмотря на все успехи
новой науки, все еще останется загадочной областью, и
таинственный сфинкс, стоящий при самом входе в нее, бережет еще много
тайн от современной любознательности. Но мы перемешали бы
самые разнородные вещи, если б избрали сфинкса эмблемой для
всей древности, взятой в целом ее объеме. Не сознавали бы мы
так ясно отличия древней жизни от новой, если б первая
продолжала оставаться для нас только гадательной. Нельзя более
называть гадательным того, что по крайней мере многими своими
сторонами стало доступно отчетливому разумению. Даже
египетская древность, бесспорно самая загадочная из всех, в наше время
едва ли может быть еще обозначаема сполна своим старым
символом, когда уже прочтено столько надписей Древнего Египта»
когда исчислены все его династии, когда, наконец, узнаны
некоторые из его царственных мумий, так что их можио почти называть
по именам. История перестает быть делом одной веры, когда для
нее открывается возможность поверки, а свод Эратосфена с Мане-
фоном, предпринятый и исполненный Бунзеном, показывает, что
есть место поверке даже в истории Древнего Египта. Пусть
молчаливый сфинкс упорно остается на своем прежнем месте: история
начинает уже обходить его и заглядывать далее. Были загадкой
гиксосы7 — и точно их приходилось принимать только на веру;
но эагадка держалась лишь до тех пор, пока не хотели
подвергнуть дело основательному обсуждению: допрашивая
финикийскую древность, Моверс 8 показал, что есть возможность разгадать
и этих таинственных пришельцев. Еще менее можно сказать о
классической древности, что она скорее дело веры, чем
обсуждения. Отчего же бы она была скорее делом веры, когда мы до сих
пор можем созерцать ее нашими глазами в ее неумирающих
произведениях? Отчего же не может быть она и предметом
обсуждения, когда уже сама начинала сознавать себя в своей науке,
которую потом оставила в наследство новому миру? Как бы этот новый
мир отказался понимать ее, когда он в свой собственный быт
принял многие ее элементы? Судим же мы о древнем искусстве:
отчего бы история древних греков и римлян была менее доступна
О достоверности истории 15$
яашему обсуждению? Разве у нее нет также своих негибнущих
памятников? Не только есть — многие иэ них до сих пор остаются
образцами в своем роде; для иных наших современников они
даже заменяют целую школу образования. Ясности и отчетливости
в изложении событий могли бы поучиться у древних и некоторые
новые историки. Учась у них, мы, впрочем, нисколько не обязаны
принимать от них историю в том самом виде, в каком они ее
построили, и верить им лишь на слово. Есть для всякой почти
исторической эпохи множество средств поверки — начиная от руин
и надписей на камнях до монетных изображений; для важнейших
эпох есть даже по нескольку одновременных писателей, из кото«
рых каждый излагает предмет по своему собственному воззрению.
Чего недосказывает один, то находим у другого. При множестве
свидетельств почти нет места таким радикальным ошибкам,
которые бы искажали все дело и давали ему совершенно превратный
вид. При всем разногласии партий, которое отразилось и на
памятниках, ход Пелопоннесской войны тем не менее остается ясен,
и в результатах ее едва ли может быть какое сомнение. Демосфен
защищал безнадежное дело и имел упорных противников и
порицателей не в одной только Македонии, но и в самой Греции, даже
между лучшими ее политиками: и, однако, мы верим его
апологистам, потому что можем обсудить нравственные достоинства его
патриотического подвига, как ни бесплодны остались все его
усилия. И если историк нашего времени рассуждает о необходимости
македонского владычества для Греции, он, конечно, не повторяет
чужих слов, но делает свой собственный вывод на основании тех
соображений, которые внушают ему знакомство с политическим и
нравственным состоянием страны в данную эпоху. Назовем ли эти
исторические соображения «догадками»? Но тогда отчего же не
сказать и о новой истории, что она также «основана на догадках»?
Процесс остается один и тот же, и современный нам историк
отнюдь не более обязан полагаться на слова древнего писателя, как
и на известия средневекового летописца. А, впрочем, почему же и
не поверить древнему писателю, пока нет особенных причин к
сомнению? Чувство правды, истинности не менее было знакомо
древним историкам, как и новым; могли ошибаться в воззрении,
но этот недостаток не чужд и их ученикам, историкам нового
времени, ибо зависит от общей человеческой слабости.
Достоверность древних историков не есть дело недоказанное. Сколько
испытаний пришлось выдержать отцу истории 9 от новой учености,
и сколько раз он выходил из них победителем! Отчего же не
верить писателю, которого искренность ничем не заподозрена?
Скептицизм, без нужды отрицающий искренность писателя, равно
подорвал бы кредит и новой истории, если б был приложен к ее
основаниям. Древним же сверх того нельзя отказать в точности
и обстоятельности. По современным известиям, Бек сумел
восстановить почти весь политико-экономический быт Афин в известную
ίδβ
Сочинения
эпоху10. Отчего же хотеть находить этот превосходный опыт,
выдержавший не один удар критики, более основанным на догадках,
чем, например, известную статистическую и
политико-экономическую картину Англии в эпоху Стюартов, составленную Маколе-
ем11? История древности есть точно, во-первых, дело веры, как и
история нового времени; но, как и последняя, она выигрывает в
достоинстве и возвышается на степень науки лишь по мере того,
как становится предметом свободного обсуждения.
Что это «обсуждение» действительно свойственно истории
древности, т. е. приложимо к ней, всего лучше доказывается
плодотворностью новых исторических исследований на
классической почве. По нашему крайнему разумению, если б вся римская
история была только делом веры, не критики и зрелого
обсуждения, если б эти два акта человеческой мысли были неприложимы
к ней, от нас навсегда скрылся бы ее великий внутренний смысл
и то неизмеримое значение, которое она имела в общем ходе и
развитии человечества; тогда и со всей массой своих фактов,
принятых лишь на веру, она не имела б для нас никакой особенной
цены: она осталась бы одним сборником имен и событий без
всякой живой органической связи. Чтоб одним словом обозначить те
огромные успехи, которые она сделала посредством критики и
приложенного к ней исторического обсуждения, достаточно
назвать одно великое имя — Нибура,2. Но на самом этом имени
останавливает нас новое возражение.
«Прилагать ко временам отдаленным новейшую критику,— продолжает
автор мемуара после приведенных уже нами слов,— дело такой учености,
в которой отдают себе отчет одни посвященные в науку; но если
смотреть на историю со стороны ее отношений ко всему образованию, как
духовной пище для большинства, если видеть в ней цель преданий,
переходящих из рода в род и навсегда запечатлевающихся в памяти
народов, не трудно, по-моему, удостовериться, что для них условия новой
истории те же, что условия древнейшей для ученых. Человеческому уму,
склонному к синтезу, прирожден инстинкт — стремиться к
положительному в приобретенных познаниях и охотно подчиняться утвердившемуся
мнению, хотя бы условному. К чему повели огромные труды Нибура,
который без малейших, да и невозможных, возражений разрушил все
основания римской истории? Они заняли трудолюбивые досуги весьма
ограниченного числа критиков, заслужили их одобрение — и только... В чем
результат критики Вольфа на Гомера|Э, этой во всех отношениях
удивительной критики, где даровитейший из издателей Гомера так победоносно
подвергает ученому разложению сомнительную личность поэта, очистив
предварительно его текст? Ни один филолог не осмелится бороться с
Вольфом; но после стольких ученых работ, оставшихся без ответа, вопрос не
подвинулся ни на шаг: ни Ромул, ни Гомер не вычеркнуты из списка
людей, некогда живших; они живут в воображении большинства, как
будто бы эти два критика и ничего не писали. Самые ученые, свидетели
безуспешности или малоуспешности этого строгого приложения анализа,
казалось, усомнились в пользе обширных исследований. В их глазах
Гомер все-таки Гомер, жил ли он когда или нет; для них не важно —
представляет ли это слово школу или оно — имя одного человека, автора
Илиады. Точно так же мужи истинной науки, когда восходят к началу
О достоверности истории 157
Рима, не раздумывая употребляют обычные формы исторических данных:
они не позволяют себе педантически отвергать все предшествующее
Пуническим войнам и, не колеблясь, говорят о Нуме и Горации Коклесе,
как говорят о Гомере и о преданиях, связанных с его именем. И конечно,
не найдется ни одного ревнителя науки, который бы не предпочел
дюжины неизданных стихов Илиады или отысканной страницы Тита Ливия
всевозможным критическим пыткам, разрушающим существование поэта
или подлинность историка» (стр. 98—99).
На Нибура хотели мы указать как на самый блистательный
образец того, как, при необходимом условии ума и таланта, может
быть сильна историческая критика, даже приложенная к весьма
отдаленпой древности, и как благотворны могут быть в науке
результаты критического анализа. Частью сюда бы могла идти и
критика Вольфа, приложенная к древнему греческому эпосу. Нам
указывают, напротив, на Нибура и Вольфа как на пример
совершенной бесплодности критического-анализа в приложении к
древности. Трудно согласиться при такой противоположности мнений!
Нам, однако, дорого наше мнение, как мнение более или менее
связанное с движением науки, ее успехами, и мы пока еще не
видим никаких особенных причин отступиться от него. Мы
привыкли дорожить не одним только именем Нибура — мы дорожим еще
более теми великими заслугами науке, которые обозначаются этим
именем, и уступим их не даром, но разве только ценою
противоположного убеждения, от которого, признаемся, в настоящее
время мы весьма далеки. Но уже самая потребность защиты своего
мнения налагает на нас обязанность опровержения
противоположного, и это последнее дело мы считаем в настоящем случае тем
более необходимым, что без него нам никогда не удалось бы
утвердить и первое, более общее положение — о приложении
анализа и обсуждения к истории древности вообще. Ибо, если нам
позволено вполне сказать свою мысль, мы почти не сомневаемся,
что высказанное выше мнение о том, что история древняя должна
быть скорее делом веры, нежели обсуждения, есть ни более ни
менее как общее заключение, несколько смело выведенное из
частного вопроса о заслугах критики Нибура и Вольфа. От прочности
посылки зависит и прочность самого вывода.
Вольф и Нибур вовсе не так выделяются из общего научного
движения, как это могло бы казаться с первого взгляда.
Появлением их и деятельностью лишь означаются самые важные успехи
классической филологии в обширнейшем и лучшем значении
слова. Ей стоило много времени, еще больше труда овладеть хотя бы
только формой своего огромного материала и выработать для себя
первые солидные основания. Но уже семнадцатый век может с
гордостью указать на прекрасную деятельность некоторых ему
принадлежащих филологов, прямо свидетельствующую, что
первая трудность была побеждена, что в науке начали пробуждаться
другие интересы, стали знакомы иного рода вопросы. Довольна
назвать здесь Гуго Гроция и, Бентлея15. Последнему досталось
158
Сочинения
продолжать эту полезную деятельность еще и в следующем
столетии. Адепты филологии размножались с каждым новым поколе«
нием. По мере того как форма уступала соединенным против нее
усилиям науки, все больше раскрывалось за нею все богатое
внутреннее содержание материала. Между тем начинавшееся
умственное движение охватило и другие сопредельные области
науки. Возбужденная любознательность с удивлением увидела
перед собой целый новый мир, который на самом деле, впрочем,
был очень древний, и не 8нала, с которой стороны лучше
подступиться к нему. Началась деятельная разработка памятников
древней литературы столько же с материальной, сколько и с
формальной стороны. Критика усиливалась стать в уровень с эксегети-
кой 16, пробовала, хоть не всегда удачно, овладеть то одной, то
другой стороной своего предмета порознь, как вдруг одно гениальное
усилие показало, что филология созрела если не для решения, то
для понимания важнейших внутренних вопросов в открытой ею
области. Это первое гениальное усилие филологии поравняться
силами с своим предметом во всю его высоту и глубину
принадлежало Ф. А. Вольфу. Оставаясь, по-видимому в тесной сфере чисто
филологических вопросов, он, однако, поднял вопрос о Гомере с
такой стороны, откуда его всего менее можно было ожидать.
Между строками великого поэтического произведения филолог-критик
хотел подсмотреть и индивидуальные черты самого производителя;
от художества он желал допроситься о самом художнике; дело
касалось уж не столько вещи, собственно филологического
материала, сколько лица, которое скрывалось за ним, подлинности его
существования; вопрос выходил столько же исторический, сколько
и литературный. Неудивительно, что те индивидуальные черты,
которые старался распознать критик, сначала ему не давались
вовсе; важно то, что в этой задаче в первый раз энергически
выразились новые потребности науки: она уже достигла той
степени зрелости, на которой первоначальная традиционная форма
перестает быть удовлетворительной для положительного знания.
Как бы ни выпало последнее решение задачи, но мифическое
предание о Гомере невозвратно утратило свой прежний характер
непогрешимости. Говоря о высшем цвете греческого народного
эпоса, можно и даже должно в известных пределах отстаивать
существование одной поэтической личности, но едва ли уже кому
удастся восстановить во всей целости тот мифический образ
Гомера, в каком он представлялся до критики Вольфа.
Очень понятно, что филологическая критика, позволившая се-
<5е усомниться в существовании Гомера, встретила себе сильное
противодействие: оно необходимо условливалось самою новостью
и смелостью нападения и, как всякая крайность должна иметь
свои границы, было вовсе не бесполезно против излишеств
начинавшегося увлечения. Завязалась горячая полемика, которой
назначено было не отдалить только решение вопроса, но и внести в
О достоверности истории
159
спор много новых понятий и соображений: они вырабатывались
сами собою, по мере того как тяжущиеся углублялись в сущность
спорного дела и осматривали его со всех сторон. Между тем вся
наука и вся сила, которыми она тогда располагала, отнюдь не
заключились в этом споре. Напротив, наука в то же самое время
продолжала разрабатывать и другие части своего материала и по
возможности расширять свои пределы. Чем больше
разрабатывался, очищался этот материал, тем больше раскрывалась перед нею
собственно историческая почва, тем ближе подходила филология
к истории классической древности. Этой почвы было ей не
миновать: в ней лежали богатые клады: при помощи филологии
история древности в своем истинном виде должна была, рано или
поздно, войти в круг положительных знаний, как лучшая и
необходимая их часть. Уже поднимая вопрос о Гомере,
филологическая критика в некоторой степени принимала характер критики
исторической, потому что искала исторического определения тому,
что до сего времени известно было лишь в мифической форме; но
как самый предмет был более литературного свойства, то
видимым и формальным образом черта, отделяющая литературу от
истории, еще не была перейдена. Нужно было еще одно гениальное
усилие, нужно было призвание.прямо историческое, чтобы свести
филологию с историей, сдружить их и усвоить последней средства
и приемы, выработанные филологической критикой. Нибур
воспитался преимущественно в филологической школе; свою
привязанность, любовь к филологии он сохранил до самой смерти: в
продолжение своей многодеятельной жизни он почти не покидал
филологических занятий; но филология в его руках была лишь
верным орудием для восстановления истории классической
древности. В лице Нибура филология в первый раз встретилась
решительно, лицом к лицу, с историей, узнала в ее интересах свои
собственные и подала руку на тесный и разумный союз с нею.
Плоды были прекрасны. Вольф своим вопросом о Гомере устремил
современную ему любознательность на исследование поэтических
начал греческой древности; Нибур с свойственным ему
историческим тактом тотчас понял, что те средства, которыми в его время
располагала филология, с гораздо большей пользой могут быть
употреблены на разработку собственно исторической почвы,,
и с проницательностью истинно гениальной угадал слабость,
непрочность основ той части классической древности, которая,
казалось, наиболее была обеспечена против нападений исторического
скептицизма: это была история древнего Рима, история его
основания и развития национальных римских учреждений. До Нибура
едва существовало темное подозрение о том, что начало римской
истории и некоторые ее части подвержены строгой критике, и
сделанные в этом роде опыты ограничивались почти только
указанием частных противоречий; будучи плодом более остроумия, нежели
глубокого научного анализа, они не в состоянии были восстапо-
ёво
Сочинения
вить на новых основаниях разорванную ими связь явленна иу как
неконченное вачинание, не находили себе никакого признания в
науке. Надобно было или вовсе отказаться от сомнений, или
окончательно убедиться в их силе и значимости и в последнем случае
принять все их необходимые последствия; надобно было не только
подвергнуть тщательному пересмотру все основания древней
римской истории и все, что выдавалось за них, но и пройти
критически, одно ва другим, все последовательные ее явления, чтоб
испытать, в какой мере каждое из них в состоянии выдержать
разрешающую силу анализа, и потом снова соединить их в одно целое
на основании их внутренней, органической связи. Весь этот
длинный, многосложный и многотрудный процесс Нибур брал на себя
одного: мудрено ли, что его не стало, прежде чем он успел
совершить свой подвиг сполна? Но он успел уже сделать довольно,
чтоб утвердить ва своей мыслью прочное место в науке; и куда бы
ни повели последующие разыскания в той же самой области,
нельзя более обойти Нибура при занятиях римской историей.
Вопрос, поднятый Вольфом, еще и в наше время не приведен
к окончанию. Размеры его, правда, значительно сократились,
личность Гомера уже менее подвергается нападениям — но
потребность решения осталась. Она-то вызвала в недавнее время
исследования Лахмана17 и создала целую новую литературу по поводу
того же неудоборешимого вопроса. Никто, конечно, не возьмет на
себя смелости утверждать, что положения, добытые
исследованиями Лахмана, составляют последнее слово науки по вопросу о
Гомере; но мы имеем также весьма важные причины усомниться
и в том, чтобы между людьми, искренно преданными науке и
понимающими ее интересы, нашлось довольно таких, которые бы
не видели более никакой важности в определительном
разрешении этой вадачи. В ученой деятельности Германии за последнее
десятилетие находим целый ряд явлений, доказывающих
совершенно противное тому. С самого появления исследований
Лахмана вплоть до последнего времени почти не прерывается ученый
спор и вопрос постоянно рассматривается то с той, то с другой
стороны. Еще нет ему окончательного решения, как и многим
другим спорным пунктам в науке, но не заметно и ни малейшего
равнодушия к нему. Даже о Нибуре, которого место в науке
гораздо выше и значительнее, никто, без сомнения, не возьмется
сказать, чтоб его «Римская история» решила окончательно свою
многосложную вадачу. Не все его сомнения приняла наука, многое
осталось вопросом даже и после Нибура, наконец, некоторые
вопросы только и могли возникнуть на основании его
исследований, следовательно, никаким образом не могли быть разрешены
ими. Самым творением своим Нибур, бесспорно, завещал после
себя множество вопросов науке, и, вопреки одному из самых
положительных уверений мемуара, мы осмеливаемся также
положительно утверждать, что со времени Нибура не употребляют более
О достоверности истории
161
без оговорок «обычные формы исторических данных» известной
эпохи; что даже те из них, которые не разделяют его сомнений
относительно начал римской истории, впрочем, как скоро
предпринимают утвердить свое мнение о том или другом лице
древнейшего ее периода и избежать упрека в неосновательности, все-таки
возвращаются к Нибуру и опровержения его считают первым
условием прочности своих собственных мыслей — прямое
доказательство того, что самые противники Нибура вынуждены признать
силу его возражений и что даже в их мнении всегда остается
после него предварительный вопрос, который нельзя обойти.
Укажем, если угодно, на пример самый близкий по времени. Герла-
ха 18, конечно, не упрекнуть в пристрастии к авторитету Нибура;
однако и он, начиная свое исследование об «эпохе римских
царей», прежде всего видит необходимость ослабить существующее
о том же предмете мнение Нибура- и самую эту откровенность,
с которой он положил высказать свое собственное мнение,
противоположное нибуровскому, берет во свидетельство «своего
высокого уважения к великому человеку»*. Это высокое уважение к
знаменитому автору «Римской истории», которое так открыто
и непринужденно высказывают самые его противники, по крайней
мере не совсем легко согласить с тем воззрением на него, по
которому он является критиком без малейших оснований,
подрывающих положительные данные науки. Даже не признавая
никаких заслуг за Нибуром, нельзя, однако, казалось бы нам, не
сознаться хотя в том, что он выдвинул вперед много важных
вопросов; можно не соглашаться с ним, но по какому бы поводу
ученые стали обходить его труды как бесплодные, не устранив
наперед всех его сомнений основательным их опровержением?
Неужели потому только, что многие и до сих пор видят в истории
лишь цепь преданий, переходящих из рода в род, и не хотят взять
на себя труда ознакомиться хотя с важнейшими результатами
современной науки?
Если бив самом деле вся заслуга Вольфа, Нибура и других
подобных им критиков состояла только в том, что они подняли
вновь важные вопросы, ничего не сделав сами для их
разрешения,— и в таком случае они имели бы полное право на почетное
место в науке. В самом постепенном развитии наука также
следует некоторым постоянным законам, и, может быть, ничем
столько не условливается ее успешное движение, как
определенностью самой задачи. Успехи науки выражаются прямее всего в
добываемых ею результатах, а эти результаты большею частью
не что иное, как положительные ответы на заданные наперед
вопросы. Пока не существует определенного вопроса, не может быть
и ответа на него. Не этим ли законом руководствуются в наше
* См.: «Die Zeiten der römischen Könige», von Fr. Gerlach. Basel, 1849,
p. 4—5.
11 Π. H. Кудрявцев
162
Сочинения
время и все мыслящие естествоиспытатели, не иначе
приступающие к своим экспериментам, как с предварительным вопросом,
ищущим себе разрешения? Не прежде достигает наука венца
своих усилий, как разрешив себе, посредством наблюдений или
исследований, свою проблему; не только тот стоит на пути решения
задачи, для кого она действительно составляет вопрос, кто уже
принял в себя соединенное с ним недоумение и не хочет
успокоиться, пока тем или другим способом не освободится от него.
Успехи истории как науки точно так же измеряются не одними
только положительными результатами разных специальных
исследований, но и самыми вопросами, которые возникают в ней тем
сильнее и многочисленнее, чем глубже разрабатывается
историческая почва посредством анализа. Не всякий таким образом
возникший вопрос приводит непосредственно за собой и положительный
ответ на свою задачу, но sa то всякий непременно предполагает
за собой уже побежденный недостаток знания, иногда даже все
фальшивое представление, которое до того времени только и
держалось бессилием критики. По-видимому, наука больше теряет,
чем выигрывает, получая от критики па место прежних
положительных данных лишь несколько новых сомнений и вопросов;
однако, если от нее отпадает действительно ложное, разве можно
вменять во что-нибудь подобную потерю? Критика, анализ, даже
не достигающие тотчас положительных результатов, кроме того
что ставят на более правильную точку зрения относительно
главного предмета исследования, много способствуют к уяснению
общих вопросов науки, из которых многие без того остались бы
вовсе незамеченными и неугаданными. Без вопроса о Гомере, как ou
был поднят в свое время Вольфом, возможно ли было достигнуть
до такой степени ясности в общем вопросе о происхождении
народной эпической поэзии, как этот вопрос уяснен уже в наше
время? Без исторической критики Нибура сколько бы прошло еще
времени прежде, чем наука успела бы выработать себе ясное
понятие о саге, вообще о поэтической оболочке исторических
явлений, и перестали бы смешивать ее с самым содержанием
историческим? Переходя отсюда на почву новой истории, мы могли
бы и эдесь указать на одно явление в том же роде, т. е. с
подобным общим значением. И вдесь, где сага и история более резко
разделены между собою и где поэтому решение лежит гораздо
ближе, умная постановка одного или многих исторических
вопросов не менее вменяется в заслугу писателю и иногда составляет
главное основание его известности. Стоит вспомнить Савипьи 19:
странно было бы утверждать, что он окончательно успел решить
вновь поднятый им вопрос о происхождении новой городской
общины; но что всего более способствовало всестороннему
обсуждению этого вопроса и приблизило разрешение проблемы, как не его
гипотеза о происхождении новой общины из остатков старой
римской курии? Гизо в своей «Истории цивилизации»20, конечно, но
О достоверности истории
163
решил всех представлявшихся ему вопросов, как и не истощил
всего материала, бывшего у него под руками; что же придает
особенную значительность этому превосходному творению, чем
оправдывается высокое место, занимаемое им в европейской
исторической литературе, как не тем, что автор его первый поставил
на вид, один за другим, главные элементы, из которых сложилось
развитие средневековой истории, и старался определить их
взаимное соотношение? Он не решил всей задачи, зато искусно показал
всю ее обширность и верною рукою очеркнул те пределы, в
которых она должна быть разрешаема. Фориель — чтоб привести еще
хотя один пример —в каждой главе своей «Истории
провансальской поэзии»21 не иначе приступает к самому изложению, как
тщательно постановив вопросы, на которые оно должно служить
ответом; и нельзя не отдать ему должной справедливости: немногие
еще владеют в такой степени искусством поставить вопрос, т. е.
открыть его в собранном материале, и в самом вопросе показать
интереснейшую сторону предмета. Нет, не праздное место
занимают вопросы в науке! И даже в таком случае, когда они возникают
вне ее, она не имеет никакого права пренебрегать ими, но ради
своей собственной пользы должна принимать их к сведению. Так,
встречая в нашей литературе вопрос об исторической
достоверности, мы не считаем и его вовсе бесплодным, хотя он и не родился
из самой науки, и думаем, что, прежде чем легкомысленно
отвергать его, стоит внимательно посмотреть ему в лицо и постараться
определить его внутреннее достоинство.
Но мы были бы до крайности несправедливы к Нибуру, если б
в целом его творении, вместе с автором мемуара, не хотели видеть
ничего более, кроме сомнений и вопросов, а во всей его
деятельности — только одно отрицание. Характеризуя писателя, тем более
произнося приговор над ним, нельзя брать одну половину его
деятельности и проходить молчанием или забвением другую, по
крайней мере равносильную первой. Одна чисто отрицательная
деятельность, бесспорно, пе составила бы великого имени
историку; да и не историком был бы тот, кто употребил бы все свои
труды и весь свой талант лишь на то только, чтоб разрушить все
основания той или другой истории, а разве разрушителем ее. Итак,
неужели Нибур в самом деле разрушитель римской истории, и
ничего более? Сам он, по крайней мере, более признавал в себе
талант прямо противоположного свойства. В одном из писем к
графу Мольтке, говоря о своих наклонностях и определяя свои
умственные средства, между прочим он писал: «Притом я вовсе не
математик, но историк, потому что по одному сохранившемуся
отрывку могу восстановить себе полную картину, вижу, где
группы недостаточны, и знаю, как пополнить их». При другом случае,
работая над восстановлением одного римского писателя XI века,
вот что писал он к одному из своих друзей: «Если б ты мог
взглянуть на мою работу, ты увидел бы в ней пробу того историко-кри-
11*
164
Сочинения
тического таланта, в котором, конечно, состоит мое главное
преимущество — таланта распознавать по частям то целое, к которому
они принадлежат, и по целому угадывать части, которые оно
должно было содержать в себе; в этом я могу поспорить с кем
угодно и отсюда же произвожу мою способность по некоторым мелким
обстоятельствам угадывать целую потерянную историю народа или
отдельного лица, в полном очерке и даже с обозначением
пределов времени»*22. Человек, сознававший в себе эту способность
преимущественно перед другими, едва ли призван был на то, чтоб
только отрицать и разрушать: если в самых свойствах таланта
лежит уже и определение его деятельности, то она должна была
быть по преимуществу созидающая, организующая. Нет сомнения,
что Нибур владел глубоким и резким анализом, но силою этого
анализа он только расчищал историческую почву от
накопившихся на ней мечтательных построений и подготовлял ее для новых,
более прочных созиданий. Еще прежде, чем созрел его знаменитый
труд, он писал по поводу своих занятий римской историей: «С
напряженным вниманием проследил я римскую историю, от первых
ее начал до времени тирании, по всем памятникам древних
писателей, какими только мог пользоваться; эта работа ввела меня
глубже и непосредственнее в римскую древность, нежели
что-нибудь, и ей-то обязан я всего более тем, что мне стало понятно все
ложное, несовершенное и туманное в представлениях об этой
древности новых писателей»**23. Вот против чего особенно был
устремлен неумолимый анализ Нибура. Что же касается до
истинных оснований римской истории, то он нисколько не разрушил
их: иначе бы и она сама перестала существовать в его глазах, и ов
не говорил бы о ней с увлечением. Никто более его самого не
сознавал всей неудовлетворенности голого отрицания. «Вместе с
настоящим столетием (говорит он в предисловии к своей «Римской
истории») совершенно новая эпоха открылась для нашей нации.
Поверхностное ни в чем более не удовлетворяло; полупонятные,
пустые фразы потеряли всякое значение; но никто не
довольствовался уже и одним отрицанием, которое было особенно во вкусе
предшествовавшего поколения: мы стремились к определенности,
мы хотели положительного энания, только чтоб оно было
истинное, а не мечтательное»***24.
Положительное энание, утверждающееся на истинной
исторической почве, наперед очищенной строгим анализом, и
основанное на самом понимании предмета,— вот тот идеал знания,
к которому постоянно стремился Нибур в своих занятиях
римской историей. Понятно, какое место должно было запять
отрицание в деятельности, направленной к такому возвышенному
идеалу: его дело было с помощью анализа отделить историке-
• См.: Lebensnachrichten über В. G. Niebuhr, В. 2, p. 47 и 164.
** Там же, р. 44.
*** См.: Niebuhr's Römische Geschichte, 4-te Auflage, Vorrede, p. IX,
О достоверности истории 165
ское зерно от мифического нароста, освобождать историческую
почву от разного постороннего хлама, который накопился на ней
с течением времени от недостатка критики, и таким образом
открывать путь к положительному знанию, в котором историк
справедливо видел венец всей своей деятельности. Оттого-то и
прочен авторитет Нибура в науке, несмотря на все нападения,
старые и новые, потому-то и остается он до сего времени
образцом исторической критики, что, отрицая призрачное, все, что, как
показывал его критический анализ, построено на песке, он в то
же самое время закладывал прочные основания для нового
исторического здания и работал над ним еще с большим
напряжением. Анализ везде у него только предшествовал историческому
синтезу. На эту заслугу Нибура науке не посягали даже самые
первые и потому наименее снисходительные его критики.
А. Шлегель, разбирая два первые тома «Римской истории»,
писал в свое время (1816) следующее: «Мысль, что все, что мы
читаем и должны еще заучивать из Ливия, Дионисия и
Плутарха об известном периоде римской истории, неверно, по крайней
мере совершилось не так, как они рассказывают, сама по себе
была бы еще довольно бесплодна. Спрашивается, можно ли
заменить отвергнутое чем-нибудь лучшим? Есть ли возможность
наполнить остающийся пробел удовлетворительным образом?
В этом-то и состоит главное достоинство сочинения Нибура.
На то обращено все его внимание, чтоб посредством исследова-
пия определить настоящий характер учреждений и всего
государственного устройства в Риме в эпоху республики, на что так
часто потом переносили уже готовые понятия, которые были
выработаны гораздо позже»*25. Шлегель находил даже, что Ни-
бур слишком далеко простер свое желание — спасти, хотя бы
под именем саги, часть им же оспариваемой истории! Заслужить
подобный упрек мог историк разве только излишней
заботливостью о положительном в науке. Да и могло ли быть иначе?
Тому, кто первый в той или другой области знания лучше
почувствовал необходимость вопроса, естественно первому поискать
и ответа на него. Не все вопросы равно удалось решить Нибуру —
вопросы, большею частью им же самим поставленные; пока еще
не было ему никакого противодействия, иногда он и в самом
деле мог слишком далеко увлечься духом сомнения; наконец, нет
никакого спора и в том, что многие его же вопросы уяснены в
наше время гораздо более и решаются в духе более умеренном,
но несравненно удовлетворительнее. Но ведь «Римская история»
не могла же быть последним, заключительным словом науки о
своем же предмете; было бы гораздо страннее, если б Нибур не
только начал, но и завершил собою все начатое им движение.
Наука не стоит: она постоянно идет вперед, переходя от одного
* См.: Heidelb. Jahrbücher der Literatur, 1816,
авв
Сочинения
вопроса к другому, иногда даже несколько раз возвращаясь к
старым своим задачам и отыскивая им новое, более
удовлетворительное разрешение, и самое первое место в ней принадлежит
тем гениальным ученым, которые ведут за собой целый ряд
последователей и противников, действующих врознь, но незаметно
для них самих идущих к одной великой цели — к возможному
осуществлению высокого идеала знания. Где же должно будет
остановиться это движение, конечно, никто из нас сказать не
в состоянии.
Но —могут сказать нам, как бы заимствуя возражение от
наших же положений,— самое появление таких деятелей, как
Вольф и Нибур, и всего направления, которое обозначается их
именами, не говорит ли уже о недостоверности древней истории?
Не они ли первые показали нам, как неверны и недостаточны
были существовавшие до того времени понятия о двух весьма
важных пунктах литературы и истории древнего мира?.. Не
будем, однако, слишком поспешны в заключениях. По нашему
искреннему убеждению, появление таких критиков-филологов и
критиков-историков, как Вольф и Нибур, доказывает прежде
всего успех науки. В лице их наука узнала некоторые
существенные свои недостатки и сделала решительный шаг, чтоб
освободиться от них и заменить прежние ценности весьма
сомнительного достоинства более верным капиталом. Заметить свои
слабые стороны и победить их в себе, или даже совершенно
уничтожить, было в ней особенно одним и тем же актом. Каким
же образом может быть заимствован упрек истории древнего
мира в недостоверности от того самого акта, которым
недостоверность, сколько ее было вскрыто, уже побеждена? Говорить же
о недостоверности прочих частей истории древнего мира мы не
в праве до тех самых пор, пока не явятся относительно той или
другой из них определенные сомнения, подкрепленные силою
доказательств. Но мы почти уверены, на основании весьма
уместной здесь аналогии, что эти сомнения, если они когда-нибудь
явятся, необходимо поведут за собой и противоположное
действие, что за анализом тотчас последует и синтез. В наше время
вновь открытые памятники ниневийской, или, точнее,
ассирийской, древности принесли с собой и много новых вопросов о ней,
но мы не видели до сих пор, чтобы они, даже и они, особенно
поколебали достоверность истории древнего мира... Вообще
кажется нам, что от сомнений в заслугах критики Вольфа и Ни-
бура еще слишком поспешно было бы заключать к
недостоверности всего древнего исторического мира в целом его объеме.
В силу всех этих выводов и соображений вопрос о том,
«достовернее ли становится история», много теряет для нас своей
первоначальной значительности: не получив убеждения в
твердости главной посылки, мы не можем следовать за автором ме-
муара и в его заключениях. Или, пожалуй, вопрос имеет для
О достоверности истории
167
нас большую значительность, но совсем в другом смысле. Мы
также готовы спросить: достовернее ли становится история по
мере того, как она все более и более разрабатывается, как
возрастает число вновь предпринимаемых в ее области
исследований? И, нисколько не колеблясь, готовы отвечать, что история
действительно становится достовернее и что деятелям, подобным
Нибуру (если бы они являлись почаще!), в этом отношении она
обязана всего более. В ином же смысле сомнение относительно
успехов исторической достоверности, выражаемое вопросом:
«достовернее ли становится история», опять повторяем, может
возникнуть разве вне области самой науки. Но мы уже признали
раз, что наука должна принимать к сведению всякое
основательное возражение против нее, хотя бы даже сделанное и со
стороны, и потому не можем уклониться и от того, что может быть
сказано против возрастающей, по .общепринятому мнению,
достоверности в истории нового времени.
«Итак (продолжает автор мемуара, высказав свои сомнения о досто*
верности истории древнего мира), если степень достоверности древней
истории подчинена условиям причудливым (?), под влиянием которых
вероятное делается верным, а критический анализ, самый совершенный,
едва вскрывает их, рассмотрим же новые условия новейшей истории π
взглянем, насколько средства, из них вытекающие, увеличивают ее
достоверность. Неоспоримо, что источники истории со времени книгопечатания
сделались несметны; критика была и настойчива и искусна, события
записывались с мелочной точностью; но более ли обеспечена их
достоверность? Такой порядок вещей благоприятствует ли отысканию истины
лучше прежнего? Ближе ли мы, наконец, к свету? — Вопрос этот так же, как
и предыдущий, представляет две стороны, совершенно различные; с
одной— видим доблестный труд историка, посвящающего себя на то, чтобы
распутать этот страшный хаос данных обильных, но пристрастных и
противоречащих между собою; с другой — не знаем, что еще примет из этих
изысканий верование народов и что из них действительно войдет в
область общих познаний. Я позволяю себе думать, что в противоположность
историку древности историк новейший, в многочисленности подробностей,
в бесконечном разнообразии источников и, сверх того, в современном
настроении умов, встречает препятствия, одолеть которые не всегда в его
власти. Страсть нашего века к разъединяющему анализу, ненависть ко
всякому синтезу, религиозному, историческому или нравственному,
совершенное отсутствие веры, распространенное и на область действительности,
более или менее таинственной,— все это вместе представляет затруднения,
которых не зпали древние и которые, по малой мере, равняются
недостатку в достоверных источниках и исторической критике для времен
отдаленных», и пр. («Москв.» 1, стр. 99—100).
После всего, что сказано было прежде о древней истории,
почти и нельзя было ожидать, что нападение на новую будет
сделано именно с этой стороны. Если история древности,
основанная большей частью на догадках, по недостаточности
источников недостоверна, то, казалось бы, новая уж никак не может
подвергнуться тому же самому упреку, как преизобилующая
источниками; или, в противном случае, пришлось бы с такой же
последовательностью заключать о большей достоверности древ-
Й68
Сочинения
ней истории по тому самому, что она, по счастью, не знает этого
изобилия... Тогда совершенно изменился бы ход мысли, и мы
должны были бы заключать о древней истории уж на основании
тех выводов, которые нам удалось бы извлечь из наших
соображений об условиях достоверности новой. Но автор мемуара
искусно соединяет оба способа заключения для одного главного
результата и весьма остроумно видит недостаток новой истории
в обилии ее источников. Допустим, что вывод, который из этого
положения может быть сделан относительно древней истории,
нисколько не повредит прежним заключениям автора о степени
ее достоверности, и возьмем его как оно есть, лишь по
отношению к вопросу о достоверности новой истории. В самом деле —
в этом легко согласится всякий — со времен книгопечатания
средства истории значительно умножились; каждое новое
явление не только записывается с величайшей аккуратностью, но
в то я*е время и обсуживается со множества различных, часто
даже противоположных точек зрения; материал растет с каждым
днем, мнения перекрещиваются между собой, перепутываются,
и вся эта масса фактов и один другому противоречащих взглядов,
по-видимому, угрожает совершенно подавить собою будущего
историка, так что он решительно будет не в состоянии
совладеть с своими несметными средствами, и история, как наука,
по необходимости должна будет и в себя принять тот хаос
противоречий, который господствует вне ее, преимущественно в
современной письменности...
Если б такова была в самом деле опасность, угрожающая
истории, то новым историкам пришлось бы предаться совершенному
отчаянию и искать себе других занятий. Но, сколько мы знаем,
никто еще из современных делателей на поле истории никогда
не был смущен хотя бы только предощущением такого
безнадежного состояния; до сего времени по крайней мере никто еще
из них не высказывал гласно ни сомнений, ни опасений за
участь истории, за ее достоверность в особенности, никто из
современных нам именитых историков не думал до сей поры
отказываться от любимой ими исторической деятельности, ни
приходить в уныние от своих занятий историей. Гизо, Тьерри, Шлос-
сер, Ранке, Маколей — все они смело и самоуверенно
простираются вперед в своих исторических занятиях, и не заметно, чтоб
хоть кто-нибудь из них, постоянно идя по этому пути,
встретился хоть раз с опасностью, о которой говорит автор мемуара.
По крайней мере нельзя не признать, что историческая
практика в этом случае состоит в совершенном разладе с теорией,
что последняя, не по естественному порядку, опередила собою
первую. Наука, в лице своих важнейших представителей,
видимо,, спеет, мужает, все более и более утверждается в сознании
своих сил и успехов —в то самое время, когда бы с каждым
днем должна была расти воображаемая опасность и своим тя-
О достоверности истории
169
желым давлением все чувствительнее и чувствительнее
задерживать ее успехи. Итак, если и есть повод заключать об
опасности такого рода, то она, очевидно, угрожает не нашим
современникам, а разве будущему поколению историков, которое еще
ничем не обнаружило своей деятельности, и о котором мы
судить не в состоянии. Но даже и в этом случае мы еще далеко
не чужды сомнений.
Кроме практической, есть и другая точка зрения на спорный
предмет. Когда говорится о недостатке исторических средств в
одном случае, об излишестве их в другом, естественно и даже
необходимо предположить, что, утверждая то и другое, в обоих
случаях имеют в виду одну определенную меру того же самого
предмета, которая может быть взята за нормальную. Ибо иначе
мы не в состоянии были бы определить с точностью, где
собственно оказывается недостаток и "где начинается излишество.
Но где же эта нормальная мера для исторических средств?
Когда и кем была она открыта, определена, установлена?
И точно ли она уже найдена? Не удивимся, если ответ будет
отрицательный. В самом деле, она не существует как нечто
данное, положительное; едва ли найдутся два мнения,
совершенно согласные в этом отношении, и рассуждать о недостатке или
излишестве исторических средств, по нашему мнению, можно
не иначе, как условившись наперед в том, что должно
принимать за норму. Но мы надеемся также никого не удивить,
утверждая, что эта нормальная мера если и пе найдена раз
навсегда для всего продолжения исторического времени, то
постоянно отыскивается в приложении к различным его эпохам, что
это искание и определение нормальной меры для различных эпох
истории но преимуществу принадлежит науке и что верное
средство, которым она обыкновенно для того пользуется, есть
критика. Это постоянное действие науки с тех самых пор, как
существует историческая критика, одинаково обращено ко всем
частям истории, потому что везде равно нужна оценка
источников и определение степени их достоверности, но всего более
прилагается к истории трех последних столетий. Здесь критика
имела и имеет полную возможность следить, так сказать, за
самым зарождением исторических памятников и тотчас же
поверять их показания на месте их происхождения. Не всякое
произведение письменности, имеющее притязание на характер и
достоинство исторического памятника, выдерживает
критическую пробу: иное отпадает как ложное или подложное, другое
отделяется как сомнительное, и даже то, что сохраняет свое
значение и после очистки критикою, классифицируется ею
различно, смотря по важности и достоинству содержания. Историку
нашего времени, который берет на себя труд обозреть тот или
другой период новейшей истории, объяснить то или другое ее
явление, нечего бояться излишества средств: приступая к своему^
170
Сочинения
делу, он всегда найдет несколько предшествующих критических
работ, которыми уже взвешено внутреннее достоинство большей
части письменных памятников эпохи, определена и степень их
значительности, так что число собственно так называемых
источников выходит очень ограниченное; отсюда происходит то
известное явление, столько раз повторявшееся в современной нам
исторической литературе, что, вместо того чтобы жаловаться на
преизобилие средств, никак не довольствуются одними
обнародованными и охотно обращаются к местным архивам, где
хранятся еще не изданные памятники исследуемой эпохи. Если бы
нас одолевало излишество, то любовь к архивным исследованиям
не отнимала бы у нас столько времени. И другой страшный
привран, угрожающий историку заблудить его в хаосе
противоречащих одно другому показаний, может пугать только издали. Если
уж действительно существует такая опасность, то она вовсе не
прилагается исключительно к одной лишь новейшей истории, но
одинаково относится ко всем временам и эпохам, когда
враждебно встречались два или несколько противоположных стремлений,
когда боролись между собою непримиримые партии, из которых
каждая имела иногда целую фалангу своих пристрастных деепи-
сателей. Время борьбы папской власти с императорской26 очень
отдалено от начал новейшей истории: однако уже между
современниками Гильдебранда и Генриха (IV) Франконского, когда
только что открылось первое действие этой великой всемирно-
исторической борьбы, сколько было историков и публицистов,
один другому явно и прямо противоречивших относительно
первых и самых видных деятелей своего времени! А Гогенштауфе-
ны, особенно Фридрих IÏ? А Гвельфы и Гибеллины?..27 Да не
чужда этого порока и история более отдаленной древности.
Междоусобные войны в Риме, Пелопоннесская в Греции — разве
не описывались с разных точек зрения и часто в духе
совершенно противоположном современными повествователями?
История давно остановилась бы в своем движении, если б не могла
одолеть подобных препятствий. Критика и здесь деятельно
помогает ей своей классификацией исторических памятников по
самым их направлениям и личным видам и намерениям
писателей; й вдесь историк большей частью находит для себя почву
уже довольно разработанную и расчищенную, так что ему
остается только, для большей точности, наводить справки то на той,
ΙΌ на другой стороне и поверять одно свидетельство другим,
смотря по тому, которое из них заслуживает более вероятия по
своим внешним и внутренним признакам. Не найдется в
неизбежном хаосе противоречащих показаний разве тот, кто не
приготовлен к историческим занятиям общим образованием, кто не
составил себе отчетливого понятия о ходе и развитии
человеческих обществ вообще, кто, наконец, не в состоянии взвесить и
обсудить чужое мнение на весах своей собственной мысли.
О достоверности истории
171
Но в наше время кто же и возьмется за историческую
производительность в настоящем значении слова, не имея всех этих
предварительных условий, особенно же не чувствуя в себе
довольно самостоятельности, чтоб разобрать противоположные
мнения относительно одного и того же лица или целого
направления и каждому из них отдать должное?
Неубежденные оставляем мы и последнее сомнение автора
мемуара в достоверности истории, взятое им от
многочисленности подробностей, от бесконечного разнообразия источников и от
того особенного настроения умов, которое начинается в Европе
со времени великого перелома, совершившегося в ней, по его
мнению, в течение XV столетия; но чтоб более очистить дело,
пеизлишним считаем взглянуть и на те примеры в современной
исторической литературе, на которые ссылается автор мемуара
в подтверждение своей теории сомнений. Как знать? Может быть,
по весьма обыкновенному ходу человеческой мысли от этих
частных примеров и взялось общее заключение автора мемуара о
недостоверности истории трех последних столетий, якобы
зависящей главным образом от преизобилия средств ее. Впрочем, мы
должны наперед сделать здесь одну необходимую оговорку.
Говоря о примерах, мы в этом случае разумеем собственно
недостаток примеров, или удовлетворительных, т. е. сполна
исчерпывающих свой предмет исторических произведений, указанных
тем же автором в современной литературе, относительно
важнейших эпох новейшей истории. Вот собственные слова его:
«XV столетие одно являет собою великий перелом в человеческом
уме; во что делать историку или, точнее, что сделали историки, писавшие
об этом времени, для того, чтоб открыть истину или по крайней мере
подойти к ней среди этого безначалия человеческой мысли? Где тот
писатель, который бы сумел снять верное изображение с Реформации и
нарисовать ее картину более или менее прагматически? И есть ли
возможность, среди несметной массы взаимных обвинений, улик неистовых,
очевидных клевет и узаконенных басен, держать историку весы правосудия
и обнимать совокупность великого переворота? Современному историку, с
первого шага несущему на себе всю тяжесть закона самого безусловного
беспристрастия, предоставлено допрашивать только свидетелей
пристрастных до нелепости; напрасно стал бы он искать средств согласить их,
добиваться исторической средины: нет возможного примирения между
показаниями партий (тем более искренними), что они гордятся своим
фанатизмом и что вся их заслуга — в страсти, их одушевляющей. Не*
сомнепия, важные труды уже разобраны с особенным вниманием,
совершены удивительные исследования, другие источники только ждут
изыскателей; но какое сочинение о Реформации, явившееся в два последние
столетия, открыло историческую истину в том виде, в каком требуем мы
ее теперь? Мы имели до сих пор от той ли, от другой ли партии или
одни facta, или извлечения в роде Вольтеровых или Юмовых,
чрезвычайно забавные, но без заботы об истине, и таково, надо заметить,
неминуемое следствие обязанности, возложенной на историка, быть
беспристрастным во что бы то ни стало» («Москв.» кн. 1, стр. 100—101).
Подобным же образом выражается автор и об эпохе большого
политического переворота, ознаменовавшего собою окончание
172
Сочинения
прошлого столетия28, находя, что, относительно этого пункта
истории, мрак даже увеличивается по мере того, как
увеличивается число издаваемых сочинений.
Никогда еще тот хаос противоречащих известна и мнений,
который обыкновенно предшествует собственно исторической
разработке в каждом периоде истории, где борются между собой два
противоположных направления, не находил себе такого
блистательного выражения, не изображался в таких кратких, но
сильных и резких чертах, как в выписанном нами отрывке из ме-
муара. Но с изумлением, едва веря сами себе, читаем мы на тех
же самых страницах и уверение в том, что этот первоначальный
хаос исторических известий, ужасающий одним своим
изображением, остается таким же хаосом и до сего дня, что едва ли
и есть какая-нибудь возможность современному нам историку
выбраться из него, что, наконец, он и на будущее время лишен
всякого средства согласить, помирить враждующих один другому
свидетелей и, посредством соглашения их, добиться так
называемой исторической средины. Тем с большим изумлением
читаем эти строки, что тут же, лишь несколько ниже, находим и
другое, столько же непринужденное признание автора, что
«важные труды (речь идет, без сомнения, о важнейших письменных
памятниках эпохи) уже разобраны с особенным вниманием и
совершены удивительные исследования». Когда мы думали
освободиться от сомнений в достоверности новой истории, нас
встречает, сверх оягадания, самое прямое и откровенное его
отрицание! Итак, бесплодно истрачены труды, посвященные разбору
важнейших исторических памятников? Напрасно были
предприняты и совершены «удивительные исследования»? Даром
погублено время на них? Неужели усилия человеческой мысли до
такой степени ничтожны, непроизводительны, что после самых
добросовестных трудов, после самых внимательных исследований
наука не продвинулась ни на шаг вперед, не выиграла, не
приобрела от них ничего, кроме более удачных опытов голословного
изложения фактов да несколько «забавных извлечений», в роде
вольтеровых или юмовых, без всякой заботы об истине?
Неужели даже Маргейнеке, Ранке, Гаген, Гизо, Маколей, Дальман
работали без всякого чувства потребности доискаться
исторической правды и нисколько не возвысились над этими жалкими
«извлечениями»?
Ответ выпадет положительный или отрицательный, смотря
по тому, как взглянешь на предмет, как поймешь требования
науки и в какой форме будешь искать осуществления этих
требований. Конечно, если хотят от науки полной и во всех
отношениях совершенной истины, так чтоб в избранном предмете
исследования не оставалось ничего более ни темного, ни
спорного, мы беспрекословно должны согласиться с автором мемуара
и однажды навсегда отказаться от всего богатства современной
О достоверности истории
173
исторической литературы: с такой точки зрения ни одна
классическая монография не выдержала бы и первой пробы. Но мы
позволим себе вопрос: к какой из наук человеческого
происхождения приложимо подобное требование? История, как и все
другие науки одного с нею начала, далека от таких притязаний.
Она ищет истины в области, подлежащей ее ведению, и
средствами ей доступными и не может похвалиться, чтобы уже
овладела знанием, вполне равносильным самому предмету; успехи
истории как науки измеряются не одною только мерою
приближения ее к идеалу, но и тем, сколько уже она победила
незнания; чтоб оценить по достоинству то богатство, которым она
располагает на последней (по времени) степени своего развития,
надобно прежде всего взять в соображение, как велик был круг
ее приобретений в предшествующую эпоху. После превосходных
исследований Легюэру29, Петиньи30, Лёбеля31 и Вайца32 (не
говоря уже о Гизо и Тьерри) меровингского периода франкской
истории нынче и не узнаешь: а между тем эти исследователи
большей частью наши современники! В каком же виде
представлялся этот важный отдел средневековой истории не далее как
в начале настоящего столетия? Это искание исторической
истины посредством исследования, как мы уже имели случай
заметить выше, производится не статистически, не по принятому
наперед плану и масштабу, так чтобы не прежде приступали
к позднейшему по времени периоду, как совершенно и во всех
частях покорив знанию предыдущие; взятая во всей свой
обширности, наука действует для своих целей гораздо проще и
свободнее: не стесняясь ни местом, ни временем, она вдруг
разрабатывает свой предмет по всем его частям, сколько они доступны
знанию; она старается в одно и то же время подойти к нему
с различных сторон, имея в виду лишь ближайшие
потребности, т. е. уже постановленные вопросы, и соображаясь только
с местными удобствами, т. е. с данными средствами и пособиями.
В то же самое время, как современное знание трудится над
разъяснением первых зачатков европейской образованности, все
ёолее и более открывает ему свои сокровища индийская
древность, и начинается знакомство с памятниками ассирийской.
Нам, конечно, не возразят вопросом: как возможно в одно и то
же время разрабатывать предмет во многих его частях и
подходить к нему с различных сторон? — Потому что никто же не
подумает, что вся наука заключена в каком-нибудь одном
творении, хотя бы и классического достоинства, или может быть
представлена только одним ее деятелем, хотя бы и
способнейшим из всех. Наука имеет свое объективное существование,
которое представляется всеми ее деятелями и обнимает собою все
богатство основательного знания, без различия времени и места,
когда и где оно приобретено. Поэтому, кажется нам, напрасно
стали бы мы для той или другой исторической эпохи искать
174
Сочинения
одного такого писателя, который бы совершенно исчерпал
содержание своего предмета в пределах известного времени, так чтоб
нам ничего не оставалось желать более: такого писателя нет и,
мы можем сказать без запинки, не может быть, потому что, как
бы ни удалось ему изображение предмета с главных его сторон*
всегда, однако, найдется несколько других, им или вовсе не за*
меченных, или недостаточно осмотренных. В том и состоит
важное отличие науки от личного или субъективного знания и ее
преимущество перед ним, что, совмещая в себе все то, что у
различных писателей является в своей отдельности, она гораздо
менее подвержена упреку в односторонности. Вопрос о таком
писателе, или, точнее, об одном таком историческом творении,
которое бы заключало в себе всю историю Реформации и было
бы верною картиной ее во всех отношениях, и мы готовы
повторить с своей стороны, чтоб тотчас же потом отвечать на него
отрицательно. Такого творения нет, да едва ли и может
существовать подобная задача. Реформация есть событие такое
многосложное и многостороннее, что не может быть обнято одним
разом, одним усилием человеческой мысли. Нужны соединенные
усилия нескольких исследователей, которые бы взяли на себя
труд обозреть событие в различных отношениях и осветить его
с различных сторон: тогда хотя и не в одном творении, а в
нескольких отдельных и даже одно от другого не зависящих сочинениях,
но верно отразилось бы событие во всей его полноте и
разнообразии—и мы смеем думать, что это уже не предположение, но
мысль, более нежели вполовину осуществившаяся в
исторической литературе нашего времени. Так, желающий узнать
Реформацию33 преимущественно с политической стороны, найдет
превосходное изображение ее с этой точки зрения в сочинениях
Ранке; впрочем, если бы требование осталось и в том виде,
в каком находим его во второй половине вопроса,
предложенного автором мемуара, т. е. изобразить Реформацию «более или
менее прагматически», мы опять смело указали бы на того же
писателя и не видим ни малейшей причины, почему бы
требование могло казаться неудовлетворенным; сверх того, желающий
узнать Реформацию как проявление известной идеи, которая
совершила свой круг развития, выразившегося наиболее в
литературе того времени, пусть возьмет руководителем Гагена н
пройдет вместе с ним все «религиозные и литературные
отношения» эпохи; для тех, которые желали бы еще проследить ход
самой догмы протестантской и составить себе понятие о
религиозных учреждениях, возникших на основании реформы, есть
Планк, Маргейнеке и др. Наконец, существует целый ряд весьма
удовлетворительных монографий, которые во всей подробности
и также на основании строгого исследования излагают
различные отдельные эпизоды великой эпохи Реформации, как-то:
предприятие Сиккингена, Крестьянская война, движение ана-
О достоверности истории
175
баптистов и т. п.; затем следует еще другой ряд — столько же
полных, сколько и отчетливых биографий замечательнейших
деятелей эпохи, как-то: Лютера, Ульриха Гуттена, Эразма
Роттердамского, Фридриха Мудрого, Морица Саксонского и пр.
Огромная переписка Карла V34 также принадлежит науке и
может послужить ключом к объяснению многих загадочных
свойств этой в высокой степени замечательной исторической
личности и одного из интереснейших психологических явлений.
Одним словом, стоит только подойти к науке ближе — и тогда
окажется само собою, что нам нет ни малейшей нужды
возвращаться к темным задачам ее, иначе, к некоторым забавным или,
скорее, жалким извлечениям в роде вольтеровых и юмовых,
и ими измерять степень ее достоинства: наука ушла от них так
далеко вперед, что эти забытые всеми недоноски истории не
могут бросать на нее даже легкую тень. Пожалеть ли, что все
прочные приобретения науки по какому-нибудь одному ее
отделу, например по истории Реформации, не соединены в
одном сочинении, в одной книге? Но это значило бы
пожалеть о том, что до сих пор ни одна компиляция не
заключала в себе всего богатства самостоятельных исторических
произведений...
В академическом преподавании ведется обычай — перед
началом каждого отдела истории не только называть главные
источники, из которых почерпаются важнейшие известия о нем,
но и приводить замечательнейшие монографии, писанные по
этому предмету35. Обычай очень разумный: в основании его лежит
верная мысль, что наука есть плод соединенных усилий всех ее
делателей, что, постоянно вырабатываясь посредством
исследования, она не существует вне его и не может быть заключена ни
в одной книге, ни в одном курсе, и что, вводя в науку
основательным образом, преподаватель необходимо должен при всяком
удобном случае знакомить своих слушателей с ее литературой.
Под литературой же разумеем здесь не два-три избранные сочи-
пения, но весь письменный запас исторических исследований,
которые, по общему признанию знатоков, обогатили науку по
тому пли другому ее отделу новыми выводами и хоть с одной
стороны способствовали к уразумению истинного хода
исторических событий. При обычае этого рода разве только излишнее
пристрастие заставило бы преподавателя ограничиться одним
писателем, говоря о таком важном отделе истории, как
Реформация, или он обличил бы подобной неуместной
исключительностью недостаточное знание литературы предмета и слишком
одностороннее понимание самой науки.
Менее охотно последуем мы за автором мемуара на другое
историческое поле, куда он вызывает нас решить подобные же
сомнения относительно достоверности новейшей истории36.
Не потому медлим мы следовать за ним, чтоб успех состязания
Й76
Сочинения
на этом новом поле считали более сомнительным, но потому, что
избранное поле вовсе не годится для состязания37. Огромный
переворот прошедшего столетия, о котором идет речь на
последних страницах мемуара, так нов, так близок к нам и по
времени и по тем горячим следам, которые еще остаются от
пего, что история не может еще считать его вполне
приобретенным себе.
Сколько могли, мы старались отвечать только на главный и
самый видный вопрос; остающиеся же сомнения предоставляем
решить более опытным.
О СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧАХ ИСТОРИЮ
О современном состоянии и значении
всеобщей истории.
Речь, произнесенная в торжественном собрании
Императорского Московского Университета
орд. проф. всеобщей истории Т. Грановским.
Москва, 1852.
О физиологических признаках
человеческих пород
и их отношении к истории.
Письмо Эдвардса к А. Тьерри,
переведенное и дополненное Т. Грановским
[(«Магазин землеведения и путешествий», изд. Н. Фроловым)»
Москва, 1852.
Среди множества писаний, изготовляемых к срокам и едва
переживающих время своего появления, особенно приятно
встретиться с произведением зрелой, обдуманной мысли. Не часто
достается такое удовольствие, зато ценится оно тем более. Оно
не только питает мысль, но и призывает ее к повой деятельности.
Сумма умственного удовольствия значительно возрастает, когда,,
поверив свои понятия чужой опытной мыслью, возбуждаешься
ею к дальнейшим соображениям и выводам. Слово, одаренное
этой возбудительной силой, без сомнения, не праздно; даже
разноглася в том или другом частном пункте с писателем, все же
остаешься благодарен ему как sa обильный материал для
мысли, так и за благодетельное влияние на усиленную ее
деятельность. Нам, конечно, не поставят в упрек, что мы только теперь
говорим о двух литературных произведениях, из которых одно
появилось в самом начале прошлого года, а другое — в половине
его. Именно потому мы и считаем себя вправе сделать такое
отступление от обыкновенного порядка, что совершенно
убеждены в неэфемерном значении двух сочинений, которые изданы
под этими заглавиями. Речь г. Грановского, вместе с
переведенной и дополненной им статьей А. Тьерри2, есть, по нашему
твердому убеждению, одно из тех важных и прочных
приобретений нашей литературы в прошлом году, которые должны
наиболее содействовать к распространению основательных знаний
о предмете — в настоящем случае знаний исторических. С
произведениями этого рода, каков бы ни был их внешний объем,,
знакомить публику, полагаем мы, никогда не поздно.
Г. Грановский пишет и издает мало. Не раз делали ему этот
упрек пишущие и печатающие много. Всякий любит мерить на
свой аршин. Кто, однако, не энает, что литературное
достоинство всего менее измеряется многописанием? Есть словоохотливые
писатели, любящие выносить перед публику каждое свое личное
ощущение; sa недостатком другого материала, они готовы,
пожалуй, вести подробную летопись того, что делается у них в
12 п? Н, Кудрявцев
§78
Сочинения
семье, в кабинете; хочет или не хочет публика, они расскажут
ей, что пишут или только намерены писать они и что читают
и даже на какой странице остановились в чтении. За такими
писателями не угоняешься; у них всегда найдется, о чем
поговорить с «благосклонным читателем». С публикой у них идет
постоянный, непрерывающийся разговор; не случилось целой
статьи, он не забудет напомнить о себе где-нибудь хоть
подстрочным замечанием с выразительным знаком вопрошения. Винить
ли г. Грановского, что он понимает дело писателя несколько
иначе, что литература никогда не была для него складочным
местом личных ощущений, имеющих цену разве лишь для
самого пишущего, что из увая«ения к читающей публике оп
привык делать строгий выбор между своими работами и не иначе
являться на суд ее, как с зрелой и обдуманной мыслью? Нельзя,
конечно, требовать, но как не пожелать, чтоб и другие
поучились у него этой благоразумной разборчивости. Издатели
потерпели бы убыль в счете листов печатной бумаги, но
литература — мы уверены —- выиграла бы в достоинстве и
благородстве, освободясь от лишнего хлама, без нужды ее
обременяющего.
Г. Грановский видит в литературе не поденное ремесло, а
благородное искусство. Немногие еще в наше время сохранили
столько чувства изящной формы и чистоты вкуса. Редко можно
встретить изложение более строгое и воздержанное на слова и
вместе более выразительное по отношению к самому
содержанию. Г. Грановский не расточителен на слова, потому что знает
им цену, и умеет усилить вес их своим употреблением. Сжатая
речь его проста, стройна и в то же время оригинальна. Так
приятно отдохнуть на ней после широковещательных
разглагольствий, которыми наводняют литературу многочисленные
дилетанты, усиливающиеся, во что бы то ни стало, выбиться из
толпы. Не щеголяя фразою, не наряжаясь в нее, г. Грановский
всегда умеет сообщить ей особенный колорит и движение. Самое
построение фразы отличается у него своими особенностями.
В речи его не замечается недостатка слов и нет ни малейшей
распущенности. Разные объяснительные и дополнительные
речения, свойственные языку, так искусно подбираются у него в
средину речи, что фраза представляется совершенно замкнутой,
нисколько не теряя, впрочем, своей полноты и определенности.
Те, которые не по слуху только знакомы с произведениями
г. Грановского, конечно, не раз замечали эту яркую особенность
в его способе изложения. Не решая, в какой мере согласуется
она с неизменными законами языка, мы, однако, не можем не
отличить ее как весьма характеристичную черту в слоге
писателя. Благородство и изящество формы, оригинальная манера,
слог —все это вещи очень редкие в наше время; не ценить их
нельзя, когда неряшество, дряблость и распущенность языка
О современных задачах истории
179
стали до такой степени обыкновенными явлениями в литературе,
что на них больше не обращают внимания.
Впрочем, мы только мимоходом коснулись этой стороны со·
чинений г· Грановского, чтоб, между прочим, в самых условиях
внешней их формы указать читателю на одну из весьма
уважительных причин, почему литературная производительность автора
не простирается далее известных пределов. Кто не имеет
цинической привычки являться перед публикой в чем попало, даже
в спальном костюме, кто постоянно думает об отделке своих
произведений, тот никогда не будет принадлежать к числу
литературных борзописцев. Но в настоящем случае нас особенно
привлекает самое содержание тех статей, которые в
продолжение прошлого года вышли в свет с именем г. Грановского.
Желание обменяться с автором некоторыми мыслями и сообщить
читателям журнала главные его положения относительно
современного состояния исторических знаний побуждает нас
остановиться на самых важных пунктах его речи с некоторой
подробностью.
Исторический обзор разных воззрений на историю автор
начинает весьма издалека:
«Вопросы о теоретическом значении истории, о приложении ее
уроков к жизни, о средствах, которыми она может достигать своих
действительных или извне ей поставленных целей, не новы. Они обращали на
себя внимание великих умов древнего мира и составляют неистощимое
содержание ученых прений в наше время... По коренным условиям своей
жизни Восток не мог принять участия в решении вопросов такого рода.
Они никогда не входили в сферу, в которой сосредоточена деятельность
восточной мысли. Азиатским народам не чужда врожденная человеку
потребность знать свое прошедшее, но их любознательность находит легкое
удовлетворение в родословных списках, в простых перечнях событий и
в исторических песнях. Содержание этих памятников, представляя
обильный, хотя большей частью однообразный, материал стороннему
исследователю, не могло на той почве, которой принадлежит по происхождению,
уясниться до науки или облечься в формы художественных произведений.
Летопись и песня могут, конечно, быть верным отражением народного
быта, но они не в состоянии служить орудиями умственного образования.
Они живо и любовно напоминают народу прошедшее, не приводя его к
ясному сознанию настоящего. Требуя от истории рассказа, а не поучений,
Восток довольствовался самыми бедными, хотя соответствующими его
общественному развитию, формами исторического предания. Единственное
исключение составляют священные книги евреев»5.
Затем, по естественному порядку, автор переходит к древнему
•классическому миру, чтоб определить в главных чертах
господствовавшее в нем воззрение на историю. Немногие страницы,
в которых он характеризует самые видные направления
греческих и римских историков, обнимают вместе с тем и
существенные черты древнего исторического искусства. Не теряя много
слов, автор прямо ставит читателя на ту точку зрения, с
которой человек классического мира обсуживал исторические
произведения своего времени, и потом показывает особенности эллин-
12*
Я80
Сочинения
ского воззрения от позднейшего римского. Воспользуемся для
того и другого словами самой речи:
«Греки и римляпе смотрели на историю другими глазами, нежели мы.
Для них она была более искусством, чем наукой. Такое воззрение
естественным образом вытекало из целого порядка вещей и основных начал
античной образованности. Задача греческого историка заключалась
преимущественно в возбуждении в читателях нравственного чувства или
эстетического наслаждения. С этой целью соединялась нередко другая,
более положительная. Политические опыты прошедших поколений
должны были служить примером и уроком для будущих. „Я буду
удовлетворен, говорит Фукидид, если труд мой окажется полезным тому, кто ищет
достоверных сведений о прошедшем, а равно и о том, что по ходу дел
человеческих может повториться снова". Это практическое направление
выразилось еще с большей силой в произведениях римских историков;
но в лучшие времена римской литературы оно всегда соединялось с
нравственно-эстетическими целями. Тесная связь истории с жизнью,
черпавшей из нее многостороннее назидание, сообщала нашей науке важность,
которой она, при всех сделанных ею с тех пор успехах, не имеет в
настоящее время. Назвав ее наставницей жизни, Цицерон выразил
господствовавшее у древних воззрение. Они верили в могущество примеров. Их
жизнь, далеко не так сложная, как жизнь новых народов, нередко
повторяла одни и те же явления и таким образом открывала возможность
прилагать к делу опыты минувшего»4.
На следующей странице автор продолжает:
«При господстве таких направлений произведепия древней истории
ее могли походить на ученые сочинения нового времени, более или
менее носящие на себе печать кабинетной работы. Историки Греции и Рима
принадлежали преимущественно высшим сословиям общества и часто
описывали такие события, в которых были личными участниками или
свидетелями. Они старались сообщить рассказам своим как можно
большую красоту и ясность, сделать их доступными для сколь можно
большего числа читателей. Изящная форма составляла необходимое условие
значительного успеха. Но под изяществом формы разумелась не одна
красота изложения, а художественное, на основании общих законов
искусства совершенное построение материалов. История, по словам Лукиана,
родственница поэзии, а историк должен походить на ваятеля, который
не создает мрамора или металла, но творчески сообщает им прекрасный
образ. В теоретических исследованиях о формах, свойственных
историческим сочинениям, и об отношении их к искусству вообще высказался
склад ума обоих народов классической древности. Греки требовали
преимущественно поэтической, римляне — риторической стихии. Последняя,
впрочем, была неизбежна вследствие того значения, какое красноречив
имело в античной государственной жизни»5.
Это верное понимание важнейших условий древнего
исторического искусства и местных его различий, так ясно и раздельно
выработанных в духе двух главных народностей античного мира,
едва ли нуждается в подтверждении с нашей стороны. Оно взято
из самых исторических памятников и согласно подтверждается
всей совокупностью одновременных явлений. Одна из
несомненных великих заслуг античного человека состояла именно в том,
что он всюду за собой нес облагораживающий элемент
искусства — не только в сферу мысли, в свою духовную деятельность,
но и в самую жизнь. История впервые облеклась в художествен-
О современных еадачах истории Ï8Î
пые формы в Греции; до того времени существовал лишь голый
исторический материал. Однажды коснувшись его своим
живительным дыханием, искусство произвело те неумирающие
памятники истории, которые, неизменно переходя из одного поколения
в другое, со всех собирают одну дань удивления. Рим постепенно
развил у себя другое, более практическое направление, которого
целью было приложение уроков прошедшего к настоящему:
связь между отдаленными частями одного целого яснее
представлялась уму, история стала наставницей жизни; но
потребность искусства, художественного изложения сохранила свою
прежнюю силу и для римских историков. Выработанное
однажды историческим процессом, будет ли то идея, учреждение или
только форма, не пропадает и для позднейшего потомства.
Римское историческое искусство тоже оставило по себе много пре-
ифасных памятников, составляющих для нас предмет изучения.
Думать ли, что эта потребность отжила вместе с тем миром,
который видел первое ее проявление, или она существует в той
же самой силе и для нашего времени? Г. Грановский,
по-видимому, не допускает последнего предположения.
«Необозримая масса накопившихся в течение тысячелетий источников
нашей науки (говорит он) может навести страх на самого смелого и пред«
приимчивого исследователя. А между тем эта масса ежедневно
увеличивается открытием неизвестных памятников или поступлением в ученый
оборот таких, на которые до сих пор не было обращено надлежащего
внимания. У всех европейских народов заметно однообразное стремление
собрать в одно целое все сохранившиеся свидетельства и предания о
своей старине. Великие труды французских бенедиктинцев и отдельных
ученых XVII и XVIII века бледнеют пред однородными предприятиями
нашего времени. Просвещенное участие правительств дает средства к
осуществлению начинаний, неисполнимых силами частных лиц.
Одновременно с превосходными изданиями летописей и государственных актов
европейских держав предпринимаются в другие части света ученые
экспедиции, раскрывающие перед нами тайны погибших цивилизаций и
народностей. Бесчисленные монографии доводят до сведения большинства
читателей результаты новых открытий и показывают их отношения к
предшествовавшему состоянию науки. Самый круг исторических источников
беспрестанно расширяется. Сверх словесных и письменных свидетельств
всякого рода, от народной песни до государственной грамоты, он
принимает в себя памятники искусства и вообще все произведения
человеческой деятельности, характеризующие данное время или народ. Можно
без преувеличения сказать, что нет пауки, которая не входила бы
своими результатами в состав всеобщей истории, имеющей передать все
видоизменения и влияния, каким подвергалась земная жизнь человечества.
Но изнемогая, с одной стороны, под обременительным богатством
материалов, которых одолеть вполне не в силах никакое трудолюбие, историк
часто поставлен, с другой стороны, в необходимость заменять
собственными предположениями и догадками совершенное отсутствие письменных
свидетельств. Ясно, что, при настоящем состоянии истории, она должна
отказаться от притязаний на художественную оконченность формы,
возможной только при строгой определенности содержания, и стремиться
к другой цели, т. е. к приведению разнородных стихий своих под одно
единство науки»6·
§82
Сочинения
В самом деле, никогда еще горизонт истории (или та сфера,
к которой обращается мысль современного историка) не был так
широк, как в настоящее время. Какая великая разница в этом
отношении между человеком древнего мира, для которого почти
вся история совмещалась в событиях его отечества, иногда
только родного города, и нашими современниками, для
любознательности которых открыты исторические могилы всех веков на
обоих полушариях! Наука нашего времени задала себе
неизмеримую эадачу не только усвоить себе все сказания, дошедшие
до нас от глухой, отдаленной древности, но и поверить их вновь
собственными наблюдениями и дополнить или объяснить на
основании позже открытых памятников. Требования ее
возрастают по мере открытий, которые безостановочно продолжаются
в одно и то же время в разных концах исторического мира.
С другой стороны, сфера ее беспрестанно расширяется теми
новыми вкладами, которые каждый год доставляются ей из
неистощимых архивных запасов. Историческая мысль ищет обнять
прошедшую жизнь человечества со всех сторон, проследить ее
во всех направлениях; ей нужно знать все элементы, из которых
сложилась историческая жизнь того или другого народа: его
мифологию, его искусство, литературу, весь быт. Задача, и без
того трудная, становится еще многосложнее. Мы совершенно
согласны с автором речи, что для истории выросла новая великая
потребность — привести свои разнородные стихии под одно
единство науки; мы также думаем, что исследование, постоянное»
неутомимое и многостороннее исследование, сделалось в наше
время одним из самых существенных и необходимых элементов
истории, что она должна посвящать ему большую часть своих
усилий. Но неужели правда, что она должна отказаться от всех
притязаний на художественную оконченность формы? Неужели
правда, что элемент искусства для нее более не существует?
Позволим себе усомниться в этом. Что однажды открыто гением
человечества, то не стирается веками. Требования науки могли
увеличиться вследствие расширения ее области, но едва ли
утратили для нас свою силу прежние. Идеал художественного
исполнения отдалился на значительное расстояние,
осуществление его стало в несколько крат труднее; но кто станет
утверждать, что он вовсе не существует для историка нашего времени?
Во что превратились бы исторические сочинения, которыми так
справедливо гордится наш век, если б от них хотели только
положительных результатов науки, оставляя в стороне
требования искусства? История не обязана в каждом своем
произведении непременно обнимать все обилие явлений, подлежащих
ее ведению; и в наше время ничто не мешает историческому
делателю заняться предпочтительно разработкой той или другой
части своего предмета (как это и бывает большей частью);
а в таком случае вправе ли он уклониться от художественных
О современных шадачах истории
183
требований касательно выполнения? Степени могут быть
различны, но общее требование остается неизменно.
Возьмем несколько примеров. Положим, что кто-нибудь из
наших современников, литераторов или ученых, взяв летописи,
стал бы выписывать из них одно место за другим, сводить их
к одним рубрикам и потом выводить из них общие итоги.
Неужели такое механическое упражнение заслужило бы в наше время
название истории? Или предположим, что темой исторического
сочинения избрана жизнь и деятельность какого-нибудь
замечательного исторического лица и что автор, собрав весь
необходимый материал, разбивает его на несколько частей и
рассматривает одного и того же деятеля сначала как семьянина, потом
как гражданина, далее как оратора или воина, наконец, как
государственного человека, и притом так, что если последняя его
деятельность распадается еще на* две или на три стороны, то
каждую сторону ставит он в отдельности от другой, под особым
параграфом. Неужели кто подобную анатомию живой
человеческой деятельности принял бы за историческое изображение и
нашел бы в ней полное удовлетворение? Мы с своей стороны
должны отказать в своем сочувствии даже тому довольно
распространенному (особенно со времени Герена7) способу
исторического изложения, по которому события представляются
обыкновенно в двойственном виде: сначала в общем и отвлеченном,
а потом в их живой конкретности. Такое изложение мы считаем
крайне невыгодным для науки, потому что оно нарушает ее
целостность, и не совсем полезным для учащихся, потому что
юная мысль их, не одолевая двойственности, остается при ней,
так что в их представлении раздвояется и самая история, и иное
событие решительно принимается за два, одно от другого
отличные. Доказывать ли, что этот способ находится в разладе с
художественными требованиями? Но ему недостает самого
первого условия искусства, т. е. единства.
Впрочем, не распространяясь много об этом частном вопросе,
мы можем сослаться на самого автора речи, особенно на
изданные им исторические «Характеристики»8; из произведений его
видно всего менее, чтоб художественная обработка стала делом
совершенно посторонним для историка нашего времени.
Практическое свойство истории, приложение уроков ее к
жизни, что особенно живо было почувствовано и развито
римлянами, по нашему мнению, тоже не пропало втуне. Но
послушаем сначала г. Грановского. Вот в каких словах выражает он
свою мысль об этом предмете во второй половине речи:
«Отказываясь от притязаний на то совершенство формы, которое у
народов классического мира было следствием исключительных,
несуществующих более условий, современный нам историк не может, однако,
отказаться от законной потребности нравственного влияния на своих
читателей. Вопрос о том, какого рода должно быть это влияние, тесно связан
ί84
Сочинения
с вопросом о пользе истории вообще. Ответ на последний представляет*
большие трудности, потому что история не принадлежит ни к числу
чисто теоретических знаний, имеющих задачей привести в ясность лежа*
щие в глубине нашего духа истины, ни к прикладным, которых польза
не требует доказательств. Очевидно, что практическое значение истории
у древних, основанное на возможности непосредственного применения ее
уроков к жизни, не может иметь места при сложном организме новых
обществ. К тому же однообразная игра страстей и заблуждений,
искажающих судьбу народов, привела многих к заключению, что
исторические опыты проходят бесплодно, не оставляя поучительного следа в
памяти человеческой. Высказав эту мысль как безусловную истину, Гегель,
вызвал против нее много не лишенных справедливости возражений.
Конечно, ни народы, ни их вожди не поверяют поступков своих с
учебниками всеобщей истории и не ищут в ней примеров и указаний для своей
деятельности; тем не менее нельзя отрицать в самих массах известного-
исторического смысла, более или менее развитого на основании
сохранившихся преданий о прошедшем. В лицах, стоящих во главе
государственного управления, этот смысл переходит по необходимости в отчетливое
сознание отношений, существующих между прежним и новым порядком
вещей. Надобно, с другой стороны, признаться, что всеобщая история а
том виде, в каком она обыкновенно излагается, не в состоянии сильно
действовать на общественное мнение и быть для него источником
прочного назидания. Следует ли из этого заключить, что недостатки, нами
отчасти указанные, останутся ее всегдашнею принадлежностью, что ее
успехи будут состоять только во внешнем накоплении фактов и что и»
всех наук одна она утратила способность живого движения и
органического развития?»9.
Припомнив мнение Кетле 10, что общественные факты
совершаются даже с большей правильностью, чем физические, автор
продолжает:
«Слова Кетле о статистике со временем получат приложение и к на*
шей науке. Бй предстоит совершить для мира нравственных явлений тог
же подвиг, какой совершен естествоведением в принадлежащей ему
области. Открытия натуралистов рассеяли предрассудки, затмевавшие взгляд
человека на природу: знакомый с ее действительными силами, он
перестал приписывать ей несуществующие свойства и не требует от нее
невозможных уступок. Уяснение исторических законов приведет к
результатам такого же рода. Оно положит конец несбыточным теориям и
стремлениям, нарушающим правильный ход общественной жизни, ибо обличит
их противоречие с вечными целями, поставленными человеку
Провидением. История сделается в высшем и обширнейшем смысле, чем у
древних, наставницею народов и отдельных лиц и явится нам не как отрезанное
от нас прошедшее, но как цельный организм жизни, в котором
прошедшее, настоящее и будущее находятся в постоянном между собою
взаимодействии»11.
Итак, г. Грановский не отрицает совершенно практического
характера истории и в наше время; он только не приписывает
этому направлению особенной важности в настоящем состояния
науки, пока еще не открыты постоянные исторические закопы
и не приведены в ясность вечные цели и пределы,
постановленные развитию человеческих обществ Провидением. По его
мнению, в более отдаленном будущем предстоит истории великое
назначение — быть в самом высоком и обширном смысле слова
наставницею как целых народов, так и отдельных лиц. Беа
О современных задачах истории
185
всякого сомнения, у истории есть великое будущее; возможность
дальнейшего совершенствования остается для нее по-прежнему,
несмотря на все блестящие открытия и успехи ее в
современности. Но без сравнения с тем, чего еще она может достигнуть
впереди, нельзя, кажется нам, не признать ее весьма тесного
отношения к действительности и в наше время. Что римлянин
делал по инстинктивному внушению своей практической
природы, которая любила более обращаться в опытной сфере, чем в
идеальной, то стало для нас сознательной, следовательно
разумной, необходимостью. Римлянин больше предчувствовал, нежели
отчетливо сознавал органическую связь настоящего с
прошедшим, когда искал в последнем постоянных и твердых образцов
для своей собственной деятельности: современный нам человек,
напротив, весь проникнут мыслью, что настоящее состояние,
то, что мы называем нашей действительностью, необходимо
условлено прошедшим. Древний человек брал у истории одну
ее хорошую сторону, хотел от нее примеров, образцов,
наставлений: многосторонняя мысль наших современников с
одинаковым интересом изучает эпохи упадка общественного
благосостояния и нравственности, как и времена процветания человеческих
обществ; она еще более проникнута желанием поучаться у
прошедшего и, не довольствуясь одной славной стороной истории,
ищет себе назидания в самых бедствиях отживших поколений
и их слабостях. Прагматизм недаром работал неутомимо в
продолжение целого полустолетия: он много содействовал ,κ
уяснению связи между самыми отдаленными частями истории и
приучил мысль в событиях прошлой жизни искать разгадки многим
явлениям современности. Известно, как далеко простиралось
влияние так называемой исторической школы, хотя она
представляла собой лишь одну сторону этого направления. Конечно,
примеры непосредственного применения уроков истории к самой
жизнп встречаются очень редко; но общее сознание —
разумеется, в образованных классах — проникнуто их важностью более,
чем когда-нибудь. Не всегда можно указать, каким образом оно
переходит в самое действие; но редко нельзя почувствовать его
скрытого присутствия при всех почти важнейших событиях.
В наше время много ли найдется народов, в судьбах которых
не участвовали бы более или менее деятельно их же
исторические предания? В римском мире практическое значение истории
было, может быть, гораздо видпее, положительнее, но оно
ограничивалось лишь отдельными лицами; развитие же целого
общества совершалось под иными началами.
Вообще, замечая успехи нового сознания в этом отношении,
мы, однако, остаемся при той мысли, что между практическим
пониманием истории древних и современными нам
требованиями от нее гораздо более тесной связи, нежели как полагает
автор речи. Некоторые до сих пор еще довольствуются римским
№
Сочинения
воззрением на историю, не чувствуя ни малейшей потребности
расширить свои понятия о предмете и возвысить их до
современного уровня. Примеры попадаются в текущей литературе.
Нам не эабыть особенно забавного упрека, который делали
г. Грановскому за то, что он выбрал для одной из своих
исторических характеристик Бэкона Веруламского12. Можно ли
было—говорили ему запоздалые современники Веллея Патерку-
ла13 — взять предметом исторического рассказа историю
человека, в жизни которого есть темные стороны, слабости, пятна?
Зачем нам знать слабость исторического человека? Давайте нам
образцы, достойные подражания, а историческую истину в ее
долноте и чистоте оставьте у себя —мы в ней не нуждаемся!
Откуда такой голос, как не из римских времен, особенно времен
упадка римской литературы, когда подобные требования всего
более были в ходу?..
Гораздо более, чем требования древних относительно
истории, занимают автора речи успехи ее в новое время. Заметив
совершенно справедливо, что древние не возвышались до
созерцания общих судеб человечества, что история существовала у них
дочти только в монографической форме или в виде
эпизодического изложения, г. Грановский, впрочем, далек от мысли, чтоб
цель, которая выяснилась для науки лишь в позднейшее время,
была уж ею вполне достигнута. Между тем нельзя отрицать, что
заслуги новых историков много подвинули ее вперед, что не
напрасно накоплялся вместе с веками исторический материал и
не втуне работала анализирующая мысль. В чем же состоят эти
заслуги, обозначающиеся именами знаменитых европейских
историков? Что внесли они нового в развитие науки? Чем
содействовали дальнейшему ее совершенствованию или расширению ее
области? Вот вопросы, которые естественно представляются
любознательности при слове об успехах истории как науки. Автор
речи дает на них ответы самого положительного свойства.
Первое важное приобретение науки, принадлежащее сполна новому
времени, есть строгий исторический метод. Известно, что этим
приобретением наука всего более обязана бессмертным трудам
Нибура и, величайшего из современных исследователей. В речи
г. Грановского находим краткую, но чрезвычайно верную
оценку главнейшей его заслуги истории.
«Величайший историк XIX столетия (говорит автор), Нибур, глубоко
чувствовал эти недостатки (в особенности недостаток строгого метода),
и никто не может стать на ряду с ним относительно васлуг, оказанных
истории; здесь речь идет не о результатах его исследований о римской
древности, а об усовершенствованном им методе исторической критики
и о целом воззрения на науку. Можно сказать, что критика была до него
делом личного таланта, как у древних. Превосходство новых заключалось
в большей начитанности и в приобретенном навыке обращаться с
огромным материалом. Точных и всем общих приемов не было. Их создал
Нибур, работая над римской историей. Заметим, однако, что его постигла
О современных задачах истории №7
участь, нередко бывающая уделом великих людей на пути открытий и
изобретений. Колумб унес с собою в могилу убеждение, что он нашел
путь к восточному берегу Азии. Мнение Нибура о древнейших
памятниках римской истории известно: он полагал, что эти памятники,
содержащие в себе самые положительные и достоверные сведения,
подвергались изменениям и порче под пером позднейших римских писателей.
Задача критики состояла, следовательно, в разложении риторических
рассказов Ливия на их простейшие составные части и в восстановлении
первобытных источников, Такая цель, очевидно, не могла быть достигнута; по
преследуя ее, Нибур нашел настоящие законы исторической критики. Он
показал нам, как должно разбирать источники и в какой степени они
заслуживают доверия. Влияние его примера не замедлило обнаружиться.
Через тринадцать лет по выходе в свет первого издания „Римской
истории" явилась критика новых исторических писателей Ранке, небольшое,
но образцовое сочинение, в котором с блестящим успехом приложены к
делу уроки великого учителя. В настоящее время Ранке есть главный
представитель исторической критики в Германии. Его многочисленные
ученики образовали школу, которой деятельность, устремленная
преимущественно на разработку средневековых ' памятников, уже принесла
богатые плоды»15.
Трудно в немногих словах вернее и отчетливее определить
сущность васлути, которая обессмертила имя Нибура в науке.
Мы совершенно согласны с г. Грановским, что в деле
исторического исследования Нибур остается без совместников.
Основанный им метод, по всей справедливости, должен сохранить и его
имя. Но нам кажется, что, говоря об усовершенствовании нового
исторического метода, не совсем справедливо было бы пройти
молчанием и некоторые другие имена. Гиббон, Гизо, Шлоссер,
по нашему мнению, также оказали историографии очень важные
услуги: они не только умножили значительно капитал науки,
пустив в оборот много новых идей, но усвоили ей некоторые
новые приемы, до тех пор почти вовсе не употреблявшиеся и
лишь $ наше время получившие право гражданства во всех
образованных литературах*. Кому, как не им, история обязана
тем, что вышла из тесных рам одностороннего обзора
политических событий, что в нее вошли, один яа другим, все элементы
общественной жизни и важнейшие явления народного быта,
что она обняла собою все учреждения, верования, литературу,
самую науку—словом, все умственное и нравственное развитие
исторических народов? Гиббон первый дал превосходный опыт
всестороннего изучения исторического материала16; за ним
Шлоссер показал почти на всем пространстве исторического
времени живую связь литературы с историей народа 17; но честь
самого широкого приложения тех же начал и вместе самого
блистательного исторического опыта, в котором бы действительно
показано было взаимодействие всех разнородных элементов
общественной жизни как органических частей одного великого
целого, бесспорно остается за автором «Истории цивилизации»18!
* В издании 1887 г.—в литературах всех образованных народов.
g88
Сочинения
которого книга до сих пор — настольная для всех занимающихся
историей: в ней определились истинные размеры настоящего
исторического содержания; она же показала и самый удачный
образец построения истории на ее новых, широких основаниях.
После Гизо заниматься лишь номенклатурою замечательнейших
событий эпохи и их итогами — вначит ограничиться только
азбукой науки. Если Нибур и его школа особенно способствовали
углублению исторического метода, то Гиббон, Шлоссер, Гизо и
их последователи займут важное место в истории науки тем,
что расширили самые ее основания.
Если мы не ошибаемся, г. Грановский не хотел много
распространяться о разных усовершенствованиях исторического
метода, потому что спешил перейти к вопросу, более занимающему
его: об отношении истории к естествознанию. Так по крайней
мере заключаем мы из последних слов его о заслугах автора
«Римской истории»:
«Заслуга Нибура не ограничилась, впрочем, введением новых и
точных приемов критики. Еще будучи юношею, в частной переписке своей
оп высказал несколько смелых и плодотворных мыслей о необходимости
дать истории новые, заимствованные из естествоведения основы.
Историческое значение человеческих пород не ускользнуло от его внимания, но
ему не привелось развить вполне и приложить к делу свои
предположения об этом столь важном предмете. Тем не менее его превосходные
исследования об этнографии Италии и древнего мира вообще могут
служить исходной точкой и образцом для дальнейших трудов такого
рода»19.
Вслед за тем автор переходит к самому вопросу, справедливо
видя в требованиях, заключающихся под ним, залог дальнейшего
совершенствования науки. Вполне сочувствуем г. Грановскому в
его желании поставить на вид просвещенным русским читателям
всю важность такой проблемы, как сближение истории с
естествознанием, и познакомить их с успехами этого направления.
Действительно, это один из самых живых современных вопросов
в науке; он проходит как самый чувствительный нерв через всю
историю; он напрашивается, когда дело идет об естественных
границах той или другой страны исторического мира или о
пределах распространения какого угодно исторического племени;
к нему же приходится возвращаться всякий раз; как только
зайдет речь о нравах и обычаях того или другого народа, его
постоянных свойствах, первоначальных верованиях, о начале
самых учреждений. Чем дальше подвигается история к своим
началам, чем больше расчищается перед лею мрак отдаленных
времен, тем больше чувствуется под ногами ее естественная
основа — природа и ее условия, потому что история выросла на
той же самой почве, на какой и все прочие явления,
составляющие собственно предмет естествознания. Наука в самом деле
ереет по мере того, как подходит к своей естественной основе и
О современных аадачах истории
189
начинает различать, через смену «многих поколений, ее постоянно
действующее влияние. Последуем же за г. Грановским в его
опытных указаниях касательно тех пунктов, в которых
столкновение (впрочем, нисколько не враждебное) двух различных
отраслей знания замечается наиболее.
Прежде всего надобно различить в вопросе две стороны.
Земля есть первое материальное основание, необходимое для всякого
исторического действия; но не менее постоянный естественный
элемент, неизменно присутствующий при всех исторических
переменах страны с решительным влиянием на судьбу ее, есть
самое ее народонаселение. Отсюда два рода естественных
определений истории. Обе половины вопроса имеют для науки
одинаковую важность; но по времени открытия и относительно
большей зрелости преимущество остается за первою. В этом порядке
приведем мы из речи г. Грановского относящиеся сюда места ее:
«Еще древние заметили (говорит автор) решительное влияние
географических условий, климата и природных определений вообще на судьбу
народов. Монтескье довел эту мысль до такой крайности, что принес ей
в жертву самостоятельную деятельность духа. Несмотря на то,
отношение человека к занимаемой им почве и их взаимное действие друг на
друга еще никогда не были удовлетворительным образом объяснены.
Великое творение Карла Риттера, принимающего землю за „храмину,
устроенную Провидением для воспитания рода человеческого", проложило,
конечно, новые пути историкам нашего времени; но многие ли
воспользовались этими трудными путями и предпочли их прежним, пробитым
бесчисленными предшественниками тропинкам? Вошедший теперь в
употребление обычай снабжать исторические сочинения географическими
введениями, заключающими в себе характеристику театра событий,
показывает только, что значение и успехи сравнительного землеведения
обратили на себя внимание историков и заставили их изменить несколько
форму своих произведений. Самое содержание немного выиграло от этого
нововведения. Географические обзоры, о которых мы упомянули, редко
соединены органически с дальнейшим изложением. Предпослав труду
своему беглый очерк описываемой страны и ее произведений, историк с
спокойною совестью переходит к другим, более знакомым ему предметам
и думает, что вполне удовлетворил современным требованиям науки. Как
будто действие природы па человека не есть постоянное, как будто оно
не видоизменяется с каждым великим шагом его на пути образованности?
Нам еще далеко не известны все таинственные нити, привязывающие
народ к земле, на которой он вырос и из которой заимствует не только
средства физического существования, но значительную часть своих
нравственных свойств»20.
В таком виде представляется современное состояние той
части вопроса, которая относится к земле как первой
необходимой основе всего исторического развития. Очевидно, г.
Грановский очень мало удовлетворен им: требование поставлено, всеми
признано, но наука еще не может похвалиться, чтоб многа
оттого выиграла. Успех виден более в форме, нежели в самом
содержании. Без всякого сомнения, внесение в историю этого
нового элемента далеко еще не доставило всех ожидаемых ог
190
Сочинения
него результатов, и географические введения действительно
часто имеют вид внешних приставок, стороннего приложения; но
не будет ли слишком взыскательно с нашей стороны, если
•именно от недостатка формы мы заключим в том же смысле и
о самом содержании? Дело в том, что все в наше время
одинаково проникнуты важностью географических определений в
истории л /всякий старается, по мере своих средств и таланта,
ввести их в свое историческое изложение, но лишь весьма
немногим удавалось до сих пор слить их в одно с самою историей:
большею же частью принято отделывать за один раз
географическую часть, имея в виду дальнейшую историю, чтоб потом
уж перейти к собственно так называемому историческому
содержанию. Ясно, что форма представляет много
неудовлетворительного, что история еще не овладела ею, как бы следовало,
сообразно о распространением своего объема. Впрочем, едва ли
справедливо было бы требовать от истории, чтоб она на всем
своем движении через данные моменты равно неослабно следила
ва географическими влияниями. Поставить такое требование
значило бы, по нашему мнению, хотеть от науки, чтоб она
постоянно преследовала второстепенный для нее интерес с
некоторым пожертвованием своего собственного. Правда, действие
природы на человека постоянно; но степени этого действия,
смотря по времени и ходу исторического развития, весьма
различны, »и мы очень сомневаемся, чтоб во всех моментах истории
нужно было придавать ему равную значительность. Есть время
© жизни каждого народа, когда он весь почти зависит от
внешних определений, .когда природа, климат, почва не только
кладут свою печать на его внешний быт, но и условливают собою
его политическую постановку в отношении к другим народам;
бывает и другое время, обыкновенно следующее за первым,
жогда известное племя людей, определившись под самым
сильным влиянием естественных условий, устанавливается
физически и нравственно в известных границах и начинает в свою
очередь действовать на природу культурой, образованием и
налагает на нее свою собственную печать. Первый момент не
всегда даже доступен историческому знанию; второй есть в
настоящем значении слова историческое время; по здесь внимание
историка естественно должно быть занято гораздо более
обратным действием человека на природу, усовершенствованием его
искусственных средств, чем постепенно ослабевающим влиянием
на него данной местности. Нет никакого спора, что Древний
Рим своим политическим значением среди первоначальных
итальянских народов прежде всего обязан своему счастливому и как
бы предназначенному местному положению. Стоит только
взглянуть с албанских высот или хотя от Фраскати на эти
царственные холмы, подножие столицы древнего мира, которые одни
останавливают на себе взор среди необъятной равнины, и видеть
О современных вадачах истории
19t
почти со всех сторон сбегающие в нее отлогости высоких гор,
которые обстали ее амфитеатром, чтоб понять непреодолимое
стремление окрестных горных племен к этой местности и их
упорную борьбу эа обладание ею. Тот народ, который после
долгих усилий силою или ловкостью, или тем и другим вместе,
удерживал sa собой этот повелительный пост, получал в нем
верный залог своего будущего господства над всей окрестной
страной. Это понятно; простой взгляд на Рим вместе с его
далекими окрестностями, действительно, многое объясняет в его
первоначальной истории. Влияние местных условий не раз
может быть указано и потом, когда Рим далеко перерос всех своих
сверстников, всего же более, когда, перейдя естественные
пределы своих первых завоеваний, внес свое оружие в самое сердце
Востока. Но много ли помогут природные условия объяснить
тайну гражданской доблести римлян, их внутреннего
устройства, наконец, самого блистательного периода в истории их
политического могущества? Пребывание Цезаря в Галлии (а не в
иной провинции) перед началом знаменитого междоусобия,
бесспорно, обстоятельство великой важности: оно много объясняет
успех будущего диктатора; но что и Галлия, если б не было
самого Цезаря? Вообще мы полагаем, что действие естественных
определений на историю далеко не одинаково во всех ее
моментах и что рано или поздно приходит время, когда оно из
преобладающего становится второстепенным и само подчиняется иным
влияниям. История народа не имела бы большого достоинства,
если б для нее никогда не наступало это время. Угадать и
определить начало его в ровном ходе событий — немаловажная
заслуга со стороны историка.
Поэтому мы позволяем себе не вполне соглашаться с
словами академика Вера, которые автор речи приводит для
подтверждения своей мысли о постоянном и неослабном действии
физических причин на исторические явления. Сущность их состоит
в том, что, «когда земная ось получила свое наклонение, вода
отделилась от суши, поднялись хребты гор и отделили друг от
друга страны, судьба человеческого рода была определена уже
наперед, и что всемирная история есть не что иное, как
осуществление этой предопределенной участи»21. Но куда же мы
денем нравственные влияния? Неужели отнесем их к одному
разряду с теми, которые двигали грубыми, необразованными масса-
си в самом начале истории? Почтенный автор приводимого
отрывка по-видимому не придает им особого значения в
истории. «Ход всемирной истории», читаем мы в начале того же
отрывка, «определяется внешними физическими условиями.
Влияние отдельных личностей в сравнении с ними ничтожно.
Они всегда почти приводили только в исполнение то, что уже
было подготовлено и так или иначе, а должно было совершить-
U92
Сочинения
ся»*22. Неоспоримо, что всякое великое историческое явление
приготовляется веками. Но неужели в этой подготовке
участвуют только одни физические условия и в сравнении с ними
влияние отдельных личностей оказывается совершенно ничтожно?
Нам очень любопытно было бы видеть, как, например,
объяснили бы нам историю быстрого возвышения Пруссии в XVIII веке
без той великой роли, которая принадлежала лично Фридриху II;
нам любопытно также было бы знать, как одни физические
условия могли произвести такие явления, как крестовые походы,
или такие учреждения, как рыцарство, и пр. Кажется, довольно
примеров, чтоб оправдать наши сомнения в правильности
изложенного выше воззрения на историю.
Приведем здесь, кстати, простые, но выразительные слова
умного датского ботаника, которому так много обязана
география растений и который вообще так хорошо освоился с
природой:
«Человек есть часть природы: она на него действует, он подчиняется
ее законам; но в то же время человек находится как бы и вне природы
и потому может, без сравнения со всеми другими живыми тварями,
действовать в свою очередь и на нее, преобразовать ее форму, даже в известной
степени господствовать над нею и налагать на нее свои законы. Культура,
духовное развитие — вот те средства, при помощи которых человек мало-
помалу высвобождается из-под власти природы и, недавний раб ее, нод-
чиняет ее своему собственному влиянию»**23.
Любопытно также выслушать его мнение о степени влияния
внешней природы на народный характер в особенности. Этот
частный вопрос лучше всего может показать, как смотрит автор
на спорный предмет вообще.
«Зависимость народного характера от окружающей природы (говорит
он) согласно принимается почти всеми историками, философами,
естествоиспытателями и поэтами. Я, впрочем, позволяю себе думать, что все они
сильно ошибаются, и утверждаю, что заключение сделано с излишней
поспешностью, которая едва ли была бы допущена во всякой другой
области естествознания, где принято употреблять сравнительный метод для
выводов. Я вовсе не хочу этим сказать, что отрицаю всякое влияние климата,
почвы и других природных условий на народный характер: напротив, оно
для меня не подлежит никакому сомнению там, где силы природы берут
решительный перевес над человеческими средствами, которые по
необходимости должны уступить им в неравной борьбе, как, например, в полярных
странах или в африканской степи; по я имею важные причины
утверждать, что вообще это влияпие незначительно».—«По ту и другую сторопу
Канала24 (на юг и на север от него) воздух одинаково туманен и ветры
дуют с равной силой; по обеим сторонам одни и те же природные
условия, те же незначительные известковые возвышения, та же растительность:
и, однако, две нации, для которых Капал служит разделительной чертой,
как нельзя более различны между собой, и народонаселение северного
берега Канала не менее английское, как и то, которое живет во внутренности
* Отрывок взят из статьи академика Бера «О влиянии внешней природы
па социальные отношения отдельных народов» и проч, помещенной в
«Карманной книжке Русского Географического Общества» за 1848 год.
** См.: J. Schouw. Die Erde, die Pflanzen und der Mensch, p. 288.
О современных задачах истории
193
страны; с своей стороны обитатель южного берега есть столько же
француз, сколько и прочие его соотечественники. Почти так же сильна
противоположность между французским и немецким национальным характером,
несмотря на то что ближайшие страны к границе, как на запад, так и на
восток от нее, представляют те же природные условия: севернее — по
обеим сторонам лежат равнины, южнее — поднимаются горы средней высоты
с плодоносными полями и виноградниками. Швейцария на высотах своих
гор и в глубине своих долин питает три совершенно различные народности.
Правда, что племенные различия очень часто совпадают здесь с разделом
самых вод, но нельзя сказать, чтоб тому же соответствовали разделения
гор и долин по их естественным свойствам; случается даже, как, например,
в Валлисе25, что в одной долине живут два различных племени», и т. д.
«Бели бы природные условия (продолжает тот же автор) оказывали
сильное влияние, один и тот же народ не мог бы жить под различными
климатическими отношениями, не потерпев значительного изменения в
своем характере. Но и этого, не видим в действительности. Итальянец, живя
среди горной альпийской природы, на самых высоких обитаемых местах,
в весьма суровом климате, где уже прекращается земледелие, тем не
менее остается итальянцем. Также мало теряют свой национальный тип
итальянские обитатели Альпов средней высоты и тех частей Апеннинов,
которых природа гораздо более подходит к северно-европейской, чем к
южной. Тиролец, тоже обитатель высоких Альпов, такой же немец, как и
житель берегов Немецкого моря, которого земля лежит несколько ниже
морской поверхности, и если существуют между ними некоторые
провинциальные отличия — то еще никак нельзя доказать, чтоб они зависели от
действия климата; во всяком случае, немецкий тиролец гораздо ближе к
северному жителю Германии, чем к своему ближайшему соседу, жителю
итальянского Тироля».—«Англичанин равно остается англичанином и
в знойной долине Гангсса, и в возвышенных долинах Гималая, хотя и там
и здесь он должен жить под такими природными условиями, которые но
имеют ничего общего с его родиной. В Новой Голландии он же окружен
такой природой, которая, особенно по отношению к животному и
растительному царству, образует около него совершенно новый мир. Голландцы,
променявшие низменные и тучные земли своего отечества вместе с его
сырым и туманным воздухом на сухие, песчаные плоскости и такие же
возвышения капской колонии с ее прозрачным воздухом и безоблачным
небом, не сделались оттого ни кафрами, ни готтентотами, но остались все
теми же голландцами. Испанец сохранил свой национальный характер не
только на высоких равнинах Мехики б, которая, при многих сходных
чертах с Кастилией, отличается впрочем, от нее и более теплым климатом
и другими местными особенностями, но он остается тем же испанцем рав-
ио на перуанской возвышенности и на нездоровой панамской местности,
как и на острове Кубе или на островах Филиппинских», и т. д.— «Нет
ничего обыкновеннее, как ссылки на горячую кровь южных европейских
народов, которая, говорят, условливается свойством самого климата, так что
сильные взрывы страстей должны казаться неминуемым следствием того
же местного влияния. Отсюда, между прочим, объясняют обычай
кровавой мести у корсиканцев. Между тем индиец (индус), который живет
в климате несравненно более жарком, чем итальянец, выставляется
обыкновенно за образец человеческого терпения и покорности своей судьбе;
турок же, переселившийся в Европу, из других более теплых стран,
положительно известен в ней своею флегмою! Неужели в голландце более
страстности, чем в жителе Норвегии, Шотландии,'и откуда бы взялась
в древнее время у скандинавов столько известная их мстительность,
перешедшая потом вместе с ними и в холодную Исландию?»*
6 В издании 1887 г.— Мексики.
* Ibid., р. 304—306,
13 ц, н. Кудрявцев
Й94
Сочинения
Все это простые и доступные почти каждому наблюдения,
приводящие по крайней мере к тому общему заключению, что
из всех естественных определений самое сильное и твердое Tot
которое принадлежит самой расе или породе людей.
Обратимся же ко второй половине нашего вопроса. В
последнее время она приобрела особенную важность. Требование
поставлено, и сила его чувствуется всюду. В «породах» наконец
признан один из самых постоянных действующих элементов
истории; и тот, кто еще не почувствовал его значительности,
имеет полное право хвалиться весьма древними понятиями о
предмете. Г. Грановскому принадлежит честь первого в русской
литературе указапия на это новое направление исторических зпа-
ний. Происхождение и распространение вопроса он излагает уже
в своей речи:
«Около того же времени (когда Нибур высказывал свои мысли о
необходимости новых основ для истории) вопрос о породах начал занимать
пытливые умы вне Германии. Фориель, братья Тьерри и другие ученые
старались объяснить отношении различных народностей, преемственно
господствовавших на почве Франции и Англии. Они озарили ярким
светом начало средневековых народов и обществ, но не решились
переступить чрез обычные грани исторических исследований и оставили в
стороне физиологические признаки тех иород, которых исторические
особенности были ими тщательно определены. Надобно было, чтобы натуралист
подал наконец голос против такого стеспения пашей науки и указал на
связь ее с физиологией. В 1829 году Эдварде (W. F. Edwards) издал
письмо свое к Амедею Тьерри о физиологических признаках
человеческих пород в отпошении их к истории. Это письмо содержит в себе
полное, из сферы естественных наук почерппутое, оправдание выводов, к
которым пришли другими путями и совершенно независимо один от
другого Нибур и Амедей Тьерри. Снимая с рассеянных по лицу Западной
Европы галло-кимрских племен их новые имена и доказывая живучесть
пород, Эдварде излагает правила для будущих изысканий. Высказанные
им по этому поводу мысли были приняты с общим одобрением, но до
спх пор еще не принесли желаемой пользы»26.
Замечательно, что философия, с свойственным ей чутьем и
потребностью точных определений, еще прежде самой истории
почувствовала необходимость решения воироса о породах.
Указываем на Канта, который два раза возвращался к этому
предмету, стараясь установить в твердых пределах самое понятие*27.
Ему действительно удалось отыскать некоторые существенные
признаки того, что должно быть пазываемо породою, и отличить
случайные оттенки, которые ошибочно вносятся в самое
содержание понятия. Это прекрасное начало, впрочем, не проникло
в историю, которой могло принести всего более пользы, и в
самой философии не нашло себе продолжателей. Тому
противилось особенно идеальное ее направление, после Канта
сделавшееся господствующим в Германии. Истории надобно было еще
* Сюда относятся: а) Von der Verschiedenheit der Racen überhaupt; b)
Bestimmung des Begriffs einer Menschen-Race. См. Imm. Kants Werke, B. X,
О современных задачах истории
195
лройти много стадий, чтоб само собою достигнуть того пункта,
с которого важность вопроса становится доступна опытным
наблюдениям. Ей нужно было наперед, с помощью философии,
долго всматриваться в первые основания исторических обществ,
чтоб различить в них разные народные особи и усмотреть
необходимость правильного их распределения между собою. Тогда
только начались опыты распознавания человеческих пород по
историческим приметам. Но уж эти первые показали шаткость
различения пород на основании чисто исторических указаний.
Сколько трудов, тонких изысканий и самых остроумных
соображений потрачено на одних пелазгов, а пелазги до сих пор не
поддаются точному определению! Сколько раз потом подходили
!к историческому вопросу о Кимрах, стараясь определить их
происхождение и отношения к другим современным племенам,
в особенности к кельтическому, а между тем недостаток
положительных результатов о них чувствуется по-прежнему, если
ограничиться одними чисто историческими исследованиями!
Очевидно, что в решении подобных вопросов истории необходима
посторонняя помощь; мало археологии и филологии — нужен еще
опытный глаз физиолога. Поэтому нельзя не порадоваться той
готовности, с которой физиология, в лице В. Ф. Эдвардса,
предложила свои услуги истории: в этой решимости ученого-естество-
лспытателя содействовать своими средствами решению
исторических вопросов «сказалась живая связь, соединяющая все науки.
Опыт Эдвардса не единственный в своем роде: пример, им
показанный, начинает уже в разных странах просвещенного мира
находить себе весьма деятельных последователей; но наука
имеет право дорожить им в особенности как первым разительным
применением опытных физиологических знаний к вопросам
исторического свойства.
Г. Грановский принял на себя труд не только указать
русской публике это важное нововведение и ожидаемые от него
благотворные результаты, но и передать сполна в точно русском
переводе самую статью Эдвардса, чтобы читатель сам мог судить
о достоинстве нового метода и доставляемых им выгодах.
Некоторые отмены от мысли естествоиспытателя и многие
существенные дополнения и пояснения переводчик изложил в
собственных замечаниях, сопровождающих статью в виде особого
приложения. То и другое дело равно обязывают нас к
благодарности: заслуга не видная, не громкая, но лучше всех пышных
слов свидетельствующая о несомненном желании автора речи
расширить круг знаний русских читателей действительными
приобретениями науки. Статья Эдвардса, как известно,
написана по поводу книги А. Тьерри об истории галлов и содержит
в себе, так сказать, физиологическую поверку главных его
положений относительно галльской породы. А. Тьерри, на
основании чисто исторических указаний, различает в этой породе две
13*
S96
Сочинения
главные отрасли: собственно галльскую (в Восточной и
Южной Галлии, потом в Северной и частью Средней Италии
и, наконец, на Севере и Западе Британии) и кимрскую (в
Северной и Западной Галлии, также в Восточной и Южной
Британии).
К подобным заключениям приходили и другие исследователи;
но какое ручательство, что эти выводы не искусственные?
Какими осязательными признаками можно доказать, что они взяты
из самой природы соответствующих им явлений? Потребность
более твердого убеждения побудила Эдвардса обозреть большую
часть стран, с именем которых соединены исторические
воспоминания о галлах или Кимрах, чтобы сделать непосредственные
наблюдения над самым их народонаселением и потом составить
свои собственные заключения. С этой целью ученый физиолог
везде на своем пути присматривался к внешнему виду местных
жителей и старался уловить их особенный «тип»— так
называет он совокупность форм и очертаний, полагая не без
основания, что каждая порода должна иметь в этом отношении свои
характеристические особенности, и считая все прочие оттенки,
как-то: цвет кожи, волосы, рост, преходящими, следовательно,
более или менее случайными. Опытный глаз физиолога скоро
помог ему отличить два резко обозначенных типа. Признаками
одного служит голова более круглая, чем овальная, черты
округленные и рост средний; особенность другого составляют
продолговатая голова, высокий и широкий лоб, нос, загнутый концом
книзу с приподнятыми ноздрями, подбородок, сильно
выдающийся, и высокий рост. Последний очерк несколько напоминает
известное всем изображение Данта. Неутомимому
путешественнику действительно удалось проследить этот тип на всем пути
от Бургундии до Тосканы, отыскать его потом в самом Риме,
встретить несколько раз в Венеции, во множестве — около
Милана и везде почти проверить на статуях, бюстах и портретах
исторических лиц, которыми наполнены итальянские
художественные галереи. Что касается до первого типа, он встречается
на тех же пространствах еще в большем обилии. В Бургундии,
например, на его стороне остается решительный перевес. То же
самое в Дофине и Савойе до Мон-Сепи. Переправясь потом в
Италию, путешественник отличал те же самые приметы по всей
дороге от Флоренции к Риму, в Перуджии, Сполето и пр.
В Риме он еще раз узнал этот тип, внимательно всматриваясь
в бюсты Августа, Секста Помпея, Тиберия, Германика, Клавдия,
Нерона, Тита. Далее на юг следы его исчезают лишь по мере
приближения к Неаполю.
На основании всех этих наблюдений Эдварде, во-первых,
пришел к весьма логическому заключению о живучести пород.
Разительное сходство живых лиц со старыми историческими
изображениями послужило ему несомненным доказательством, что
О современных аадачах истории
197
типы сохраняются, несмотря на все внешние перемены в судьбе
народа или целого племени. Соображая далее свои наблюдения
с историческими известиями, он убедился, что два найденных
им типа вполне соответствуют известному разделению
галльской породы на две большие отрасли и что первый из них,
отличающий большинство народонаселения в Юго-Восточной
Франции, принадлежит потомкам галлов, а второй, более редкий в
тех же странах, но довольно распространенный в Северной и
частью Средней Италии, есть остаток той отрасли, которая в
истории известна под именем кимров. Таким образом,
исторические предположения о двух видах одной и той же породы нашли
себе в наблюдениях и выводах физиолога блистательное
подтверждение. Наука выиграла не только в твердости своих
положений, но и самой их определенности; с помощью наблюдений
Эдвардса гораздо яснее обозначается относительная граница
двух отраслей большого галльского племени. На пути своем он
имел также случай заметить промежуточные илд переходные
типы, образовавшиеся под влиянием двух главных.
Кроме специальных выводов, письмо Эдвардса богато еще
многими общими положениями, которые все касаются столько
важных и трудных вопросов о сохранении первоначальных
типов, о смешении пород, о влиянии его на видоизменения внешних
форм, о том, в чем должно искать типических признаков
породы, и т. п. Не говорим о дальнейших наблюдениях того же
ученого над поляками, чехами, мадьярами (которых он имел
случай видеть в австрийском войске в Италии) с целью отыскать
типические признаки их относительных пород: эти наблюдения
пе могли дать вполне удовлетворительных результатов, потому
что были произведены лишь над небольшим числом отдельных
лиц, представлявших собою пеструю смесь разных
национальностей, причем постороннему наблюдателю едва ли можно было
распределить их как следует и избежать разных ошибок. За
исключением, впрочем, этого сравнительно более слабого отдела,
статья Эдвардса представляет одно из тех замечательных
явлений, которые, как внезапно упавший луч света, вдруг освещают
целый ряд темных и запутанных вопросов и возвышают общую
достоверность научных исследований.
Нельзя сомневаться в плодотворности такого направления.
Но вот в каких словах отзывается г. Грановский (мы опять
возвращаемся к его речи) о дальнейших его успехах:
«В Англии, Америке и Франции существуют ученые этнографические
общества, которых труды подвинули вперед антропологию, но не
обнаружили надлежащего влияния на историю. Уступки, сделанные историками
новым требованиям, были большею частью внешние. Дальнейшее ynopcTBof
впрочем, невозможно, и история по необходимости должна выступить из
круга наук филолого-юридических на обширное поприще естественных
паук. Ей нельзя долее уклоняться от участия в решении вопросов, с
которыми связаны не только тайны прошедшего, но и доступное челове-
198
Сочинения
ку понимание будущего. Действуя заодно с антропологией, она должпа
обозначить грапицы, до которых достигали в развитии своем великие
породы человечества, и показать нам их отличительные, данные
природою и проявленные в движении событий свойства. Каков бы ни был
окончательный вывод этих исследований, имеющих, быть может,
обнаружить историческое бессилие целых нород, ne призванных к
благороднейшим формам гражданской жизнп, он принесет несомпенную пользу
науке, ибо сообщит ей большую положительность и точность»28.
И здесь недовольство автора успехами нового направления в
науке принимает вид упрека, который относится прямо к
истории. Г. Грановский находит, что историки сделали недовольно
уступок новым требованиям, и даже прямо приписывает их
упорству, что история до сих пор не могла выступить из круга
паук филолого-юридических. Согласны, что требования остаются
несравненно выше того, что до сего времени сделано для их
удовлетворения: в той или другой мере этот недостаток можно
указать почти в каждой отрасли знания. Но неужели надобно
слагать всю вину на упорство историков? Неужели главная
причина неуспеха заключается в том, что до сих пор история
отвечала на требования только внешними уступками, что она, так
сказать, не хотела дать у себя довольно места новым открытиям?
Если б дело состояло лишь в допущении сторонних открытий,
подобных тем, которыми наука обязана физиологическим
наблюдениям Эдвардса, и история упорно отказывалась
воспользоваться ими для своих собственных целей, упрек был бы вполне
заслуженный. Кто, однако, не знает, что число положительных
выводов, достигнутых путем естествознания в сфере
исторических вопросов, до сих пор еще очень ограниченно, что многие
из этих вопросов еще вовсе не тронуты с той стороны, которая
обращена к естествознанию, а другие, несмотря даже на помощь
опытных естествоиспытателей, до сего времени весьма мало
подвинулись вперед? Укажем для примера на вопрос об
американских породах или исконных жителях Америки, ее
аборигенах. История, если б и хотела, не могла бы воспользоваться
подобными исследованиями, пока опи еще сами не созрели до
определенных результатов. Упорство историков, упоминаемое
автором речи, очевидно, имеет для него другое значение. Стало
быть, по его мнению, вина истории состоит в том, что она сама
до сих пор не принимала деятельного участия в решении
подобных вопросов, «с которыми (как сказано в речи) связаны не
только тайны прошедшего, но доступное человеку понимание
будущего»29.
Но π в этом смысле мы не возьмем на себя разделить упрек,
делаемый г. Грановским истории. Утверждать безусловно, будто
история доселе уклонялась от решения вопросов такого рода,
было бы с нашей стороны вопиющей несправедливостью: против
нас была бы целая обширная отрасль исторической литературы,
посвященная преимущественно исследованиям относительно про-
О современных задачах истории
199
исхождения различных народов как древнего, так и нового мира,
их родовых признаков, мест первоначального пребывания,
переселений и взаимных соотношений. Сколько исследований
предпринято и совершено было в разное время о пелазгах и их
расселениях, о дорянах, об итальянских аборигенах, этрусках,
иберах, гуннах, и пр. и пр.! Сколько еще предпринимается их вновь
в каждой почти части образованного мира! Но эти
исследования — в собственном смысле исторические: они опираются на
исторические известия, они произведены лишь при помощи
филологии. Итак, автор речи винит историю в том, что она до сих
пор решала свои вопросы чисто исторически. Он желал бы, чтоб
история, вышедши из тесного круга собственно исторического
метода, вступила сама на поприще естественных наук; он хотел
бы от историка нашего времени физиологических приемов —
требование, вполне достойное того высокого идеала, который г.
Грановский постоянно имеет в виду, говоря о современном
состоянии науки. Но какие средства удовлетворить ему? Как заставить
историю сделаться не тем, что она есть? Как хотеть от нее, чтоб
она усвоила себе приемы, ей несвойственные? Надобно по
крайней мере, чтоб она прошла наперед очень долгую школу и
чтоб историк действительно владел опытным глазом
естествоиспытателя. Подобное требование можно ли сделать общим,
не исключая из внешней области науки многих, весьма
полезных делателей? Хронологическая часть истории постоянно
нуждается в пособии астрономических знаний; но вытекает ли
отсюда общее требование для истории в собственном смысле?
С своей стороны, мы остаемся при том мнении, что наука,
несомненно, много выиграет от успехов нового направления, но что
успех его не зависит непосредственно от самой истории. Пусть
естествоиспытатели разрабатывают, по примеру французского
физиолога, широкую тему происхождения пород и их типических
признаков: история наверное не откажется воспользоваться
результатами их исследований или наблюдений. Идя к той же
цели, но своим собственным путем, она будет иметь в них верное
средство для поверки тех положений, которых достигает в той
же самой сфере своими средствами.
Потом мы считаем нужным отделить две различные части
задачи, которые с первого взгляда представляются как одно
большое требование, простирающееся на все время исторического
развития. Так, читаем в речи: «Действуя заодно с
антропологией, история должна обозначить границы,, до которых достигали
в развитии своем великие породы человечества, и показать нам
их отличительные, данные природою и проявленные в движении
событий свойства^0. По нашему мнению, не совсем одно и то
же — распознать породы на местах их первоначального
пребывания и дальнейшего расселения с теми отличительными
свойствами, которые вложила в каждую из них особенная ее при-
200
Сочинения
рода, и уловить те постоянные черты их нравственной
физиономии, которые проявились в движении событий, в истории. Это —
историческая антропология и психология, слитые вместе.
Конечно, последняя из них необходимо предполагает первую; между
ними проходит очень тесная связь; но, сливая их в одно, мы
смешаем природу и историю. Объяснимся примером. В старом
Провансе, южнее Авиньйона, лежит город Арль. Кому
случалось проезжать через него, тот наверное поражен был видом
тамошних женщин. Странно в самом деле: среди
народонаселения, принадлежавшего нашей современности и усвоившего себе
ее цивилизацию, встретить женские фигуры, которые своим
внешним видом, станом, поступью и пластическими движениями
невольно возвращают вашу мысль к древности! Вдруг вы видите
перед собою совершенно античную фигуру (кроме, впрочем,
некоторых особенностей костюма), с ее классическими позами,
спокойными и в то же время изящными телодвижениями. Другое
дело в Италии; но здесь, куда переносишься лишь в несколько
дней из центра Франции, нельзя не остановиться перед таким
неожиданным явлением. И вот мысль ваша вдруг перенесена в
отдаленную древность: вам как будто открылись глаза не на
ближайшую историю арльского народонаселения, а через целый
ряд веков на первые его начала: там, на самой первой странице
истории края, имеет особенную важность ваше наблюдение.
Неподалеку отсюда, в Авиньйоне, поразит вас другое явление: это
старая женщина, которая, показывая в стенах бывшего папского
дворца кровавые следы неистовств девяностых годов31, с каким-
то диким остервенением рассказывает о несчастных жертвах,
погибших во время авиньйонских убийств. Тут уж говорит не
природа, а история: перед вами остаток ее ужасных страстей, и одна
природа еще не даст вам ключа к объяснению подобных
явлений. Вообще, чем дальше от колыбели народа, тем больше
проступает на его нравственном облике историческое влияние,
нарастающее от времени на первой или исторической основе.
Уловить первобытные черты той или другой породы, связанные с
самой ее организацией,— вот одна из самых первых задач
историка. Она следует непосредственно за вопросом о влиянии
географических или местных условий на быт и историю народа.
Здесь только может быть речь о свойствах, «данных природою»
в собственном смысле, здесь же сохраняют они и свое
преобладающее значение. Арабы имели свой определенный характер,
условленный местностью и самою их природою, прежде чем
известный религиозный переворот вдвинул их в пределы
исторического мира; норманы впервые подступают к истории также
готовыми людьми: не по внешнему только виду, но и по самым
свойствам их нельзя не отличить от других современных
удальцов. Подобные свойства можно бы назвать доисторическими:
история застает их уже готовыми, сложившимися. Определясь
О современных аадачах истории
201
однажды, они держатся долго, нередко дают чувствовать себя
и в исторической жизни народа; но, встречая потом знакомые
черты, историк видит в них лишь поверку и подтверждение
прежде сделанных наблюдений. Самые существенные из них не
изменяются более ни под какими широтами: европеец
переселяется из Старого Света в Новый, живет в лице нескольких, одно
другое сменяющих поколений, а между тем природа его
продолжает действовать так, как если б она все еще находилась под
прежними местными определениями. В таком смысле
видоизменяем мы вышеприведенное мнение датского ботаника32 о
влиянии природы на народный характер: как скоро под теми или
другими определениями установилась порода и ее
индивидуальный характер, внешнее влияние перестает быть значительным и
производит разве только случайные перемены.
Есть целые народы, которым, кажется, суждено жить и
умереть с теми свойствами, с какими история узнала их впервые.
Проходят века, даже тысячелетия, а они одинаково остаются
верны первоначальным инстинктам, вложенным в них природою.
Киргиз и американский индеец, один в Старом, другой в Новом
Свете, видели около себя много переворотов, а сами остались им
чужды: истории еще не удалось наложить на них никакой
видимой печати. Что же раскрывается в их существовании в
течение каждого столетия и при жизни каждого нового поколения,
как не те же самые свойства, которые впервые произошли
вместе с их породами? Какая разница, когда для народа начинается
история в настоящем значении слова и вносит в его жизнь
богатство своих определений! События совершают свойственные им
движения, формы сменяются одна другою, и каждая из них,
как особая фаза в развитии, оставляет свой глубокий след
не только в воображении народа, но и в самых его наклонностях
и нравах. В исторической жизни народа ни одно великое
событие не проходит для него даром: внимательно всматриваясь в те
черты, которые в своей сложности составляют общую народную
физиономию, всегда почти найдешь в них отпечаток того, что
народ испытал или прожил в своей истории. Чем однажды было
глубоко поражено народное воображение, то никогда не
изглаживается из него совершенно, а разве только от времени и
новых событий теряется свежесть первого впечатления. Туземный
обитатель старой Индии до сих пор остается живым памятником
своей давно минувшей истории; даже европейская цивилизация
бессильна поколебать в нем те убеждения, которые сложились
в одну отдаленную эпоху его исторической жизни и потом как
будто срослись с самою его природою. Гораздо ближе к нам —
католицизм, как историческое явление, также положил свою
неизгладимую печать на целые народы. Поражающая из-за угла
итальянская мстительность, образовавшись под влиянием чисто
исторических обстоятельств, пережила многие столетия. Те ори-
202
Сочинения
гинальные черты испанского национального духа, которые
сложились особенно в борьбе испанцев с маврами, до сего времени
живут в нравах туземных жителей. Большая подвижность
европейских пород, правда, условливает собою возможность новых
видоизменений без ущерба для того, что уж вошло однажды в
народный нрав; но отсюда вытекает лишь то необходимое
следствие, что исторически образовавшийся характер европейского
народа обыкновенно отличается большею сложностью, чем
неподвижные нравы жителей Востока, хотя бы в образовании их
тоже участвовала история. Там же, где так глубоко было
действие католицизма, одновременно с ним действовали еще
феодализм и потом рыцарство, и никто, конечно, не станет отрицать
собственно им принадлежащего влияния на нравы европейского
общества. И теперь еще не сгладилась разделяющая черта,
проведенная ими в средине европейского народонаселения. Новое
время равным образом вносит в образование народных
индивидуальностей свои особые определения. Продолжается то же
самое действие, с тою разницею, что новые определения получают
значение более местное. Довольно указать на германский
протестантизм в отличие его от английского пуританизма.
Последний развил совершенно новую сторону в английском
национальном характере, которая пережила его самого. Эпоха Ришелье в
некоторых отношениях перевоспитала Францию: великий
политик не только открыл новые пути государству, но и положил
начало важному изменению в самых нравах народа. Говорить ли
о том, что иногда достаточно бывает одного периода блестящей
завоевательной деятельности, чтобы сделать войнолюбие
господствующей страстью народа на долгое время? Если, несмотря на
успехи человеческого образования, народные особенности не
только не стираются, но еще усиливаются новыми оттенками с каждой
великой исторической эпохой, то причины надобно искать
именно в этом почти не прекращающемся действии, которое
оказывает история каждого народа на дальнейшее развитие и
определение его же характера. Природа вырабатывает из себя те
свойства, которыми отличаются одна от другой большие
человеческие породы; индивидуальные же особенности народных
характеров есть уж дело истории, которая продолжает строить на
данной основе, и они накопляются постепенно в течение
исторического времени.
«Кому не случалось (говорит тот же наблюдательный автор, па
которого мы уж ссылались прежде) слышать столь распространенное мнение,
что культура сглаживает народные особенности, даже совершенно
уничтожает их? Я же с своей стороны предложу только один вопрос: у трех
образованнейших народов — англичан, французов и немцев — было ли
когда столько особенностей, которыми они отличаются один от другого, как
в наше время? Уж конечно, между иными необразованными народами
нельзя найти таких резких оттенков. Обыкновенно нас обманывает
наружное, случайное сходство в выборе пищи или ее употреблении, в костюме
О современных задачах истории
203
в разных внешних обычаях. Внутренние же отношения, нравственные
свойства беспрестанно вновь развиваются культурой, а своеобразное
развитие необходимо ведет за собой и новые отличия. О целых народах
можно сказать то же самое, что и об отдельных лицах, т. е. что
образованные гораздо более отличаются между собой, чем простые, необразованные»*.
Автор приведенного отрывка говорит о культуре: кто же
захочет отделять культуру от истории? Но обратимся к нашему
вопросу. Если не ошибаемся, то в наше время рядом с
требованием естественной, или физиологической, основы для истории
выросла для нее другая важная задача — определить из
исторических событий данного времени существенные черты народного
характера, как проявились они в самом действии, постепенно
образуясь под влиянием исторических обстоятельств. Когда
говорим так, воображаем себе не мечтательный идеал, но имеем
в виду действительные образцы (хотя, конечно, в весьма
ограниченном числе), которые при иных целях дают самые
удовлетворительные результаты и в показанном нами смысле. Задача,
с успехом решаемая в английской истории, не менее приложима
к Франции, Германии и другим странам. Какой богатый
материал для исторического, изучения народного характера могла бы
дать исследователю одна эпоха гугенотских войн! Сколько
несчастных склонностей и привычек вынесла нация из этой
кровавой вражды двух беспощадных религиозно-политических
партий! В самой Фронде, несмотря на ее эпизодический характер,
есть так много национального... Но нам пришлось бы перебрать
все важнейшие эпохи, из которых слагается история страны,
потому что ни одна из них не проходит без того, чтобы не
отметить себя более или менее яркой чертой на этом неуловимом
образе, который мы называем нравственной физиономией
народа. Мы хотели только указать на приложимость задачи к самому
делу. Относительно же важности ее полагаем, что она отнюдь
не менее достойна занять внимание историка, чем вопрос о
породах. Едва ли даже упрекнут нас в преувеличении, если мы
назовем задачу первого рода более историческою. По крайней
мере здесь историк у себя дома и располагает средствами чисто
историческими, не нуждаясь много в постороннем, не всегда ему
доступном пособии. Конечно, естественная, или
физиологическая, основа не исчезает и в тех периодах, которые вполне
принадлежат истории: исследователь постоянно должен иметь ее в
виду и соображать с нею новые видоизменения в народном
характере, по мере того как они проявляются в историческом
действии. Впрочем, это еще не обязывает его ни к каким
особенным поискам; он берет природу как уж нечто положительно
данное, как необходимую точку отправления для своих
исследований, которых главный предмет — вновь образующиеся формы
и определения под прямым влиянием совершающихся событий.
* Schouw, ibid., p. 310,
204
Сочинения
На этой дороге истории предстоит еще совершить много трудов;
но, «каков бы ни был окончательный их вывод (повторим мы
вместе с г. Грановским), он принесет несомненную пользу
науке, ибо сообщит ей большую положительность и точность»33.
Нам скажут, что мы слишком ограничиваем деятельность
науки, направляя исследования ее преимущественно к одной
цели. В намерении нашем, впрочем, и не было утверждать, что
для истории в наше время не представляется другой
деятельности или что она всякий раз должна сообразоваться с одним
требованием: занятия историка по-прежнему остаются
многосторонни, и ничто не мешает ему располагать ими по своему
выбору и направлять их к той или другой ближайшей цели, смотря
по свойству самого вопроса. Из всех наук история наименее
способна вынести какое-нибудь принуждение; как нельзя связать
ее никакой системой, так нельзя заставить ее служить одной
цели. Составляя неистощимый материал для исследования, для
мысли, она, впрочем, в целом своем объеме несравненно шире
всякого индивидуального воззрения, и нет еще столько обширной
философской идеи, которая бы в состоянии была одним разом
обнять все разнообразие ее содержания. В речи г. Грановского
есть превосходное место, содержащее в себе удивительно верную
оценку философских попыток, которые имели своей целью
логическое построение истории:
«С конца прошедшего столетия философия истории не переставала
предъявлять прав своих на независимое от фактической истории
значение. Успех не оправдал этих притязаний. Скажем более: философия
истории едва ли может быть предметом особенного, отдельного от всеобщей
истории, изложения. Ей принадлежит по праву глава в феноменологии
духа, не спускаясь в сферу частных явлений, нисходя до их оценки, она
уклоняется от настоящего своего призвания, заключающегося в
определении общих законов, которым подчинена земная жизнь человечества, и
неизбежных целей исторического развития. Всякое покушение с ее
стороны провести резкую черту между событиями логически необходимыми
и случайными может повести к значительным ошибкам и будет более
или менее носить на себе характер произвола, потому что великие
события, как бы они ни были далеки от нас, продолжают совершаться
в своем дальнейшем развитии, т. е. в своих результатах, и никак не
должны быть рассматриваемы как нечто замкнутое и вполне
оконченное»34.
Мысль поразительно верная! Смешно в самом деле слышать,
когда хотят отрицать всякое значение подобных попыток; но
также ошибочно было бы искать в них настоящих успехов
истории и по ним судить о движении ее как науки. История
разрабатывается сама из себя, из своего собственного содержания;
по тесной связи, существующей между разными отраслями
знания, она также пользуется пособием или содействием других
наук для более верного разъяснения некоторых сложных
вопросов; но самая мысль историческая, или, что то же, понимание
смысла исторических событий, прежде всего принадлежит ей
О современных задачах истории
205
самой, потому что может быть только выводом из ближайшего
и пристального наблюдения над их постепенным ходом. Есть
или, лучше сказать, были замечательные попытки объяснить ход
истории философской мыслью; но прошло лишь несколько лет,
и настоящие исторические работы далеко оставили их позади
себя. Чем больше разрабатываются отдельные части,
подробности, самые мелочи, тем больше выясняется общее, угадывается
целое... Поставляя на вид в особенности одну задачу, мы хотели
только указать на нее как на одну из наиболее современных,
которые вытекают из последовательного хода науки, вызваны
самыми ее успехами. Тацит35, представляющий собою высшую
степень развития древнего исторического искусства, оставил нам
самые полные и отчетливые индивидуальные образы —
совершенство, до которого не всегда достигали самые даровитые его
предшественники. Это особая сторона исторического искусства
довольно уж усвоена историками нашего времени; мы могли бы
указать несколько прекрасных образцов в этом роде даже в
нашей, все еще молодой литературе. Наше время, благодаря
успехам наблюдения и знания вообще, поняло наконец возможность
проявления индивидуальности в целых народностях, отдельно
взятых, с чертами столько же неизменными и постоянными, как
и те, которые составляют основу личного характера. Не дело ли
современного искусства — проследить эти индивидуальные
черты, принадлежащие целым народностям, в постепенном
движении событий их истории и потом собрать их в одном более или
менее художественном изображении?
Еще много блестящих успехов ожидает историю впереди, еще
ей предстоит великое совершенствование. В виду у всех нас
происходят те поистине великолепные открытия, которые произвели
совершенный переворот в истории Древнего Египта36 и
расширили египтологию до значения целой обширной науки. Будущее
истории исполнено многих прекрасных надежд...
«Даже в настоящем, далеко не совершенном виде своем (говорит
г. Грановский в заключительной части своей речи), всеобщая история
более, чем всякая другая наука, развивает в нас верное чувство
действительности и ту благородную терпимость, без которой нет истинной
оценки людей. Она показывает различие, существующее между вечными,
безусловными началами нравственности и ограниченным пониманием
этих начал в данный период времени. Только такою мерою должны мы
мерить дела отживших поколений. Шиллер сказал, что смерть есть
великий примиритель. Эти слова могут быть отнесены к нашей науке... Да
будет нам позволено сказать, что тот не историк, кто не способен
перенести в прошедшее живого чувства любви к ближнему и узнать брата
в отделенном от него веками иноплеменнике. Тот не историк, кто не
сумел прочесть в изучаемых им летописях и грамотах начертанные в них
яркими буквами истины: в самых позорных периодах жизни
человечества есть искупительные, видимые нам на расстоянии столетий стороны...
Такое воззрение не может служить к ущербу строгой справедливости
приговоров, ибо оно требует не оправданий, а объяснений, обращается к
самим лицам, а не к подлежащим суждению делам их. Одно из главных
206
Сочинения
препятствий, мешающих благотворному действию истории на
общественное мнение, заключается в пренебрежении, какое историки обыкновенно
оказывают к большинству читателей. Они, по-видимому, пишут только
для ученых, как будто история может допустить такое ограничение, кан
будто она по самому существу своему не есть самая популярная из
всех наук, призывающая к себе всех и каждого. К счастью, узкие
понятия о мнимом достоинстве науки, унижающей себя исканием изящной
формы и общедоступного изложения, возникшие в удушливой
атмосфере немецких ученых кабинетов, несвойственны русскому уму, любящему
свет и простор. Цеховая, гордая своею исключительностью наука не
в праве рассчитывать на его сочувствие. Здесь, разумеется, речь идет
пе о тех достойных всякого уважения, но по самому содержанию своему
не допускающих занимательности частных исследованиях, без которых не
могла бы двигаться вперед наука, хотя она употребляет их в дело
только как материал»37.
Вполне сочувствуем этому живому понимапию лучшей
стороны истории, ее благотворного действия на ум и сердце
человека. Но не правы ли мы были, когда в начале статьи
противоречили г. Грановскому относительно требования изящной
формы, по нашему мнению, ровно столько же существующего для
нашего времени, как и для древнего мира? Берем в свидетели
самого автора речи, называющего «узкими» те понятия о
достоинстве науки, по которым она будто бы унижает себя исканием
изящной формы и общедоступного изложения. Итак, истинное
достоинство науки требует для себя изящества формы — без
различия времени и других обстоятельств.
РИМСКИЕ ЖЕНЩИНЫ.
ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ ПО ТАЦИТУ1
ПАМЯТИ ТИМОФЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ГРАНОВСКОГО
Посвящая имени Грановского мои исторические рассказы по
Тациту, я только исполняю мой давнишний обет. Обязанные ему
лучшею частью нашего образования, мы все равно готовы были
нести ему дань нашей признательности, т. е. посильную дань от
наших трудов и занятий. Но мало было доброй воли:
чувствовалась еще нужда в строгом выборе. Не всякая работа могла
достойно украситься его именем. Напротив, много выигрывал в
наших собственных глазах труд, хотя и мало достойный, но
заслуживший его одобрение. Сколько раз его одобрительное слово
восполняло нам недостаток доверия к себе! Как много любви к
делу прибавляло одно благосклонное его участие! Что было
отличено им, то казалось нам и более достойным внимания
публики.
В моем выборе я руководился прежде всего достоинствами
писателя, взятого мною за главное основание предлагаемых
рассказов. В трудах подобного рода на ответственности автора
остается лишь самое изложение; но едва ли кто усомнился бы в
важности содержания, заимствованного из образцового исторического
творения древности. О Таците это можно сказать в особенности.
Праздно и нетрезво всякое слово, кому бы оно ни
принадлежало, усиливающееся заподозрить его добросовестность как
историка и смешать его с толпою неблагонамеренных говорунов
своего времени. Тацитовы «Летописи»2 навсегда останутся
великим уроком человечеству. Высокой душе его понятны и
доступны были все великие интересы отечества, и не его была вина,
если любовь к Риму выражалась у него отрицательно. Одною
мерою измерял он достоинство событий и лиц, проходивших
перед его глазами или вызванных его воспоминаниями: она
лежала в его всегда бдительном и неподкупном нравственном
чувстве. В творениях Тацита история впервые поднялась на
степень высшего нравственного трибунала над отжившими ее
деятелями. Но суетны были бы приговоры этого суда, если б они
произносились без внимания к природе подсудимого. В том
состоит особенность таланта и вечная заслуга истории Тацита, что
из внешней сферы действия он перевел ее во внутреннюю
область человека. Не судить только исторических деятелей по их
делам, но и раскрыть тайну их внутренних, душевных движений
было постоянною задачею историка первых цезарей. Таким
образом проложен был путь к естественному пониманию
исторических явлений. Наконец, несравненное искусство автора сооб-
208
Сочинения
щило собранному им материалу такую жизнь, что само
завистливое время бессильно стереть яркую печать ее, пока
существуют, хотя разорванные, части3 Тацитовых произведений.
Приняв на себя смелость быть перед русскою публикою
истолкователем хотя одной части творений Тацита, я скоро имел
случай убедиться, что опыты мои были не совсем неудачны,
и получил основание думать, что не мог бы сделать лучшего
выбора и для другой моей цели. В сочувствии же Грановского
к таланту и духу величайшего из историков древности не могло
быть никакого сомнения. Кто, как он, долго всматривался в
тайны исторического искусства и следил за успехами его
постепенного развития, в глазах того не могло не иметь хотя
некоторой цены сочинение, писанное под влиянием тацитовской мысли.
К сожалению, мне не удалось исполнить моего намерения при
жизпи Грановского, как и вообще его неожиданная смерть
оставила много недоговоренных речей между нами. Но потом,
перебирая его бумаги и письма, я еще больше убедился в том, что
Тацит рано уже стал предметом его удивления и глубокого
сочувствия. Позволяю себе привести здесь две небольшие выписки
из двух очень молодых его писем, писанных им еще в 1837 году,
во время пребывания в Берлине.
«Я прочел,— писал он к одному из своих друзей,— в
подлиннике Тацита. Какая душа была у этого человека! После
Шекспира мне никто не давал такого наслаждения. Я хотел было делать
из него выписки, изучать как историка и не сделал ничего —
потому что читал его как поэта. У него более истинно
человеческой, грустной поэзии, чем у всех римских поэтов вместе.
У него мало любви, но зато какая благородная ненависть, какое
прекрасное презрение! Ты согласишься со мною, когда прочтешь
его. Из новых историков ни один не станет с ним вровень»4.—
В следующем письме, возвращаясь к тому же предмету, он
выражался о нем в таких словах: «Тацита я читаю и перечитываю
не как историка, а как художника»5.
Таково было первое, горячее чувство, возбужденное в нем
чтением Тацита. Со временем оно, разумеется, созрело в нем и
стало еще отчетливее. Итак с именем Тацита постоянно
соединялся у Грановского высокий идеал исторического искусства.
После того мог ли я не утвердиться еще больше в моем
намерении? Мог ли, наконец, вовсе отказаться от его исполнения,
потому только что смертию человека разрываются все житейские
связи с ним? Но память Грановского всегда будет дорога для нас;
но смерть более, чем самая жизнь, кладет печать ненарушимости
на наши неисполненные обеты. Так приведен я был к моему
последнему заключению, что я не вправе более изменить
прежнему намерению, принятому мною еще при жизни Грановского.
Тих и мирен да будет его могильный сон! Да не возмутится
он нашим суетным земным говором! По мы бы желали душою»
Римские женщины
20*
чтоб наша мысль о нем всегда имела невозбранный доступ к
нему и чтоб из духовного общения с ним не переставали почерпать
для себя свежие силы и вновь приходящие поколения.
1856 года, июня 14.
I
АГРИППИНА СТАРШАЯ И МЕССАЛИНА
Судьба женщины, материальная и нравственная, нераздельно
соединена с историей общества, среди которого она поставлена6..
С ним она возвышается, с ним же и падает. Скажем более:
нравственный переворот в обществе ни на чем не отражается:
так живо и ярко, как на нравственном состоянии женщины.
Римская женщина имеет свою историю, как и римское
общество. В ее истории также можно различить две большие эпохи,,
существенно различные между собой. И здесь, как в истории
самого общества, время падения старых государственных
учреждений Рима составляет черту, полагающую разделение между
двумя эпохами. Женские нравы, как мы находим их по ту и по-
другую ее сторону, показывают ясно до очевидности, что
переворот, совершившийся в этот промежуток времени во
внутреннем состоянии женщины, последовал отнюдь не к лучшему.
Дело в том, что, перейдя разделяющую черту, римская
женщина не перенесла с собой семейных и гражданских
добродетелей, которые до сего времени так выгодно отличали ее в истории..
Во внешнем положении многое изменилось в ее пользу. Прежде-
римская матрона или вовсе не выходила из семьи в историюг.
или, если выходила, то не добровольно, вынужденная долгом
матери, супруги, патриотки, когда того требовала незаслуженно·
опозоренная честь ее и целой семьи или когда и она могла
послужить отечеству своими материнскими слезами. Исключения:
редки, и они показывают, как неумолимо было общество к тем,,
которые не могли исполнить весь долг римской женщины.
Оттого история мало знает женских имен из первых семи веков
римской эры, и те, которые знает, почти всегда равнозначительны;
женской гражданской «доблести». Иное дело после переворота7:
семья перестала быть очарованным кругом для женщины; она
вышла на простор жизни, она полюбила публичность, ей в
гораздо большем объеме открылась даже сцена политического
действия, и с этого времени женские имена все чаще и чаще, может
быть даже слишком часто, начинают встречаться в рассказах
современников. Имеиа довольно яркие; многие из них по
известности могли бы стать наряду с первыми именами своего века;
но что прибавляют они к старой славе римской женщины? Хо-
14 п. Н. Кудрявцев
гго
Сочинения
рошо уж и то, впрочем, что они ничего не могут отнять от нее,
ибо женщина старых времен ничем не отвечает за новую,
которая, принадлежа вся своему веку, носит на себе и все его
родовые признаки.
Между римскими историками Тацит всего лучше может
познакомить нас с римской женщиной последней эпохи. Он —
самый верный живописец эпохи упадка; он знает все слабые
стороны этого времени; ему известнее, чем кому-нибудь, тайные
пружины, двигавшие тогда римской внутренней политикой,
а между этими пружинами женская страсть бесспорно занимала
одно из самых первых мест. Глубокий знаток человеческой
страсти вообще, Тацит подробно изображает в своих «Летописях»
и те ее проявления, которым основой служила натура женщины
я ее наклонности. У него можно изучать не только историю
времени, но и историю человека. Мы на этот раз преимущественно
-избираем — тацитовских женщин.
Большая часть из них принадлежит к многочисленной семье,
известной под именем Августова дома. Те, впрочем, о которых
-особенно мы намерены говорить, привзошли в него стороной,
посредством замужества или других, менее позволительных
связей с потомками Августа: все очень известные имена, о которых
память сохранена и историей, и перенявшей их у нее поэзией.
Мессалина, Агриппина, Поппея...8 Но как бы для того, чтобы
•постепеннее ввести нас в этот мир женских страстей, Тацит
наперед еще изображает нам римскую женщину в моменте самого
перехода из одной эпохи в другую. Эта женщина также носит
имя Агриппины; что же придает ей особенную именитость, это
-стоящее подле имя мужа ее, знаменитого Германика. И нам тоже
нельзя обойти ее, когда мы взялись хотя в общих чертах
передать тацитовские женские типы.
Старейшая Агриппина двойными узами связана была с Авгу-
-стовым домом. Внука Августа по матери, она причислялась ему
в родство еще по своему мужу, который был сын пасынка его
.Друза. После славного имени основателя дома имя Друза было
самое популярное и любимое как в войске, так и в народе. От
него та же самая популярность перешла и к сыну его Германику,
наследовавшему от отца мужество и талант полководца. Личные
доблести Германика еще более возвышали цену его
наследственной славы. В мыслях многих римлян не было лица более
достойного чести быть по смерти Августа преемником его власти.
Внешнее положение Агриппины, очевидно, было таково, что не
оставляло ей ничего более желать в настоящем и, сверх того,
еще сулило очень завидную будущность. Было чем польститься
женскому самолюбию. Но Агриппина носила в груди гордый и
Римские женщины
21t
неукротимый дух, который был выше мелкой суетности и
тщеславия. Разврат, который рано проник в семью Августа, тоже
нисколько не коснулся ее. Несмотря на близость порока, она
сохранила древнюю строгость нравов, и честь женщины ничем
не была в ней опозорена: женственная стыдливость осталась-
лучшим ее украшением и после замужества. Как истая
римлянка, она гордилась своим материнским плодородием, и ничеш
столько не смирялся этот неукротимый от природы дух, как
любовью ее к мужу, отцу ее детей*9. Побуждаемая той
преданностью, которой обыкновенно сопровождается женская любовь,,
она не поколебалась оставить Рим, чтобы следовать за своим
мужем на военном его поприще, и не разлучалась с ним даже-
в самом лагере.
Здесь, среди военного римского стана, на пределах Германии:
в первый раз знакомит нас Тацит-с Германском и женой его-
Агриппиной. Пост, который занимал муж ее, пост главного
начальника военных римских сил, расположенных по Рейну, был
один из самых трудных в империи. Опасность всегда была*
вблизи —то со стороны свободных германцев, которые редко*
оставляли в покое римскую границу, то со стороны самых
легионов, в которых новый дух необузданного своеволия ослабил
древнюю дисциплину и каждую минуту мог угрожать опасным:
взрывом. Этот взрыв действительно последовал между
германскими легионами, когда дошло сюда известие о смерти Августа-
Дух непокорности и буйства быстро разлился по всему лагерю.
Ветераны требовали себе отставки, молодые солдаты — выдача
жалованья; многие находили случай очень благоприятным,
чтобы отмстить центурионам, в которых ненавидели представителей*
строгой дисциплины старого римского строя. Наконец, не было-
недостатка и в таких голосах, которые нагло утверждали, что·
от германских легионов зависит участь всего римского мира, что·
им одолжена республика своими победами и что их именем,
должны гордиться самые императоры: первое гласное
выражение того погибельного духа, который впоследствии,
укоренившись во всем римском войске, подорвал главные основания
римского могущества и был одной из самых видных причин падепия
империи. Отсутствие Германика, который в то время занят был
производством ценза в Галлии, внушало еще более дерзости
мятежникам. От слов скоро перешли к делу. Еще
верхнегерманские легионы колебались в недоумении, как нижние открыто»
подняли знамя бунта. Центурионы первые сделались жертвой:
неистовства своих подчиненных. Избитые, измученные разными
терзаниями и почти без дыхания, одни из них нашли свок>
смерть в волнах Рейна, другие просто за валом, куда они
наконец выброшены были из лагеря. Затем следовала очередь три-
* Tacfitus] Anofales], [Lib.], Ι, 33, 41.
212
Сочинения
бупов и других военных чинов: им также не оказано было
никакой пощады. Устранивши таким образом ближайших своих
начальников, солдаты также своевольно взяли потом на себя все
распоряжения по лагерю. Никто не командовал, и однако все
движения производились с редким единодушием: верный знак,
-замечает историк, что восстание достигло уже тех опасных
размеров, где оно становится неодолимой силой.
По первому слуху об этих происшествиях, Германик летел
тс взбунтовавшимся легионам. Благородное сердце его было вы-
ine всех искушений властолюбия; между подданными Тиберия,
может быть, не было человека, более ему преданного; сам
свободный от всякого упрека, он стыдился за свои мятежные
легионы и за них мучился совестью. Германик, как видно, слишком
отстал от своего века и тем избежал его заразы. Прибывши в
лагерь, он думал еще подействовать на мятежников своим
призером, своим авторитетом, всего же более своим популярным
именем. Но перед крамолой бессильно оказалось даже слово
любимого вождя. Когда он, желая говорить войску, велел ему
построиться в ряды, приказание его, хотя и было исполнено, но
медленно и с явной неохотой. На речи его об уважении,
должном памяти Августа, и о победах и триумфах Тиберия отвечали
или молчанием, или ропотом; на упреки в наглом нарушении
военной дисциплины — обнажением старых ран и знаков,
оставшихся от побоев. Вслед за тем послышались громкие жалобы
на обременительные работы, на неисправную плату жалованья.
Ропот скоро превратился в ужасающий вопль. Забыто было
всякое уважение к вождю: от него требовали денег, а ему
предлагали самую империю. Последняя дерзость возмутила чистую
душу Германика: он вдруг соскочил с трибунала, как если бы
^го коснулась зараза преступления. Но ему противоставили
орудие и грозились даже убить его, если он сделает еще шаг
вперед. Тогда Германик сам обнажил меч и занес его на себя с
готовностью скорее умереть, чем нарушить свои обязанности.
Ближайшие к цезарю люди успели остановить его руку, но в то
же время слышались голоса, которые насмешливо одобряли его
покушение, и один солдат даже поднес ему свой собственный
зиеч, говоря, что он «будет гораздо поострее его». Эта наглая
выходка, впрочем, неодобрительно была принята самыми
мятежниками, и друзья Германика, пользуясь той минутой, успели
отвести его в ставку.
После этого несчастного опыта нельзя было и думать о том,
чтобы укротить восстание силой. Меры строгости были здесь
»более неприложимы. Зло, которое было уже так велико,
возросло бы вдвое, если бы мятеж сообщился и верхним легионам.
С другой стороны настояла опасность от германцев, которые,
пользуясь этим случаем, легко могли возобновить свои
нападения на римскую границу. Вынужденный крайностью своего по-
Римские женщины
213
ложения, Германии должен был согласиться на все требования
мятежного войска. Буря улеглась, волнение успокоилось, но под
обманчиво спокойной наружностью продолжал тлеть опасный
огонь, и достаточно было лишь первого повода, чтобы снова
раздуть его в целый пожар. Действительно, при одном только
известии о приближении легатов, посланных от сената к германским
легионам, восстание вскрылось вновь с необузданной силой.
Добытое насилием казалось столько непрочным самим
похитителям, что их пугала самая мысль о том, что оно может быть
опять потеряно. Подозрение, подсказанное страхом, скоро
превратилось в общее убеждение. Среди глубокой ночи цезарь
пробужден был от сна неистовыми кликами вооруженной толпы,
которая спешила овладеть императорским знаменем (vexillum)f
чтобы потом выставить его как знамя бунта. Всякое
сопротивление было бы совершенно бесполезно; под угрозой смерти он еще
раз должен был уступить мятежникам. Легаты, которые в это
время пробирались к Германику, были перехвачены на пути и
потерпели разные оскорбления. Самая жизнь их была бы в
опасности, если бы они не успели спастись счастливым бегством.
Лишь глава посольства, Мунаций Планк, счел бегство
недостойным римлянина и своего звания и искал себе убежища под
самыми орлами10. Но и этот священный символ потерял свой
прежний характер в глазах буйных легионариев. Уже готово
было совершиться неслыханное злодейство: римские воины едва
не обагрили святыни своего лагеря кровью римского же легата.
Только чрезвычайной твердости и невероятным усилиям
знаменосца обязаны были римляне тем, что имя их спасено было от
этого крайнего бесчестия.
Лишь поутру следующего дня волнение несколько поуспо^
коилось, и Германик мог обратить к мятежникам свой
красноречивый укор и выговорить им все, что было в их поведении
бесчестного и позорного. Его выслушали по привычке, но речь
не произвела желаемого действия. Состояние лагеря
по-прежнему не представляло ничего удовлетворительного, ничего
успокаивающего. Тогда друзья цезаря обратились к нему с своими
упреками. Никто не взял на себя смелости прямо упрекнуть его
в недостатке энергии среди самого лагеря мятежных легионов:
всякий по себе понимал, что перед этой бурей разнузданных
страстей была бессильна всякая энергия. Но медлительность
вождя и упорная настойчивость, с которой он, вместо того чтобы
спешить к верным легионам, оставался среди мятежников,
каждую минуту подвергая свою собственную жизнь опасности,
казались друзьям его менее извинительными. Они не без
основания дали заметить Германику, что пребывание его в лагере
мятежников вело лишь к уступкам на их требования и что
каждая такая уступка была важной ошибкой с его стороны. По их
мнению, отправившись к верхним легионам, он нашел бы между
214
Сочинения
ними не только верную защиту себе, но и крепкое содействие
против бунта тех, которые изменили своему долгу. Как видног
однако, все эти побуждения отнюдь не действовали на Германи-
ка: ему невыносима была мысль бежать от своего же войска,
с которым он привык делить труды и опасности. Оставалась ещо
одна чувствительная струна, и советники Германика,
по-видимому близко к сердцу принимавшие все его интересы, не
замедлили затронуть ее в надежде победить его непреклонность. «Если
уж ты сам так мало дорожишь жизнью,— говорили они ему,—
то зачем же удерживаешь при себе своего малолетнего сына,
жену беременную, здесь, среди этой разъяренной толпы, для
которой нет больше ничего священного? По крайней мере их
сохранить обязан ты своему роду и отечеству». Агриппина,
неразлучная с своим мужем, в самом деле находилась в это время в
лагере. Страх близкой опасности и соединенное с ним душевное
беспокойство так же мало были знакомы ей, как и самому Гер-
манику. Чувство долга вместе с наследственной гордостью
придавали мужественный характер ее решимости. На последний
совет преданных друзей Германика, обращенный столько же к ней,
сколько и к ее мужу, она с своей стороны отвечала с обычным
достоинством и напомнила советникам, что она также ведет род
свой от Августа и не разучилась смотреть прямо в лицо
опасности*. Германик был непоколебим относительно самого себя и
нисколько не хотел изменить своего прежнего решения, но ou
не был более равнодушен к участи жены и сына. В нем
пробудилась нежная заботливость отца, мужа; вместе с нею ему стала
доступно и чувство опасения не за себя, а за любимую семью.
Наконец, он и сам понял необходимость удалить ее сколько
возможно скорее из лагеря. Еще ему предстояла борьба с любовью
жены, которой мужественная преданность противилась
необходимости разлуки; еще у него самого недоставало решимости,
чтобы расстаться с теми, которых присутствие в лагере было
для него вместе ободрением и отрадою. Но после некоторого
раздумья он в слезах обратился к Агриппине, обнял ее как мать
будущего дитяти** и выразил ей свое прямое желание, чтобы
она для своей безопасности оставила лагерь и вместе с сыном
отправилась в землю тревиров. Более покорная своему долгу,
чем другим побуждениям, Агриппина не противоречила.
Наступило довольно печальное зрелище. Беременная жена
цезаря, вождя римских легионов, взяв на руки малолетнего
сына, готовилась бежать из лагеря своего мужа, как из
неприятельского стана. Вместо всякой свиты ее сопровождали
плачущие жены друзей Германика, которые также удалялись вместе
с нею. Не менее живо отражалась печаль и на лицах
присутствовавших, которые были свидетелями их отправления. Лагерь
* Ibid., с [ар]. 40.
♦* Ibid. Postremo uterum ejus et communem filium magno cum île tu complexus»
Римские женщины
215
в самом деле принял вид города, захваченного неприятелем.
Женские голоса покрывали в нем другие, но вместо слов и речей
слышались больше жалобный плач и рыдания. Для Германика
это была едва ли не самая неприятная минута в жизни.
Легионарии некоторое время оставались совершенно
равнодушны к тому, что происходило в центре лагеря, около ставки
цезаря; но наконец громкие вопли и рыдания привлекли также
и их внимание. Толпами выдвигаясь вперед, они также
любопытствовали знать, что бы значили эти вопли, о чем бы так
плакали. Узнавши причину, они, по-видимому, нисколько не
тронулись; но их поразил вид этих женщин, столько
знаменитых своим именем и происхождением, которые должны были
теперь не только без всякой почетной свиты, но даже и без
военного прикрытия, одни отправляться к народу не очень
надежной верности. Легионариям стало стыдно: они как будто
почувствовали упрек совести. Тогда вспомнились им великие для
римлянина имена Августа, Агриппы, Друза; память об них
внушала еще более уважения к Агриппине, которой женские
добродетели хорошо были известны каждому солдату в· войске
Германика. Под влиянием этих впечатлений суровые сердца легиона-
риев, еще недавно буйных и неукротимых, раскрылись для
жалости. Им, наконец, стало жаль этого мальчика, сына
Агриппины, который увидел свет среди лагеря, рос между ними и
которого опи в шутку привыкли называть Калигулой, потому что
часто видали на ногах его солдатские калиги11. Мысль о том,
что он вместе с матерью должен будет жить между
ненавистными тревирами, довершила остальное. И вот те же самые
солдаты, которые незадолго перед тем имели наглость издеваться над
своим благородным вождем, когда он, в минуту глубокого
сокрушения и не желая пережить честь римского имени, готов был
занести на себя руку, шли теперь к нему, чтобы заставить его
взять назад согласие на отъезд жены из лагеря: другие в то же
время бросились прямо к Агриппине и, остановив ее на пути,
умоляли ее остаться, не ехать далее. Странное превращение!
Его, впрочем, нельзя объяснить сполна, если не предположить,
что Агриппина, независимо от своего имени и положения, своим
личным характером успела внушить к себе глубокое уважение
π даже привязанность легпопариям. Не она начальствовала
легионами, но легионы как бы воодушевлялись ее присутствием.
Между римлянами того времени, может быть, не было
человека благодушнее Германика, но благодушие отнюдь не
исключало в нем твердости. Сам мало доступный увлечению страсти,
он, впрочем, еще менее поддавался увлечению других. Там
особенно, где дело касалось чести римского имени и римского
войска, он был непреклонен в своих решениях, недостуиен
никакому искушению. В солдатах, которые иригали к нему просить
за Агриппину, он видел тех же крамольных лсгионариев, кото-
216
Сочинения
рые едва не наложили рук на римского легата. Напомнив им в-
сильной речи всё их неистовство и оскорбления, высказав им
еще раз все свое негодование, как римлянина и человека, на
поступки, столько недостойные римского имени, цезарь в
заключение своих слов также изъявил желание примирения с
легионами, но с тем непременным условием, чтобы они сами отделили
от себя зачинщиков и выдали их на суд ему: в таком только-
случае соглашался он признать их раскаяние и не сомневаться
более в их твердом намерении возвратиться к своему долгу.
На этот раз голос вождя не встретил себе ни малейшего
противоречия. Дух крамолы погас в жару нового увлечения, и уж
легионарий думал о том, как бы вновь добытой славой покрыть
самую память последнего преступления. «Накажи виновных,,
прости только слабым и веди нас против неприятеля,— было
ответом Германику.— Мы просим тебя лишь о том, чтобы ты
неотсылал от себя жены и возвратил нам питомца легионов». Гер-
маник обещал им последнее, но относительно Агриппины не
хотел изменить своего намерения, ссылаясь на ее беременность
и зимнее время; остальное же, говорил он, пусть они исполнят
сами *.
Надобно было иметь много воли и присутствия духа, чтобы
обратить подобный вызов к войску, в котором только что остыл
мятежный жар: потому что это значило вызывать его на
добровольный суд и казнь себе. Между тем расчет Германика
оказался очень верен: слово его произвело желаемое действие.
Возвратившаяся преданность вождю выразилась в легионариях
нетерпеливым желанием совершенно очистить себя в глазах его.
Открылось зрелище, которое с избытком должно было
вознаградить Германика за все тяжелые ощущения, незадолго перед тем
испытанные им среди римского лагеря. Прежде чем последовал
особый приказ, главные зачинщики мятежа были перевязаны
самими же солдатами и в таком виде приведены на суд к легату
первого легиона. Приговор и самое его исполнение также вполне
соответствовали чрезвычайным обстоятельствам, среди которых
они происходили. Легат присутствовал больше для формы:
собственно же суд и расправа производимы были всей массой ле-
гионариев. Построившись в ряды, они с обнаженными мечами
стояли перед военным форумом. Трибун с возвышения
провозглашал виновного, и если никто не подавал голоса в пользу его,,
он тут же падал под смертоносными ударами своих товарищей.
Даже сам цезарь нисколько не вмешивался в эту расправу:
воины производили ее по добровольному побуждению, как бы
обрадовавшись случаю, что могут в меру своего преступления
показать и свою ревность к восстановлению порядка, и
очистительные жертвы падали одна аа другой. Говоря словами рим-
• Ibid., с. 44.
Римские женщины
217
«кого историка, они сами ожесточились против себя и
исполнились ненависти к своему собственному делу. Лишь по окончании
добровольных казней цезарь снова вступил во все права вождя
и мог заняться необходимыми мерами, чтобы искоренить в
римском лагере все оставшиеся семена неудовольствия и беспорядка.
Впрочем, по восстановлении мира между германскими
легионами Агриппина не скрывается вовсе от глаз истории. Через
несколько времени потом, в тех же самых странах, ей еще раз
досталась довольно трудная роль, которая была вовсе не по
силам женщины, и она исполнила ее с достоинством и честью.
Германик не любил бездействия. И пост, ему вверенный, и
тяжелая для римского сердца память об истреблении Варовых
легионов, которые остались неотомщенными, и горячее рвение
легионов германских, нетерпеливо желавших смыть
неприятельской кровью свой недавний позор,— все призывало его к тому,
чтобы нимало не медля переступить Рейн и открыть походы
против германцев, которые с своей стороны тоже готовили
вторжение в римские земли. Первый поход удался очень счастливо.
Удар направлен был против марсов, заселявших в то время
земли по обоим берегам реки Эмса. Германик налетел на них
орлом в то самое время, как они, не предчувствуя никакой беды,
по своему обычаю весело отправляли какой-то народный
праздник. Поля их были опустошены на большом пространстве,
жилища сожжены, и даже знаменитое германское святилище, Танфа-
на, сровнено с землей. Соседние народы поднялись было, чтобы
отмстить римлянам за опустошение дружественной земли и
заградить им обратный путь к Рейну, но искусные распоряжения
Германика и рьяное мужество легионов обратили в ничто их
усилия.
Не менее благоприятно было начало второго похода,
предпринятого против хаттов. Застигнутые врасплох, они также
испытали все ужасы чужеземного нашествия. Спасся лишь тот, кто
бежал в лес или в горы; прочие, особенно женщины и дети,
были избиты на месте или отведены в плен. Но война с хатта-
ми неизбежно влекла за собой другую войну — с херусками. Еще
жив был Арминий, победитель Вара; с ним жива была в херу-
сках и прежняя ненависть к римскому имени. Уже Германик,
покончив с хаттами, думал вести свое войско обратно к Рейну,
как явились послы от Сегеста, Арминиева одноплеменника и
вместо старого его соперника, который из личных видов искал
себе опоры в римлянах. Не подать ему скорой помощи значило
допустить до решительного перевеса воинственной партии между
херусками, которая, имея во главе своей Арминия, хотела с
римлянами войны. Итак, продолжение войны в том и другом случае
было неизбежной необходимостью. Впрочем, и не в свойствах
Германика было уклоняться от подобных вызовов.
Обстоятельства ускорили решимость, и цезарь, еще раз повернув назад свое
218
Сочинения
войско, быстрым ударом вырвал Сегеста со всем его «родом»
и со множеством клиентов из рук противной партии. Между
пленницами, захваченными при этом случае, находилась и
беременная жена Армпния, по имени Туснельда. Дочь Сегеста, она
вступила в союз с Арминием против воли отца, который обрекал
ее руку другому, и была вся исполнена глубокой преданности
своему мужу. Для Арминия не могло быть потери более
чувствительной. Но несчастия не убивали в нем духа, они лишь
изощряли его неукротимую энергию. Мысль о том, что беременная жена
его, свободная германка, должна работать на римлян и что,
может быть, та же участь ожидает даже будущий плод ее, была
для него беспокойным жалом, которое тревожно возбуждало все
его душевные силы и держало их в напряженном состоянии.
Волнуемый этой злой мыслью, Арминий без устали носился по всей
стране, всюду возбуждая к отмщению, призывая весь народ хе-
русков к оружию. «Знамена римские,— говорил он между
прочим,— которые посвятил я отеческим богам, до сих пор еще
висят в священных рощах германцев. Пусть Сегест обрабатывает
покоренный берег; настоящие германцы никогда не простят себе
того, что видали когда-то между Эльбой и Рейном римскую
секиру и римскую тогу»*. На призыв Арминия отозвались не
только херуски, но и соседние народы. Огонь ненависти к римлянам,
никогда совершенно не погасавший, вспыхнул теперь всеобщим
пожаром, быстро разлился по окрестным германским лесам и
уже достигал до самого Рейна. На правом берегу его только
одни хауки обещали цезарю свое содействие, но и те едва ли были
надежны. В порыве единодушного увлечения народные силы
северо-западной Германии снова становились под славное знамя
воинственного шефа херусков и уж заранее готовили вождю
римлян печальную долю его неосторожного предшественника,
которого имя осталось символом несчастий римского оружия на
вемле свободных германцев.
Но Германик не привык бледнеть перед лицом опасности.
Близость ее, напротив, как будто вдохновляла его спокойное и
всегда верное себе мужество. Он шел исполнить свой долг, долг
вождя римских легионов, который обязан был побороть всеми
силами врагов империи, и по мере того, как возрастала опасность
вокруг него, в нем самом зрела новая мысль о прекрасном
подвиге, которая, нисколько не роняя его достоинства как римского
патриота, еще более говорит в пользу его как человека. Вражда
германцев готовила цезарю участь Вара и для того старалась
ваманить его в места, уже видевшие раз истребление римских
легионов; его влекло туда же непреодолимое желание почтить
память погибших воинов и вождя, отправить по них тризну на
самом месте их гибели и под могильными насыпями сокрыть их
* Ann. I, 59.
Римские женщины
219
истлевающие кости. Собрав у реки Эмса свои легионы и
вспомогательные когорты, цезарь отсюда повел их через землю брук-
теров в Тейтобургский лес. Путь открывал Цецина,
неустрашимый легат цезаря, оберегая от тайной засады, наводя мосты,
засыпая топи. Прочие шли по следам его, каждую минуту
готовясь увидеть тяжелое для римского сердца зрелище. Вот
наконец показались и эти печальные места, свидетели истребления
стольких храбрых. Пять лет прошло после несчастного события,
но еще легко было узнать линии первого стана Варовых
легионов. Немного далее полуобрушенный вал с заросшим рвом
обозначали то место, где укрепились уцелевшие от первого
нападения. По всему пространству разбросаны были белевшиеся
кости римлян, как кто бежал или кто где сопротивлялся. Тут
же лежали обломки стрел, остовы лошадей, а неподалеку, в
густоте дерев, стояли жертвенники, на которых трибуны и
центурионы, взятые в плен, преданы были закланию. Грусть объяла
сердца храбрых, когда они увидели перед собой эту жалкую
картину. Дух мести в то же время загорался в душах их. Но
наперед должно было отдать последний долг погибшим. Тогда
одним печальным хором римляне собрали разбросанные кости и
начали насыпать над ними могильный курган. Германик
положил первый кусок дерна — на память усопшим, в одобрение
трудившимся. Никто не приходил возмущать римлян в этом
занятии, и они могли довести его до конца по своему желанию.
Оставалось еще увенчать это прекрасное дело последним
венцом — смирить дерзость варваров, гордых воспоминанием о
поражении римских легионов. Спеша завершить свой подвиг,
Германик действительно повел далее, в глубину Тейтобургского
леса, своп легионы, горевшие нетерпением встретить неприятеля.
Встреча не замедлила последовать: Арминий стоял неподалеку
с полками херусков и их союзников, выжидая с своей стороны
только удобного случая к нападению на римлян. Германик
предупредил его, устремил свое легкое войско на германский лагерь.
Но воодушевление свободных германцев на этот раз по крайней
Λΐере не уступало римскому. Арминий, вдохновленный своей
ненавистью, умел сообщить жар ее и своим сподвижникам. Бодро
выдержав первое нападение, он потом обратил удар на самих
нападающих. Тайная засада, подоспев вовремя, дала ему
средства не только восстановить равновесие, но и начать
наступательное движение против римлян. Всадники дрогнули первые;
за ними поколебались и вспомогательные когорты, посланные
им на подкрепление. Топкая, болотистая местность, на которую
германцы навели римлян, еще более увеличивала смятение в
рядах последних. Только обычная стойкость легионов, которые
наконец введены были в действие, могла удержать порывистый
напор варваров и остановить нападение. Но после первой
неудачи Германик должен был отказаться от всякой надежды вырвать
220
Сочинения
из их рук победу. Довольно было и того, что он мог отступить —
хотя с уроном, но без потери военной чести. Едва прекратился
бой, как Германик благоразумно думал уже о том, чтобы,
пользуясь нерешимостью врагов, вовремя перевести свое войско на
левый берег Рейна и тем спасти его от новых потерь. Мысль
о возмездии он по необходимости отлагал до другого, лучшего*
времени. Участь всего войска зависела от быстроты отступления.
Присутствие духа и соединенная с ним умная
распорядительность никогда не оставляли Германика. С поля битвы он тотчас
же отвел войско к Эмсу и там, для большего удобства при
отступлении, разделил его на три части. Легионы, для большей
безопасности и скорейшего возвращения на место, были
посажены на суда; часть конницы должна была пробираться берегом
моря; остальные войска поручено было верному Цецине вести
кратчайшими путями прямо к Рейну с приказанием
переправиться через Эмс близ урочища «Длинные мосты» (Pontes
longos)12.
Германцы недолго оставались в нерешимости. Отступление
римлян впушпло им уверенность в победе. Не теряя более
времени, Арминий начал преследование. Войска, вверенные
Цецине, казались ему самой верной добычей: против них обратил ов
все свои усилия. Цецина поседел в походах, видел в своей
военной жизни много невзгод и превратностей, но никогда еще
положение его не было так затруднительно. Он должен был
безостановочно подвигаться вперед и в то же время — исправлять
обветшавший мост, переводить через него войско и отбиваться
от неприятеля, который шел по пятам его, теснил его со всех
сторон. По обеим сторонам узкого пути, которым проходил
Цецина, лежали обширные топи; примыкавшие к ним наклонные
леса были наполнены германскими воинами, которые далеко·
обошли римлян и каждую минуту готовы были заслонить им
дорогу. Пока наводили мост, Цецина нашелся принужденным
стать у реки лагерем, сколько можно укрепиться в нем и
выдерживать оттуда натиск неприятеля. В одно и то же время
производились работы и продолжалось сражение; клики сражающихся
и работающих мешались между собой. Легко вооруженный и
привыкший действовать на скользкой, тинистой почве, германец
имел на своей стороне все выгоды. Наступавшая темнота
несколько остановила успехи варваров, но они нашли другое
средство вредить римлянам — свели всю воду, стекавшую с
окрестных возвышений, к той низменности, на которой римский легат
расположился лагерем, и затопили произведенные работы.
Надобно было запереть легионами выходы из боковых ворот, чтобы
дать возможность хотя тяжелому войску и раненым
переправиться па другую сторону реки. Ночь прошла в страшном
беспокойстве. В то время как германцы веселыми кликами и песнями
оглашали всю окрестность, римляне, как тени, бродили среди
Римские женщины
22Т
своего лагеря, едва освещенного тусклыми огнями. Зловещий со»
смутил самого вождя среди кратковременного покоя. Казалось
ему, будто он видел Квинтилия Вара, как он поднялся из
болота, весь облитый кровью, и звал его к себе. Цецина ясно слышал
зов Вара, но не послушался, и даже оттолкнул его руку, когда
он протянул ее легату. Рассвет следующего дня немного принес
утешения. Легионы, выдвинутые накануне к лесам, неизвестно
почему оставили свои места. Арминий только того и ждал, чтобы
возобновить нападение. Оно было так стремительно, что даже
Цецина был сброшен с коня, и только твердость первого
легиона спасла его от плена. Лишь к вечеру, и то с большими
усилиями, выбрались легионы на открытое место, где почва не
расступалась более под ногами. Здесь они снова хотели укрепиться,
по не нашлось достаточно орудий, чтобы как следует сделать
насыпь и обвести вал около стана. Притом не было ни ставок
для рядовых, ни перевязок для раненых: все это осталось в
руках неприятеля. Каждый кусок, который приходилось делить для
утоления голода, был покрыт грязью или, что еще хуже, кровью.
Распространившийся мрак ночи на всех навел немой ужас: никто
после того не чаял себе и полного дня жизни. Вдруг
разнузданный конь, сорвавшись с привязи, промчался по лагерю. Этого
случая было достаточно, чтобы распространить между
римлянами всеобщую тревогу. Напуганному воображению тотчас
представилась мысль о новом нападении со стороны германцев.
Панический страх овладел войском прежде, нежели могло быть
сделано какое-нибудь предостережение. Все, кто только мог,
в одно мгновение устремились вперед, ища себе выхода из
лагеря в противоположном направлении от воображаемой опасности:
только в бегстве каждый думал найти свое спасение. Напрасны
были все усилия вождя то угрозами, то просьбами остановить
бегущих. Тогда, в полном отчаянии, Цецина лег поперек самого
выхода, чтобы там, где больше не действовали ни авторитет,
не увещапия, хотя собственным телом заградить дорогу
оробевшему войску. Это подействовало. Принужденные шагать через-
тело своего вождя, чтобы выйти из лагеря, беглецы опомнились.
Стыд вспомнил им на этот раз недостаток мужества. Между тем
центурионы успели убедиться, что опасность была только
мнимая, и спокойствие в лагере было скоро восстановлено.
Последовавшее затем действительное нападение германцев,
римляне выдержали уже из своего лагеря. Ободренные словами
своего вождя, они стояли твердо и успели отбить натиск
варваров. После того им оставалось только перейти Рейн, чтобы быть
в совершенной безопасности. Но здесь-то и предстояло им самое
сильное испытание. В то время как они уже были так близко
к своей цели, одно обстоятельство едва не лишило их вовсе
возможности ее достижения. Левый берег Рейна, где отряд Цецины
надеялся найти себе верное убежище и успокоиться после всех
222
Сочинения
трудов и лишений, готовился по-своему к его приему. Там уже
распространилась молва о поражении римлян, и все с ужасом
ожидали вторжения, по их следам, германцев в Галлию. Робость
и малодушие заразительны. Чтобы только отвратить от себя
беду варварского нашествия, жители левого берега, в том числе
самые войска, готовы уже были разрушить мост на реке и не
допустить даже своих до переправы через нее. Этой мерой отряд
Цецины обрекался на совершенную гибель. Изнуренное трудным,
усиленным походом, истощив все припасы и упав духом, зарейн-
<жое войско не могло долго выдерживать нападений германцев,
которые были у него, так сказать, на плечах, и так или иначе
должно было сделаться их жертвой, если бы не нашло свобод-
лого перехода на другую сторону. И без того дух римского
войска все еще был под тяжелым впечатлением погибели Варовых
легионов: что же было бы, когда бы это несчастье повторилось
еще раз над отрядом Цецины? — Губительная мера, которая
должна была разорвать всякое сообщение правого берега с
левым в самом важном пункте, казалось, была неотвратима. Гер-
маник еще не возвратился, и без него никто не имел довольно
духа, чтобы воспротивиться подобному распоряжению. По
счастью, Агриппина оставалась с войсками на левом берегу Рейна.
Чуждая всяких ложных притязаний, скромная до безвестности,
пока дело не касалось ее лично, она в случае нужды способна
была принять на себя самую трудную роль по обстоятельствам
времени и иногда даже заменить собою своего мужа. На этот раз
Цецина и его войско, почти уже обреченные гибели, ей
одолжены были своим спасением. Восприняв на себя за отсутствием
Германика всю власть вождя, Агриппина вместе с тем взяла на
себя и всю его ответственность и вопреки общему мнению
решительно воспретила разрушение моста. По словам Плиния,
которые находим у Тацита 13, она стояла при входе на мост и сама
принимала возвращавшиеся легионы, свидетельствуя им свою
признательность, восхваляя их подвиги, раздавая одним одежду,
другим перевязки на раны*. Впоследствии сам Тиберий,
узнавши о поступке Агриппины и давая ему ложный толк, говорил,
что полководцам больше ничего не остается делать, когда
женщина берет на себя их обязанности.
После того Агриппина опять возвратилась к мирным
семейным заботам и более не выходила из своей скромной роли во все
время, пока муж ее оставался начальником рейнских легиопов.
Но поприще ее здесь еще не кончилось. Когда потом, по
требованию Тиберия, Германик должен был оставить свой пост на
Рейне, Агриппина неуклонно последовала за ним и к месту
нового его назначения. Вообще, впрочем, в судьбах этой четы так
много общего, что, говоря об Агриппине, нельзя пройти молча-
* Ann. I, 69.
Римские женщины
22?
пием и деятельность ее мужа. Поэтому неизлишним здесь будет
пересказать коротко, держась того же источника, и
последующие действия цезаря до отправления его на Восток. Несмотря
на неудачу последнего предприятия против херусков, Германика
не покидала мысль о новом походе в Германию. Не простое-
увлечение или жажда мести, но твердое убеждение и верный
расчет, что римская граница до тех пор не будет обеспечена
против варварских вторжений, пока не будут сокрушены силы
херусского союза, побуждали его, не теряя времени, снова
взяться за оружие и искать германцев в их собственных землях.
По свойству великой души Германик не прежде расставался
с любимой мыслью, как исполнив ее до конца. С целью нанести
решительный удар Арминию он еще раз соединил все свои силы,,
легионы и вспомогательные когорты, и посадил их на суда
(числом 1000) у Батавского острова, чтобы, спустившись вместе с
ними по одному из рукавов Рейна до самого моря, потом снова
подняться вверх по Эмсу прямо к тем местам, где начинались
земли херусского союза. Между тем неутомимый противник
римлян, Арминий, ожидал их с своим ополчением у Везера. Когда
Германик, пройдя все пространство между Эмсом и Везером,.
остановился у этой последней реки с другой ее стороны,
предводитель херусков изъявил желание, прежде чем начать бой,,
переговорить с своим братом, который служил в римском войска
и даже носил римское имя Флавия. Желание Арминия
немедленно было исполнено; Флавий выступил вперед и был
приветствуем братом с противоположного берега реки. Между ними
тотчас завязался разговор. Еще в одном из походов Тиберия
Флавий лишился глаза. Откуда такое безобразие? — спросил
Арминий брата, указывая на его недостаток. Флавий назвал
время и место, где он получил рану. Чем же наградили тебя за
это? — продолжал Арминий. Флавий сказал в ответ, что получил
прибавку жалованья, цепь, венец и разные другие военные
украшения. И посмеялся тогда Арминий брату, говоря, что дешевой
же ценой продает он римлянам свои услуги. В этих немногих
словах сказалось все презрепие, какое свободный германец
питал в душе своей к своим одноплеменникам, которые имели
слабость покориться римской политике и служить за деньги ее-
целям.
На другой день Германик перевел свои легионы и
вспомогательные войска — галлов, ретов, винделиков, батавов и других
германцев — на другую сторону Везера. Там, на широкой
равнине, где береговые возвышения далеко уходят от края реки, ждал
его Арминий с своим ополчением. Ночь прошла в
приготовлениях к бою. На следующий день рано утром закипела битва.
Арминий был везде впереди, ободряя своих знаками, голосом.
Стрелки римские уже начинали колебаться — лучше выдержали
союзнические когорты. В пылу битвы Арминий упал с лошада
224
Сочинения
il обязан был своим спасением только тому обстоятельству, что
это случилось перед союзниками римскими, хауками, которые
не хотели выдать его римлянам. Тогда началось поражение
германцев, продолжавшееся до глубокой ночи; пространство в
10000 шагов все было усеяно трупами и оружием; искавшие
опасения в реке погибали во множестве под стрелами
римских воинов.
Но одного поражения было недостаточно, чтобы смирить
неукротимый дух германцев. Едва оправившись от уныния, они уж
-снова брались за оружие и готовились дать новый бой
римлянам. Прошло, может быть, лишь несколько дней, как два
ополчения снова сошлись для битвы. На этот раз позиция,
избранная германцами, была еще гибельнее для них по своей
тесноте. Несмотря на превосходный дух, которым проникнуты были
как сами херуски, так и их союзники, несмотря на все усилия
вождей, Арминия и Ингвиомера, они скоро почувствовали и здесь
превосходство римского оружия. Вторая победа досталась
римлянам даже легче, чем первая. Лишь упрямство заставило еще
терманцев держаться некоторое время на месте и продолжать
битву. Германик, обнажив голову, чтобы свои лучше могли
узнавать его, разъезжал по рядам и убеждал воинов как можно
менее забирать в плен, полагая, не без основания, что лишь
истреблением неприятеля можно положить конец этой разорительной
войне. Тот, кто несколько лет имел дело с германцами и знал
неукротимую энергию их народного духа, необходимо должен
был прийти к подобному убеждению. Только ночь прекратила
кровопролитие. Из оружия побежденных Германик поставил на
месте битвы памятник с надписью, которая гласила: сей
памятник, сооруженный в память побед над народами, живущими
между Рейном и Эльбой, войско Тиберия посвящает Марсу,
Юпитеру и Августу*. Надобно приписать особенной скромности
Германика, что имя его, главного виновника славных побед,
вовсе не встречалось в надписи, посвященной воспоминанию
об них..
Здесь кончился этот знаменитый поход. За поздним временем
года Германик не решился идти далее и возвратился назад тем
же путем. Впрочем, мечтая, о совершенном расторжении херус-
окого союза и о покорении принадлежавших к нему народов,
он не удовлетворен был даже последними своими успехами и
никак не хотел считать дело оконченным. Даже несчастье,
постигшее его на возвратном пути,— он выдержал на море
страшную бурю, в которой погибло множество судов и вместе с ними
значительная часть войска,— нисколько не лишило его бодрости.
С прежней решимостью и обычной своей настойчивостью цезарь
уже обдумывал план нового похода в Германию, чтобы не дать
* Ann. II, 22,
Римские женщины
225
оправиться херускам от нанесенного им поражения и вынудить
у них согласие покорности, как обстоятельства изменились
против его воли и совершенно устранили его от любимой
деятельности. Подозрительный Тиберий с неослабным вниманием
следил из Рима за всеми действиями Германика, считал его
победы, даже назначал ему триумфы и между тем втайне
возмущался каждым новым его успехом. Он готов был отказаться от
гам φχ побед над германцами, потому что вместе с ними росло
давно популярное имя вождя рейнских легионов. Наконец, при
всем своем искусстве в лицемерии Тиберий не мог более
удерживать в себе своих тайных чувств к победителю Арминия и,
под предлогом назначения ему нового триумфа в Риме за
победы над херусками, решился вовсе отозвать его с берегов Рейна.
] [ослание следовало за посланием, и каждое из них содержало
н себе приглашение Германику возвратиться в Рим к
назначенному для него триумфу. Довольно громких дел и славных
событий: пора и успокоиться на лаврах, писал ему Тиберий и,
ссылаясь на свой собственный пример (ибо в свое время он сам
предпринимал девять походов в Германию), уверял племянника,
что с германцами гораздо больше можно успеть, действуя
политикой, чем оружием. Напрасно Германик просил у него хотя
на год отсрочки, чтобы только довершить начатое. Тиберий
отвечал ему назначением его в консулы и советом уступить всю
деятельность младшему брату, который иначе не имел бы
случая отличиться и заслужить себе славное имя. Германик
повиновался, хотя и понимал настоящую цену мнимого
доброжелательства своего дяди. Неизвестно, какие были чувства
Агриппины, по она также переправилась в Рим вместе с своим мужем
и детьми.
Триумф Гермапика был отпразднован с обычной
торжественностью. Дети победителя, в числе пяти, также участвовали в
торжестве π ехали вместе с ним в триумфальной колеснице.
Войну же, которую умышленно помешали продолжать, по этому
случаю положено было считать оконченною*. После того
оставалось только удалить триумфатора из Рима. Благовидный
предлог к тому подали Тиберию запутавшиеся дела на Востоке.
В некоторых провинциях, особенно обремененных налогами,
обнаружился сильный дух недовольства; другие, сохранившие
более автономии, волновались внутренними несогласиями. Делая
доклад сенату, Тиберий выразил мнение, что только от
испытанных способностей Германика можно бы было надеяться умире-
ния Востока. Нет нужды говорить, что мнение его было законом.
Чтобы несколько усладить цезарю горечь этого нового
назначения, его облекли большим полномочием. Впрочем, самое это
полномочие могло ли быть лестно для человека вовсе невласто-
* Ibid., е.. 41: bellumque, quia conficere prohibitus erat, pro confecto acci-
piebatur.
15 Π. H. Кудрявцсп
226
Сочинения
любивого, которому всего дороже была его любимая
деятельность и которого отрывали от нее без возврата? И не
обращалось ли оно в излишнюю тягость для Германика, когда для
ближайшего надзора за его действиями приставлен был к нему,
в качестве префекта Сирии, Кней Пизон, человек, известный
между современниками своим крутым и жестким нравом,
вообще не совсем общежительными свойствами, который и сам почти
смотрел на свое назначение как на должность доносчика? Не
только Германик — даже и жена его не избавилась от чести
иметь за собой постоянно наблюдающий глаз, род пристава
женского пола, которым подслужилось ей завистливое соревнование
жены Тиберия: это была Планцина, жена Пизона, вполне
достойная быть поверенной всех тайн своего мужа.
Такова была самая первая обстановка, среди которой
Германик должен был начать свое новое поприще. Нельзя сказать,
чтобы она в состоянии была внушить ему много бодрости и
предприимчивости. Однако у Германика достало благодушия,
чтобы принять и это положение. Вместе с ним отправилась на
Восток и Агриппина, неразлучная спутница его жизни, несмотря
па свою беременность; уже на дороге разрешилась она от
бремени дочерью. По всему видно, впрочем, что Германик ехал с
неохотою. Как человек, потерявший свою главную цель, он вовсе
не старался сократить путь к своему новому посту, напротив,
он показывал желание как можно долее пользоваться переездом,
чтобы удовлетворить своей любознательности. Ибо душе его
доступны были все лучшие современные интересы, и если
любознательность молчала в нем до сих пор, то причиной этому были
обстоятельства прежней его жизни, вовсе не
благоприятствовавшие ее требованиям: но теперь, за потерю главного интереса,
и она вступила в свои права. Переплыв Андриатическое море,
цезарь направил путь свой через Грецию и посетил в ней
многие места, особенно славные великими воспоминаниями. В
Афинах он удивил всех своей кротостью и непритязательностью,
явившись сюда, конечно из уважения к великой памяти города,
лишь в сопровождении одного ликтора. Жители Эвбеи, Лесбоса,
Перипта и древней Византии также видели среди себя
любознательного путешественника, руководимого желанием
познакомиться ближе с памятниками их прошедшей славы. Самофракийские
мистерии потому только ушли от его любопытства, что
противные ветры не дозволили ему пристать к острову. Затем он
обозрел местность древнего Илиона и потом, достигнув
Колофона, посетил в окрестностях его оракул Аполлона Кларийского,
который, говорят, предсказал ему преждевременную смерть.
Между тем Пизон ехал по следам Германика, везде наводил
справки об его поведении и даже позволял себе, в некоторых
случаях, подвергать его публичному порицанию*.
* Ann. II, с. 55; ср. ibid., с. 43.
Римские женщины
227
Прибыв на место, Германик неукоснительно обратился к
своим правительственным обязанностям, к тем в особенности,
которые прямо налагаемы были на него специальной целью его
миссии. Меры, принятые им для умирения страны и восстановления
б ней порядка, скоро произвели желаемое действие: благодаря
умной и вместе кроткой распорядительности правителя,
восточные провинции сами собою, без всякого с его стороны насилия,
действительно начинали возвращаться к внутреннему миру и
спокойствию. Между тем интрига, воплощенная в лице Пизона
и его жены, работала против него с неусыпной деятельностью:
сыпала деньгами перед войском, сквозь пальцы смотрела на его
своеволие, нарочно удаляла заслуженных трибунов, которые
представляли собою дух старой римской дисциплины, чтобы заместить
их своими орудиями, наконец, действовала подкупом и другими
непозволительными средствами. Еще более, может быть, вредило
Германику и Агриппине злоречие Планцины, которая не
щадила языка, распуская об них разные невыгодные вести, чтобы тем
более расположить войско в свою пользу. Германик своим
личным влиянием, конечно,, мог бы легко противодействовать этому
злу; едва ли клевета в состоянии была долго держаться в
присутствии человека, которого простое, бесхитростное сердце
внушало так много доверенности к себе. Но, как видно, душа Гер-
маника вовсе не лежала к новому его назначению:
принужденный оторваться от любимой деятельности, он неохотно взялся
за другую, навязанную на него явным недоброжелательством,
и никогда не мог совершенно победить своего к ней равнодушия.
Интрига и злоречие, которые старались опутать цезаря вокруг,
нисколько не действуя на него возбудительно, лишь охлаждали
последний жар в душе его и делали ее еще доступнее апатии.
Он как будто начинал уже сознавать, что поприще его кончено.
Чтобы избежать скуки, неизбежной при подобном состоянии,
Германик искал себе развлечения. Когда не занимала более
практическая деятельность, в нем всего сильнее говорила
любознательность. Египет, полный памятников древнего своего
величия, казалось, всего более в состоянии был удовлетворить
потребностям этого рода; к тому же он принадлежал к числу тех
областей, на которые распространялась власть Германика как
правителя. Предлогом поездки служили правительственные
заботы, хотя прямой целью было наглядное и потому ближайшее
знакомство с египетскими древностями*. Приняв это решение,
Германик явился в Египет без всякой пышности, даже без
обычной военной стражи, в сандалиях и в простой греческой одежде.
От города Канопа начал он свое странствование вверх по
Нилу, посетил развалины Фив, с любопытством слушал толкования
жрецов, которые по надписям изъяснили ему всю историю вели-
Ibid., с. 59: ... Aegyptum proficiscitur cognoscendae antiquitatis.
45*
228
Сочинения
кого Рамсеса, его походы и завоевания, видел знаменитую Мем-
нонову статую, тогда еще издававшую звуки, осмотрел
пирамиды, озеро, известное под именем Меридова 14, одним словом, все
чудеса Древнего Египта. Любознательность была удовлетворена.
Нельзя, впрочем, сказать, чтобы ничего не было сделано также
и для облегчения нужд народа. Одной из первых мер Германика
по прибытии в Египет было отворить для народного
продовольствия запасные житницы, чем значительно были понижены цены
на хлеб. Историк свидетельствует, что были и другие меры,
благодетельные для народа. Но действуя таким образом, Германпк
только давал против себя оружие своим врагам. В Риме хорошо
знали каждый его шаг, и каждый шаг готовы были сделать
предметом обвинения. Еще он только начинал свое плавание
по Нилу, как уже Тиберий, ссылаясь на одно старое
постановление Августа, в сильпых выражениях порицал перед сенатом
самовольное вступление племянника в Александрию. Не очень
лестный сюрприз ожидал Германика и по возвращении его в
Сирию: все его распоряжения относительно войска и городов
были или вовсе отменены, или заменены новыми — в духе
прямо противоположном. Понятно, чья рука могла подари гь его
такой приятной нечаянностью.
Вообще довольно уже было сделано, чтобы убить дух
человека: оставалось только позаботиться о теле. Дело не стало и за
последним. Спустя немного по возвращении из Египта Германии
опасно заболел. Никто не знал наверное о причине мучительной
болезпи, но молва народная, не обинуясь, приписывала ее
медлительному яду, будто бы данному Пизоном. То же самое
подозрение отравило и последние минуты цезаря. Умирая, он всего
более озабочен был тем, чтобы смерть не застигла его в
присутствии врага, и дал приказание Пизону немедленно удалиться
из пределов его провинции. Пизон не смел ослушаться, сел на
корабль, но, в надежде скоро возвратиться, вовсе не старался
ускорить его течение. Он не ошибся в расчете: через несколько
дней непритворные слезы всей провинции возвестили печальную
смерть правителя. Он умер, имея немного более тридцати лег
от роду. Это последнее обстоятельство, равно как и прекрасная
наружность Германика, наконец самая его участь, напоминали
многим Александра Македонского. Но, сравнивая их между
собою, римляне охотно отдавали преимущество своему герою.
И они не совсем были неправы, любя в нем более всего ею
благодушие при величии, его неизменную кротость и
снисходительность при сознании своих сил и достоинства.
Агриппине, оставшейся по смерти мужа с кучею детей,
казалось, было лишь самой до себя. Но и это несчастье, как оно
пи было велико, не поразило сильного духа римлянки. Самое
чувство потери, ею попрсрнногт, возбуждало ее к большей
самодеятельности. При жизни мужа, привыкнув покорять ему свою
Римские женщины
229
волю и вверяться его руководительству, теперь она сама
заступила его место по отношению к семье и па себя должна была
принять всю ответственность за нее. Агриппина не побоялась
пи долга, ни ответственности. В ее положении, как скоро оно
перестало быть пассивным, было много простора произволу и
личным страстям: и она действительно взялась со страстью за
мысль о том, чтобы не оставить памяти Германика без
отмщения. Как сильно тогда в ней говорила страсть, можно судить
уже по тому обстоятельству, что она. забыла даже последнюю
волю своего мужа, который, в предсмертной слабости, советовал
и ей смирить свой дух и не вступать в неровную борьбу с явно
враждующей им судьбой. Вопреки его прямому желанию,
Агриппина дождалась лишь того времени, когда труп его был сожжен,
и вместе с погребальной урной и детьми тотчас села па корабль,
чтобы ехать прямо в Рим и там. протестовать против козней
своих врагов. Пизоп выслал было за ней погоню, но
преследующие сами не располагали достаточными силами π должны были
воротиться, не исполнив своего намерения. В Риме между тем
общественное мнение было уже приготовлено к тому, чтобы
поддержать требования Агриппины. Смерть Германика произвела
в Риме несказанно грустное впечатление. Народ римский с жад-
постыо прислушивался ко всем вестям, которые приходили из
Сирии, и когда наконец не стало никакого сомнения в роковой
вести, почитатели Германика наперерыв спешили выразить сво«л
глубокое уважение к его памяти, изобретая в честь его одни гл
другими разные почести: впесенпе его имени в стихи Салиев,
курульное кресло между местами Августалиев, зрелища, арки
как в самом Риме, так и па берегах Рейна, надгробпый
памятник в Антпохии, множество статуй в разных пунктах империи,
и прочее. Когда потом стало известно в Риме, что Агрпппппа
о прахом своего мужа и с детьми едет в Италию, друзья покой-
пого, все те, которые некогда служили под его знаменами, и вслед
за ними многие другие, даже вовсе не знавшие его лично,
устремились навстречу ей к Брундизиуму, где она должна была
пристать к берегу. Только что корабль, на котором находилась
Агриппина, и другие суда, ее сопровождавшие, показались в
отдалении моря, как весь берег, пристань, даже городские стены
и кровли,— все покрылось любопытными, в недоумении
спрашивавшими друг друга — принять ли гостей молчанием или какими
восклицаниями *. Печальная флотилия медленно подвигалась
вперед; было что-то грустно-тяжелое в самом ходе ее. При
общем молчании сошла Агриппина па землю в сопровождении
детей, неся на руках погребальную урпу; но едва только она
остановилась и опустила к земле глаза, полные слез, как печаль
зрителей, доселе безмолвная, разрешилась в плач π рыдание.
* Ann. III, 1.
230
Сочинения
Смотря на урну, в которой заключены были последние остатки
Германика, не могли удержаться от слез даже и те, которые
пришли сюда, привлеченные лишь одним любопытством. От Брун-
дизиума началась печально-торжественная процессия,
направляясь отсюда к Риму. Сам Тиберий, уступая движению
всеобщего чувства, не мог отказать ему с своей стороны хотя в
наружном участии во всеобщей горести и нарочно отправил из
Рима две преторианские когорты для встречи праха Германика,
приказав в то же время всем чинам в Калабрии, Апулии и
Кампании отдавать ему на пути должные почести. Впрочем,
сочувствие всех классов народа к памяти любимого героя было
столько искренно, что даже предупреждало подобные распоряжения.
Во всех колониях, через которые лежал путь, всадники и
простые граждане в траурном одеянии выходили навстречу
процессии и сожигали фимиам и даже свои одежды в честь умершего.
Даже и те города, которые находились в некотором отдалении от
дороги, высылали от себя депутации или ставили алтари и зака-
лали жертвы ради его.
Рим волновался по мере приближения процессии, как если
бы в нем готовилось что-нибудь чрезвычайное. Консулы, сенат
и множество народа заранее вышли из города и заняли всю
дорогу. Тиберий не противился общему порыву, дал полную
свободу народному чувству как бы по сочувствию к нему, и только
сам не показывался между сетующими, не довольно полагаясь
на свое искусство лицемерия и боясь, чтобы из-под притворной
печали не заметили тайной радости. Тем смелее и откровеннее
были римляне в выражении своих собственных ощущений. День
похорон, когда прах Германика должен был занять назначенное
ему место в гробнице Августа, был особенно поразителен своей
немой торжественностью, которая потом перешла в неудержимое
рыдание. Улицы Рима были полны народа, Марсово поле блестело
погребальными огнями. Тогда без утайки сказалось настоящее
римское чувство, видевшее в смерти Германика погибель
лучших надежд государства. Воины, магистраты, простые граждане
говорили вслух, что закатилось солнце римского народа и что
ждать хорошего больше нечего. Но ничем Тиберий столько
уязвлен не был, как теми симпатиями, которые римляне так
гласно высказывали к Агриппине, называя ее украшением
отечества, истинным племенем Августа, единственным уцелевшим
образцом непорочности древних нравов, и воссылали обеты к
богам о том, чтобы потомство ее пережило другие роды*. Он
лучше, нежели кто-нибудь, мог понять, против кого направлены
были эти хвалы, публично воздаваемые жене Германика.
* Ibid., с. 4; decus patriae, solum Augusti sanguinem, unicum antiquitatis
spécimen appellarunt.
Римские женщины
281
Опираясь на симпатию народа, Агриппина шла верным путем
к своей цели. Уже в том участии, которое показали римляне к
памяти Германика, дали они залог и своей ненависти к врагам
его. Эдикт, которым Тиберий по окончании погребального
торжества призывал римлян к умеренности и спокойствию, мало или
вовсе не достиг своей цели. Однажды возбужденная страсть не
успокаивается одними словами. Недолго римляне терпеливо
выжидали случая, чтобы удовлетворить и другому своему чувству,
обращенному прямо против врагов Германика: прибытие в Рим
Кнея Пизона опять пробудило в них лишь по-видимому
уснувшую ненависть. Он явился сюда, чувствуя необходимость
очистить себя перед общественным мнением и не без надежды
найти себе опору и защиту в самом Тиберий, который мог упрекнуть
его разве за излишнюю поспешность в исполнении данных ему
поручений. Но всего более повредила Пизону его обычная
самонадеянность. Он ехал от Нарни рекою Тибром и имел
неблагоразумие или дерзость пристать к берегу в Риме против самой
гробницы Августа, где положен был прах Германика. Вслед за
ним шла многочисленная толпа его клиентов. Другую, веселую
толпу женщин вела за собой Планцина, вовсе не скрывавшая
своей радости. Все это происходило среди белого дня и при
большом стечении народа. Много едкой горечи накоплялось в душах
тех, которые были свидетелями этой наглости. Когда же в
заключение всего Пизон не устыдился праздновать свое возвращенио
роскошным и веселым пиром в своем собственном доме, которые
гордо возвышался над самым форумом, самые умеренные люди
не могли не оскорбиться, видя, как нагло этот человек издевался
над общим мнением, перед которым должен бы был
оправдываться. Мудрено ли, что сердца, в которых давно уже копилась
ненависть, загорались теперь новым желанием мести?
Обвинители не заставили себя долго ждать. При всем своем
расположении к обвиненному, Тиберий не мог остановить
процесса. Впрочем, он и сам наконец, кажется, понял необходимость
отступиться от своего тайного клиента, чтобы вместе с ним не
подвергнуть и свое собственное имя публичному нареканию.
Самоотвержение неизвестно было Тиберию ни под одним из своих
видов. Открывая речью заседание сената, в котором должно было
производиться дело Пизона, он старался сохранить тон
строжайшего беспристрастия; не забыл упомянуть о прежних заслугах
обвиненного, о доверенности к нему самого Августа, но показал
в то же время и всю важность взводимых на него обвинений и
в заключение требовал от сената строгого и внимательного
разбирательства. Тогда выступили обвинители. Один из них взял
предметом своих нападений преимущественно прежнюю
деятельность Пизона, когда еще он был легатом в Испании; трое других,
между ними с особенным успехом Вителлий, поддерживали
обвинения в подкупах и умышленном ослаблении дисциплины во вре-
232
Сочинения
мя управления Сирией и в смерти Германика посредством
отравы. Защитники Пизона пробовали отвечать обвинителям на все
пункты, но большей частью без особенного успеха. Его
злоупотребления по управлению провинцией, его недостойное поведение
в отношении к войску, наконец, его вражда и
недоброжелательство к Германику были слишком явны, чтобы самая искусная
защита могла истолковать их в хорошую сторону. Гораздо
счастливее были защитники относительно главного пункта обвинения.
Здесь в пользу их говорили многие обстоятельства, всего же
более недостаток прямой улики. Касательно способа отравления
сами обвинители не могли сказать ничего определенного. Но
судьи, уже предупрежденные против Пизона, были неумолимы.
Тиберий также пристал к ним в решительную минуту. Между
тем народ, собравшийся перед курией, с нетерпением ожидал
приговора и начинал волноваться. Наконец Пизон показался из
сената — в сопровождении трибуна преторианской когорты,
которого самое присутствие при обвиненном достаточно
свидетельствовало о близком его осуждении.
Еще, впрочем, окончательный приговор не последовал. План-
цина также была замешана в дело своего мужа и должна была
ожидать себе одинаковой участи. Сама она, пока еще у Пизопа
оставались некоторые надежды на добрый исход процесса, не
иначе хотела вести свое дело, как вместе с ним, и выражала
твердое желание разделить его участь, как бы она ни была
ужасна. Но под этой мнимой преданностью скрывалось малодушное
предательство. Планцина принадлежала уже к новому поколению
римлянок, в котором эгоизм заступил место прежней женской
добродетели. Когда дело Пизона приняло неблагоприятный оборот
и ей открывалась надежда прп ходатайстве жены Тиберия
выхлопотать себе прощение, она отказалась участвовать в процессе
мужа и объявила, что отделяет свою защиту. В крайнем
положении Пизона подобная измена была всего чувствительнее.
Известие об ней убило в нем всякое нравственное равновесие. В
неизвестности, позовут ли его еще к допросу, и не владея более
собой, он сам пришел в сенат, чтобы требовать себе правосудия.
Но там встретили его все неприязненпые лица: ему напоминали
его положение, как человека, который состоит под тяжким
обвинением, и заставили выслушать много сурового и горького.
Напрасно Пизон обращал глаза свои к Тиберию; он упорно молчал,
не выражая на лице своем ни гнева, ни сожаления. Тогда Пизоп
почувствовал, что он погублен. Жизнь потеряла для него всю
цену. Отведенный домой, он еще писал что-то, как бы
приготовляясь к защищению, но утром другого дня его нашли с
перерезанным горлом и подле него меч, который выпал у него из рук
в минуту смерти.
Агриппина пережила мпогими годами смерть Германика и
даже многих его гонителей. Враги мужа не оставили и ее в покое.
Римские женщины
233
Они не терпели ее не только как живой упрек своей нечистой
совести, но и как мать многочисленной семьи, которой назначено
было продлить собою род Августа, наконец, как женщину
непреклонно гордого духа, которого не сокрушили в ней самые
несчастия. Но напрасно искали они пятна в ее жизни, чтобы на
нем основать обвинение. Окруженная враждебными страстями
и предоставленная лишь самой себе, Агриппина в борьбе с ними
утратила много прежней простоты и скромности; особенно
нескромны были ее властолюбные притязания, которые выходили
наружу при всяком сколько-нибудь благоприятном
обстоятельстве; но она до конца сохранила непорочность своей женской
чести и умела избежать прикосновения порока, которым в ее
время страдала большая часть римского общества. Строго блюдя
свою женскую честь, она в то же время была верным щитом
безопасности своих детей, неусыпно храня в них будущих
наследников власти Августа. Даже изобретательная ненависть
Сеяна не нашла довольно верных средств к их погибели; ни
подкупом, ни обольщением нельзя было внести отравы в дом, где
хранила детей бдительная заботливость матери *. Тогда Сеян, мстя
Агриппине за бессилие своей собственной злобы, окружил ее
шпионами и доносчиками в надежде опутать ее своими сетями
и совершенно погубить злостным обвинением в преступных
замыслах против Тиберия. Тот, кто хотел погибели Агриппины, не
мог избрать более верного пути. Всесильному временщику тем
легче было исполнить свое намерение, что опо соответствовало
видам самого Тиберия. Долго боролась Агриппина против неуто-
мимейшего из своих врагов и раздражалась болезненно при виде
тех жертв, которые неукротимая злоба его беспрестанно вырывала
из круга ближайших ее приверженцев. Наконец, истощенная
неравной борьбой, изнуренная болезнью и полная душевного
огорчения и беспокойства за себя и за участь своих детей, она
победила на минуту свою гордость и однажды, когда Тиберий
вздумал навестить ее, обратилась прямо к нему, жалуясь на свое
одиночество и прося у него мужа — покровителя себе, отца своим
детям**. Просьба совершенно безукоризненная для римлянки:
Агриппина могла, нисколько не нарушая женского стыда,
высказать подобное желание, ибо римлянки гордились плодородием,
как своим лучшим украшением; однако Тиберий ничего не
сказал ей в ответ и вышел от нее, унося в душе тайное оскорбление.
И как было не оскорбиться Тиберию? Требуя себе другого мужа,
не напоминала ли ему Агриппина того, что он был виной
погибели первого? Тиберий умел только искусно скрывать свои
страсти, но не побеждать их в себе. Усиливавшиеся выражения на-
* Ann. IV, 12: neque spargi venenum in très filios (Agrippinae) poterat
(a Sejano) egregia custodum fide et pudicitia Agrippinae impenetrabili.
** Ibid. 53.
234 Сочинения
родной любви к Германику решили в нем и последние сомнения.
Неизвестно, вследствие какого именно обвинения Агриппина
осуждена была удалиться из Рима и отправиться на остров Пап·
датерию (insula Vandolina) в пожизненное заточение.
Четыре года провела Агриппина в своем печальном заточении.
Крепкая природа ее еще противилась разрушению. Но в душе
накопилось слишком много огорчения; Тиберий даже в изгнании
не переставал преследовать ее разными клеветами и жестокостя-
ми; между тем страсть, никогда вполне не удовлетворенная, не
давала ей покоя*15. В таком состоянии Агриппина решилась
добровольно отказаться от жизни и, как говорят, уморила себя
голодом—слух, под которым, впрочем, могло скрываться лишь новое
преступление самого Тиберия. Смерть Агриппины последовала
ровно через два года после того, как Сеян погиб в самых улицах
Рима жертвой подозрительности Тиберия и еще более народной
ненависти.
От простоты древних римских нравов перейдем к явлениям
новой римской жизни. Времена изменялись, но не к лучшему.
Все шире и шире раздвигалась тесная сфера старого семейного
быта, и римская женщина все больше и больше выдвигалась
вперед в жизни общественной и политической. Пусть бы она
выходила из прежней тесноты на всю широту новой общественности —
лишь бы выносила с собой и те качества, которыми справедливо
гордилась римлянка прежних времен. Но, как будто спеша
перейти черту, бывшую столько времени заповедной, женщина
позабыла захватить с собой свой женский стыд, или, обрадовавшись
свежести новой атмосферы, которой ей приходилось дышать
теперь, оставила его как ненужную вещь у порога. Жаль римскую
женщину: она оставила позади себя талисман своей чести и
своего женского достоинства. Ее чувству стало больше простора: но
не управляемое больше никаким связывающим началом и
увлекаемое общим ходом римской жизни, которая, ззятая в целом,
представляла тогда печальное явление разрушения общественной
нравственности, оно легко переходило в невоздержную страсть и потом
уже стремительно неслось по ее роковому склону к неизбежному
трагическому падению. Никогда женская страсть не возрастала до
таких страшных размеров, никогда падения не были так
поразительны своей ужасающей быстротой, своей роковой
неизбежностью. На место всего оставленного, забытого, презренного из
прежней жизни, утвердилось в этом разгаре страстей лишь одно
постоянное — эгоизм. Никогда действие этого червя не бывает
так тлетворно, как если он поселится в женском сердце: тогда
он подтачивает в самом корне те самые свойства, которые
составляют не просто лишь украшение женщины, но самую сущность
ее женственной природы. Впрочем, в том поколении, из которого
* См. Ann. VI, 25; ср. Suet. Tiber. 53.
Римские женщины 235
мы возьмем следующий наш пример, его последнее зло еще не
достигло крайней степени своего развития. Мы увидим женщину,
правда до безумия преданную своей страсти, но зато и
увлекающуюся ею до забвения всех корыстных расчетов.
Уже на Агриппине несколько отразилось влияние времени
и людей, среди которых она жила: строго храня чистоту своих
нравов, она, впрочем, как и многие другие члены Августова дома,
неачужда была страсти и, особенно по смерти своего мужа, может
быть, давала ей слишком много власти над собой. Но глубокая
преданность мужу, нежная любовь к детям, твердость и
постоянство в самых трудных обстоятельствах жизни ставят Агриппину
выше нареканий. Гораздо слабее и потому восприимчивее к
недостаткам времени были ее современницы. Планцина, без
сомнения, не одна в своем поколении так легко бросалась в самую
черную интригу и всеми возможными средствами помогала
запутывать ее ненавистный узел. Но господствующий порок времени
был иного рода: настоящая язва, которой заразились в то время
почти все слои римского общества, было необузданное
сладострастие. До того дошло, что в самый год смерти Германика, к стыду
великой империи, сенат нашелся принужденным издать декрет,
воспрещавший постыдный промысел телом и женской красотой
тем, по крайней мере, у которых дед, отец или муж был
римским всадником*. Был к тому и ближайший повод, как
показывает историк: одна женщина по имени Вистилия, довольно
хорошего происхождения, явившись к эдилам, не устыдилась
объявить свое ремесло и просить о том, чтобы имя ее было записано
между содержательницами публичных домов в Риме. Сенат
устыдился бесстыдства римской гражданки: но его воспретительные
эдикты могли ли остановить распространение зла, когда оно уже
пустило глубокие корни в римском обществе?
Нельзя не пожалеть много о потерях тех книг Тацита 16, в
которых содержалась история первого Тибериева преемника, Кая
Калигулы: из них, конечно, нам виднее была бы
последовательность тех успехов, которые разврат с каждым поколением делал
в римском обществе, усваивавшем себе одни за другими все его
привычки и наклонности. В подтверждение же того, что при
Калигуле он точно сделал ужасающие успехи между римлянами,
ссылаемся на Светония 17. Две небольшие главы, посвященные им
короткой переписи тех жертв, которые недостойный сын
Германика принес своему сладострастию, достаточно показывают, что
даже кровные узы не были более надежным щитом против
развратных наклонностей **. Калигула был женат: но биограф
положительно утверждает, что сверх законной жены у него было
еще столько же жен, сколько родных сестер. Нередко видали их
* Ann. II, 85; ne quaestum corpore faceret, cui avus aut pater aut maritus
equus romanus fuisset.
** Suet. Calig. 24, 25.
236
Сочинения
всех вместе, возлежащих на пиршестве в присутствии той,
которая одна имела право называть их брата своим мужем. Все знали,
кроме того, что той же позорной чести удостаивались от
Калигулы и некоторые чужие жены, между ними — одна мать семейства,
и, однако, ни из чего не видно, чтобы именно это поведение
возбудило против него негодование рпмляп! Впрочем, как и было
негодовать против разврата тем, которые сами были ему не чужды?
Зато в следующей же своей кпиге Тацит переносит нас в
самый ныл женской страсти, поставленной рядом с совершенной
бесхарактерностью. Мессалина, третья жепа Клавдия, младшего
брата Германика, была еще в цвете лет, когда старшей
Агриппины уже не было более на свете. Женщина, как бы вся
сложенная из порывов и увлечений, она жила только страстью. Но
крайней мере, в том периоде своей жизни, который сохранился
для истории, она не знала ни одной свободной от страсти
минуты. Ее инстинкты были более женские, нежели те, какие
преобладали в Агриппине; менее доступная обольщению
властолюбия, она зато еще менее имела власти над собой и охотнее,
беззаветнее отдавалась первым движениям сердца, потребностям
своего женского чувства; мстить своему личному врагу или кто
только казался ей таким, преследовать его обвинениями и потом
тронуться до слез красноречивым его оправданием, в ней не было
противоречием. Если в душе Мессалины всегда было место
женской ревности и ее неизбежным спутником—- ненависти и
мстительности, то в груди ее билось также и горячее сердце,
способное к любви и всей ее преданности. Почему знать? Среди
обстоятельств более благоприятных, под руководством истинно добрых
начал этот сердечный жар, может быть, даже и в Мессалине но
пропал бы даром и самая страстность ее природы послужила бы
для благородных и возвышенпых целей. Но поставленная среди
общества, в котором потеряли свою силу первые, основные
правила житейской нравственности, могла ли она, как женщина, не
увлечься общим стремлением, когда почти единственными
руководителями ее оставались инстинкты ее страстной природы?
Когда во мнении большинства и жизнь ценилась более всего по меро
тех средств, которые она давала для удовлетворения личной
страсти человека?
Самые первые строки тацитовского рассказа, сколько
относится его к Мессалине, уже показывают вам ее в том состоянии,
в котором все действия человека мотивируются лишь сильной
страстью. На этот раз жена Клавдия движима была, как
кажется, всего более женской ревностью и вслед за нею еще одним
завистливым чувством. Впрочем, не ясно — был ли Валерий
Азиатский за связи свои с Поппеей Сабиной настоящим
предметом ее ревности, или она хотела употребить его только как
орудие, чтобы вернее погубить ненавистную ей Поппею и йотом,
погубив и его вместе с нею, тем удобнее овладеть его велнколен-
Римские женщины
237
ными садами, наследованными им еще от Лукулла и
составлявшими предмет удивления римлян*. Как бы то ни было,
Мессалина, не привыкшая обуздывать своих чувств, нашла людей,
которые взялись быть обвинителями Валерия и Поппеи. Так упали
тогда римские нравы, что за доносчиками, готовыми на
обвинения всякого рода, дело не становилось: они являлись по первому
зову. Валерий, схваченный у Баий, в оковах был привезен в Рим.
Устранив участие сената в этом деле, Клавдий потребовал
обвиненного прямо к себе на лицо. Здесь, в присутствии Мессалины
и с глазу на глаз с своим обвинителем, Валерий должен был
защищать свое доброе имя. Защита много еще затруднялась тем,
что частная жизнь обвиненного вовсе не была безукоризненна.
Но Валерий как будто вдохновился наглостью своего противника,
который в своих обвинениях перешел всякую меру. Слушая его
оправдание, Мессалина до того увлеклась своим чувством, что не
могла удержаться от слез. Впрочем, эта природная мягкость
сердца была бесполезна, когда уже развращена была самая мысль.
Ненадолго уступила Мессалина силе своего нового чувства,
которое овладело было ею против ее воли. Едва вышедши в другую
комнату, чтобы смыть с глаз следы невольных слез, она уж
снова думала о том, как бы Валерий не ушел от ее рук, и в этом
смысле делала новые распоряжения. К счастью, впрочем,
Валерию нашелся нечаянный защитник в лице того самого Вителлия,
которому она поручила во время своего отсутствия настаивать на
его осуждении. К тому же Клавдий, и сам тронутый не менее
Мессалины личным оправданием обвиненного, наперед уже
расположен был на милость. Все это, правда, не спасло совершенно
Валерия; но по крайней мере ему самому предоставлено было
избрать себе род смерти — дар, которым особенно дорожили
римляне в эпоху стольких произвольных опал, когда о безопасности
жизни не могло быть более и речи. Что же касается до Поппеи,
то об ней позаботилась сама Мессалина, взявшая на себя лично
навсегда устроить ее участь. Без всяких насилий, лишь одними
внушениями страха она так умела подействовать на свою
соперницу, что та, сберегая себе преимущество, предоставленное
Валерию милостью Клавдия, спешила наложить на себя руки.
До слуха Клавдия не достигло даже известие об ее смерти.
Через несколько дней, угощая у себя Публия Сципиона, мужа
Ногтей, он очень наивно спросил своего гостя, отчего же нет
с ним жены его. Публий, разумеется, отвечал, что ее нет более
в живых. Этого было достаточно для Клавдия: узнавши причину
отсутствия Поппеи, он успокоился.
Стоило только начать — продолжать же в начатом
направлении и мало-помалу получить к нему навык было уже просто для
того, кто сделал первый решительный шаг. И Мессалина дейст-
* Ann. XI, 1.
238
Сочинения
вительно преуспевала в своих ненавистях — не столько по злобе,
сколько по безграничному женскому легкомыслию. Благодаря
сердечной тупости своего мужа, одинаково бесчувственного к
добру и злу, она могла свирепствовать с полной свободой. Ей стоило
указать жертву, и наемный обвинитель всегда готов был
услужить ей своими черными клеветами, а бесчувственность Клавдия
делала возможным успех самого невероятного обвинения. Но в
сердце Мессалины еще не убита была потребность иного, более
животворного чувства. Бе ненависти исчезали вместе с жертвами,
которые им были обречены: они были как будто лишь
временным развлечением для ее сердца, пока оно не занялось одним
глубоким и постоянным чувством, которое не оставляло более
места другому. Была, одним словом, даже и в этом испорчепном
сердце потребность любви. К несчастью, между всеми членами
Августова дома Клавдий едва ли не менее всех способен был
пе только что внушить любовь, но даже привязать к себе
женское сердце. Человек, вовсе нелишенный правильного смысла,
он, впрочем, никогда не умел сделать из него настоящего
практического употребления и всегда был ниже и обстоятельств и
людей, его окружавших. Натура самого неэнергического свойства;
в ней как будто спали глубоким, непробудным сном все
душевные силы. Недаром мать Клавдия, сама стыдясь своего сына,
говорила о нем, как об уродливом недоноске, над которым
природа не успела докончить своего дела *. Встречала ли опа
человека очень глупого от природы, она не находила для него
лучшего сравнения, как с сыном своим Клавдием. Не то чтобы
тупоумие было в самом деле природным его недостатком: но в нем
было такое отсутствие воли, такая неподвижность чувства, что
и самый ум его, как сила без орудия, приводящего ее в
движение, оставался вовсе не деятельным. В то время как
практическая жизнь требовала всего внимания Клавдия, он старался
занять невольную праздность своего ума антикварными
исследованиями. Говорим это не в оправдание Мессалине, а в
объяснение ее постоянной холодности к Клавдию.
Вдруг, оторвавшись от всех своих непавистей, загорелась она
пожирающим огнем одной неодолимой страсти. Предметом этой
страсти был некто Силий, краса молодого поколения римлян, сын
консула Силия, и сам уже имевший виды на то же самое
достоинство. Как и Мессалина, Силий также был связан брачнымп
узами и, однако, не устоял против ее огненных глаз**18. Между
ними скоро образовалась полная взаимность чувств. После того
страсть Мессалины возрастала с ужасающей силой; она
доходила до неистовства, до безумия. Не было больше места ни
чувству приличия, ни даже страху опасности. И мысль, и чувство, все
* Suet. CJaud., с. 3.
ï* Juven. Χ, 331: extinguendus Messalinae oculis.
Римские женщины 239
заключилось в одном желании — во что бы то ни стало овладеть
предметом страсти. На Клавдия смотрели как на человека
совершенно постороннего, лучше сказать, об нем как будто забыли и
думать. Гораздо более серьезным препятствием к преступной
связи любовников казалась Юния Силана, жена Силия,
происходившая также от значительного рода. Связанный по рукам и
по ногам страстью Мессалины, Силий не задумался пожертвовать
ей своей женой: получив разводную, Юния принуждена была
оставить дом своего мужа. Цель была достигнута, но жар
Мессалины и после того нисколько не охладел. Напротив, она как
будто приняла одуряющего напитка и в чаду своего любовного
упоения забыла целый свет. Ее не смущала более никакая
гласность; что думали, что говорили в Риме об ее отношениях к Си-
лию, ей было все равно. Еще Силий думал иногда о будущем:
в молодой душе его страсть еще- не убила всех порывов
честолюбия. При всем своем увлечении он не терял надежды спасти
свою репутацию и даже укрыться от ревности Клавдия, и для
того желал сохранить в тайне связь свою с Мессалиной.
Расчеты мужского честолюбия, непонятные для страсти женщины.
Вместо того чтобы скрывать свое чувство, Мессалина, как бы
намеренно, как бы гордясь им, выставляла его наружу. Она то и
дело навещала Силия в его доме, входила в него не тайно, не
украдкой, но в сопровождении большой свиты или, не обращая
внимания на проходящих, долго стояла у входа в ожидании, когда он
покажется. Наконец в доме Силия показались рабы, отпущенники,
даже самая утварь Клавдия. Мессалина показывала
решительное намерение мало-помалу переместиться сюда со всем своим
хозяйством; лишь своего мужа, как ненужную утварь, оставляла
она у себя дома...
Весь Рим толковал о похождениях Мессалины; один только
Клавдий ничего не знал о своем семейном позоре. Но рано или
поздно весть должна была дойти и до его косного слуха.
Естественно, что каждый приходивший день приближал наступление
этой роковой минуты. О Клавдии же было общее мнение, что
при всей своей непредусмотрительности и видимой апатии он,
однако, бывает раздражителен и скор в своем гневе. Виновным,
каково бы впрочем ни было их ослепление, нельзя было не
подумать о возможных следствиях этого гнева. Силий опомнился
первый от страстного опьянения, как бы почуяв, что смерть
висит у него над головой. Пора было позаботиться и о своей
безопасности. Жизнь еще не успела внушить ему отвращения к себе,
как другим его современникам: он был молод и хотел жить.
Между тем оба они зашли уже так далеко, что возвращаться
назад было поздно. Преступление совершилось, и нельзя было
заставить всех забыть самую память о нем; тому, кто хотел
укрыть свою голову от неминуемой кары, оставалось разве искать
выхода в новом преступлении. Таким образом, одно преступное
uo
Сочинения
дело неизбежио вело к другому. В голове Сшшя действительно
составился обширный план, посредством которого он надеялся
не только предупредить гнев Клавдия и возможные его
следствия, но и употребить в свою пользу самое его неведение. Он
положил, конечно не без совета и согласия лиц, принимавших в
нем участие, немедленно вступить в формальный брак с
Мессалиной*. Разумеется, было бы сущей нелепостью думать, чю
Клавдий, испуганный этим браком, добровольно отступится о г
своей жены; но предприятие тем и не ограничивалось. Главная
цель Силия состояла в том, чтобы, заключив брак с Мессалино/т
и усыновив себе сына ее Британника, вступить не только в отцоь-
ские права Клавдия, но и в права самой его власти. Хотя
историк и не договаривает, очевидно, впрочем, что тут был целы Γι
заговор. Какую собственно участь готовили Клавдию, неизвестно
за верное; но едва ли может быть сомнение в том, что она была
бы весьма незавидная. Мессалина очень неохотно вошла в видч
Силия: власть никогда не составляла для нее особенной
прелести, а между тем присоединялась еще боязнь, чтобы он, дости -
нув чрез нее желаемого, потом не стал смотреть на нее иным ι
глазами и наконец вовсе не оттолкнул бы ее от себя, как орудии,
более для него ненужное. В то время как Силий мечтал уже о
возвышении, о власти, Мессалина все еще оставалась верпа своей
прежней страсти и ее увлечению. Одно только привлекло ее в
предложении Силия: это возможность назваться его женой. Он-л
так желала наперекор общему мнепию везде являться гласно с
именем того, кого обыкновенно уличали в преступных связяч
с ней; ей, наконец, нравилась самая «великость той дурной
репутации», которую она должна была составить себе подобным
поступком**. Дая^е и тут нашло себе пищу женское тщеславии!
Первая часть условленного плана скоро приведена была в
исполнение. Для этого воспользовались поездкой Клавдия в Ости к ч
куда он отправился частью ради некоторых государственны ;
нужд, частью для своего собственного развлечения. Совершило< <>
дело невероятное, хотя исторически вполне достоверное: в
назначенный день супруга цезаря в присутствии свидетелей подписала
брачный контракт с молодым римлянином, который недавно еы.о
развелся с своей жепой, исполнила все обряды, употребительные
в подобных случаях, принесла π обычную жертву богам; затем,
по обыкновению, последовало брачное пиршество; гости
веселились, новобрачные обнимались и целовались; одним словом,
праздновалась свадьба, и Гименею предоставлены были все права его.
И все это происходило в большом городе, где не укрывалась ни
одна домашняя тайна и где тысячи праздных языков всегда
готовы были огласить каждый сколько-нибудь нескромный поступок!
* Ann. XI, 26.
** Ibid.: ob magnitudinem infamiao.
Римскис Direнщ ины
24Г
Смятение и ужас овладели двором цезаря, когда стоустая
молва донесла до него весть о новом преступлении Мессалины.
Боялись, впрочем, вовсе не за Клавдия, который продолжал
отсутствовать, беспокоились не за честь его, так нагло
оскорбленную,— смущались каждый за свою личную безопасность,
предугадывая, чем может разрешиться вся эта фатальная история.
Вообще современникам Мессалины и Силия знакомы были многие
чувства, только не чувство благородного негодования. Более всех
встревожены были временщики-отпущенники: Каллист, Нарцисс
и Паллас, которые ничем столько не дорожили, как своей
дешевой властью. Они знали лучше других слабость Клавдия, знали
ту обаятельную силу, какую оказывал на него один взгляд
Мессалины, и приходили в уныпие при мысли, что эта сила может
уничтожить в нем действие самого гнева. Хорошо, если бы им
удалось, предупредив Мессалину, так очернить ее в глазах
Клавдия, что он согласился бы заочно произнести над пей осуждение.
Но что если он захочет выслушать ее оправдание, что если она
победит его самым своим признанием? И не сочтены ли уже
наперед те жертвы, которые она в таком случае неминуемо
принесет своей мстительности? '
Поразительное извращение обыкновенного хода человеческих
чувств! Одпп, чтобы загладить свою вину, стараются придать ей
как можно большие размеры; другие, их недоброжелатели, вместо
того, чтобы ободриться после такого промаха с противной
стороны, приходят в уныние и до такой степени падают духом, чтэ
боятся не устоять в борьбе с отъявленпым преступлением!
Нужно было глубоко пасть вере в человека и в его нравственное
достоинство, чтобы возможны были подобные явления.
В таком состоянии Каллист, Нарцисс и Паллас сошлись па
общий совет. Каждый подавал свое мнение, но видно было, что
страх был их главным и общим советником. Наконец одобрен
был план действий, предложенный Нарциссом, который более
всех советовал быть осторожвьшп. Положено было, не
возмущая ни одним словом покоя беспечной Мессалины, втайне
действовать через двух наложниц Клавдия, Кальпурнию и Клеопатру,
которые особенно умели угождать его сладострастию. Подарками
и разными обещаниями легко склонили их принять на себя роль
доносчиц и немедленно отправиться в Остию. Обе они вместе
представились Клавдию, вовсе не приготовленному к их приезду.
Кальпурпия, бросившись к погам его, первая обнаружила тайну
своим восклицанием. Потом, обратившись к Клеопатре, она
требовала от нее подтверждения своих слов. Та, конечно, не
затруднилась уверить Клавдия со своей стороны в истинности
сделанного показания. Позванный затем Нарцисс, как бы желая снять
с себя ответственность, начал извинением, что выводил наружу
прежних неверностей Мессалины; он не стал бы оглашать и
последнего ее поступка, если бы обстоятельства не были самые
16 П. Н. Кудрявцев
242
Сочинения
крайние. Знаешь ли, что делается в городе? — сказал он наконец
Клавдию, вероятно заметив его нерешительность. Если ты не
^поспешишь, Рим будет во власти Силия. Были позваны и другие
довереннейшие советники цезаря, между ними. Гета, начальник
преторианских когорт: все в один голос подтверждали
привезенное известие, все наперерыв заклинали Клавдия, чтобы он
спешил к войску и старался удержать за собой преторианцев;
нечего думать о мщении: наперед еще надобно было позаботиться
о безопасности. Клавдий совсем потерял голову. Обращаясь то
к тому, то к другому, он спрашивал в испуге, да кто же в самом
деле властвует в Риме, он или Силий? Положение было вовсе
не по силам Клавдия; растерявшись мыслями, он во множестве
советников оставался совершенно бессоветпым. В подобных
случаях ему нужен был не совет, а чужая, более крепкая воля на
подставку его нравственной беспомощности; нужно было, чтобы
яа него не только думали, но и решали. Нарцисс понял, что
надобно было спешить действовать, или другие в свою пользу
овладеют слабой волей цезаря. Имея причины не доверять Гете,
которого честность казалась ему сомнительной, он представил
Клавдию необходимость передать власть его, по крайней мере
на один день, кому-нибудь из отпущенников. Разумеется, что
при этом случае он не забыл предложить свои собственные
услуги. Клавдий был рад предложению: оно избавляло его от
тягостной необходимости самому делать распоряжения, для которых
у него не было достаточно решимости. Уполномочивая Нарцисса,
он слагал на него всю ответственность за свою безопасность. Но
Нарцисс все еще не был уверен в своей победе. Он очень верно
рассчитывал, что, как легко было ему получить согласие Клавдия,
так же легко оно могло быть и потеряно. Слабая воля этого
человека не представляла никаких верных ручательств за твердость
одного принятого решения: она обыкновенно склонялась из одной
стороны в другую, смотря по тому, какое влияние перевешивало.
Клавдий отправлялся из Остии не один: вместе с ним сели еще
двое спутников, в том числе Вителлий, также пользовавшийся
некоторым его доверием и особенно не безопасный по прежним
своим связям с Мессалиной. Этого довольно было для Нарцисса,
чтобы потребовать и себе места между спутниками цезаря: Клавдий
не противоречил, и наглый отпущенник, поместившись подле него,
имел полную возможность наблюдать за ним во все продолжение
пути и противодействовать всякому другому внушению.
В Риме между тем мало заботились о том, что происходило
в Остии. Ничего не подозревая о тайных распоряжениях
Нарцисса и обольщенные наружным спокойствием города, двора и
войска, Силий и Мессалина вовсе не торопились исполнением
второй части своего плана и, как если бы уже их новое положение
.было вполне обеспечено, продолжали разными увеселениями тор-
Римские женщины
24$
жествовать радостное событие своего несбыточного брака.
Мессалина особенно: как бы почувствовав себя в своей сфере,
совершенно довольная своим настоящим, она отложила все заботы о
будущем и предалась полной беспечности. Наступившая осень
представила ей прекрасный случай отпраздновать у себя дома,
вместе со всем избранным, обычный праздник собирания
винограда. Ничего не пожалели, чтобы праздник сделать как можно,
светлее и упоительнее. Винограду был собран большой запас;.
спеЛые грозди, только что нарезанные, шли прямо под жом, и
молодое вино лилось из-под него в большие чаны. Вокруг, как
бы около Вакхова алтаря, скакали исступленные вакханки, едва
прикрыв звериными кожами свою природную наготу; сама
Мессалина, с распущенными волосами и потрясая тирсом, скакала
вместе с ними; Силий, с головой, повитой плющом, как бы
заступал место самого Вакха. Неистовый. вакхический хор гремел все·
время и своими звуками поддерживал сладострастное
раздражение. Одним словом, вакхическому упоению дан был полный
простор. Никакое злое предчувствие не приходило смущать гостей
Мессалины среди веселого разгула. Лишь об одном из
присутствовавших рассказывали после, будто он в хмельном чаду
взобрался на самую вершину высокого дерева и, когда его спрашивали,,
не видно ли ему чего сверху, сказал в ответ, что со стороны
Остии поднимается грозная туча: сказание, очевидно
сложившееся в устах народа, который, толкуя трагическое событие,
прежде всего ищет ему предзнаменования.
Но беды, настоящей беды было не миновать беспечным. Она
продолжала надвигать от Остии, не дожидаясь, когда возвестят
о ней предзнаменования. Еще, может быть, не у всех, бывших
на празднике Мессалины, простыли головы от вакхического жара,
как из Остии пришли несомненные вести, что Клавдий знает все
и сам едет в Рим, готовя страшное мщение за свою поруганную
честь. Как будто громовая стрела упала между виновными:
повинуясь первому побуждению, они спешили разойтись в разные
стороны. Мессалина удалилась в Лукулловы сады, доставшиеся
ей после Валерия; Силий, подавив в себе внутренний страх,
возвратился к своим должностным занятиям. О сопротивлении не
было более речи. Мессалина, впрочем, не долго оставалась под
первым впечатлением. Любовь к жизни оказалась в ней сильнее
самого страха. Она вспомнила слабость Клавдия, вспомнила, как
обаятельно действовала на него красота ее, и в ней возродилась
надежда не только на жизнь, но, может быть, и на прежнее
счастье, довольство и независимость. Вместе с надеждой явилось
в ней и нетерпение. Чем ждать идущую грозу в городе, она
решилась лучше предупредить ее, взглянуть ей прямо в лицо и
может быть, заклясть ее своим обольстительным взглядом.
Мессалина, одним словом, решилась выехать навстречу Клавдию..
Вслед за собой она приказала вывести и своих детей, Британника
16*
244
Сочинения
и Октавию: они должны были броситься в объятия отцу и
тронуть его сердце детской нежностью. На случай же, если бы и это
средство не помогло, она имела еще в запасе содействие Вибидии,
старейшей весталки, которая, уступая ее просьбам, согласилась
поддерживать ее своим авторитетом и просить Клавдия, как
великого первосвященника, о снисхождении к виновной.
Сделав все нужные распоряжения, Мессалина снарядилась в
дорогу. Пешком, лишь в сопровождении трех человек, прошла
она весь город и только у Остийской заставы села на простую
телегу, па какой обыкновенно вывозили сор из садов. Никто,
однако, не напутствовал ее сожалением, потому что даже
римские понятия того времени не могли помириться с подобными
правами. Между тем Клавдий был уже недалеко от Рима. Как
только показался поезд, Мессалина с воплями устремилась вперед,
прося, чтобы выслушали мать Британника и Октавии. Никому не
было так неприятно это неожиданное явление, как тому смелому
отпущеннику, который успел уже захватить в свои руки цезаря.
Он понял, что одна минута могла испортить все дело, и решился,
во что бы то ни стало, стать стеной между Клавдием и женой
его. Едва только вопли ее начали доходить до слуха цезаря, как
Нарцисс прервал молчание и напомнил ему, что Мессалина —
жена Силия. Вслед за тем, чтобы совершенно отвлечь от нее
внимание мужа, он вручил ему несколько записочек, в которых
тот мог прочесть целую историю прежних ее связей. Овладев
вниманием Клавдия, Нарцисс легко устранил Мессалину. После
того ему уже не стоило труда заглушить и все прочие голоса,
которые должны были говорить в ее пользу. Когда, при самом
въезде Клавдия в город, вынесли было к нему навстречу детей
его, Нарцисс распорядился, чтобы они немедленно были
удалены. Не посмел он, правда, отогнать Вибидию, когда она
приступила с требованием, чтобы муж не обрекал жены на казнь, не
выслушав наперед ее оправдания: в результате, впрочем, и эта
попытка оказалась столько же безуспешной, как и прежние.
Выслушав весталку, Нарцисс поспешил уверить ее, что цезарь
никак не оставит дела без рассмотрения и что виновным открыты
будут все средства защиты, и просил ее в этой уверенности
мирно возвратиться к своим священным обязанностям. И Вибидия
не могла требовать большего удовлетворения.
Любопытно, однако, знать, что же делал все это время
Клавдий? — Клавдий ничего не делал, даже не говорил: он продолжал
молчать*. И что было ему делать и говорить, когда другие
взялись служить ему и волей и языком? Конечно, было бы гораздо
лучше, если бы он мог хотя занять чужую волю, за недостатком
своей собственной, и все-таки говорить своим языком. Но, к
несчастью, недостаток был невосполним, и Клавдий, за отсутствием
* Ann. XI, 35: mirum inter haec silentium Claudii.
Римские женщины
245
собственной воли, по необходимости принужден был
довольствоваться и чужой речью, т. е. отдать другому самого себя в полнее
распоряжение.
Повелевая sa цезаря, Нарцисс в самом деле распоряжался и
им самим. Клавдий не имел органа и на то, чтобы хотя за собою
лично сохранить право свободного, т. е. совершенно
произвольного движения: он сам двигался по тому направлению, какое
указывала ему воля уполномоченного им отпущенника. Не мевое
безучастным зрителем оставался он и по прибытии в город.
Тотчас же по приезде в Рим Нарцисс распорядился, чтобы дом Си-
лия был подвергнут формальному осмотру, и вслед за собой
приказал ввести туда самого Клавдия. Искали улики Силию или
хотя предлога к обвинению его в оскорблении величества: этим
путем можно было погубить римлянина всего вернее. При
твердом намерении осмотрщиков найти желаемое нельзя было
сомневаться в успехе поисков. Для этого даже не нужно было
далеко простираться во внутренность дома: стоило только войти в
него, чтобы увидеть там, в самом атриуме, пескрытый бюст Сл-
лиева отца, прежнего домохозяина, который, по несчастью, был
осужден в свое время сенатским приговором, вследствие чего и
все его изображения считались воспрещенными. Прекрасный
случай взвести на голову нового владельца дома самое ужасное из
римских обвинений. Осмелившийся утаить у себя изображение
преступника сам подвергался одинаковому с ним осуждепию.
Никто, разумеется, не подумал при этом о сыновнем чувстве
Силия, которое налагало на него священную обязанность беречь,
даже с опасностью собственной жизни, изображение отца, хотя
и осужденного законом. Задетый, может быть, за самую
чувствительную струну, Силий не скрыл своего пегодования и увлекся
им до такой степени, что, забывши всю беззащитность своего
положения, позволил себе даже угрожать своим обвинителям.
Нарцисс как будто только того и ждал: по его приказанию Силвй
тотчас был выведен к преторианцам, которые уже собрались на
зов своего импровизованного предводителя, и, без сомнения,
представлен им как возмутитель порядка и враг общественного
спокойствия. Обвиненный пробовал было говорить в свою защиту,
по его скоро прервали неистовые крики когорт, которые хотели
знать имена всех виновных и требовали им немедленной казни.
Тогда Силий понял, что ему не сносить своей головы, и,
позванный к трибуналу, вместо всякого оправдания просил только
скорой смерти себе. Нет нужды говорить, что желанию его
удовлетворили без всякого затруднения. Затем последовали казни всех
мнимых или истинных участников Силиева заговора. Часто среди
допросов произносилось имя Мессалины, и всякое новое
показание лишь увеличивало какой-нибудь новой чертой летопись
позорных дел ее; видно было, что весь женский стыд принесен был
•ею в жертву пеобуздапному сладострастию. Из обвиненных уце-
246
Сочинения
лели лишь очень немногие: одним была дарована жизнь во
уважение заслуг их именитых родичей, другим —за то бесстыдство,.
с которым они сознавались в растлении своей природы и в
неспособности к начинаниям, требующим сил мужеских *.
Вместе с немногими, уцелевшими от насильственной смерти,.
Мессалина также продолжала носить свою голову на плечах:
казня других, Нарцисс еще не решился наложить на нее своих
рук. Но это жалкое бытие не озарял более никакой луч отрады.
Заключившись в роскошных Лукулловых садах, как в последнею
своем убежище, Мессалина сгорала медленным огнем,
беспрестанно волнуемая разнообразными ощущениями, переходя то и
дело от страха к отчаянию и от отчаяния к припадкам
бессильного гнева. Дух ее, потрясенный тревогой последних
происшествий, истерзанный частыми и крутыми переходами из одного
напряженного состояния в другое, был убит до изнеможения;
прежней гордости не осталось в ней и следа. Но чем больше
изнемогал дух, тем сильнее привязывалась она к жизни. Из самого
безысходного мрака отчаяния опять пробивалась надежда,
пробуждаемая любовью к жизни, поддерживаемая мыслью об известной
бесхарактерности Клавдия. Мессалина еще думала тронуть,
разжалобить его своими слезными молениями п, может быть, даже
обратить обвинение на голову самого обвинителя. И нельзя
сказать, чтобы не было никакой вероятности, что последние расчеты
ее еще могут осуществиться. Правда, что Клавдий, возвратившись
домой после казней и подогрев себя после сытного стола
хорошим вином, нашел в себе довольно мужества, чтобы послать
приказание «этой несчастной» явиться на другой день к допросу.
Но едва только он произнес свое приказание, как вместе со
звуками смолк и самый гнев его, и в слабом сердце опять
заговорила привычка любви. Клавдий не имел обычая долго
выдерживать борьбу с самим собой. Между тем наступала
соблазнительная темнота ночи, и вместе с нею пробуждавшиеся
воспоминания все живее и живее говорили воображению, рисуя перед
ним сладострастные образы прошедшего, которые воротить было
еще во власти цезаря. До рассвета другого дня многое еще
могло бы измениться в мыслях Клавдия, и никто бы, конечно, на
поручился, что вместо Мессалины не будет позван к допросу ее
непримиримый обвинитель.
Нарциссу лучше было знать, нежели кому-нибудь из
окружавших Клавдия, какие возможны были в нем перемены.
Надобно было позаботиться столько же об нем, сколько и о себе.
Нарцисс начал понимать возможность разделения соединенных волей
и решился взять на себя одного всю ответственность. Ничего не
давая знать Клавдию и действуя лишь его именем, он позвал
к себе одного трибуна и велел ему, взяв с собой несколько цен-
* ШсЦ с. 36.
Римские женщины
247
турионов, немедленно идти и покончить с Мессалиной.
Отпущенник Эвод, данный им в проводники, взялся исправить и
должность палача. Опережая своих спутников, он, под
прикрытием ночи, никем не замеченный, прокрался в убежище
Мессалины, но скоро остановился в недоумении, видя ее лежащую в
изнеможении у ног матери. Происходила последняя томительная
борьба — не жизни с смертью, но гордости и чувства чести с
остатками привязанности к жизни. Лепида — так называлась мать
Мессалины — принадлежала к старому поколению римлянок, в
котором по крайней мере было еще довольно гордости и
мужества, чтобы искать себе выхода в добровольной смерти, когда
жизнь теряла для них свою цену или не была более в
безопасности от насилия. Не вынося позора и страданий своей дочери,
она старалась внушить ее измученному сердцу последнюю
мужественную решимость, которая одна только и оставалась ей
в отвращение насильственного удара со сторопы. «Ты отжила
свои дни,— говорила она Мессалине,— спаси себе по крайней
мере честь смерти»19. Но в порывах страстей, из которых
сложилась вся жизнь Мессалины, невозвратно утратилась всякая
душевная энергия. Напрасны были слезы и убеждения матера;
напрасно она сама старалась превозмочь в себе упорную
привязанность к жизни: ее бесплодные усилия лишь повергали ее
в новое раздражение, которое оканчивалось совершенным
истощением сил и болезненным стоном. Вдруг громко застучали у
дверей, и прежде чем мать и дочь успели прийти в себя от
зловещего ужаса, трибун, посланный Нарциссом, как вестник смерти,
молча стоял у порога. Появление его развязало язык и Эводу:
<5 бранью и ругательствами готовился он цриступить к своему
делу. Мессалина поняла свой приговор. Ввиду неизбежной
смерти она еще нашла в. себе довольно решимости, чтобы взяться
самой за роковое оружие, столько раз отвергнутое, но дрожащая
рука напрасно скользила по шее и груди, как бы ища места,
где бы остановить острие смертоносного железа: силы вовсе
изменили ей в последнюю минуту, и трибун собственными руками
спешил доконать жизнь, которая сама более не могла совладеть
с собой. Бездушный труп Мессалины был отдан ее матери,
имевшей несчастье пережить позорную жизнь и бесчестную смерть
своей дочери.
На другой день, когда Клавдий сидел за столом, донесли ему
о смерти жены. Выслушав роковую весть, он до того простер
свое безучастие, что даже не полюбопытствовал энать, умерла
ли Мессалина добровольной смертью или погибла от руки
подосланного убийцы. Равнодудгае, впрочем, едва ли вполне
искреннее. Как бы не надеясь долго выдержать, Клавдий тотчас
потребовал себе стакан вина и в веселой беседе с застольниками
спешил подавить свое тайное чувство.
24 S
Сочинения
II
АГРИППИНА МЛАДШАЯ
Нам нет еще никакой особеппой нужды выходить из
поколения, современного Клавдию, чтобы продолжать далее наши
наблюдения над нравственным состоянием римской женщины.
Вообще время было плодовито на преступления, но последние годы
Клавдия гораздо более, чем те, которые предшествовали смерти
Мессалины. Женщина пе отставала от своего времени; если
судить по самым видным примерам, то можно бы даже сказать,
что она предупреждала самое время, впервые знакомя его с н »-
которыми дотоле почти неизвестными проявлениями женскси
страсти, или, точнее сказать, мужской страсти в сердце
женщины. Один такой пример мы передадим русским читателям со
слов того же великого историка древности, которому следовал τ
уже в первом нашем рассказе о римских женщинах времен
империи.
Род Германика продолжался в его детях. Никто из них не
прибавил ничего к чистой памяти отца: некоторые составили
себе дозольно громкое имя, но Германик, если б он был жив,,
первый отказался бы от подобного имени, как от бесчестия.
Из сыновей его Кай Калигула нашел средства, еще до Клавдия,
опозорить славное титло цезаря. Из дочерей Агриппина умела
впоследствии накопить на своем имени так много черных дел, что
иной подумал бы, что между нею и матерью, Агриппиной
старшей, прошло несколько поколений: с такой невероятной
быстротой возрастала легкость, с которой совершались преступные
дела, уничтожающие человеческое достоинство. Но в общей
истории человечества почти не менее поучительны случаи быстрого
морального падения, как и верное движение вперед по
направлению к возвышенным целям. Надобно только, чтобы
наблюдатель изучал каждое явление на свойственном ему месте и иг
условий его же времени.
От детства и юности Агриппины младшей лишь очень
немного осталось на памяти истории. Если позволено заключать от
времени полного развития индивидуальных сил к первому
возрасту и первым средствам человека, то надобно предположить,
что дочь Германика наследовала, столько же от матери, сколько
и от отца, очень сильную душу и крепкую волю. Труднее
сделать заключение о первых направлениях, которым она должна
была следовать в своей первой молодости. Записки, которые она
сама вела о своей жизни, невозвратно утрачены*, а историк,
почерпавший из них свои сказания, говорит лишь о том времени
ее жизни, когда она играет политическую роль в Римской
империи. Видно, впрочем, что школа, с которой начала Агриппина,.
* Ann. IV, 53.
Римские женщины
219
была школа несчастий. Довольно припомнить, что было время,
когда осиротевшая семья Германика была окружена ненавистью
и предательством, и что только неусыпно бдительный глаз
матери мог предохранить ее от яда и тайного убийства*. Даже
посторонние лица, если они имели несчастье принадлежать к
друзьям Германикова дома, не могли избежать от
преследований. При недостатке внешней безопасности, семья Германика
нел могла похвалиться и внутренним миром: братья враждовали
ДРУГ другу, подыскивались один под другого; Друз согласился
даже быть орудием Сеяна, чтобы погубить брата своего
Нерона**. Мать изнемогала от этой непрерывной, ожесточенной
борьбы с явными и тайными врагами, которые, погубив мужа,
как кроты силились подкопаться и под благосостояние ее детей,
и со дня на день становилась раздражительнее; ожесточение
было, наконец, обыкновенным состоянием ее души. Какая
злосчастная среда для воспитания женщины! Тут не найдешь места
не только любви, но едва ли даже простой человеческой
приязни; зато, конечно, было где вырасти тем разрушительным
страстям, которые в своем необузданном разливе потрясают общество
в самых его основаниях.
Губя одной рукой, и притом большей частью втайне, Тиберий
любил в то же время свободно протягивать другую в виде
покровителя и благодетеля своих же собственных жертв. Как отец
Агриппины младшей по усыновлению, он позаботился устроить
ее домашнее счастье и для того указал ей мужа в лице Ки. До-
миция Агенобарба 20. Тацит прерывает главу своих «Летописей»
имеппо в том пункте, где бы мы ожидали от него или несколько
подробностей об этом нечаянном союзе, или хотя некоторых
данных относительно лиц, вступивших в союз, и их взаимных
отношений. Мы должны прибегнуть к справкам, чтобы по крайней
мере узнать характер Домиция, лица для нас совершенно нового,
и действительно узнаем от биографа первых цезарей21 вот какие
подробности***: Домиций происходил от довольно знаменитого
рода Домициев, считался в родстве с Августом, сопровождал
одного из внуков Августа (К. Цезаря) в походе его на Восток,
убил там одного отпущенника, который не хотел иить более,
чем сколько мог, и после того должен был оставить службу.
В Риме у него тоже была своя местная репутация: там
рассказывали о нем, например, как однажды на Аппиевой дороге
переехал он мальчика, будто не заметив его, или как в жару
спора, среди самого форума, выколол глаз одпому римскому
всаднику. Кроме того, в Риме знали Домицин за такого человека,
с которым нельзя иметь никакого дела, потому что он
непременно проведет и обманет; на памяти римских авриг, между кото-
* См. выше, с. 232—233.
** Ann. IV, GO.
*** Suet Ner. 5.
250
Сочинения
рыми он был известен за одного из самых ретивых наездниковг
было особенно много таких случаев. Вообще, по словам
биографа, это был «самый негодный человек во всех отношениях»*.
Трудно заключить что-нибудь хорошее о таком супружестве.
Воздерживаясь, впрочем, от всех предположений, заметим
только одно обстоятельство, приводимое тем же биографом, т. е. чти
еще при жизни своего свата и покровителя Домиций уже
обличен был пред ним в преступных связях с своею сестрою. Только
смерть Тиберия и последовавшая за тем перемена в политических
обстоятельствах помогли ему так или иначе выпутаться из беды.
Дело не имело никаких дальнейших последствий, и через
несколько времени после того супружеский союз Домиция и
Агриппины, по-видимому, даже скрепился рождением сына,
названного также Домицием, будущего Нерона. Ничто, однако, не может
сравниться в странности с тем приветствием, которым сам отец
встретил первое вступление в свет своего сына**. Уверяют, что,,
когда друзья поздравляли его с новорожденным, он в ответ
выражал лишь свое сильное сомнение, чтоб от него и Агриппины
могло произойти что-нибудь годное и безвредное для общества.
Если это изречение справедливо хотя вполовину, то, не говоря
еще ничего о сыне, какое понятие должны мы получить о
родителях? Что же касается до новорожденного, то Домиций не мог
видеть на нем исполнение своего предчувствия: оп умер, когда
тому только что исполнилось три года.
Если переворот, который открылся смертью Тиберия и
заключился возведением в то же достоинство Кая Калигулы, был
особенно благоприятен для Домиция, то Агриппина, без
сомнения, также считала его счастливым случаем в своей жизни:
вновь провозглашенный цезарь был родной брат ее. По крайней
мере внешнее ее положение должно было измениться к
лучшему. Кай показал себя большим ревнителем внешней чести своего
дома: он хотел, чтобы равное с ним почтение воздавалось и его
сестрам ***22. Консулы обязаны были в заключительной формуле
своих донесений называть цезаря вместе с его сестрами. Было
чем польститься всякой из них, в которой только не было
недостатка в гордости и честолюбии. Но Кай нашел еще иное, только
ему свойственное средство приблизить к себе своих сестер: он,
как извесгно, делил между всеми ими права на себя своей
жены****. Очень определенное выражение, употребленное при сем
случае биографом, почти не оставляет места сомнению, что
Агриппина также участвовала в позорной чести, оказанной со
стороны цезаря прочим ее сестрам. Такое посрамление лучших
женских чувств в ней особенно могло иметь место по смерти
* Ibid.: omni parti vitae detestabilem.
** Ibid., с 6.
*** Dio, LIX. Suet. ibid.
**** См. выше, с. 235—236.
Римские женщины
251
мужа, которая, по всей вероятности, последовала еще при
жизни Калигулы; хотя, с другой стороны, не было бы никаких
важных причин сомневаться, если бы кто вздумал утверждать,
что Домиций мог еще быть современником своего семейного
»бесчестия. Едва ли нужно говорить, что отношения, подобные
тем, какие существовали между Каем и его сестрами, были всего
способнее стереть в женщине все женственное.
? Немало также дурных чувств должно было накопиться в
душе Агриппины после Калигулы, когда старик Клавдий заступил
•его место. Не видно, чтоб он гнал племянницу или хотя бы
только недоброжелательствовал ей: это было не в его духе, едва
ли даже в его силах. Но для гордой души чувствительна была
даже всякая кажущаяся потеря: ибо смерть брата естественно
положила конец тому безумному почету, которым пользовались
сестры при его жизни. Неизвестно, что имел Тацит рассказать
об Агриппине в потерянных главах своих «Летописей»23, но в
тех, которые дошли до нас, до самой смерти Мессалины, ему
почти не представилось случая говорить о племяннице цезаря,
конечно потому, что во все это время она не могла играть
никакой значительной роли. Не утверждая ничего положительно,
мы, однако, позволяем себе объяснять самою незначительностью
того положения, в каком Агриппина находилась при Клавдии,
и новый брак ее с таким незначительным лицом, как некто
Пассиен, о котором мы едва знаем, что он был когда-то
оратором, и который, едва показавшись в истории, потом исчезает из
нее навсегда*. Надобно полагать, что день его брака и день
смерти разделены были между собою не очень большим
расстоянием и что имение Пассивна, которое потом досталось сыну
Агриппины, было для нее не последней приманкой, когда она
решалась вторично подать руку на брачный союз**24. Но ничто
так не могло уязвить женщину с честолюбием, женщину
гордую, как когда то самое место, на котором она желала бы
разыграть свою роль, было занято в ее глазах другой. Кто же была
эта женщина? Какие имела она права стать так высоко, стать
самым близким лицом к цезарю и заправлять его робкой волей?
Иных прав не было у Мессалины, кроме тех, которые дала ей
страстная ее натура над стариком, сохранившим только одну
чувствительность — к красоте женского тела. Агриппина,
конечно, была не в таком положении, чтобы вредить своей
воображаемой сопернице, но такова была антипатия двух
противоположных натур, что та самая Мессалина, которая едва ли бы
позавидовала Агриппине, если бы она занимала ее место,
ненавидела эту женщину с своей высоты, не терпела ее, не имея
* Ann. VI, 20; Suet. in Ner., с. 6.
"** Есть даже гораздо сильнейшее обвинение, если верить схолиасту Юве-
вала: periit (Passienus) per fraudem Agrippinae, quam haeredem reliquerat.
252
Сочинения
причины бояться *. Если бы поток новой неодолимой страсти не
отвлек всех чувств и всего внимания Мессалины в другую
сторону, она, несомненно, пошла бы далее в выражении своей
ненависти к Агриппине. Но, как известно, она увлечепа была этим
потоком до последней роковой катастрофы, которая положила
конец и самой ее жизни.
Прошло несколько дней после смерти Мессалины, а
Клавдий, садясь за стол в трпклиниуме, с свойственной ему
забывчивостью все еще продолжал спрашивать: «Что ж нейдет она?»
Не то чтоб он хотел ненремепно видеть подле себя Мессалину:
ему нужио было только, чтобы пе оставалось праздным подле-
вего место женщины. Опытные отпущенники привыкли из глал
цезаря угадывать его желание. Паллас, Каллист, Нарцисс —
каждый из них хотел подслужиться ему женщиною своего
выбора, каждый хлопотал ради своих собственных видов. Нарцисс
советовал возвратиться к Элпп Петине, уже бывшей раз в
супружестве с Клавдием и потом отвергнутой им но неизвестным:
причинам; Каллист хвалил больше Лоллию Паулину, которая
некоторое время была женою Калигулы. Один находил выгоднее
восстановление прежних, давно знакомых уз и умел представит ь-
в хорошем свете даже то обстоятельство, что почтенная
матрона, вышедшая из брака бездетной, теперь возвратилась бы в
него с дочерью; по мнению другого, напротив, пеоспоримое
преимущество вдовы Калигулы состояло именно в том, что она, не имей
своих детей, обратила бы материнские заботы на детей Клавдия
от Мессалины—Бритаиника и Октавию. Паллас думал иначе:
по оспаривая достоинств ни Лоллии, ни Петины, он с свое.!
стороны предпочитал им обеим дочь Германика, как по ее
знаменитому роду, так еще более потому, что она хорошо
сохранила себя; притом же, вступивши в дом цезаря, Агриппина ввела
бы в него вместе с собою не какую-нибудь безвестную отрасль,,
по сына Августовой крови.
Клавдий был решптельпо бессоветеп. Никогда его
беспомощность не являлась в таком жалком виде, как когда надобпо
было ему выбирать между двумя или тремя предметами, которые
казались более или менее равного достоинства. Надобно был >
пособить ему тем или другим способом, надобно было
непременно взять его с самой чувствительной стороны. Никто,
разумеется, не подумает, что Паллас действовал без согласия
Агриппины. Скорее можно бы подумать, что Агриппине принадлежал
ьесь план и что она только действовала через Палласа. Не он,
а она всего более выигрывала в случае удачи предприятии.
Гели бы Агриппина сама не возымела дерзкой мысли сделаться
женою своего дяди, с чего бы вздумал Паллас настаивать на
такое несбыточное предложение? Итак, надобпо предположить.
* Ann. XI, 12.
Римские женщины
2ä£
что Агриппина не спускала глаз с того поста, который занимала
Мессалина и как жена цезаря, и еще более как женщина с
преобладающим влиянием, и, может быть, еще до ее смерти
находилась по этому поводу в сношениях с некоторыми из
придворных Клавдия. Дело темное, оно, впрочем, становится тем яснее,
чем ближе подходит к задуманной цели. Клавдий еще ничего на
решил про себя, а уж Агриппина начала появляться в тех самых
стенах, в которых он жил, часто навещала его в качестве
близкой 'родственницы и, однако, не возбраняла ему пользоваться
ласками более чем родственными*. Она была тогда в поре
цветущей женщины и если не была по натуре Мессалиной, то могла
но крайней мере временно разыграть ее роль. Клавдий не устоял
против такого искушения: женщина была слишком близко к
нему, чтоб он мог расстаться с нею или променять ее на других,,
которых ему показывали только издали. Победа Палласа была
решена, прежде чем Клавдий объявил свое собственное решение.
Агриппина первая поняла и свое влияние, и свое значение.
Она как будто выросла вдруг вместе с своим новым положением;
до сих пор, в ожидании широкого поприща, она как будто и не
пробовала никогда своих сил. Пора ее деятельности только
наступила, и уж у нее нашлось довольно предприимчивости и
уменья распорядиться сообразно с своими видами, чтоб обойтись
без советника. Еще не имея никакого официального титла,
которое бы определяло ее отношения к цезарю, она уж
распоряжалась в его доме полною хозяйкою. Роль Мессалины была не πα
ней, хотя она и могла занять се временно: Агриппина
приносила с собой совершенно иную, новую страсть и готова была
отдаться ей с тем же беззаветным чувством. Мало обладать самим
Клавдием, она хотела еще управлять его семейством. Исполнение
шло сейчас за намерением. Дочь цезаря, Октавия, была
просватана за Л. Силана, молодого римлянина сенаторского
достоинства, бывшего тогда претором, вообще с хорошими надеждами
на будущее: Агриппина нашла, что сын ее Домиций был бы
более приличной партией для Октавяп, и немедленно приняла свои
меры, чтоб устранить Силана с дороги. Очернить и даже
погубить во мнении других человека вонсе невинного тут вовсе
ничего не значило. Цензор Вителлий, один из первых заметив
]нонь восходящее светило, спешил заявить свое усердие к нему
предложением своих услуг: ему же надобно было поторопиться
очистить свою совесть перед Агриппиной, потому что в памяти
многих были свежи еще несомненные знаки преданности его
Мессалине, пока она была в силе и сохраняла свое влияние на
цезаря. Тотчас брошено было подозрение на отношения Силана
к сестре его, которая несколько времени была невесткою тога
же Вителлия. Клавдий не чувствовал никакой охоты противо-
* Ann. XII, 3. С ρ SiuL lüaud. 26: Verum illecebris Agrippinae — рог jus.
osculi et blanditiaiuiii occasiones pellectus in àmurem.
254
Сочинения
действовать обвинению, которого он не понимал ни настоящего
смысла, ни цели; притом же, хотя косвенно, страдала честь его
родной дочери. При расположениях такого рода обвинителям не
стоило большого труда выманить согласие цезаря на приговор
нареченному его зятю. Силан ничего не знал и даже не
подозревал, как эдиктом цензора он был объявлен лишенным
сенаторского достоинства. Вслед за тем Клавдий формально отказал
<шу в руке дочери, и в заключение всего Силан должен был
сложить с себя и претуру, хотя оставалось не более двух дней
до законного срока. Место его было отдано Эприю Марцеллу,
составившему себе впоследствии громкое имя бесстыдною
наглостью своих обвинений.
Около того же времени досталось Вителлию оказать
Агриппине и другую очень важную услугу. Для молвы народпой не
было тайною происходившее во дворце Клавдия: знали,
во-первых, намерение его относительно племянницы, знали, что
Агриппина некоторым образом вступила уже в права супруги и даже
нечто более, а между тем брака все не было. Сомнения
закрались в душу цезаря и гнали прочь решение. Как всех
бесхарактерных людей, его пугало не столько самое дело, которому
недоставало до полного окончания лишь торжественного
заключения, сколько его огласка и неизбежные толки, которые оно
должно было повлечь за собою. Еще не слыхано было, чтобы
племянница вступала в дом своего дяди как его законная жена.
Если бы случилось какое общественное бедствие, не вправе ли
был бы народ заключить, что казнь посылается за закон,
нарушенный с таким легкомыслием? Агриппина, если и знала
подобные призраки, легко управлялась с ними; но бессильная воля
Клавдия разбивалась об них, как о неподвижные утесы. С ним
опять надобно было играть комедию, чтобы вынудить у него
решение, которого он никак не мог добиться у самого себя.
На такие дела у Вителлия был род призвания. Явившись к
Клавдию, он в самых общих выражениях предложил ему вопрос
о том, как бы он принял относящееся к нему решение сената
или народа. Клавдий нашел неприличным для себя отвечать
иначе, как в духе старых римских учреждений, т. е. что голос
его есть только голос отдельного гражданина и что ни в каком
случае не может он поравняться с авторитетом сената. Таков
был условный тон времени, хотя современная действительность
нисколько ему не соответствовала. Тогда Вителлий предложил
Клавдию остаться на некоторое время у себя дома, а сам
немедленно отправился в курию. Здесь, именем государства и
величайших его нужд, он требует себе слова предпочтительно перед
всеми другими. Получив согласие сената, Вителлий начинает
яркими красками описывать трудное положение цезаря,
отягченного великими государственными заботами и не имеющего
ни одной свободной минуты, чтобы подумать о своем собствен-
Римские женщины
25$
ном доме, и ни одного близкого советника, с которым бы мог
разделить попечение о своей семье. В таком положении, что
может быть приличнее для цезаря, как избрать себе подругу
жизни, которая взяла бы на себя по крайней мере половину
его забот и была второй матерью бедным сиротам его? На эту
тему сказана целая речь: почтенные сенаторы тронуты ею, они
гласно выражают свое одобрение оратору и находят мысль его
счастливою. Если так, продолжает Вителлий, то дело состоит
только в выборе; но где же можно найти женщину, которая бы
поравнялась с Агриппиной знатностью рода, материнским
плодородием и достоинством поведения? Она — честная вдова, он —
муж испытанной верности в супружеских отношениях: кажется,
сами боги предназначали их друг для друга. Никто не
противоречит Вителлию, и он, не давая обдуматься сенату, увлекает ега
за собою до последнего заключения. Скажут, пожалуй, что это
дело небывалое, чтобы кто женился на дочери своего брата?
Небывалое у римлян, но у других народов подобные браки
совершаются наряду с обыкновенными, и никто никогда не думал
налагать на них запрещение. Да и у римлян — пусть сенат
попробует освятить своим согласием хоть один пример такого рода,,
и можно поручиться, что он найдет себе множество
подражателей *.
Вот, между прочим, небольшой образчик римского
публичного красноречия в эпоху цезарей. Жаль только, что Тацит,
думавший больше о содержании, чем о выражении речи Вителлия,.
привел ее не собственными словами оратора. Всего
замечательнее, что речь произвела действительный эффект в сенате, хотя,,
может быть, он и был подготовлен заранее. Некоторые приняли
ее так горячо, что тотчас же встали с своих мест и стремительно
вышли из курии, говоря, что если цезарь будет еще медлить, то
они примут свои меры. И как бы в оправдание их слов на
форуме точно собралась большая толпа людей всякого рода,
кричавших во всеуслышание, что «римский народ» совершенно
разделяет мнение оратора. Клавдий не заблагорассудил дождаться,
пока «римский народ» придет известить его о своей воле: он
вышел ' сам на форум, навстречу к этой шумной толпе и потом,,
вдруг очутившись в сенате, потребовал, чтоб особенным
декретом впредь разрешены были браки с дочерьми родных братьев.
Нет нужды говорить, что сенат со всем усердием спешил
удовлетворить этому требованию и что Клавдий не замедлил с своей
стороны сделать первое применение нового декрета в браке своем,
с Агриппиной; впрочем, говорят, нашелся между римскими
всадниками еще один охотник, который, из угождения новобрачной
чете, и сам последовал ее примеру, т. е. женился также на
племяннице. В самый день брака Клавдия и Агриппины Силан,,
* Ann. XII, 6.
256
Сочинения
бывший жених Октавии, лишил себя жизни, а вслед за тем
сестра его получила приказание навсегда оставить Италию.
Несмотря на то что связь между ними никогда не была доказана,
Клавдии не хотел успокоиться, пока преступление не было очи-
щсбо, и, как истый археолог, приказал возобновить, для этой
дели очистительные обряды, которые употреблялись еще во
времена Тулла Гостилия. Народ, вовсе не разделявший
археологических наклонностей цезаря, находил такую реставрацию очень
забавной.
Цель Агриппины была достигнута. Казалось, она была теперь
занята только тем. чтобы строгим исполнением своих новых
обязанностей загладить несчастные уклонения, которыми
страдало ез прежнее поведение. Ничто не напоминало в ней
Мессалины. Где ни появлялась Агриппина, повсюду приносила она с
собой Ίϋτ важный и гордый вид, который так приличен супруге
цезаря; ни одно нескромное движение пе обличало в ней
присутствия той несчастной слабости, которою так унизила себя в
.глазах, римлян ее предшественница. То же неослабное
наблюдение за собою и в домашнем быту: как ни жадно собирали
римляпе гее скандалезные слухи, на первое время они не имели
ни малейшего повода упрекнуть Агриппину в нарушении
женского стыда. Если же что и находили поставить ей в упрек, так
это разве неумеренную ее любостяжательность, но и она самая
имела вид усердной заботливости об интересах дома, о средствах
к поддержанию власти*. Впрочем, тот бы глубоко ошибся, кто
бы подумал, что Агриппина способна была остановиться у
достигнутой цели. Но силе внутренней энергии ее можно бы
равнять не с Мессалиной, а разве с матерью ее, Агриппиной
старшей; только что была значительная разность во времени,
и энергия дочери двигалась совершенно иными побуждениями,
нежели те, которые управляли деятельностью матери. Подходя
к одной цели, она уже ставила себе другую на расстоянии еще
более далеком. Она знала трудности, угадывала их наперед, но
не знала, что такое препятствие. Ей стоило только впервые
опутать Клавдия сетью обольщения, чтоб уже распространить свои
.замыслы и на сына, который вместе с нею должен был войти
в семейство цезаря. Теперь же, как скоро решены были все
сомнения относительно успеха первого предприятия, Агриппина
с тою же решимостью, но еще с большим расчетом довела
второе. Она снять начала издалл.
За несколько лет перед тем некто Анней Сенека, бывший
квестор, обвиненный в непозволительных связях с одною из
сестер Агриппины, был сослан на остров Корсику в заточение.
Об нем уж почти забыли при дворе, как Агриппипа
великодушно вспомнила об изгнаннике и выпросила ему у мужа прощение;
■* IMd., с. 7. Cupido auri immensa ostentum habebat, quasi subsidium regno
pararelur.
Римские женщины
257
по ее же ходатайству только что возвращенный изгнанник
тотчас назначен был претором. Поступок имел вид доброго дела:
в Риме знали Сенеку с весьма хорошей стороны как по его
ученым занятиям, так еще более по его искусству красноречия,
которое он наследовал от своего отца. Римское общество не
могло не порадоваться возвращению его в столицу империи. Не
менее благовидно было последовавшее за тем распоряжение
Агриппины, по которому Сенека назначался воспитателем ее
сына. Давно уж Домиций нуждался в умном и опытном
руководителе. Это был тот самый мальчик, о котором отец, при
самом его рождении, сделал такое недоброе замечание,
бросавшее некоторого рода тень на всю его будущность. Воспитание
его до сих пор чрезвычайно как было пренебрежено. Рано
лишившись отца, он, по недовольно известным нам
обстоятельствам *, скоро оставлен был и матерью и едва нашел себе приют
у тетки своей Лепиды (сестры отца), которая — странное
дело— не нашла ничего лучшего сделать для его воспитания, как
приставить к нему в качестве «педагогов» учителя
танцевального искусства и брадобрея. Вероятно, делая такое распоряжение,
она соображалась столько же с своими средствами, сколько и
с понятиями. Внешнее положение Домиция потом улучшилось,
когда за ним было утверждено двойное наследство отца и
вотчима; но это, кажется, не имело большого влияния на его
педагогическую обстановку. Домицию было одиннадцать лет,
когда Сенека принял его на свое попечение. Приближая к себе
зпамепитого философа и ритора, Агриппина действительно
могла иметь в виду доставить своему сыну приличное образование
или восполнить недостатки первоначального воспитания; но
историк, которого известиями и мнениями мы дорожим особенно,
полагает также, что у нее сверх того была еще задняя мысль —
иметь всегда при себе и при своем сыне верного и умного
человека, обязанного ей личною благодарностью и в то же время
враждебного Клавдию по чувству оскорбленного самолюбия. Мы
позволяем себе усомниться только в последнем, ибо не видим
причины, почему бы можно было считать Сенеку за человека
очень чувствительного к личным обидам или предполагать в нем
мстительный нрав. Как бы то ни было, призвание Сенеки ко
двору увеличило число друзей Агриппины: она стала еще
смелее в своих начинаниях. Меммий Поллион, только что
назначенный консулом, тотчас же был закуплен в ее пользу, чтобы
подвинуть еще далее дело Домиция. Время было без меры
продажное: можно было закупать людей столько же чистыми
деньгами, сколько и лестными обещаниями. На долю Поллиона
особенно много досталось последних. И не даром: едва
вступивши в должность, он сослужил Агриппине службу, которая мало
* Светонип. Ner., с. 6, делает только намек — matre etiam relegata,— из
которого трудво заключить что-нибудь определенное.
17 п. Н. Кудрявцев
258
Сочинения
чем уступала услуге Вителлия. Убежденный его продажным
красноречием, сенат согласился именем общего блага просить
цезаря помолвить Октавию за Домиция. Умолить Клавдия было
вовсе не трудно, когда большая часть лиц со влиянием на него
были в пользу предложения. Событие казалось столько
счастливым, что на нем основывали много надежд,— те особенно,
которые участвовали в заговоре против Мессалины и имели
причины опасаться мщения со стороны ее сына, Британника.
Всего привлекательнее открылась отсюда перспектива для
самой Агриппины: родной сын ее стоял на первых ступенях
той самой лестницы, с которой все больше и больше сводили
ее мужа. Но еще не выступая решительно на новый путь,
опасный и скользкий, которого конец терялся в неопределенной дали
будущего, она хотела наперед устроить свои отношения в
настоящем, окончательно разделаться с прошедшим, чтобы потом уж
пе оборачиваться более назад. В пей заговорило чувство силы,
власти: она отдалась непреодолимому влечению сделать из нее
первую пробу. Недавно еще пугало ее совместничество Лоллии
Паулины, которая в одно время с нею искала чести войти в
семейство цезаря. С переменою обстоятельств чувство страха
прошло, но место его заступила ненависть. С той высоты, на
которой теперь стояла Агриппина, прежнее соперничество
принимало в ее глазах вид преступления. Бог весть откуда взялись
вдруг обвинители, которые показывали, будто Лоллия
советовалась с халдеями, магами, обращалась даже к оракулу
Аполлона Кларийского все sa тем, чтоб устроить брак свой с цезарем.
Средства самые непозволительные: это значило почти то же, что
прибегать к колдовству, чарам. Только Клавдий мог еще спасти
Лоллию своим ваступлепием. Он в самом деле явился в сенат,
чтобы рассказать, с знапием археолога, ее родословную,
подтвердить своим словом ее злонамеренность и заключить к
необходимости ее удаления как одного из самых вредных членов
общества. Приговор не замедлил состояться: имение
преступницы назначено было к продаже с публичного торга, а сама она
должна была навсегда оставить Италию. Из милости ей,
впрочем, позволено было взять с собою часть суммы, вырученной
от продажи ее огромпого имепия. Еще Лоллия могла по
крайней мере надеяться спасти свою голову, как вдруг дело приняло
ловый, совершенно неожиданный оборот. Кроме одной
постоянной страсти, холодной, но тем более настойчивой, которую
Агриппина наравне с другими членами своего знаменитого рода
способна была питать во глубине своей души, она еше
подвержена была случайным припадкам гнева, еще менее
беспощадного, чем самая страсть: тогда овладевала ею слепая ярость,
которая не внает распета и никакой умеренности. Вскоре после
осуждения Лоллии случилось, что Клавдий, говоря об одной
благородной римлянке по имени Кальиурнии, позволил себе
Римские женщины
259
отозваться об ее красоте в самых лестных выражениях. Жизнь
Кальпурнии висела после того на волоске: лишь потому только,
что отзыв Клавдия оказался совершенно случайным и не
сопровождался никакими серьезными намерениями с его стороны,
она могла отделаться одним изгнанием. Но в Агриипине уже
пробудились черные страсти: чтоб удовлегворить им, она хотела
себе хотя старой жертвы, и вероятно, под влиянием таких
побуждений голова несчастной Лолли и скоро скатилась под ножом
подосланного трибуна. Прибавляют, что после всего Агриппина
имела еще дух и охоту сделать голову своей жертвы, равио как
л другие части ее тела, предметом любопытных и внимательных
наблюдений *.
Спасайся, кто моясет,— вправе был подумать про себя
каждый римлянин, видя, как в сердце этой женщины погибала вся«
кая жалость, всякое снисхождение к человеку. Действительно,
страшно было, кому бы то ни случилось, попасться ей па той
самой дороге, которою она проводила свои властолюбивые
замыслы. Тут заранее надобно было отчаяться если не за самую
жизнь, то за всякое счастье и покой в жизни. Британник более
всех подвергался этой опасности, потому что он стоял на самой
середине дороги. Кто мог, тот старался идти рядом с
Агриппиной в полном согласии с нею. Для Палласа, с тех пор как он
взял сторону Агряппипы против ее соперниц, не оставалось
иного выбора. С своей стороны Агриппина нашла средство еще
крепче привязать его к себе: она, дочь Германпка, продалась
отпущеннику, чтобы закупить себе все его влияние и навсегда
связать его участь с своею. Если бы кто вздумал донести
Клавдию о неверности его жены, тот бы непременно должен был
назвать и Палласа. Союз, не предвещавший ничего доброго: при
нем становилась возможной самая невероятная интрига. К
Клавдию тотчас приступили с новыми требованиями: от него хотели,
чтоб он, если не для себя, то ради общего блага, позаботился
о своем родном сыне, окружил бы его более приличным и
достойным образом; его уверили, что для Британника нельзя
найти товарища лучше Домиция, что последний, будучи тремя
годами старше первого, мог бы служить ему не только
примером, но и опорою его юности. Другими словами, хотели, чтобы
Клавдий усыновил себе Домиция и таким образом совершенно
уравнял его в правах с Британником. Исторические примеры,
приведенные для подкрепления этой мысли, были выбраны очень
счастливо: Август — священное имя для римлян,— имея уже
внуков, не усомнился, однако, усыновить себе пасынков; и в
самом роде Клавдиев Тиберий не заступил ли место отца Герма-
нику? Для человека с несомненными археологическими
наклонностями нельзя было представить ничего убедительнее. В сенате,
* Tac, Ann. XII, 22; Dio, 60, 33.
17·
260
Сочинения
правда, нашлись некоторые скептики, утверждавшие, что Тибе-
рий, собственно, принадлежал к роду Юлиев и что настоящий
род Клавдиев продолжался всегда по прямой линии, без всяких
приемышей. Но Клавдий, к удивлению, не хотел слушать
никаких возражений: он оставался при своем мнении, т. е. мнении
своего отпущенника. Тогда сенат сделал вид, как будто он
понял свою ошибку, и спешил исправить ее по желанию цезаря.
Все дело скоро устроилось к совершенному удовлетворению лиц,
в нем заинтересованных. Клавдий получил от сената публичную
благодарность, Домиций введен был с именем Нерона в род
Клавдиев; Агриппина провозглашена Августой. Паллас мог
утешаться общим успехом плана, в котором он принимал такое
близкое участие. Между членами увеличившегося семейства
цезаря было только одпо недовольное лицо: это—Британии к.
Несмотря на свой ранний возраст, он, говорят, вовсе не лишен был
практического смысла и хорошо понимал, как мало-помалу
обходили его, как, злоупотребляя его кажущеюся незрелостью,
везде старались выдвинуть перед ним сводного его брата,
юношу— должно полагать — весьма незастеичивого нрава.
Оскорбление было тем чувствительнее, что носило вид самой нежной
материнской заботливости. Но если бы даже Британник и был
настолько зрел, что понял бы все коварство своих мнимых
доброжелателей и разгадал бы их замыслы, ему ли, с его ли
силами было вступать в борьбу с Агриппиной? Ясно, что отвечать
можно только отрицательно.
Кто же был этот столько счастливый совместник, что в
пользу его сын цезаря должен был рано или поздно отступиться от
всех выгод своего естественного положения? Какие были его
особенные права, в чем состояли его преимущества? Быть сыном
Агенобарба и Агриппины, конечно, не значило еще иметь
какое-нибудь важное преимущество перед Британником;
старшинство двух или трех лет на стороне первого также не делало
между ними большой разницы. Сын Агенобарба мог взять
перевес над сыном Клавдия разве только своими личными
дарованиями и счастливым их образованием. Даровитость природы
Домиция, или Нерона, как назывался он со времени
усыновления, почти не подлежит никакому сомнению. Мы имеем уже
некоторое понятие о первоначальном его воспитании: трудно
представить себе что-нибудь более превратное, более
несообразное с целью. Не тут, конечно, было раскрыться природным
дарованиям; но много уже говорит в пользу Нерона и то
обстоятельство, что они не заглохли совершенно в эту несчастную
пору его молодости. Когда обстоятельства переменились к
лучшему, он показал на деле, что время еще нисколько не ушло
для него и что он в состоянии с избытком вознаградить
потерянное. Своею живою восприимчивостью и быстротой усвоения
он составлял некоторого рода контраст с своим дядей. Некого-
Римские женщины 261
рые способности были в нем как будто наследственные,
перешедшие от отца. По искусству наездничества, например, к
которому страсть обнаружилась в нем еще в детстве и удержалась
потом всю его жизнь, он мог бы занять не последнее место
между лучшими римскими авригами. Впоследствии римляне
видели и другие образчики механической ловкости Нерона; вообще
не от него зависело, если он не сделался атлетом или даже
комедиантом (histrio)— два рода занятий, к которым имел
несомненное призвание41. Не менее приспособления, впрочем, заметно
было в нем и в отношении к благородным искусствам.
Агриппина могла с гордостью сказать о своем сыне, что почти в
каждой отрасли искусства он сделал более или менее значительные
успехи. Страсть к музыке развилась в нем еще в первой
молодости**. В пластических искусствах, живописи и ваянии, он
также не отставал от других и занимался ими с охотою.
Замечательны успехи его в словесности: только что вступив в
юношеский возраст, он уже в состоянии был публично говорить
по-гречески. Упражнения Нерона в риторическом искусстве
принесли желаемые плоды скорее, чем можно было ожидать:
в шестнадцать лет он уже выступил публичным оратором и
произвел в публике довольно благоприятное впечатление***. Та
же решительная способность к поэзии: он предавался ей с
большой охотой и сам писал стихи с легкостью. Между
современниками были люди, которые утверждали, что стихи,
приписываемые Нерону, не его, а чужие; но биограф уверяет, что он имел
в своих руках несколько настоящих автографов Нерона с
помарками и поправками, так что не остается никакого сомнения·
что стихи рождались из его собственной головы, а не писались
с чужих слов или с готовой рукописи ****.
Нерон, очевидно, обещал из себя нечто получше дядей своих,
Клавдия и Калигулы: это была натура чисто артистическая, чего
еще ни разу не случалось между римскими цезарями, в доме
Августа вообще. Правда, что в руках искусного воспитателя, каким
по всему казался Сенека, особенно же при нежном возрасте
воспитанника, восприимчивая природа его могла принять и
совершенно другое направление. Но заботливая мать, вверяя своего сына
руководительству философа, в то же время приняла свои меры,
чтобы влияние его не простиралось слишком далеко и
ограничивалось бы, так сказать, одною внешностью: готовя в сыне
преемника Клавдию, она исключила философические наставления из
круга его занятий как излишние и даже вредные и тем вначи-
* Ср. Suet. Νβτ., с. 22, 24, 53.
** Ibid., с. 20: pueritiae tempore imbu tus et musica.
*** Ibid., с. 7; ср. Tac. Ann. XII, с. 58.
♦*** Suet. Ner. 52.
18 П. Ы, Кудрявцев
262
Сочинения
тельно облегчила труд воспитателя*. За исключением
философии оставалась риторика, и мы видели, какие быстрые успехи
сделал в ней воспитанник. Впрочем, и здесь, говорят, завистливое
самолюбие учителя не дало ему пойти далее поверхностного
знапия: желая привязать исключительно к себе удивление своего
ученика, Сенека старался держать его как можно дальше от
истинных образцов ораторского искусства, так что до него не
доходила почти никакая серьезная или глубокая мысль. Таким
образом, артистическая натура Нерона могла сохраниться во всей ее
чистоте и беспримесной целости: ее не коснулась никакая мораль,
никакая философия, да едва ли могло найти в ней место и какое
религиозное чувство, в то время вообще редкое в римском
обществе **. Для нравственного чувства вообще тут, конечно, неоткуда
было ожидать спасения, но ничто не мешало Нерону учиться
житейской мудрости, помимо всяких теорий, практически,
присматриваясь к действиям окружавших его лиц и стараясь усвоить себе
самые их правила.
Вот для кого материнская заботливость Агриппины готовила
место Британника, который самым рождением своим был призван
наследовать права и власть цезаря. Да не подумает, впрочем,
кто-нибудь, что Агриппина увлекалась слепою любовью к сыну;
в сердце ее было много места для всякой другой страсти, только
не для любви. Чувствительность женщины, привязанность
супруги, нежность матери — все это были такие черты, которые в
домашнем обиходе римской женщины того времени стали
совершенною редкостью. Агриппина — истинная представительница своего
поколения — наконец, кажется, утратила для них всякий смысл.
Был ли то муж или сын — она видела в нем прежде всего средство
для своей власти в настоящем, верное орудие для ее продолжения
в будущем. Она не оставляла своему мужу без раздела даже
военных триумфов. Во время торжественной процессии, которая
нарочно была устроена цезарем в Риме, чтобы доставить
гражданам его удовольствие видеть знаменитого вождя бриттов, Карак-
така, незадолго перед тем покорившегося со всею своею семьею
римскому оружию, Агриппина, в качестве Августы, также
присутствовала при этой церемонии и, сидя на особенном возвышении
неподалеку от своего мужа, принимала от пленников те же самые
почести: зрелище совершенно новое для римлян, на памяти
которых не было еще ни одного случая, чтобы женщина
председательствовала на военном празднике ***. Не менее ново было и то, что
она начала от себя выводить военные колонии: ветераны,
поселенные ею в стране убиев (colonia Agrippinensis), должны были уве-
* Ibid., с. 52: a philosophia eu m mater avertit, monens imperaturo
contraria m esse.
** Ibid., ср. также с. 56: religionum usque quaque contemtor, praeter unius
deae Syriae. Hanc mox ita sprevit, ut urina contaminaret.
*** Ann. XII, 37.
Римские женщины
263
ковечить ее имя на берегах Рейна. Но Клавдий был во всяком
случае недолговечен: Агриппина чувствовала себя в силах
пережить его и уж запасала себе средства, которые обеспечивали ей
власть против всякого переворота. На Нерона она рассчитывала
как на свою собственную кровь; он был молод, неопытен, власть
сама по себе никогда не составляла для пего особенной
прелести *: его именем можно было управлять еще удобнее, чем
именем Клавдия, за которого часто хотели и действовали облеченные
его доверием отпущенники. С Британником же, озлобленным
против мачехи, не могло быть и сравнения. Было бы слишком смело
утверждать положительно, но можно подозревать, что Агриппина
вовсе не была искренна, когда предостерегала своего сына против
внушений философии как науки, нисколько не сообразной с его
назначением: она как будто боялась, чтобы философия не
повредила ее собственным планам, чтобы, обогатив ум Нерона
здравыми понятиями, облагородив его волю своими возвышенными
идеалами, она не высвободила его навсегда из-под ее влияния.
Агриппина не останавливалась в исполнении своего плана.
Опа шла вперед не скоро, но твердым и верным шагом. Лишь
иногда проглядывало женское нетерпение. Так, прежде чем
исполнились Нерону законные 14 лет, ему уж позволено было
надеть тогу, что равнялось публичному признанию его
возмужалости и должно было открыть ему доступ к государственным
должностям. Раболепный сенат имел довольно такта известного рода,
чтобы понять желание Агриппины и подслужиться ей своею
угодливостью: по соглашению его с цезарем состоялось решение,
что Нерон по крайней мере на двадцатом году от роду назначен
будет консулом, а в ожидании того времени положено было
облечь его проконсульской властью и провозгласить «главою
римского юношества»— по примеру сыновей Агриппы, которым эта
честь была предоставлена от самого Августа**25. Войско, народ,
все призваны были к участию в этой радости: от имени будущего
консула им роздали подарки, устроили для них потешные
зрелища. Римский народ стал в последнее время жаден до зрелищ:
ничем нельзя было так легко приманить его, как публичным
представлением. В назначенное время цирк, где приготовлены были
игры, наполнился зрителями, каждый принес с собой большой
запас любопытства и нетерпения, и каждый был больше или
меньше поражен, когда сын Агриппины и сын цезаря проехали
вместе по цирку, один — в великолепной одежде, а другой — в
обыкновенной претексте, какую носили мальчики до известного
возраста. Зрелище было так ново, что поглотило все внимание
зрителей. Смотря на этих сводных братьев, как они показались в
первый раз в цирке, народ начинал угадывать роль, назначенную
Нерону, и невольно задумывался над участью Британника. Неко-
* Ср. Suet Ner., с. 18.
** Ibid., с. 41: princeps juventutis; ср. Ann. Ι, 3.
18*
264
Сочинения
торые из присутствовавших, особенно военные трибуны и
центурионы, до того увлеклись жалостью, что позволили себе разные
восклицания и другие нескромные энаки своего удивления. Они
потом дорого поплатились за свою неосторожность: за ними
смотрели, их слышали и под разными предлогами, даже под видом
повышения, удалили от прежних мест, выслали ив Рима. Было в
том числе и несколько отпущенников, также пострадавших sa свое
неуместное усердие. Едва ли нужно называть карающую руку:
довольно сказать, что она была почти неотразима.
Интрига была в полном ходу. Кроме своего прямого действия,
она производила также и косвенное, хотя оно, может быть, и не
входило в расчеты тех, которые заправляли ею. Между братьями-
соперниками зажигалась вражда, не обещавшая ничего доброго.
Нетерпеливый гнев вспыхивал в молодой душе Британника всякий
раз, как только он встречался с своим сводным братом. У него не
было другого приветствия для Нерона, как «Домиций» или «Аге-
нобарб»—имя, которое напоминало собою последнему его
происхождение и отзывалось в его ушах оскорбительной насмешкой и
презрением вместе. Нерон молчал по необходимости, потому что
не имел чем отразить оскорбление; но зато неприязнь его
находила себе выход в сторону, она давала себя чувствовать во вновь
распускаемых слухах о Британнике, как о подкидыше *. Тут было
семя вражды, которая могла со временем разрастись до глубокой,
непримиримой ненависти. Агриппина, впрочем, от того не
приходила в уныние: взявшись за этот самый предлог, она шла со
своими жалобами прямо к цезарю, она громко вопияла против такого
наглого пренебрежения воли сената и народа, которыми однажды
навсегда утверждено было «усыновление». Не хотеть признать
Нерона сыном цезаря — не значило ли оскорбить закон, самое
государство? Чего можно ожидать от подобных людей в будущем?
При этом имя Британника могло быть даже не упомянуто вовсе,
по крайней мере вся вина была сложена на его воспитателей и
наставников. В их злонамеренности весь корень зла, они должны
быть обузданы первые. Прекрасный случай отдалить от
Британника всех людей ему близких и преданных, которые имели
несчастье пользоваться его доверенностью или —что еще хуже —
оказывали влияние на него. Клавдий пришел в ужас, узнавши,
какие зловредные люди окружают его родного сына: он не
задумываясь подписывал приговоры, которые были диктуемы его женой.
В самый короткий срок казнь и ссылка рассеяли всех друзей
Британника, вообще всех тех, которые были сколько-нибудь
привязаны к нему. Он, конечно, не остался совершенно один: его
тотчас же окружили новые сателлиты, приставленные к нему
мачехою. Британник не потерял ничего, кроме прежней верной
опоры.
• Ann. XII, 41; ср. Suet Nor., с. 7.
Римские женщины
2S3
Время было горячее, Агриппина спешила им пользоваться.
Почти незаметно была произведена одна из самых важных
перемен в государстве, которое держалось наиболее военной силой.
Гета и Криспин, в руках которых сосредоточивалась власть над
преторианскими когортами еще со времен Мессалины, казались
недовольно надежными людьми для властолюбивых планов ее
преемницы: их обоих наконец удалили от мест под тем предлогом,
что от подобного разделения власти много терпит самая
дисциплина войска. Бурр Афраний, получивший после них начальство
над всеми преторианскими полками, обязан был этим
возвышением столько же своим талантам и опытности в военном деле,
сколько и тому обстоятельству, что на него имели причины
рассчитывать во всяком случае как на верного человека. Он был,
по-видимому, честных правил и едва ли способен по доброй воле
принять деятельное участие в замыслах Агриппины; но так или
иначе, посвященный в тайны ее интриги, притом же одолженный
ей и самым местом, он не считал себя более вправе
противодействовать ее намерениям и обязывался по крайней мере к
молчанию. Страшное время, когда самая честность становится до того
робка и нерешительна, что из одной только боязни не смеет
отказать в своем содействии самым преступным замыслам!
Чем ближе стояла Агриппина к своей новой цели, тем
самоувереннее выставляла она напоказ свою силу, тем больше любила
повеличаться перед римлянами. До сих пор было в обычае, что
римлянка, которая желала присутствовать при религиозной
церемонии в самом Капитолии, без всякого различия звания,
вступала в него пешком и с подобающим смирением: исключительное
право въезжать в Капитолий в особенного рода женских повозках
(carpenta) предоставлено было только весталкам2б и другим
женщинам жреческого характера. Агриппина присвоила то же самое
право себе, не принимая, впрочем, на себя никакой
ответственности за него. Римляне видели, как она въезжала в Капитолий
наравне с весталками, и никто не смел возвысить голоса против
этого явного нарушения обычая, освященного всею римскою
древностью*. Агриппина стала недоступна никаким обвинениям.
Невыразимой дерзостью казалось уж и то, что нашелся человек
между сенаторами, по имени Юний Люп, который не побоялся
выступить обвинителем Вителлия. Решимость крайне
неблагоразумная. Заслуги, подобные той, которая однажды оказана была
Вителлием Агриппине, не забываются скоро. Обвинять его в
каком-нибудь неважном преступлении значило только неосторожно
вызывать на себя гнев его покровительницы; обвинять в
преступных покушениях с целью захватить самую власть —как это
сделал Юний Люп — значило прямо обратить на себя всю
ненависть этой женщины, ибо трудно представить, чтобы политиче-
* Ann. XII, 42. Впрочем, Дион Кассий, 60, 22, приводит еп*е пример
Мессалины.
266
Сочинения
ские замыслы, за которые думали подвергнуть ответственности
лицо, постоянно ею покровительствуемое, не были вместе и ее
собственные. Тот жестоко ошибался, кто еще думал оградить себя от
ненависти Агриппины чьим бы то ни было заступлением, хотя бы
даже самого цезаря. Пусть Клавдий и не отказал в благосклонном
внимании обвинителю Вителлия; но Агриппина не дала много
предупредить себя: она также явилась к цезарю, и на этот раз
уже не с просьбами, а с угрозами,— и несчастный сенатор должен
был принять как величайшую милость, что ему позволено было
удалиться в изгнание и унести с собой по крайней мере свою
голову. Жизнь и смерть Юния Люпа была в руках Вителлия: как
бы из презрения к своему врагу он согласился удовольствоваться
его ссылкой *.
Наступил год довольно трудный для римлян. Множество диких
птиц, налетевших на Капитолий, предвозвестили его заранее. Одно
бедствие приводило за собою другое. Началось землетрясениями,
разрушившими много зданий. Урожай был скуден, и многие
места пострадали от недостатка продовольствия. В пароде
начиналось волнение, послышался ропот. Однажды Клавдия окружили
среди самого форума и так стеснили его со всех сторон, что он
должен был призвать на помощь себе военную силу. К тому жо
замутился Восток, где парфяне надвигали на Армению,
волнуемую междоусобиями. В довершение всего в некоторых
провинциях внутренний мир был нарушен открытым восстанием.
Патриотическому сердцу было от чего прийти в уныние. Менее, чем кто-
нибудь в Риме, была подвержена этой слабости Агриппина:
нисколько не возмущаясь духом, она продолжала устраивать судьбу
свою и тех, которых услуги были ей особенно дороги. Прежде она
награждала и поощряла их лишь своею личною приязнью, теперь,
презирая все условные приличия, употребляла для той же самой
цели и государственные средства. Паллас, которого отношения к
ней делали ей наиболее бесчестия, был наиболее взыскан ее
милостями. Под самым пустым предлогом ему предоставлены были
очень видные гражданские почести наравне с преторами и выдана
из казны огромная сумма денег; из льстивой угодливости
подобрали для него целую генеалогию, которая возводила род
отпущенника даже до древних царей Аркадии, что послужило поводом к
назначению ему публичной благодарности за то, что он, вновь
открытый потомок аркадских царей, не усомнился посвятить свои
благородные способности на служение дому цезаря; в заключение
всего положено было вырезать его имя на медной доске вместе с
состоявшимся по этому случаю определением сената **. Цезарь и
сенат соревновали друг перед другом, чтобы как можно больше
возвеличить и без того уже сильного отпущенника. Все это, ко-
* Tac. ibid: Hactenus Vitellius volucrat.
** Ann. XII, 53. Весьма хорошо поясняет дело Плиний (Ν. Η. 53, 58),
прибавляя: jubenle Agrippina.
Римские женщины
267
нечно, достаточно объясняется тогдашним духом римского
общества и свойствами главных действующих лиц; но горько подумать,
что в таком позорном фарсе досталось играть не последнюю роль
вновь назначенному консулу, Барее Сорану, человеку честному,
которого имя встречаем потом рядом с именем Тразеи Пета,
благороднейшего и честнейшего из римлян нероновской эпохи! '
В эпоху глубокого развращения нравов, когда добро и зло
больше не различаются между собою, неоткуда ожидать
энергического протеста как против общего направления, так и против
частных злоупотреблений. Разве только историк, записывая
современные события, внесет вместе с ними в свою хронику и свое
скрытое негодование. В самой же действительности подобного
рода возможно только одно противодействие: это со стороны
оскорбленного самолюбия или — что почти равняется первому —
из каких-нибудь корыстных видов. Д1аллас всегда имел при дворе
цезаря опасных совместников равного с ним звания и одинаковых
наклонностей. Нарцисс и Каллист, хотя и не мечтали о
происхождении от древних аркадских царей, впрочем, нисколько не
уступали Палласу в способности к интриге. Первый едва ли даже не
был решительнее, предприимчивее всех других: по крайней мере
при низложении Мессалины никто не оказал столько
деятельности и распорядительности *. Все они жили дружно и действовали
в согласии, пока никто из них не перебивал дороги другому.
Отношения значительно изменились, когда Даллас искусно вкрался
в доверенность Агриппины и, помогая ее возвышению, работал в
то же время для своего собственного. Единство отпущеннического
союза было потрясено окончательно, когда Паллас, поднимаемый
сильной рукой своей покровительницы, стал целою головою выше
своих прежних товарищей. Неизвестно, каких мыслей был об этом
предмете Каллист: вообще он исчезает со сцены действия прежде
других; но самолюбие Нарцисса, приметно, было очень затронуто
предпочтением Палласа. Он был не из тех, которые легко
отступаются от своих преимуществ в пользу другого. Может быть,
Нарцисс затаил бы в себе свою досаду, потому что при жизни
Агриппины не было почти никакого расчета на успех; но один случай
привнес сюда еще новое раздражение, которое не могло остаться
без важных последствий.
Готовилось совершение великого общественного труда и вместе
великолепное зрелище. Огромные работы, давно уже
предпринятые для спуска вод Фуцинского озера (lago di Celano)27 в Тибр,
работы, вполне достойные римского имени, были наконец
приведены к окончанию. Для нас особенно замечательно, что в
последнее время они производились под высшим надзором и управлением
Нарцисса**: поручая ему это важное предприятие и распоряжение
* См. выше, с. 241. # ^ ^ ^ ^ ^
** Dio Cassius, 60, 33. Ό Ναρκισσοβ хцз λιμνηβ τηβ Φουκινηβ συμπεσουηβ
«ιτιαν επ 'αυτή μεγαλην ελοφεν, έπεστάτει γαρ του έργου etc
268
Сочинения
назначенными для того суммами, Клавдий как будто хотел
вознаградить его за многие другие лишения. Чтоб отпраздновать
такое славное дело совершенно по-римски, Клавдий, по примеру
Августа, приказал устроить на самом озере великолепную навма-
хию, или морское побоище, которое должно было происходить
перед самым спуском воды. Необыкновенные приготовления,
сделанные для этого врелища, способны были изумить своими
размерами: устроено было целых два флота, из которых один получил
название родосского, другой — сицилийского, и до двадцати тысяч
преступников, приговоренных к смерти, собрано было со всех
концов империи для наполнения судов вооруженными людьми. Итак,
сколько же должно было совершиться одних преступлений в
пределах великого Римского государства, чтобы набралось нужное
количество людей для одного только представления? Впрочем, как
видно, в них вовсе не было недостатка. Опасаться можно было
скорее за то, чтобы преступники, собранные в одном месте и в
таком количестве, не предприняли какого-нибудь отчаянного
движения или не разбежались бы в разные стороны. С целью
предупредить всякое покушение этого рода, множество больших лодок,
наполненных преторианцами, крейсировало около берегов озера;
на крайний случай приготовлены были даже метательные орудия,
чтобы, если нужно, отражать силу силою. Увеселительное
зрелище могло вдруг превратиться в кровавое побоище, потеха —
кончиться страшной катастрофой!
Несмотря на то, в назначенное время несметное число народа
стеклось из Рима и из окрестных мест и заняло все возвышения,
нарочно выстроенные в виде амфитеатра по береговым отлогостям.
Одни пришли видеть самое представление, другие — столько же
для себя, сколько из угождения цезарю. Он сам не замедлил
явиться сюда вместе с своим семейством. Агриппина, не
пропускавшая ни одного случая показать народу свое величие, предстала
пред зрителей в великолепной одежде, тканной из волота. Клавдий
был в военном плаще; Нерон тоже не отсутствовал и был одет
точно так же. Недоставало только Британника: по крайней мере об
его присутствии не упоминает ни одно известие *. Появление
цезаря и его семейства должно было послужить сигналом к
открытию представления. Была в самом начале одна лишь трудная
минута, когда, казалось, готовы были осуществиться самые
тяжелые опасения. Завидевши Клавдия, преступники, составлявшие
ополчение обоих флотов, приветствовали его всею массою. Привет
тебе, цезарь, и долгая жизнь от тех, которым остается жить лишь
несколько часов — кричало ему несметное число голосов **.
Клавдий не мог удержаться, чтобы на этот залп восклицаний не
отвечать также приветливым словом. Но едва только вырвался
у него обычный римский ответ, avete vos, как преступники остано-
* Ср. Tac. Ann. XII, 56; Suet. Ciaud., с. 21; Dio, 60, 33,
** Ave, imperator, morituri te salutaut Suet ib.
Римские женщины
269
вились, показывая решительное намерение не начинать сражения:
они были прощены, приветствие цезаря «здравствуйте и вы»,
сказанное во всеуслышание, уничтожало силу смертного приговора,
делало их опять свободными. Это был, очевидно, целый заговор:*
преступники думали воспользоваться добродушием Клавдия,
готовы были насмеяться над ним. Прошло несколько тех ужасных,
безмолвных мгновений, в продолжение которых кровь как будто
стынет в жилах здорового человека, останавливая свое обращение.
Первым движением цезаря был гнев: даже и он, с его притупе-
вшим чувством, был задет за живое такой наглой и вместе опасной
выходкой со стороны людей, которые в мысли его уж почти
исключены были из списка живущих; уж он думал, не подать ли
сигнал преторианцам, не начать ли, вместо навмахии, всеобщее
избиение преступников. Но энергические движения были не в
характере Клавдия: всякая сильная мысль застывала в нем прежде,
чем доходила до языка. После минутной нерешительности он
вскочил с своего места, спустился до самого края озера и, ходя по
берегу с лицом, на котором изображался больше испуг, чем ярость и
негодование, то сердился и грозил преступным ослушникам, то
убеждал их, едва не со слезами на глазах, исполнить последнюю
обязанность, т. е. начать побоище! Сомнительно, чтобы вид
Клавдия и слова его способны были возбудить страх; но преторианцы
были наготове, они ждали только приказания. Преступники не
решились простирать свою дерзость далее: видя, что хитрость их
не удалась, они возвратились к тому, что волею или неволею
должны были признать своим долгом. Два флота сошлись, и
побоище открылось: бились долго и с ожесточением, достойным
гораздо лучшего дела; с обеих сторон много было нанесено
смертоносных ран, много пало жертв, никем не оплаканных; наконец,
Клавдий сжалился, велел остановить сражение и дозволил жить
уцелевшим.
Представление кончилось, но еще не кончились все события,
соединенные с историей этого замечательного предприятия.
Чувство, которое Агриппипа вынесла с увеселительного зрелища,
было, по всей вероятности, очень неприятное. Никто из
присутствовавших неспособен был принять так горячо к сердцу оскорбление,
нанесенное власти в лице ее мужа. Клавдий мог забыть свою
досаду, как минутное ощущение; у Агриппины, напротив,
минутное ощущение легко превращалось в постоянное чувство и даже
возрастало до страсти. Чувство неприятное обыкновенно ищет
себе предмета, на который могло бы излиться с полной свободой.
По окончании навмахии, когда открыт был спуск воды, оказалось
сверх всякого ожидания, что работы, произведенные для этой
цели, были весьма неудовлетворительны: канал, которым должен
был проходить сток воды, вышел так мелок, что не достигал и
вполовину глубины озера. Легко понять, на кого всего более
должно было пасть неудовольствие, возбужденное во всех, в Аг-
270
Сочинения
риппине, наверное, не менее, чем в ком-нибудь другом, так
неприятно обманутыми ожиданиями. Кто был главным
исполнителем предприятия, тот, естественно, принимал на себя и всю
ответственность за него.
Но дело еще не ушло совершенно: его легко можно было
поправить, если только еще несколько продолжить работу и
углубить водосточный канал; окончательный успех не только
оправдал бы все начинание, но покрыл бы собою самые ошибки
в исполнении. Работы действительно были начаты вновь, и через
несколько времени новое приглашение вторично призывало
римлян на праздник спуска воды из Фуцинского озера. На этот раз,
впрочем, ради избежания как лишних издержек, так и разных не-
чаянностей, все увеселение ограничилось лишь боем гладиаторов
на плотах, нарочно для того приготовленных. Зрелище прошло
благополучно; но не так счастливо заключилось пиршество,
которое, для большего удобства зрителей, было устроено близ тех
самых мест, где вода должна была выходить иа своего вместилища.
Только что пирующие, в числе которых были Клавдий и
Агриппина, расположились на своих местах, как сильный поток воды,
с шумом и ревом устремившись в открытый канал, скоро наполнил
его до верха и понесся по самым берегам, увлекая в своем бурном
стремлении все, что ни встречалось ему на пути. В минуту все
пиршественные приготовления были разрушены или унесены
водою, и испуганные гости с криками отчаяния искали себе
спасения в проворном бегстве. Такая оплошность была
непростительнее, чем первая, тем более что сам Клавдий много натерпелся
от страха при этом случае. Вина ее, разумеется, падала опять па
главного распорядителя работами. Агриппина наконец не
вытерпела: пользуясь дурным расположением своего мужа, она открыто
восстала перед ним против Нарцисса, обвиняла его в
корыстолюбии, хищничестве, почти грабительстве, одним словом, дала
почувствовать ему всю свою неприязненность. Не нужно было иметь
много проницательности, чтобы понять, куда вело такое опасное
нападение. Нарцисс, однако, был не робкого духа: он испытал в
своей жизни не одну перемену, торжествовал некогда над
Мессалиной и после того сохранил еще доверенность к себе цезаря.
Принужденный еще раз выбирать между честной борьбой и
бесславным падением, он решился лучше снова попробовать своего
счастья и принял вызов Агриппины. Произошла неслыханная
сцена: отпущенник позволил себе дерзость — в глаза укорять
жену цезаря в природных недостатках и уличать ее в разных
замыслах, которые могли бросить на нее сильную тень подозрения*28.
Клавдий молчал, поставленный между двумя огнями; дело,
по-видимому не имело последствий, но оно заронило искру
непримиримой вражды между противниками, которая при первом благопри-
* Tac. ib.: пес ille impotentiam muliebrem nimiasquae spes ejus argiiens.«
Римские женщины
271
ятном обороте обстоятельств для той или другой стороны должна
была вскрыться с удвоенной силой.
Почувствовав около себя врага, Агриппина спешила довершить
свои начинания, чтобы не дать ему времени предупредить себя.
Она видимо старалась воспользоваться всем своим влиянием па
цезаря, пока еще оно не было никем разделено с нею в
одинаковой степени. Нерону едва исполнилось шестнадцать лет, как уже
6^1 л праздповап брак его с Октавией. Узы такого рода еще крепче
привязывали сына Агриппины к семейству цезаря, чем самое
усыновление. Если не для него, то ради своей дочери Клавдий
мог склониться теперь на многое, что не лежало в интересах ни
целого рода, ни его собственной власти. Брак Нерона доставил
Агриппине прекрасный случай еще раз зарекомендовать его перед
пародом столько же со стороны талантов, сколько и со стороны
благородных движений души и сердца. Несколько раз кряду
выступал Нерон публичным защитником городов и муниципий,
которые отыскивали свои старые права или по обстоятельствам
просили себе некоторых облегчений,— и всегда с полным успехом.
Красноречие самого Цицерона не было так действительно в
большей части случаев, когда он принимал на себя защиту чужих
прав перед народпым трибуналом. Кем бы ни были приготовлены
речи, произносимые Нероном, но дело в том, что благодаря его
публичному ходатайству жители Илиона, древней колыбели
парода римского и знаменитого рода Юлиев*29, были освобождены
от всех повинностей; колония болопская (Bononiensis)30,
истребленная пожаром, получила значительное денежное вспоможение;
родосцам снова возвращена независимость и, наконец, жителям
Апамеи, потерпевшим от землетрясения, предоставлена на целые
пять лет льгота от податей. Чего бы не вправе были ожидать
римляне собственно для себя, когда бы этот талантливый оратор, с
таким успехом защищавший права инородцев, принял обязанности
цезаря, стал главою самого Рима? За благодетельствующим
Нероном не всякий, конечно, мог различить скрытое лицо Агриппины,
которая, выставляя на вид своего сына, в то же самое время умела
все ненавистное в своих действиях прикрывать именем своего
мужа. Роль Клавдия становилась все печальнее и печальнее: после
того как Бритапник был поставлен совершенно в тени, он сделался
в свою очередь предметом интриги, которая имела целью мало-
помалу лишить его всякого расположения в народе и уронить его
в глазах римлян насчет будущего преемника. Не кому иному,
как цезарю, приписывали незаслуженную смерть Статилия Тавра,
бывшего правителя Африки: думали, что на то было прямое
желание самого Клавдия, чтобы на Статилия, по возвращении его из
провинции, взведены были разные обвинения, как-то: в лихоимстве,
колдовстве и т. п., вследствие чего он принужден был, предупреж-
* Ibid.: Romanum (populum) Troia demissum et Juliae stirpis auctorem
Aeneam,
272
Сочинения
дая несправедливое осуждение, сам наложить на себя руки.
Между тем настоящий ход дела был совсем иной: Статилий владел
богатыми садами, которые имели несчастье понравиться
Агриппине; отсюда начало всему злу, ибо преемница Мессалины не менее
ее знала цену хорошо устроенным дачам и так же мало умела
сдерживать себя, когда представлялся случай захватить чужую
собственность. В угоду ей Тарквиний Приск, легат Статилия,
возвратившийся с ним из Африки, взялся быть его обвинителем,
и уж Клавдий, служа слепым орудием той же самой воле, готов
был принять на себя всю ответственность в осуждении мнимого
преступника, как он своей насильственной смертью избавил его
от необходимости подписывать один лишний смертный приговор·
Во всем этом деле, к удивлению, только сенат показал
необыкновенную чувствительность к своей собственной чести: неизвестно под
чьим влиянием он опять проникнулся на минуту чувством своего
старого достоинства и изгнал из среды себя бесчестного обвинителя.
Между тем в римском обществе, в народе все больше и больше
накоплялось предчувствие чего-то недоброго. Явления, по
которым он привык узнавать грядущую кару или предугадывать
страшные определения рока, повторялись одно за другим во
множестве. В одном месте удар грома упал среди военного лагеря,
запалил шатры, истребил самые знамена. Рой пчел показался
однажды на самой вершине Капитолия. Были страшные роды:
какие-то безобразные чудовища рождались вместо людей; подобные
случаи повторялись и в царстве животных. Не добром объясняли
и то, что республика в короткое время лишилась большой части
своих магистратов; квестор, эдил, трибун, претор и консул умерли
в продолжение нескольких месяцев. Предчувствие начинало
прокрадываться и в самую душу Клавдия. Смущенный им, он, может
быть впервые в своей жизни, подумал о смерти, оглянулся на свое
прошедшее и невольно содрогнулся при мысли о нем. В робкой
душе цезаря промелькнуло что-то похожее на раскаяние; он как
будто сознал свои отношения к лицам, окружавшим его,
устыдился особенно той унизительной роли, которую до сих пор
заставляли его играть женщины. Однажды, разгоряченный винными
парами, он до того увлекся своим новым чувством, что, сверх
обыкновения, позволил себе даже в присутствии других очень сильно
выразиться насчет лиц, злоупотреблявших его доверенностью.
«Мне как будто на роду написано,— сказал он, не скрывая более
своего негодования,— быть свидетелем позора моих жен, и потом
их наказывать»*. Если не в самой воле Клавдия, то в его образе
мыслей, очевидно, нроизошла значительная перемена. Он уже не
укорял только, но и грозил. Такой сильный поворот в мыслях
цезаря,— хотя отсюда и далеко еще было до решения,— сам по
себе стоил всякого недоброго предзнаменования.
• Ann. XII, 64: fatale sibi ut conjugum flagitia ferret, deinde puniret.
Римские женщины
273
Пробуждение Клавдия из его обычной апатии было так
неожиданно, что могло бы привести в удивление самого равнодушного.
Менее всех была равнодушна к выражениям чувств цезаря сама
Агриппина. Она весила на вес каждое его слово, она следила
внимательно и неотступно за каждым его движением. Угроза,
вырвавшаяся у Клавдия в порыве редкой откровенности, не пропала для
нее даром. Агриппина тотчас угадала по ней тайную мысль своего
мужа (смерть Мессалины служила лучшим комментарием к
словам его) и, может быть впервые со времени своего возвышения,
почувствовала невольный страх за себя и sa все свои планы. До
*>их пор ей приходилось иметь дело то с отпущенниками, гибкими
и неустойчивыми по самой своей природе, то с неопытным
мальчиком, который по самому возрасту еще не в состоянии был ни
предвидеть удара, ни отразить его. До сих пор имя цезаря служило ей
щитом, сам он — слепым орудием ее воли: теперь же это орудие
готово было обратиться против нее самой. Кто бы ни был тот
тайный враг, который умел внушить Клавдию эту мысль и на время
привязать к себе его бессоветную волю, он был сильный и
опасный соперник, он наперед искусно лишал своего противника
самых главных средств обороны и потом уже делал на него
открытое нападение. Но в Агриппине, кажется, и самый страх был на
страже ее безопасности: из него почерпала она лишь новое
мужество, им изощряла свою решимость и вместо того, чтобы делать
шаг назад, еще смелее простиралась вперед по прежнему
направлению. Клавдий только еще думал, а Агриппина уже решилась
действовать или, точнее, ускорить свою деятельность сообразно с
данными обстоятельствами. Первое подозрение ее пало на Доми-
цию Лепиду: в ней, по всей вероятности, она угадывала и хотела
поразить одно из самых ненавистных орудий своего тайного врага.
Были, впрочем, и другие, более застарелые причины ко взаимной
нетерпимости: они копились в продолжение нескольких лет.
Агриппина и Лепида были старые соперницы между собою. Почти
равные происхождением, они не разнились много и летами,
напоминали одна другую даже по внешнему виду. Кроме внешнего
сходства было еще внутреннее: в бесстыдстве и наглости Лепида
не уступала никому в своем роде; ей недоставало лишь равного с
Агриппиной положения, чтобы поравняться с нею великостью
самого позора. Впрочем, она, по-видимому, никогда не отказывалась
от надежды рано или поздно занять видное место при дворе
цезарей, может быть даже опередить свою знаменитую родственницу,
и пользовалась всем своим влиянием на ее сына, бывшего своего
воспитанника, чтобы со временем проложить себе через него
дорогу. Как добрая нянька, ухаживала она за Нероном, осыпала его
ласками, не жалела издержек для удовлетворения его прихотей.
Природа и все прежнее воспитание нисколько не располагали
Нерона пренебрегать благами жизни, каким бы путем они ни
доставались: он шел, куда его вели, артистически выбирая то, что бо-
274
Сочинения
лее соответствовало его вкусам. Но Агриппина, хотя и не совсем
с материнскою заботливостью, не спускала с него глаз: она хотела
иметь в нем верное орудие своей власти, а не чужих происков.
Некоторое время она только сердилась и грозила издали: наконец
участь Лепиды была решена. В вину ей поставлено было, что она
старалась разными чарами погубить супругу цезаря и собирала
толпы рабов с целью возмутить мир Италии. Нерон явился между
свидетелями и имел дух в присутствии своей воспитательницы
поддерживать направленное против нее обвинение: ему, как
видно, хотелось сделать приятность матери. Свидетельство было
принято в должное уважение, и смертный приговор был неизбежным
его следствием *.
Никто не был так возмущен этим приговором, как Нарцисс:
дело как будто касалось его лично. Он уже не таил в себе своей
досады, но дал полную свободу своему чувству и с жаром
восставал против состоявшегося решения. Не то чтоб оно в самом деле
возмущало его своею несправедливостью: чувствования этого рода
были слишком высоки для отпущенника; но участь Лепиды
показывала лучше всего, к чему клонились намерения Агриппины и
что ожидало тех, которые не хотели согласить своих действий с
ее волей. Было от чего прийти в отчаяние; но иногда отчаяние
внушает дерзкую решимость, которой недостает в спокойном
состоянии духа. Ненависть к Агриппине и чувство близкой
опасности произвели в Нарциссе именно такое настроение. Они не
только придали ему смелости, но некоторым образом облагородили
самые его помыслы. Нарцисс считал себя обязанным
действовать — если не для себя лично, то из признательности к цезарю.
Мне уж несдобровать ни в каком случае, говорил он близким к
нему людям, будет ли Британник или Нерон преемником Клавдия.
Но я так много одолжен цезарю, что молчание с моей стороны
было бы преступлением. Почему бы, обличив преступление
Мессалины, стал я прикрывать моим молчанием Агриппину? На какое
только преступление ни покусится она, если ей удастся вытеснить
Британника, чтобы потом властвовать под именем своего
ничтожного сына? Это не подлежит никакому сомнению. Да и чем же
лучше она Мессалины в других отношениях? Нельзя дальше
простереть бесстыдства, как она, в связях своих с Палласом. Тут
пожертвовано всем — женскою честью, добрым именем, приличием
самым, и все только из-за одного властолюбия! Говоря таким
образом, Нарцисс совершенно выходил из себя. В заключение
всего он обращался к Британнику, обнимал его с горячностью
человека, принимающего в нем самое живое участие, и потом, подняв
глаза к небу, торжественно молил богов послать юноше силу и
крепость мужа, чтоб он мог рассеять врагов своего отца,—хотя
бы вместе с ними погибли и убийцы его матери. Нарцисс готов
* Ann. XII, 65; Suet. Ner, 7,
Римские женщины
275
был, наконец, отречься от своей собственной безопасности, лишь
бы только иметь это последнее утешение — видеть падение
Агриппины и низвержение всех ее замыслов!
Надобно полагать, что эти смелые речи нарочно говорились
громко, чтобы могли дойти до слуха цезаря. Возможно также, что
предприимчивый отпущенник, до конца сохранивший некоторое
влияние на него, нашел удобный случай лично передать ему свои
подозрения и снова завладеть его слабой волей. Как бы то ни
было, Клавдий под конец своей жизни показывал все больше и
больше отчуждения к Агриппине и обнаруживал довольно
решительное намерение поправить свою прежнюю ошибку в отношении к
Британнику. Однажды, встретившись с сыном, он обнял его с
особенной нежностью и повторил ему от себя лично желание,
высказанное прежде Нарциссом. Наконец состоялся целый план,
от слов готовились перейти прямо к делу. Нетерпение
отпущенника как бы сообщилось и самому цезарю. Еще Британник не
достиг совершеннолетия, как уже положено было возложить на
него тогу; в оправдание говорили, что если он и не довольно зрел
летами, то достаточно мужествен по своему виду и крепкому
сложению. Чтобы, впрочем, кто не подумал, что цель этого действия —
лишь поравнять Британника с Нероном, Клавдий при этом случае
прибавил: пусть теперь римский народ узнает своего настоящего
цезаря. Побуждаемый и направляемый своим неотступным
советником, он, к удивлению, простер свою решимость далее: составил
в пользу Британника формальное завещание и скрепил его всеми
необходимыми подписями*. Для совершенного устранения
Нерона оставалось только провозгласить законного наследника цезарем
и вслед за тем призвать его к действительному участию во власти.
Действие новой интриги направлено было ближайшим образом
против Нерона, но в его лице поражена была всего более
Агриппина. Она наконец узнала своего главного врага и волею или
неволею должна была признать в нем достойного соперника себе.
Немудрено было погубить во мнении Клавдия Мессалину, когда
она сама подавала к тому повод своим до крайности
легкомысленным поведением: невероятно трудно было восстановить его против
Агриппины в такую пору, когда она, казалось, располагала
полным его доверием. Агриппина глубоко ощутила оскорбление и,
однако, умела сдержать себя до времени,— конечно, по тому
самому, что видела перевес на стороне противника и боялась
испортить дело излишнею поспешностью. Сила удара не всегда
происходит от самого размаха, который ему предшествует: иногда очень
многое зависит и от его благовременности. Сдержанная страсть
Агриппины, какого бы то ни было свойства, была еще страшнее,
чем открытая. Питаясь некоторое время сама собою, она
становилась тем напряженнее и потому неотразимее. Непринужденная,
* См. Suet. Claud. 43—44,
276
Сочинения
она могла довольствоваться лишь своим успехом, победою; в
последнем же случае ей непременно нужна была жертва. Такою
жертвою мог сделаться каждый, не исключая и самого цезаря,
кто только не хотел или переставал служить ей орудием. Оттого-
то и было особенно страшно это время, что тут никакая голова не
была верна на своих плечах. Чего не различал ясно ум, о том
говорило темное предчувствие какой-то неминуемой беды, которая
шла неведомо откуда и бог знает над кем могла разразиться.
Несмотря на то что Агриппина еще воздерживалась от решительного
противодействия, успех Нарцисса в борьбе столько неровной
достался ему не даром: от многого напряжения и беспрестанной
озабоченности силы его истощились и почувствовалось
неизбежное в таком состоянии утомление, которое заставляло его во что
€ы то ни стало искать себе покоя. С душевной усталостью
соединилось еще расстройство физическое, приготовленное годами и
неумеренною жизнью*. Считая свое предприятие уже довольно
обеспеченным и не предвидя для него особенных опасностей в
будущем, Нарцисс решился удалиться в Синуэссу, чтоб
употреблением тамошних вод, славившихся своею целительною силой,
восстановить свои упавшие силы. Ни Клавдий, ни Агриппина ему не
препятствовали, первый — по своей обыкновенной апатии,
вторая— именно по расчетам на его отсутствие**. Она не боялась,
что Нарцисс таким образом может уйти от ее мщения: ей пока
нужно было только одно — чтобы он сошел хотя на время с
дороги и дал ей возможность и свободу действовать. Прочее должно
было прийти со временем.
По удалении главного своего советника Клавдий оставался
совершенно беззащитен в отношении к посторонним влияниям.
Надобно было ожидать, что Агриппина не замедлит занять свое
прежнее место в его сердце и мысли и мало-помалу сгладить его
же рукой все следы последних решений, принятых им по совету
Нарцисса. Но она находила, что Клавдий более неисправим, что
излечить его можно разве лишь самыми радикальными
средствами. Своею бесхарактерностью этот человек всегда способен был
заставить ее снова проходить тот длинный и скользкий путь,
который она считала уже для себя почти конченным. Британник ли,
Нарцисс ли были опасны ей потому только, что каждую минуту
могли действовать против нее через Клавдия. Наконец интрига ей
надоела, и она решилась покончить все одним разом.
Преступление не могло испугать женщину, которая уже не раз прибегала
к нему в своей жизни. Яд, действующий тайно и вместе верно,
казался ей теперь самым приличным средством. Сомнение
состояло только в том, какой яд предпочесть в настоящем случае —
* Ann. XII, 66. In tanta mole curarum valctudine adversa corripitur, etc,
Дион Кассий, 60, 34, говорит о подагре.
* ~ · * » » » «с '
#* Dio, ib.: Έπβι, napovtos γβ αυτόν ουκ αν ποτβ αυτό βοβοραχβι,
Римские женщины
277
действующий ли скоро или убивающий медленно? Но первый
самою быстротою действия мог бы обличить преступление; второй
также не казался довольно безопасным, потому что
продолжительность страданий могла бы самого цезаря навести на разные
мысли и заставить его сделать некоторые предсмертные
распоряжения против желания лиц, участвовавших в этом замысле. Итак
в совете Агриппины и усердных ее доброжелателей, в которых
недостатка не было, положено было употребить такое средство,
которое, медленно действуя на организм, производило бы, однако,
в пораженном субъекте сильное умственное расстройство.
Знаменитая Локуста, давно известная своею опытностью в этом
искусстве и всегда с успехом служившая при подобных
предприятиях, взялась приготовить нужное зелье. Эвнух Галот, лицо
необходимое, которого должность состояла в том, чтобы подавать ва
стол кушанья и пробовать их, также не отказал в своих
продажных услугах. Исполнение совершенно соответствовало ожиданиям
отравителей. Яд, принятый Клавдием в одном из любимых его
блюд (это были грибы), тотчас же начал производить свое
действие: старик, говорят, вдруг потерял употребление языка, а
между тем собеседники его разошлись очень спокойно, без всякой
мысли об отраве, потому, может быть, что приписывали такое
состояние Клавдия сильному опьянению или что сами не
отличались особенною трезвостью. В ночь у Клавдия начались ужасные
страдания, к утру его не было более в живых. По другим
известиям, природа Клавдия, еще довольно крепкая, сначала противилась
действию яда: ночью открылись у него обильные извержения,
начиналась реакция. Тогда Агриппина, угрожаемая выздоровлением
мужа, решалась возобновить прием. На всякий случай у нее готов
<5ыл преданный врач по имени Ксенофонт. Призванный будто бы
затем, чтобы подать скорое пособие страждущему, он нашел
средство, в присутствии многих посторонних лиц, еще раз ввести яд
в его внутрепность, и Клавдий был убит окончательно *.
Как жил, так и умер этот бедный старик, одинаково
беспомощный и в жизни и в смерти. Жалкая игрушка чужих страстей,
он сам погиб бесславно от руки вдвойне ему близкой, не прибавив
пичего своей долгой жизнью и к славе своего знаменитого рода.
Безжалостная судьба не хотела сберечь для потомства даже
лучшей его памяти: вместе с ним погибли и плоды его ученого
трудолюбия; до нас дошли только их громкие заглавия.
Зато Агриппина спешила запечатлеть свою память в истории
кровавыми и преступными чертами. Еще не успел совсем остыть
труп ее мужа, а она уже принимала деятельные и скорые меры»
чтобы, ве давая никому опомниться, провозгласить своего сына
цезарем. Какая бы тяжесть ни лея«ала на ее совести, присутствие
духа никогда ей не изменяло. Первым ее делом было скрыть смерть
ί Aun. XII, 67; ср. Suet. Claud. 44; Dio Cass. ibidem.
278
Сочинения
Клавдия от народа и войска. Пока собирался сенат, пока консулы
и жрецы возносили к богам свои соединенные мольбы и обеты за
исцеление мнимого больного, который нарочно был закутан
множеством разного рода покровов, Агриппина, не выходя из дому„
устроила целый переворот. Она умела быть не только твердою,,
но и чрезвычайно изворотливою, у нее тотчас готова была масши
Дети Клавдия, сын и две дочери, до того были обмануты ее
притворною нежностью, ласками и слезами, что предоставили все ее·
заботам и даже не сочли нужным оставить свои комнаты. Вместе-
с сестрами и добродушный Британник обольстился лукавством
мачехи: он чувствовал себя в ее горячих объятиях, он слышалv
как она в утешение себе называла его живым подобием отца„
и успокоился, нисколько не подозревая, что под этими горячими
объятиями скрывалось самое злое предательство. Для Агриппины»
особенно дорога была первая минута, а потом она действовала
уже иными средствами. Крепкая стража тотчас приставлена был;*
ко всем выходам, и сообщение жилища цезарей с городом на
время почти прекратилось. «Лишь время от времени пускаемы были
в оборот выдуманные известия, которые поддерживали в войске-
надежду на выздоровление цезаря. Вдруг, в самый полдень, двери
дворца отворились, и Нерон в сопровождении Бурра Афрапия
вышел к когорте, которая по обычаю стояла на страже перед
главным выходом. По знаку, данному префектом, раздались радостные·
восклицания: это было первое приветствие со стороны войска
новому цезарю. В толпе нашлось несколько голосов нерешительных*
которые медлили присоединить свои голоса к прочим и в
недоумении спрашивали, где же Британник? Но как никто не приходил
разрешить их сомнения, то и они скоро пристали к своим
товарищам. Между тем Нерон, не теряя времени, сел в носилки и
отправился прямо в лагерь преторианцев. Здесь оказалось еще менео
противоречия. Как известно, он был не последний мастер
говорить: речь его, приноровленная к обстоятельствам и
подкрепленная приличными обольщениями, между которыми главное места
занимало, разумеется, обещание раздачи денег, тотчас произвела
па преторианцев желаемое действие: они на месте же
провозгласили сына Агриппины римским цезарем. В руках наглых
преторианцев тогда уже была почти вся судьба империи. Решение их
давало тон, к которому не замедлили пристать — сначала
раболепный сенат, а потом и все провинции. Начавши наглым
нарушением прав мужа и пасынка, Агриппина окончила не менее
преступным лицемерием: Клавдию определены были божеские почести,
и сверх того назначено торжественное погребение, какого Рим
не видал со времени похорон Августа. Впоследствии, присоединяй
к лицемерию насмешку, Нерон говаривал о грибах, что это
кушанье очень любимо богами*. Само собою разумеется, что заве-
• Suet. Ner. 33; Dio, 6°, 35.
Римские женщины
279
щание Клавдия осталось без всякой силы и значения.
Торжество Агриппины было полное, но оно не сделало ее ни
великодушнее, ни даже забывчивее. Удовлетворив одной страсти,
более устремленной к будущему, она не хотела отказаться и от
мщения. Нарцисс был первый на очереди. Мстительная рука
достала его скоро. Неизвестно, где он был захвачен; известно только,
что через несколько времени после переворота он уже находился
в тесном заключении и что положение его наконец сделалось
невыносимо до крайности. Не ожидая ничего лучшего в жизни,
Нарцисс искал себе смерти и нашел ее в самоубийстве. Римляне
его времени почти не знали иной отрады в злополучии.
Смертью Нарцисса завершалась вся эта многолетняя и
многосложная интрига. Рядом преступных усилий всякого рода,
начиная от обольщения и оканчивая отравою, достигнута была крайняя
цель, какую только могло поставить себе самое неограниченное
женское властолюбие. Агриппине открывалось теперь широкое
поприще, на котором впредь она могла действовать с полною
свободою. Куда направлялась ее дальнейшая деятельность и какой
был ее последний расчет с жизнью — это мы увидим в следующем
рассказе8|.
Приложения
КУДРЯВЦЕВ КАК ИСТОРИК
Творчество Петра Николаевича Кудрявцева (1816—1858)
мало знакомо современному читателю, а во второй половине XIX —
начале XX в. его литературные и научные сочинения были весьма
популярны в России. Достаточно сказать, что книга Кудрявцева
«Римские женщины» sa полстолетия была издана четыре раза
(1856, 1860, 1875, 1913), не считая ее первоначального
журнального варианта. Крупный ученый-историк, труды которого
закладывали фундамент отечественной науки о всеобщей истории \ ou
вошел в историю русской культуры и как видный литератор,
оригинальный беллетрист и критик2, знаток и тонкий ценитель
искусства и, кроме того, профессор Московского университета,
прогрессивный общественный деятель.
Отличительной чертой Кудрявцева как ученого также
является большая разносторонность интересов. Главным предметом его
исследований было западноевропейское средневековье, однако с
полным правом можно говорить о нем и как об историке древнего
мира; его перу принадлежат также работы, посвященные новой и
новейшей для того времени истории. Как историк-медиевист он
является в России по существу пионером в изучении
средневековой Италии, в его трудах читатель найдет широкую картину
прошлого этой страны от падения Западной Римской империи,
включая эпоху Возрождения. Монография Кудрявцева «Судьбы
Италии» (1850), написанная, по словам Т. И. Грановского, «с ред-
1 О творчестве П. Н. Кудрявцева как историка см.: ВайнштейнО. Л.
Историография средних веков. М.; Л., 1940. С. 299—301; Гуковский М. Л.
Итальянское возрождепие в трудах русских ученых XIX века Ц Вопр.
истории. 1945. № 5/6. С. 97—118; Бороздин И. И. П. Н. Кудрявцев как
историк древнего мвра // Вестн. древ, истории. 1951. № 2. С. 179—187;
Алпатов М. А. Исторические взгляды П. II. Кудрявцева / Очерки исто-
Йии исторической науки в СССР. М., 1955. Т. 1. С. 450—460; Романова И. //.
сторические взгляды П. Н. Кудрявцева / Тр. Воронеж, ун-та, 1960.
Т. 53, вып. 2. С. 59—88; Она же. Некоторые проблемы византийской
истории в освещении П. Н. Кудрявцева / Сб. науч. работ аспирантов ВГУ.
Воронеж, 1961. Вып. 1. С. 73—84; Она же. П. Н. Кудрявцев как историк
средних веков; Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 1963; Из архива
П. Н. Кудрявцева/Публ. и вступ. ст. С. А. Асиновской / Средние века.
М., 1963. Вып. 24. С. 303—312; Гутнова Е. В. Историография истории
средних веков. М., 1985. С. 294—296.
* См.: Макарова Л. И. Творчество П. Н. Кудрявцева: К проблеме
формирования реализма в русской литературе: Автореф. дис. ... канд. филол.
наук. М., 1981.
Г. Д. Сергеева. Кудрявцев как историк 281
кой меткостью исторического взгляда»3, открывает вместе с тем
первую страницу в отечественных исследованиях в области
истории раннесредневековой Италии, в то время слабо разработанной
и в мировой историографии.
Творчество Кудрявцева между тем находилось до сих пор как
бы в тени его более знаменитых учителей и коллег по научной
и педагогической деятельности — Т. Н. Грановского и С. В.
Ешевского. Публикуемые материалы (большая часть которых
печатается впервые), представляя архивное наследие ученого, позволяют
отчасти восполнить этот недостаток внимания со стороны
потомков. Тем более что такая потребность уже давно назрела в нашей
науке. Еще в 1870 г. издатель сочинений С. В. Ешевского,
ученика и преемника Грановского и Кудрявцева по кафедре всеобщей
истории в Московском университете, историк А. С. Трачевский
писал: «Не скрою, что меня ласкала... надежда побудить тех,
у кого хранятся бумаги П. Н. Кудрявцева, изданием его
сочинений пополнить пробел, образующийся теперь между собраниями
трудов Т. Н. Грановского и С. В. Ешевского. Я убежден, что
полные фактического содержания сочинения и особенно лекции
П. Н. Кудрявцева были бы и теперь своевременным и давно
желанным гостем в нашей бедной ученой литературе»4.
За последние полтора столетия русская наука обогатилась
крупными трудами в области всеобщей истории. Тем с большим
интересом обращаемся мы теперь к ее истокам. После выхода в
свет лекций Т. Н. Грановского в серии «Памятники исторической
мысли» (1986) издание в той же серии лекций П. Н. Кудрявцева
и избранных его исторических сочинений представляется, на наш
взгляд, весьма своевременным. В настоящую публикацию вошли
лекции Кудрявцева по истории гуманизма и Реформации в
Западной Европе (1848/49 г.), две статьи методологического характера
«О достоверности истории» (1852) и «О современных задачах
истории» (1853), а также первые два очерка из книги «Римские
женщины. Исторические рассказы по Тациту».
* * *
Петр Николаевич Кудрявцев родился 4(16) августа 1816 г.
в Москве. Его отец был священником при церкви Покрова на
Землянке за Яузой, затем священником на Даниловском
кладбище, мать была дочерью московского священника. Когда мальчику
исполнилось восемь лет, умерла мать, оставив сына и двух
дочерей. Дома под руководством отца Кудрявцев получил
первоначальное образование. В 1828 г. он поступил в 3-й класс Заиконо-
спасского духовного училища и в том же году был переведен в
Московскую духовную семинарию, которую успешно окончил в
1836 г. В семинарии, кроме богословия, изучали физико-математи-
-3 Грановский Т. Ή. Соч. Мм 1900. С. 387.
4 Ешевский С. В. Соч. М., 1870. Т. I. Ред. ст.
1™ П. Н. Кудрявцев
282
Приложения
ческие науки, философию, словесность и языки: Кудрявцев
изучил здесь французский, латинский, греческий и еврейский.
Современники в своих воспоминаниях о Московском университете
отмечали, что выпускники семинарии обычно были лучше
подготовлены к университетским занятиям, чем остальные студенты —
выпускники гимназий и частных пансионов. А. И. Герцен писал,
что в то время одни семинаристы имели хоть какое-то понятие
о философии5. Видимо, не случайно эту школу прошли многие
крупные русские историки прошлого столетия, и среди них не
только Кудрявцев, но С. М. Соловьев и В. О. Ключевский.
По мнению племянника Кудрявцева П. П. Копосова, «к концу
семинарского курса у будущего писателя складываются
убеждения, независимые от влияния той среды, в которой он
воспитывался, проявляются твердый характер и наклонность к
литературному творчеству»6. Еще будучи на старшем отделении семинарии,
Кудрявцев написал свою первую повесть «Катенька Пылаева»,
которая была напечатана в журнале «Телескоп» в 1836 г. под
псевдонимом А. Нестроев. В том же году после длительной борьбы
с отцом, прочившим его в Московскую духовную академию, он
становится студентом Московского университета. Тогда же им
были написаны еще два литературных произведения—«Антонина»
и «Две страсти».
Уже в первые годы учебы в университете он сближается с
московским кружком В. Г. Белинского, и вскоре их связывает
близкая дружба. На конец 30-х —40-е годы приходится расцвет
литературной деятельности Кудрявцева. Одно за другим выходят
в свет его сочинения, которые он печатал под разными
псевдонимами («А. Н.», «А. Нестроев» и др.) в «Телескопе», «Московском
наблюдателе», «Отечественных записках», «Современнике».
Большую популярность принесли Кудрявцеву его повести и рассказы:
«Одни сутки из жизни старого холостяка» (1838), «Флейта»
(1839), «Недоумение» (1840), «Звезда» (1841), «Цветок» (1841),
«Живая картина» (1842), «Последний визит» (1844), «Ошибка»
(1845), «Без рассвета» (1847), «Сбоев» (1847)7.
В своих литературных произведениях Кудрявцев исследует
вопрос о положении женщины, своей современницы, в русском
обществе, проблемы, встающие перед русским интеллигентом в
условиях крепостной России на его пути к практической
деятельности, показывает силу развращающих человека обстоятельств на
всех уровнях социальной иерархии. Много позднее, уже будучи
6 См.: Герцен А. И. Былое и думы // Собр. соч. М., 1956. Т. IX. С. 17.
6 Копосов П. /7. Письма П. Н. Кудрявцева из-за границы // Русская мысль.
1898. № 1. С. 3.
7 См.: Кудрявцев П. И. Повести и рассказы. М., 1866. Ч. 1—2. Позднио
повести Кудрявцева «Без рассвета» и «Сбоев» переизданы в кн.: Живые
картины: Повести и рассказы писателей «натуральной школы »/Сое т.
А. Л. Осповат, В. А. Туманипов. М., 1988.
Т. Д. Сергеева. Кудрявцев как историк
283
крупным историком, Кудрявцев будет с теми же вопросами
подходить к свидетельствам современников далекого прошлого,
вопрошать с этими же целями исторические источники различных эпох
и народов. И как историка его будут интересовать прежде всего
проблемы личности, обстоятельства ее становления и развития в
истории, проблемы исторической психологии, как сказали бы мы
теперь. Итак, еще будучи студентом, Кудрявцев уже занял
определенное место в литературе как писатель и критик 8.
Кудрявцева-литератора и Кудрявцева-историка вообще, на наш
взгляд, трудно разъединить, его творчество цельно, и единство
это проистекает не только из отмеченной выше общности
рассматриваемых им тем; самые его исследовательские методы
представляются еще до конца не расчлененными. Это во многом
объясняется уровнем развития русской исторической науки в середине
XIX в. Ведь творчество Кудрявцева падает на тот ее период,
когда всеобщая история еще только закладывала фундамент
своих отдельных исследовательских направлений в России, да и
история как наука, пожалуй, только еще выделялась из филологии,
с одной стороны, и науки о праве — с другой.
Проблема выбора между филологией и историей, между
историей права и собственно историей стояла в русской науке того
времени, да и позднее, не только перед Кудрявцевым9. В его
творческой биографии этот поворот от литературы к истории
произошел во многом под влиянием Т. Н. Грановского. С. В. Ешев-
ский впоследствии писал, что историческое призвание
Кудрявцева определилось благодаря Грановскому, что именно ему обязан
он тем, что от занятий чисто литературных обратился к занятиям
историческим 10. Грановский начал читать свой первый курс по
истории средних веков в Московском университете 12 сентября
1839 г., когда Кудрявцев был уже на IV курсе. Впрочем,
биографы историка отмечают, что еще на первом курсе с интересом
посещал он лекции профессора древней истории Д. Л. Крюкова,
прогрессивного и талантливого русского ученого того времени.
Особое внимание Крюкова привлекало творчество Тацита. Его
статья «О трагическом характере истории Тацита»11
удивительным образом созвучна поздней работе Кудрявцева «Римские
женщины», где история упадка Римской империи, также на материа-
• Рецензии Кудрявцева часто смешивали с критическими статьями
Белинского. Так, отзыв Кудрявцева о стихотворениях Я. П. Полонского
(Отечественные записки. 1844. Т. 36, № 10. С. 37—45), дающий первую
оценку творчества начинающего поэта, приписывался поначалу Белинскому.
См.: Фридлянд В. Г. Поэт сердечной и гражданской тревоги /
Полонский Я. П. Стихотворения. Поэмы. М., 1986. С. 6—7.
9 Весьма показательно в этом отношении, на наш взгляд, творчество
А. Н. Веселовского, одного из близких учеников Кудрявцева.
10 Ешевский С. В. П. Н. Кудрявцев как преподаватель // Соч. М., 1870. Т. I.
С. 5.
11 Москвитянин. 1841. Ч. II. № 3. С. 119—128.
-48!.
284
Приложения
ле сочинений Тацита, показана как трагедия римской женщины.
Таким образом в годы учебы в университете определяется выбор
Кудрявцева в пользу истории.
Под руководством Грановского он стал заниматься всеобщей
историей. 24 апреля 1840 г. Белинский писал ему: «Вас
посылают за границу — доброе дело12. Вижу, что университет
московский начинает умнеть, если выбирает таких людей. А Вы от-
бросьте-ко пустую совестливость и недоверчивость к себе.
Посмотрите на себя не безусловно, а сравнительно с окружающею
Вас российскою действительностью, и Вы, при всей своей девствен-
пой скромности, увидите, что, посылая Вас за границу, Вам отдают
только должное и делают пользу университету столько же, как и:
Вам. Вы рождены для кабинетной жизни — Ваша тихая,
девственная натура только и годится, что для кафедры; Вы не для
треволнений жизни, не для уроков и не для службы. О, мой милый
будущий профессор, если б Бог привел меня послушать Вас и
поучиться у Вас!» 13
40-е годы — десятилетие после окончания им университета
(летом 1840 г.) до выхода в свет его монографии «Судьбы Италии»
(1850 г.) — были наполнены напряженными научными трудами.
Эти штудии впоследствии создали ему репутацию широко
эрудированного историка ,4. Однако в то время революционных переменг
революций 1848—1849 гг. в Западной Европе, а в России
—острых идейных разногласий среди прогрессивных общественных
деятелей (многие из которых были близкими друзьями
Кудрявцева), он, естественно, не мог оставаться в стороне от бурных
событий своей эпохи. Кудрявцев принадлежал к кругу так называемых
западников, которых в первой половине 40-х годов объединяла
прежде всего борьба против сторонников теории официальной
пародности, а также против некоторых историко-философских
положений славянофилов. В те годы к западникам относились
А. И. Герцен и Т. Н. Грановский, В. Г. Белинский и Н. П. Огарев,
профессора Московского университета Д. Л. Крюков, П. Г. Редкий
и др. Их взгляды разделяли известные литераторы — П. В.
Анненков, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, крупные издатели, такие, как,,
например, издатель «Отечественных записок» А. А. Краевский.
В середине 40-х годов ясно обозначились расхождения по важней*
12 Имеется в виду предложение Грановского о посылке Кудрявцева за
границу для подготовки к профессорскому званию. Планы эти
осуществились только в 1845 г.
13 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1956. Т. XI. С. 520.
14 Как историк Кудрявцев является автором многих критических статей;
его обширные рецензии на труды зарубежных и отечественных историков
по существу представляют собой самостоятельные оригинальные
исследования. Свои названия, принятые теперь в научной литературе,
некоторые из них получили только в трехтомном собрании исторических
сочинений Кудрявцева. См.: Кудрявцев П. Н. Соч.: В 3 т. М., 1887—1889.
Т. Д. Сергеева. Кудрявцев как историк
285
шим философским и социально-политическим вопросам между
Грановским, Кудрявцевым и большинством других западников,
с одной стороны, и Герценом, Огаревым, Белинским — с другой 15!
Не разделяя революционно-демократических исканий
Белинского, Кудрявцев и в эти годы остался на либеральных позициях.
Однако, несмотря на идейные разногласия, явившиеся,
по-видимому, одной из причин известного охлаждения в их отношениях,
Кудрявцев на всю жизнь сохранил чувство глубокой
признательности к Белинскому. В 1845 г., уже отойдя от активной
литературно-публицистической деятельности, он писал ему:
«По-прежнему люблю и уважаю в Вас моего учителя, которому обязан так
многим»16.
Весной 1845 г. Кудрявцеву наконец была предоставлена
возможность продолжить свое образование за границей. Он слушал
лекции в Берлинском, Гейдельбергском университетах, посетил
Австрию, Чехию, Францию и Италию. Из Берлина летом 1845 г.
он писал Грановскому: «Исторические мои занятия я еще не
успел привести в порядок... Вообще, как ни обширна, как ни велика
казалась мне наука всегда, но под здешним углом зрения она
кажется еще бесконечнее»17. По письмам же можно судить, что в то
время его угол зрения формировался под влиянием прослушанных
им в Берлине лекций крупнейших историков, философов и
филологов — Л. фон Ранке, К. Риттера, Ф. Шеллинга, А. Бёка, под
впечатлением от прочитанных здесь книг Нибура и Савиньи и др.
Это надолго определило его научные пристрастия.
Вернувшись из-за границы, в 1847 г. Кудрявцев был
утвержден исправляющим должность адъюнкта по кафедре всеобщей
истории Московского университета. С этого времени его имя
входит в историю университета наряду с именем Грановского. Во
многом разделяя научные и общественные позиции своего учителя,
вместе с ним он делит и ответственность за свои взгляды. 28 мая
1849 г. на имя Д. П. Голохвастова, тогдашнего попечителя
Московского учебного округа, был направлен запрос московского генерал-
губернатора графа А. А. Закревского «Об образе жизни и мыслей
профессоров Грановского, Кудрявцева и Соловьева, а также о
духе и направлении их лекций»18. Вслед за тем над Грановским и
Кудрявцевым был учрежден «самый строжайший секретный
надзор», который тяготел над ними свыше двух лет.
Именно в годы усилившейся реакции Кудрявцев создает курс
лекций по истории гуманизма и Реформации в Европе (публикуе-
15 Подробнее см.: Дмитриев С. С. Грановский и русская общественность /
Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1986. С. 321—322.
16 В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948. С. 144.
17 Из неизданной переписки русских медиевистов 40—50-х годов XIX в./
Публ. С. А. Асиновской / Средние века. М., 1960, вып. XVII. С. 415.
18 Письмо графа А. А. Закревского к попечителю Московского университета
Д. П. Голохвастову и ответ Голохвастова / Русский архив. 1887. № 8.
С. 522-523.
286
Приложения
мый в настоящем издании), в котором он гневно обличает
реакционную политику католической церкви, догматизм схоластиков.
Вместе с тем его подход к истории народных движений эпохи
Реформации, к событиям Крестьянской войны в Германии в
частности, отличается противоречивостью, в целом характерной для
зарождавшейся русской либеральной историографии 19. Последние
же разделы этого лекционного курса, над которыми Кудрявцев
работал в 1849 г., носят в некоторых случаях отрывочный, а
иногда и конспективный, подчас подготовительный характер. Уче-
пый явно торопился. Действительно, в следующем, 1850 г.
выходит в свет его капитальная (714 страниц) монография «Судьбы
Италии от падения Западной Римской империи до восстановления
ее Карлом Великим. Обозрение остгото-лангобардского периода
италианской истории». Работа над курсом и окончательная
редакция текста монографии проходили, видимо, одновременно20.
Монография Кудрявцева явилась итогом его многолетних
исследований в области раннего западноевропейского средневековья.
Она выросла из его первой магистерской диссертации, написанной
еще до заграничной командировки и представленной в
университет для обсуждения в 1844 г. Однако обсуждение не состоялось.
Диссертация была посвящена теме «Папство и империя в IX, X,
XI и начале XII столетия». С. П. Шевырев, тогдашний декан
историко-филологического факультета, не одобрил взгляды автора на
папство и римскую церковь, «несогласные будто бы с учением
православной церкви»21. Поэтому диссертация до диспута
допущена не была, Кудрявцеву предложили переделать работу; он
отказался и предпочел избрать другую тему, хотя это и было связано
для него с материальными затруднениями; кроме того, поездка
за границу откладывалась на неопределенный срок.
Избранная Кудрявцевым тема нового исследования является
как бы развитием предыдущей вглубь; рассматривая в книге
«Судьбы Италии» VI, VII и VIII вв. ее истории, ученый большое
внимание уделяет и вопросу об истоках той крупной
политической силы, которую приобрела папская власть в последующие
столетия. Одним из центральных вопросов монографии
Кудрявцева является проблема политического единства Италии. Возмож-
,9 Подробнее об этом см. статью С. А. Асиновской, наст. изд.
20 Это оашло отражение, на наш взгляд, например, в тех очевидных
повторах, которые имеют место во введении к «Судьбам Италии», в
частности его оценки творчества Макиавелли, и разделе, посвященном
Макиавелли в лекционном курсе, см. примеч. к вступительной лекции.
21 Сообщение П. П. Копосова о первой диссертации П. Н. Кудрявцева /
Русская старина. 1885. № 3. С. 710. Рукопись диссертации хранится в
архиве П. Н. Кудрявцева: НБ МГУ, картон 1, ед. хр. 1, оп. 1, 163 л.,
чернила. На обороте титула помечены фамилии читавших рукопись: О. Бо-
дянский, Т. Грановский, С. Шевырев π др. На полях рукописи —
многочисленные карандашные пометы, принадлежащие возможно С. П. Ше-
вы репу.
Т. Д. Сергеева. Кудрявцев как историк 287
но, выбор этой темы был обусловлен интересом ученого к борьбе
за воссоединение Италии, которая началась в конце 40-х годов
XIX в., на что уже обращалось внимание в литературе о нем22.
Судьба отвела Кудрявцеву слишком мало времени для его
плодотворной деятельности в качестве историка: все его
исторические сочинения, вошедшие в трехтомное собрание (М., 1887—
1889), были изданы в течение 50-х годов. В этот период им были
пайисаны статьи «О достоверности истории» и «О современных
задачах истории», его работы «Последнее время греческой
независимости», «Древнейшая римская история по сочинению Швегле-
ра», «Дант, его век и жизнь», «Карл V», «Осада Лейдена», «Ка-
ролинги в Италии» и «Жозеф Бонапарт в Италии». Последние две
работы остались неоконченными. Его сочинение, посвященное
деятельности брата Наполеона, первоначально называлось «Жозеф
Бонапарт в Италии и Испании», однако заключительная его часть
так и не была написана. В то же время была подготовлена к
печати знаменитая книга «Римские женщины». Все эти труды
появились в течение семи лет после публикации его первой научной
монографии, а уже 18 января 1858 г. Кудрявцева не стало.
Последний труд его жизни — биография Грановского — был
предпринят им вскоре после смерти жены. Он был уже безнадеж-
ло болен, находился вдали от родины — в Италии: в Нерви, близ
Генуи. Первые главы этого неоконченного труда—«Детство и
юность Т. Н. Грановского»—были изданы посмертно в журнале
«Русский вестник» (1858).
П. Н. Кудрявцев был похоронен в Москве на Даниловском
кладбище. В «Колоколе» от имени издателей, Герцена и Огарева,
была помещена заметка: «Еще не стало в России дельного,
честного, благородного человека, одного из самых любимых
товарищей Грановского... Пас просят напечатать это известие в „Колоко-
коле", „где всякий честно служивший отечеству человек имеет
право быть помянут добрым, почетным словом44»23.
* * ♦
Настоящая публикация представляет Кудрявцева как
историка, причем в центре — автограф его лекционного курса по истории
гуманизма и Реформации в Европе, поэтому и наш угол зрения
будет находиться в области медиевистики. Однако мы не ставим
22 См.: Гутнова Е. В. Указ. соч. С. 295.
23 Герцен А. И. Собр. соч. М., 1958. Т. XIII. С. 427. По предположению
Б. П. Козьмина, одного из редакторов указ. собр. соч. Герцена, о кончине
Кудрявцева было сообщено в «Колокол» Е. В; Салиас-де-Турнемир,
которой и принадлежат, по-видимому, последние строки, заключенные в
кавычки. Графиня Е. В. Салиас-де-Турнемир (урожд. Сухово-Кобылина)
является автором интересных воспоминаний о Кудрявцеве: Тур Е.
Профессор П. Н. Кудрявцев: Воспоминания. М., 1891.
288
Приложения
здесь целью рассмотрение конкретных проблем средневековой
истории в трактовке Кудрявцева, тем более их подробный анализ.
Наше внимание будет сосредоточено на общеисторических
воззрениях ученого, и, исходя из интересов читателя, сделано это будет
преимущественно на материале его трудов по истории
средневековья.
Для Кудрявцева, как и для Грановского, было характерно
глубокое убеждение в большом общественном значении исторической
науки. Считая исторические знания «одной из первых умственных
потребностей» человека, Кудрявцев полагал, что «для полноты
исторического созерцания необходима сравнительная точка
зрения, а она может быть приобретена лишь основательным
знакомством, кроме истории отечественной, с прочими частями всеобщей
истории человечества»24. Историческая наука, постоянно
совершенствуясь, по его мнению, располагает достаточными средствами
для того, чтобы познавать истину. И он решительно отстаивал
свои убеждения, в частности в полемике с президентом Академии
наук, в недавнем прошлом министром народного просвещения
графом С. С. Уваровым, который вскоре после своего ухода с
поста министра, в 1850 г., публично высказал сомнение, причем
в весьма общей форме, в самой способности историографии к
достоверному изображению прошлого.
Полемика Кудрявцева с Уваровым (см. наст, изд., с. 151—176)
представляет, с нашей точки зрения, не только
историографический интерес. Напротив, поставленный Уваровым вопрос,
достовернее ли становится история (кажущийся на первый взгляд даже
наивным, вопросом «не из круга самой науки», как говорит
Кудрявцев), тем не менее, и это показывает история исторической
науки, предъявляется ей обществом периодически и с не меньшей
остротой. По существу, это тот вопрос, который в современной
методологии истории формулируется как проблема соотношения
объективности и субъективности в историческом познании.
Кудрявцев справедливо полагал, что в данном случае речь может
идти только о соотношении, тогда как противопоставления в духе
Уварова, подрывая авторитет исторической пауки, противоречат
самой ее природе. Размышляя о месте истории среди других паук,
он писал, что «она ищет истины в области, подлежащей ее
ведению, и средствами, ей доступными, и пе может похвалиться, чтобы
уже овладела знанием, вполне равносильным самому предмету;
успехи истории как науки измеряются н одною только мерою
приближения ее к идеалу, но и тем, сколько уже она победила
незнания; чтобы оценить по достоинству то богатство, которым она
располагает на последней (по времени) степени своего развития,
надобно прежде всего взять в соображение, как велик был круг
ее приобретений в предшествующую эпоху» (с. 173).
24 Кудрявцев П. П. Судьбы Италии. М., 1850. С. IV.
Т. Д. Сергеева. Кудрявцев как историк
289
Взгляды Кудрявцева на природу и задачи исторической науки
вообще отличаются большой самостоятельностью,
оригинальностью. Примечательны, например, его разногласия с Грановским.
Высоко оценивая историческую теорию и методологию своего
учителя, Кудрявцев тем не менее открыто высказал неприятие
некоторых его суждений по ряду вопросов, поднятых Грановским в
речи на торжественном собрании Московского университета
в 1852 г. «О современном состоянии и значении всеобщей
истории». Грановский развивал тогда идеи о том, что «история, по
необходимости, должна выступить из круга наук филолого-юриди-
ческах, в котором она так долго была заключена, на обширное
поприще естественных наук»25. В том же году в переводе
Грановского и с его комментариями вышла статья французского
антрополога В. Ф. Эдвардса «О физиологических признаках
человеческих пород и их отношении к истории», где историк высказывал
свое убеждение в том, что исследование вопроса о влиянии
биологических свойств народов на историю принесет науке «большую
точность и определенность». Кудрявцев подверг эти взгляды
Грановского обстоятельному критическому рассмотрению в статье
«О современных задачах.истории» (1853). Эта открытая полемика
между крупными учеными, коллегами по кафедре, наконец,
между учеником и учителем, является, на наш взгляд, примером
высокой требовательности в науке, большой ответственности
историка перед обществом.
Не отказываясь всецело от помощи точных и естественных
паук и признавая отчасти их положительное влияние даже и в то
время на историческую науку, Кудрявцев всячески отстаивал ее
самостоятельное развитие. Позже в работе, написанной в 1854 г.,
он так сформулировал свои убеждения: «Как всякая наука,
история решает свои важнейшие вопросы большею частью своими
собственными средствами»26. Отнюдь не отрицая повторяемости,
наличия определенных закономерностей в истории, Кудрявцев
подчеркивал индивидуальность исторических явлений. Выступая
против отдельных крайностей, свойственных сторонникам методов,
привнесенных в историю из естествознания — статистического,
антропологического и др., он на первый план выдвигал
разнообразные исследовательские, собственно исторические, методы критики
источников, прежде всего сравнительно-исторический,
подчеркивая в связи с этим заслуги Б. Г. Нибура, Л. фон Ранке, отмечая
достижения, сделанные самим Граповским именно на этом пути.
Расходился Кудрявцев с Грановским и в оценке влияния
географического фактора на историю; читатель убедится в этом сам,
прочтя в настоящем издании статью «О современных задачах
истории». Однако подчеркнем все же принципиальное неприятие им
25 Грановский Т. Н. Соч. С. 19.
*ь Кудрявцев П. Н. Древнейшая римская история по исследованию Швегле-
ра /Ι Ср% Т. I. С. 232.
290
Приложения
всех тех идей, которые так или иначе напоминают географический
фатализм. Особенно убедительны, пожалуй, его возражения
К. М. Беру, известному естествоиспытателю, члену Петербургской
Академии наук, который в те годы выступил с большой статьей27,
где высказывал соображения об определяющем влиянии
природных, физических условий на ход всемирной истории, тогда как
влияние отдельных личностей в сравнении с ними, по его словам,
ничтожно. Кудрявцев, в свою очередь, доказывал, что «действие
естественных определений на историю далеко не одинаково во
всех ее моментах, и что рано или поздно приходит время, когда
оно из преобладающего становится второстепенным и само
подчиняется иным влияниям. История народа не имела бы большого
достоинства, если б для нее никогда не наступало это время.
Угадать и определить начало его в ровном ходе событий —
немаловажная заслуга со стороны историка» (с. 191).
Выступая против переоценки роли географических условий и
значения биологических особенностей в формировании характера
народа, ученый полагал, что значительно большее влияние имеет
в данном случае не природа, а история. «Годы прокладывают
морщины на лице человека, исторические события,— писал он
значительно позднее в работе „Каролинги в Италии**,— прорезывают не
менее глубокие следы на нравственной физиономии целого народа.
Их могут закрыть собою новые, последующие события
исторической жизни, но едва ли когда в состоянии изгладить совершенно.
Даже закрытые, они при случае вскрываются снова и либо
обращаются в большую, неизлечимую рану, либо становятся, вместе
с другими отличительными чертами, одним из постоянных свойств
нации, либо, наконец, остаются неизменною гранью в
международных отношениях. Печать историческая, хороша она или дурна,
почти всегда неизгладима»28.
Высказывая эти интересные наблюдения, не утратившие, на
наш взгляд, своей актуальности и в настоящее время, Кудрявцев
в целом оставался в рамках идеалистических представлений об
истории. Воспитанный на гегелевской философии, он не разделял
исканий Грановского на его пути в сторону позитивизма,
признания роли материальных факторов в истории29. Тем более что эти
в то время, вне всяких сомнений, прогрессивные искания, как мы
видели, находились в контексте с целым рядом мнений, спорных
87 Бер К. О влиянии внешней природы на социальные отношения
отдельных народов и историю человечества // Карманная книжка для
любителей землеведения, издаваемая от Русского Географического Общества.
СПб., 1848. С. 197—235.
28 Кудрявцев П. Н. Соч. Т. I. С. 304.
29 См.: Гутнова Е. В., Асиновская С. А. Грановский как историк /
Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. С. 341; Гутнова Е. В.
Т. Н. Грановский об исторической науке // Новая и повейшая история.
1989, № 4. С. 184-192.
7*. Д. Сергеева. Кудрявцев как историк
291
не только с точки зрепия Кудрявцева, но и с точки зрения
современных нам представлений. Однако, как и Грановский, Кудрявцев
призывал всеобщую историю выйти за рамки чисто «политических
событий», изучать также общественную жизнь, народный быт,
учреждения, верования, науку и литературу той или иной эпохи.
Вместе с Грановским он повторял, что «тот не историк, кто не
способен перенести в прошедшее живого чувства любви к
ближнему и узнать брата в отделенном от него веками
иноплеменнике»30.
Как историку-исследователю ему, конечно, были наиболее
близки сравнительно-исторический и филологические методы
интерпретации исторических источников, наверное поэтому и в
теории его симпатии всецело на стороне художественного восприятия
и изображения истории. В своих собственных исследованиях он
широко применял культурно-исторический метод, устанавливая
тесную связь между явлениями культуры, в первую очередь
литературы, и историческим фундаментом, на котором эти явления
строятся. Показательна в данном случае его работа «Дант, его
век и жизнь» (1855). И хотя в теории Кудрявцев мало касался
роли материальных факторов в истории, в своих конкретных
исследованиях он иногда уделял им значительное место. Это можно
видеть и в монографии «Судьбы Италии», работах «Карл V» и
«Каролинги в Италии»; последняя, на наш взгляд, особенно
интересна в этом отношении. Здесь отчетливо видны попытки
ученого искать объяспепия политических событий в социальных и даже
экономических явлениях.
Исключительно большое значение Кудрявцев придавал
эстетическим критериям при оценке исторических сочинений,
результатов работы ученого-историка. Вообще он отнюдь не отрицал,
что в исторической науке, конечно, должны быть различные
частные исследования, которые и не ставят своей целью воссоздание
целостной картины тех или иных исторических событий, явлений
или процессов; они необходимы. Однако история как наука, по
его мнению, пе должна при этом отказываться от художественных
требований; он утверждал, что ученый-историк обязан стремиться
к тому, чтобы его произведения по форме приближались к
искусству, по крайней мере не были бы в разладе с
художественными требованиями. «Идеал художественного исполнения,— писал
он,— отдалился на значительное расстояние, осуществление его
стало в несколько крат труднее; но кто станет утверждать, что он
вовсе не существует для историка нашего времени? Во что
превратились бы исторические сочинения, которыми так справедливо
гордится наш век, если б от них хотели только положительных
результатов науки, оставляя в стороне требования искусства?»
(с. 182).
Грановский Т. Н. Соч. С. 30.
292
Приложения
Нужно ли говорить, что в собственном творчестве Кудрявцев
был далек от сухой, ученой, как тогда говорили — гелертерской,
формы изложения исторического материала. Его сочинения, как
и работы Грановского, оказали поэтому большое влияние на
авторов популярных и учебных книг по западноевропейской и
отечественной истории, изданных в России во второй половине XIX в.
Известно, что Грановский и сам намеревался писать учебник
всеобщей истории31. Вместе с Кудрявцевым они обсуждали планы
издания специального исторического журнала, предполагая
назвать его «Исторический сборник». Программа этого журнала,
сохранившаяся в бумагах Кудрявцева, была опубликована
племянником ученого; П. П. Копосов сообщает, что в конце
рукописи рукою Кудрявцева сделана заметка: «Читана Т. Н.
Грановскому 1-го октября 1855 г. вечером (за два дня до его смерти) и
одобрена им для публикации...»32 «Издание,—писал Кудрявцев,
обосновывая свою программу,—имеет целью содействовать успехам
и распространению в нашем отечестве исторических знаний
вообще. Потребность в подобном издании указана уже отчасти
успехами отечественной истории. Новые исследования в ней все больше
и больше открывают необходимость изучения ее в связи с
историей других народов»33. Планам этим не суждено было
осуществиться. Правда, уже после смерти Грановского, в 1856 г. Кудрявцев
становится руководителем отдела политических обозрений
«Русского вестника», либерального в те годы
литературно-политического журнала, издателем которого являлся M. Н. Катков. В том же
году он с женой выезжает за границу для лечения; в «Русском
вестнике» печатались его путевые заметки, но к активной
деятельности в качестве редактора этого журнала он так и не
приступил. Однако стремление к широкому распространению
исторических знаний в обществе пронизывает все его творчество.
Современники особенно высоко оценили его работу «Римские
женщины. Исторические рассказы по Тациту». В ней Кудрявцев
предстает как блестящий мастер исторической прозы. Выход в
свет этой книги в 1856 г. отметили не только либеральные
издания; Н. Г. Чернышевский на страницах «Современника» также
дал ей высокую оценку. Он писал: «Мы не имеем нужды повторять
теперь единогласного мнения о мастерских рассказах г.
Кудрявцева, которые живо передают читателю трагические судьбы
последнего поколения Цезарей и в то же время прекрасно
знакомят с знаменитым историком начала Римской империи»34. Книга
«Римские женщины» построена в основном на «Анналах» Тацита,
81 Записка Т. Н. Грановского к программе Учебника всеобщей истории /
Грановский Т. Н. Соч. С. 589—657.
82 Программа Исторического Сборника, составленная профессором
П. Н. Кудрявцевым // Русская старина. 1886. № 8. С. 395—400.
м Там же. С. 396.
•4 Чернышевский //. Г. Поли. собр. соч. М., 1947. Т, III. С. 597.
Т. Д. Сергеева. Кудрявцев как историк
293
некоторые дополнения взяты из Светония и Диона Кассия.
Тонкий психологический анализ, присущий сочинениям Тацита,
предельно адекватно передан Кудрявцевым. В пяти очерках он ярко и
красочно повествует об Агриппине Старшей и Мессалине,
Агриппине Младшей, Поппее Сабине, Октавии; вместо эпилога в книге
помещен рассказ о Нероне. Это несколько неожиданное
включение Нерона в галерею римских женщин можно объяснить,
пожалуй, только интересом Кудрявцева к психологическому анализу
исторических личностей, а овеянная легендами личность Нерона
не могла не привлечь его внимания35.
Филигранный психологический анализ исторического
материала вообще является отличительной чертой сочинений и лекций
Кудрявцева. Теперь, когда его лекционный курс опубликован,
можно говорить об этом с полным основанием, и все же сошлемся
здесь на воспоминания одного из *его слушателей, впоследствии
известного историка К. Н. Бестужева-Рюмина, того самого,
именем которого были названы петербургские Высшие женские
курсы. Он вспоминал, что изображение прошлого П. Н. Кудрявцевым
было «обширное, полное самых дробных психологических
соображений»36. В произведениях Кудрявцева — целая серия
исторических портретов, среди них прежде всего выделяются личности
противоречивые, ищущие, это Данте, Макиавелли, Лютер. Даже
эпоха раннего средневековья, источники которой, как известно, не
дают обильного материала для социально-психологических
характеристик, в его изображении наполнена живыми, с конкретно
обрисованным характером, личностями.
Другой отличительной чертой Кудрявцева как историка
является его большой интерес к эпохам, переходным по своему
характеру. Обладая той меткостью исторического взгляда, которую
особенно ценил в нем Грановский, Кудрявцев сумел разглядеть в
истории западноевропейского средневековья именно те периоды,
которые и в конце нашего столетия, с точки зрения
современных теорий и методологии истории, расцениваются как
переходные. Прежде всего, в его представлении, это эпоха падения
Западной Римской империи и рождения нового, средневекового мира на
развалинах античности. Такими же переходными по своему
характеру периодами считал он в истории Италии век Данте,
в истории Западной Европы в целом — эпоху гуманизма и
Реформации.
В заключение остановимся на трактовке Кудрявцевым одной
из них, на эпохе генезиса феодализма 37. Считая зарождение
феодализма прогрессивным явлением, ученый связывал его начало
с расселением германцев на римской территории и возникновением
35 Подробнее об этом см.: Бороздин И. Н. Указ. соч. С. 182.
36 Бестужев-Рюмин К. Я. Биографии и характеристики. СПб., 1882. С. 291.
37 О взглядах Кудрявцева на эпоху гуманизма и Реформации см. статью
С. А. Асиновской, наст. изд.
294
Приложения
у них земельной собственности, которое, по его словам, было
«фактом чрезвычайной важности»38. Рассматривая вопрос о
генезисе феодальной собственности на землю, он подчеркивал
длительность этого процесса, его постепенный характер. По его
мнению, свободная аллодиальная собственность и феодальная долгое
время, во всяком случае на протяжении всей эпохи Меровингов,
«сосуществуют вместе, одна подле другой»39. Весьма интересным,
особенно под углом зрения исследований, предпринятых позднее
в русской науке П. Г. Виноградовым и M. М. Ковалевским, а в
советское время А. И. Неусыхиным, представляется замечание
Кудрявцева о том, что «аллодиальное владение, превращаясь
постепенно в бенефициальное, не исчезло совершенно без следа и для
последующей истории»40.
Однако все же не эти, действительно удивительно меткие,
суждения ученого о социально-экономическом развитии в эпоху
раннего западноевропейского средневековья, которые мы находим
в одной из его последних работ, «Каролинги в Италии», являются
наиболее характерными для Кудрявцева как историка, и не в них
заключаются его сильные стороны как исследователя. Сам он одпу
из первостепенных задач исторической науки видел в том, чтобы
«выяснить и спасти от забвения человеческие черты в жизни
исторических лиц»41. И на этом поприще он, пожалуй, до сих пор
в отечественной науке не знает себе равных.
Любопытно в связи с этим сравнить монографию Кудрявцева
«Судьбы Италии» с книгой П. Г. Виноградова «Происхождение
феодальных отношений в Лайгобардской Италии». (СПб., 1880).
Оба исследования, отстоящие друг от друга по времени ровно на
тридцать лет, посвящены одной и той же стране — Италии в один
и тот же период ее истории. Между тем подходы историков к
рассмотрению исторического материала принципиально
различны 42. Не входя здесь в подробности источниковедческого
характера, отметим главное, что позволит нам затем сделать некоторые
выводы. Кудрявцев сосредоточивает свое основное внимание на
фактах политической истории, в источниках ищет материалы для
психологической характеристики исторических личностей.
Виноградов, напротив, почти вообще не упоминает имен, его внимание
обращено главным образом на источники правового происхожде-
38 Кудрявцев /7. Я. Каролинги в Италии / Соч. Т. I. С. 388—389.
89 Там же. С. 392.
40 Там же. С. 397. О судьбах аллодиального владения у франков, в ланго-
бардском обществе и т. д. см.: Неусыхин А. И. Возникновение
зависимого крестьянства в Западной Европе VI—VIII вв. М., 1956. Дальнейшие
его судьбы прослежены советским ученым на материале истории
средневековой Германии. См.: Он же. Судьбы свободного крестьянства в Герма*
пии в VIII—XII вв. М., 1964.
41 Кудрявцев П. Н. Соч. Т. I. С. 490.
42 Впервые на это обратил внимание О. Л. Вайнштейн. См.: Вайнштейн О. Л%
Указ. соч. С. 300.
Т. Д. Сергеева. Кудрявцев как историк
295
ния, тогда как в основу монографии Кудрявцева положены
хроники, в первую очередь итальянские хроники, опубликованные в
монументальной серии Муратори. В исследовании Виноградова
центральными являются вопросы не социально-политического как
у Кудрявцева, а социально-экономического развития.
Длительное время в отечественной медиевистике традиции
научной школы Виноградова с ее преимущественным вниманием к
вопросам социально-экономического развития в рассмотрении
истории, в частности раннего западноевропейского средневековья,
бесспорно, преобладали. В советский период эта традиция,
воспринятая и развитая новым поколением ученых,
историками-марксистами, послужила основой, необходимым фундаментом тех
крупных достижений, которые были сделаны в этой области Н. П.
Грацианским и А. И. Неусыхиным, в области развитого и позднего
средневековья — Е. А. Косминским и С. Д. Сказкиным. В
настоящее время в отечественной историографии в целом наблюдается
определенный поворот к комплексному изучению проблем, в
научных трудах и учебных программах высшей школы ставятся
задачи целостного изучения и освещения той или иной
исторической эпохи. Впрочем, пожалуй, не только современная ситуация,
так сказать, внутри науки, но и новые социально-политические
обстоятельства, когда на первый план выдвигаются
общечеловеческие ценности,— все это как бы приближает к нам творчество
Кудрявцева. Думается, что, обогащенный новейшими научными
знаниями, современный читатель сумеет по достоинству оценить
его исторические сочинения, с интересом проследит за мыслями
ученого середины прошлого столетия о природе и задачах
исторической науки, с симпатией отнесется к его стремлениям показать
человеческую личность в истории.
Т. Д. Сергеева
ГУМАНИЗМ И РЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ.
АВТОГРАФ КУРСА П. Н. КУДРЯВЦЕВА
(историко-археографический обзор)
Безвестной до последнего времени оставалась большая часть
научного наследия историка прошлого века Петра Николаевича
Кудрявцева, сыгравшего важную роль в развитии отечественной
науки. Нельзя по-настоящему оценить значение ученого, а тем
более воссоздать облик профессора университета, не обратившись
к изучению всего его наследия, в том числе университетских
курсов. Публикация собственноручной записи одного из таких
лекционных курсов П. Н. Кудрявцева поможет восполнить этот
пробел и будет во многом способствовать более глубокому
пониманию состояния исторической мысли предреформенной России»
Тяжелые условия николаевского режима ограничивали
возможность передовых ученых публично высказывать свои
убеждения, хотя атмосфера молодой университетской аудитории,
казалось, способствовала свободному, раскованному общению со
студентами. В этих условиях учитель и старший товарищ
Кудрявцева Т. Н. Грановский сумел в своих блестящих лекциях
выразить протест против крепостнических устоев и политической
реакции в России !.
Кудрявцев был одним из самых близких учеников Грановского.
Став его коллегой по кафедре всеобщей истории Московского
университета, он читал попеременно со своим учителем лекции
по древней, средневековой и новой истории. После смерти
Грановского Кудрявцев принял руководство кафедрой.
Во многом общей была судьба двух историков. Участие в
идейных спорах того времени, общение Грановского с Герценом
α Огаревым, другом которых ou был, Кудрявцева с Белинским
формировало общественный настрой этих учепых. Современники
отмечали сходную манеру их обрашения со студентами и
стремление к творческому характеру процесса обучения. Так, поэт
А. Н. Плещеев в письме к петрашевцу С. Ф. Дурову, которое
послужило поводом для полицейского надзора над Грановским
и Кудрявцевым, писал о большом влиянии этих ученых на
студентов: «Они оба превосходно читают... обходятся со студен-
1 См., например: Грановский Т. В. Лекции по истории средневековья. М.»
1986.
С. А. Асиновская. Автограф курса П. И. Кудрявцева 29Т
тамп как с равными себе и... вообще стараются развить в них:
хорошие семена»2.
И Грановский и Кудрявцев стояли у истоков русской
медиевистики. Глубокое знание западноевропейской истории
позволило им посмотреть на современную Россию в контексте
общеевропейского развития. Оба историка не только были свободны
от распространенной в историографии XIX в. идеи
европоцентризма, но, более того, стремясь расширить историческое
образование, обращались к прошлому стран Востока3. Этот интерес
и высокая оценка культуры Востока, ее влияния на европейские
культурные традиции отразили понимание ими европейской
истории как части всемирно-исторического процесса.
Вместе с тем их научные и общественные позиции во многом
разнились. Грановскому становились тесными рамки
гегелевского идеализма; в последние, годы своей жизни он
обратился, как известно, к поискам новой научной методологии. Его
гражданские позиции определили резко критические оценки
крепостнических отношений и нескрываемое горячее сочувствие-
к судьбе угнетенного крестьянства. У Кудрявцева мы не находим
столь свойственной Грановскому глубины проникновения в
общественную жизнь; менее заметна и характерная для Грановского
эмоциональная окрашенность излагаемого им материала,
раскрывающего жизнь народа.
В своих лекциях Кудрявцев, конечно, обращался к
социальной и политической истории, однако главное внимание он
сосредоточивал на вопросах духовной жизни общества, его
нравственного состояния, культуры. Всему этому он придавал важнейшее
значение. В решении названных и ряда иных проблем он во
многом продолжал гуманистические и просветительские традиции,,
заложенные его прославленным учителем. Все это можно увидеть,
при внимательном прочтении публикуемого нами курса по
истории гуманистических идей и Реформации.
Обращаясь к характеристике перелома, определившего
переход к истории «нового времени», Кудрявцев, видимо, начинал
свой курс кратким обзором первых шагов гуманистического
направления в разных странах Европы. Особое внимание здесь
он уделял итальянскому гуманизму, прежде всего учению
Макиавелли. Далее курс строился по следующим, намеченным самим
автором, разделам: I. Гуманизм в Германии; II. Элемент
религиозный; III. Спор об индульгенциях; IV. Обозрение истории
2 Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М.,
1953. С. 722.
ь См., например: Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья. М.,
1961. С. 203. См. также по этим вопросам: Геръе В. И. П. Н. Кудрявцев
в его учено-литературных трудах / Вестник Европы, СПб, 1887, № 9,
С. 146-148.
20 п. Н. Кудрявцев
29H
Приложения
Реформации; V. Мир католический. Реформация во Франции;
ΎΙ. Борьба католического мира с протестантским; VII.
Реформация на Севере Европы.
Материалы для чтений накапливались в течение длительного
"времени. Со свойственными молодому ученому тщательностью,
трудолюбием Кудрявцев изучил широкий круг источников,
постоянно знакомился со всем новым, что появилось в мировой
исторической литературе. Определялись и его научные интересы,
стремление исследовать переломные эпохи истории прошлого.
Эти материалы курса неоднозначны, неравноценны по
характеру использованных источников. В первых разделах автографа
Кудрявцев широко использует оригинальные тексты сочинений
Макиавелли, Эразма, «Писем темных людей» по доступным ему
изданиям4. В изложении же Кудрявцевым сюжетов,
посвященных, например, истории идейного движения XIV—XV вв. в
Германии, немецкой мистике или немецкой Реформации, есть свои
особенности. Не имея, по-видимому, в то время, когда
создавался курс, ряда оригинальных источников, ученый пользовался
теми текстами (на латинском, немецком и других европейских
языках), которые приведены в сочинениях К. Хагена, Ж. А. Мер-
ля д'Обинье, Л. Ранке и др. Интересен, однако, отбор важнейших,
с его точки зрения, документов, позволяющих наиболее
выразительно показать суть событий, характеры действующих лиц. По-
своему подходит Кудрявцев и к той научной литературе, на
которую он опирается, создавая фактическую основу лекционного
курса.
Русская наука о всеобщей истории середины XIX в.
находилась в процессе становления, и естественно, что Кудрявцев, как
и другие историки того времени, широко использовал опыт
западноевропейских ученых самых различных направлений.
Прекрасно ориентируясь в новейшей литературе, он знакомил с ней
студентов, стремясь при этом критически ее осмыслить,
расставить свои акценты. Зачастую Кудрявцев высказывал сомнения в
аргументированности ряда положений, искал новые подходы к
решению отдельных проблем. Оригинальность, самостоятельность
Кудрявцева как исследователя отмечал Т. Н. Грановский: он
писал, что, пользуясь трудами своих предшественников на
научном поприще, русский ученый шел «собственным путем»,
подвергая их выводы «тщательному, почти недоверчивому пересмотру»5.
Заметим, что творческий поиск Кудрявцева можно проследить
и при ознакомлении с публикуемыми лекциями. Видно, как в
процессе их создания ученый стремился к более полному
раскрытию того или иного сложного исторического понятия, искал более
ясные объяснения исторических терминов, делал заново или уточ-
4 Мы находим этп издания в библиотеке Т. Н. Грановского и самого
П. Н. Кудрявцева. См. их фонды в Отделе редких книг НБ МГУ,
* Грановский Т. Н. Соч. М., 1900. С. 418.
С. А. Асиновская. Автограф курса П. Н. Кудрявцева 299>
нял переводы источников; в самом тексте или на полях рукописи·
встречаются различные варианты изложения материала.
К сожалению, пока не удалось найти студенческих ваписей
этого курса, что помогло бы уточнить время его чтения. Однако·
с полной уверенностью можно сказать, что в 50-е годы Кудрявцев
неоднократно читал этот курс. Сохранились воспоминания
современников, слушателей, показывающие, с какой увлеченностью
воспринимались студентами его лекции, какой большой отклик
имели они в молодой аудитории. Так, И. М. Сеченов, посещавший,
будучи студентом Московского университета, лекции в начале-
50-х годов, вспоминал: «Чуть не рядом с аудиторией (в новом
здании), где читали Топорков, Анке и Басов, читалась Петром-
Николаевичем Кудрявцевым история Реформации; и я прослушал
весь этот курс с таким восхищением, с каким читал позднее его*
„Римских женщин по Тациту"»6.
Самый предмет чтений по истории Реформации был, и по*
словам С. В. Ешевского, в высшей степени близок Кудрявцеву:
«Истории освобождения человеческой мысли от двойных оков·
мертвой схоластики, обрядовой внешности и бездушного форма*
лизма не мог не отдать он [Кудрявцев] своего сочувствия...»
Кудрявцева привлекала в первую очередь, говорилось в статье,
«сама жизнь тех поколений, судьбам которых он посвящал свое
внимание»; проникая в духовные и общественные интересы этих
поколений, он «с особенной любовью следил за титанической
работой человеческой мысли»7.
Высоко ценили курсы Кудрявцева К. Н. Бестужев-Рюмин,.
А. Н. Веселовский, В. И. Герье8, которым, конечно, были близки
его интересы к культурной и духовной жизни прошлого.
Итак, перед нами первый в России курс, специально
посвященный истории гуманизма и Реформации; самый его замысел
приобретал в тогдашних условиях особое значение9. Проблемы курса
были тесно связаны с теми задачами, которые вставали перед
лучшими людьми русского общества середины XIX в., стремившимися
освободить науку от церковно-мопархической рутины.
Как «Вступительную лекцию», так и последующие
пронизывает мысль об исторической обусловленности современности, жи-
6 Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956. С. 187»
7 Ешевский С. В. П. Н. Кудрявцев как преподаватель / Русский вестник.
М., 1858. Т. 13. Кн. 2. С. 109-110.
8 Бестужев-Рюмин К. Н. Биография и характеристики. СПб., 1882. С. 9;
Веселовский А. Н. Автобиография / Пыпин А. Н. История русской
этнографии. СПб., 1891. Т. II. С. 424; Герье В. И. П. Н. Кудрявцев в его учено-
литературных трудах / Вестник Европы. СПб., 1887, № 9, С 146—198;
№ 10. С. 564-598.
9 Напомним, например, что еще в начале 40-х годов попечитель
Московского учебного округа граф Строганов стремился ограничить возможности
чтения лекций по Реформации. См.: Т. Н. Грановский и его переписка.
М., 1897. Т. II. С. 462.
20*
300
Приложения
вой ее связи с прошлым. «Если исход новой истории,— говорил
Кудрявцев,— теряется в неопределенности будущего, то самые
ΉβρΒΒίβ всходы в нее лежат совершенно открыто перед человеком
нашего времени» (с. 5). Все великие перемены, весь «новоздан-
лый мир» в его представлении вырастают прежде всего «внутри
«сознания», знаменуют собой прогрессивные сдвиги, в первую
очередь в духовной жизни общества.
Бурные события эпохи Возрождения и Реформации Кудрявцев
«считал важной гранью, отделяющей средневековье от этого
«нового времени»; средневековье было уже «подкопано со всех
сторон» (с. 78). «Великие перемены» в жизни европейских народов,
связанные, по мнению ученого, прежде всего с зарождением
гуманистических идей и появлением «новой свободной теологии»,
были неизбежно направлены против препятствующего духовной
независимости церковного деспотизма. Ученый подчеркивал, что
путь в борьбе с силами реакции был труден: «Новый мир,— писал
он,— не вышел, как Паллада-Афина, вполне вооруженный из
думы и воли средних веков: его зарождение было трудно, рост и
воспитание исполнены внутреннего смятения и тревог» (с. 10).
В этом трудном процессе рождения нового мира и нового
сознания Кудрявцев отводил особую роль человеку. В лекциях читаем:
«Времена порождают людей, люди творят события, которыми
побеждаются старые времена со всеми их предрассудками» (с. 77).
Своей концепции о «всеобщем перевороте» при переходе
к «новому времени» ученый подчиняет рассмотрение основных
тсроблем курса. Суть «нового направления» в истории
европейского общества раскрывается им уже в первых лекциях,
посвященных итальянскому гуманизму. Центральное место в них
занимает творчество Макиавелли, анализируя которое он пытается
осмыслить происходящие в обществе XV—XVI вв. перемены,
прежде всего в сфере политических идей и политических
структур. Главное содержание концепции Макиавелли Кудрявцев
справедливо усматривал в последовательно проведенной им идее
сильной государственности и политического единства. Объясняя
глубину и цельность этой концепции, Кудрявцев апеллирует к
опыту политической жизни и практики самого Макиавелли,
которые «изострили смысл» его теории, а также к
превосходному знанию им античной истории. Он подчеркивает
политическую окраску антицерковной направленности трудов
Макиавелли; итальянский мыслитель, выделяя вопрос о
соотношении светской и церковной власти, решал его в пользу
первой.
В подробностях раскрывая принципы политической морали,
изложенные в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» и в
«Государе», Кудрявцев отмечал, что принцепс, князь — это только
«символ государственной власти». Заслуживая осуждения с точки
.зрения «христианской нравственности», он мог быть тем не менее
С. А. Асиновская. Автограф курса П. Н. Кудрявцева 391
объяснен потребностями современной жизни, и прежде всего
итальянской действительности XVI в.
В своей оценке исторического значения идеи сильной
государственности Кудрявцев считал возможным подчеркнуть ее
плодотворность не только для раздираемой смутами Италии, но и
вообще для политического устройства европейских стран начала
чшового времени», которое должно было сломать средневековую
иерархию. В связи с этим, очевидно, следует рассматривать и его
«лова о том, что «настоящая политика нового мира в высшем ее
значении началась с Макиавелли», который своей гениальной
мыслью далеко проник в будущее (с. 18). Нельзя не подчеркнуть
при этом, что ученый ясно представлял себе различие между
«государственной идеей» самого Макиавелли и, по его
собственным словам, «итальянскими средствами», т. е. тем, что потом
стало именоваться макиавеллизмом (с. 17). Кудрявцев ставил
победу нового и в политической жизни в зависимость от
изменений «в основании общества»—в его сознании.
В характеристике гуманизма в Германии (раздел I) автор
курса дает живую, яркую картину его развития, особо отметив
влияние Италии на распространение в других странах Европы
гуманистических идей, а также на изменения в области
образования, подготовившие этот процесс. Особенно интересны его
рассуждения о роли, которую сыграло обращение к античному
наследию в обстановке засилья схоластики: целый мир новых идей
и понятий был брошен, по словам Кудрявцева, в «запустение»
и «оцепенение» умственной жизни средневековья. По мысли
лектора, именно гуманизм сумел по-новому воспринять философию
Аристотеля, очистив ее от позднейших догматических наслоений
схоластики.
Особое место в лекциях занимает оценка поздней схоластики,
в борьбе с которой оформилось новое гуманистическое
направление. Мастерски используя произведения гуманистов, переводы
которых, с уточняющими вариантами, он приводит в тексте.
Кудрявцев дал впечатляющую характеристику схоластики, назначение
которой, по его словам, заключалось в том, чтобы сковывать
пытливость ума, не идти в познании «дальше известных границ»,
подменять «свободу высказывать мысли» неоспоримым
приговором авторитета. «Какой жизни, какого свободного движения,—
спрашивал лектор,— можно было ожидать от такой науки?»
(с. 33). В понимании Кудрявцева, таким образом, схоластика,
осмеянная еще людьми XVI столетия, была не только далеким
прошлым; напротив, в его лекциях речь шла о еще не
побежденном живом и упорном противнике. Он страстно выступает в
защиту свободного независимого развития науки. Единственной
заслугой схоластики, по его словам, было то, что она «своим
безжизненным формализмом» подготовила жажду, с которой общество
ч<бросилось па новое направление» (с. 36).
802
Приложения
Кудрявцев улавливал связь между развитием гуманизма и
сдвигами в общественной жизни. Так, антицерковный настрои
гуманистов Кудрявцев объясняет в первую очередь тем, что
католическая церковь поощряла схоластику, засилье которой он не
отделял от позиций папской власти, сковывающей сознание людей.
Замечая, что всякий великий и новый успех ума церковь
объявляла ересью, ученый видел в этом объяснение и «страху
Коперника и участи Галилея» (с. 95).
В развитии оппозиционных к церкви настроений большой
интерес представляют высказывания левдора о роли народной
поэзии и литературы. Наиболее действенной формой этой литературы
стала, по словам Кудрявцева, народная сатира, разившая того
же противника, с которым сражались и ученые-гуманисты. Он
подчеркивает идейное содружество и идейную связь окрепшего
в дальнейшем гуманизма и «популярного», т. е. демократического,
направления в литературе. Соединяясь с народной сатирой,
говорил ученый, гуманизм, «как новое живое начало, везде
производил явления, в высокой степени замечательные» (с. 40).
Начало серьезного столкновения «нового направления» со
схоластикой, с католической иерархией Кудрявцев усматривает
в деятельности Рейхлина, отстаивавшего свои взгляды «почти
в виду еретического костра»; поддержанное общественным
мнением, «дело Рейхлина» стало первой победой гуманизма. Особа
важным он считал вклад Эразма Роттердамского. Его «Похвала
Глупости», отмечал Кудрявцев,— это один из самых
чувствительных ударов, нанесенных католической идеологии, фарисейству
и невежеству церковников и монахов. Заслугу наиболее яркого
представителя молодого поколения гуманистов, Гуттена, он
видел в открытом поединке с римской иерархией. Натура страстная*
отмечал лектор, Гуттен был рожден «не для мирных ученых ро-
зысканий... но для шумной деятельности публичной». В этом,
в частности, он видел его отличие от Эразма. Наконец, гуманизм
достиг наибольшего накала в обличении схоластики
публикацией бессмертного памятника эпохи—«Писем темных людей»г
рассказавших, по словам Кудрявцева, «тайную историю своих
противников»— схоластов. Именно эти письма вызвали особую ярость
схоластики, не простившей, как писал Кудрявцев, ни себе
позора, ни гуманизму его победы.
Поставив более общий вопрос о степени проникновения
гуманистических идей в народ, он проницательно отмечал, что
гуманизм мог «расходиться только в тех классах, которым было
доступно образование... Просвещая одни классы, гуманизм должен
был оставить совершенно в тени другие и тем резче проводить
между ними разделение» (с. 64). Поэтому, высоко оценивая
значение гуманизма — этого достояния «лишь образованных классов»,
Кудрявцев тем не менее считал, что одного его было недостаточно
С. А. Асиновская. Автограф курса П. Н. Кудрявцева 80$
для того, чтобы свершить переворот в общественном сознании.
Для коренного переворота в сознании масс требовалось
общедоступное средство, которым он называл «религиозный элемент»»
религиозный дух (с. 65).
Такой переворот в духовной жизни у Кудрявцева оказывается
связанным с реформационным движением, предыстории
которого — нарастанию внутрицерковной оппозиции — он посвящает
один из разделов курса, озаглавленный «Элемент религиозный».
Кудрявцев вполне реалистично видел «необходимость
религиозного элемента» для преобразования общества в религиозном
сознании средневекового человека. Объясняя постоянную смену идей
и учреждений в Европе их «несоответствием требованиям
времени», ученый называл преждевременными попытки Виклефа,
альбигойцев и гуситов действовать в направлении духовного
переворота. Не случайно, однако, Кудрявцев не уточпяет природу той
«превозмогающей силы», перед которой они терпят поражение,
не понимая, очевидно, значения тех самых социальных условий,
которые определили победу Реформации в XVI в. и ее отличие
«от средневековых ересей. В объяснении истоков реформационного
движения он зачастую ограничивается анализом идейно-культур-
пых и политических условий жизни.
Рассматривая Реформацию в контексте общеевропейского
развития, Кудрявцев пишет о се первых шагах в Италии. Он
выделяет фигуру Савонаролы, назвав его «олицетворенным укором
тогдашнего нравственного состояния общества»; во Франции он
видит подобные явления в деятельности Лефевра д'Этапля. Од-
пако главпое действие, имевшее большое значение для будущего
Реформации, развернулось в Германии, где нравственный упадок
церкви и стеспение умственной свободы приобрели особо
выраженные формы. Здесь истинно религиозный элемент, как писал
Кудрявцев, находился в «вавилонском пленении» у церкви; понятие
церкви слилось с понятием папства и церковной иерархии, учение
о спасении души подменила практика продажи индульгенций.
Осмеянию подвергаются в лекциях противоречащие вдравому
смыслу примеры почитания мощей и реликвий. Протест против
засилья папской церкви в Германии, по мнению лектора,
подтолкнули не только неблагоприятные условия раздробленности
страны, но и духовный склад народа, его склонность к
углубленному мышлению.
Духовные истоки Реформации Кудрявцев видит не только в
гуманизме, но и в мистицизме — направлении, представители
которого делали попытку освобождения от средневекового
сознания. Мистики, отмечал он, искали возможности непосредственного
общения, слияния человека с божеством (с. 71). Кудрявцев
критикует такие «крайности» и заблуждения мистицизма, как
аскетизм и философская созерцательность. Вместе с тем он одобряет
«высокий накал» мысли мистиков, их «высокую настроенность»
304
Приложения
по сравнению с формализмом и корыстолюбием римской церкви-..
Мистики, отмечал Кудрявцев, переносили акцент с внешней,
обрядовой, культовой стороны религии на повышение
индивидуализации религиозного сознания. Это было важно для подготовки
Реформации, вот почему Кудрявцев пишет, что если снять с
мистицизма его покров, то «мы будем иметь... чисто рациональное
учение» (с. 75). Прослеживая развитие мистицизма, он подробна
останавливается на учении Экхарта, Сузо и Таулера. Среди так
называемых новых теологов XV в., предваривших выступление
Лютера, он рассказывает о Геилере Кайзербергском и Иоганне:
Весселе.
Считая Лютера выдающимся человеком, который своим
учением ответил на потребности времени, а самой реформе церкви
дал необходимую организацию, Кудрявцев уделил особое
внимание его биографии. «Поучительна жизнь великого человека»,
говорил лектор, выделяя отдельные вехи в становлении характера
будущего реформатора: суровое воспитание в семье,
любознательность подростка, специфическое схоластическое образование
в Эрфуртском университете, аскетизм мопастырской жизни,
влияние гуманизма и, наконец, его практический опыт — выступления
с кафедры в Виттенбергском университете и путешествие в Рим,
усилившее желание разрыва со старой догмой.
Отмечая связи Лютера с гуманистами (Рейхлином, Гуттеном
и др.), Кудрявцев обращает внимание на его расхождения с
Эразмом, в учении которого, по мнению Лютера, «человеческое брало
перевес над божественным»; он полагает, что это были
разногласия между теологом-мистиком (Лютером) и теологом-гуманистом
(Эразмом). В заключении раздела Кудрявцев лишь намечает
контуры учения Лютера о благодати и человеческой воле. По мере
того как крепли в острой борьбе с защитниками старой догмы
убеждения Лютера, углублялось и достигало своей
«окончательной определенности» и его учение (с. 94).
В анализе собственно реформационного движения (разделы III,
IV) Кудрявцев далек от того, чтобы видеть в нем простую смену
религиозных верований. Считая центральной фигурой этого
широкого общественного движения в Германии Лютера, он ярко
прорисовывает психологический облик «великого реформатора»— его
упорство в идейных столкновениях с Тецелем, чья торговля
индульгенциями вызвала всеобщее возмущение в стране 10, а также
с Гохстратеном и Экком, его мужественную позицию на Вормс-
ском рейхстаге. Кудрявцева интересует в первую очередь роль
Лютера в организации общественного протеста против церковного
деспотизма, главной жертвой которого оказалась именно
Германия, воздействие его учения, благодаря которому, как считал
10 Торговлю индульгенциями Кудрявцев называл одной из «позорных
страниц истории человечества» (с. 98): в стремлении «откупиться деньгами
от всех грехов» он видел глубокий упадок нравственности.
С. А. Асиновская. Автограф курса Я. Я. Кудрявцева 305
Кудрявцев, религиозный элемент был отделен от церковного.
Кудрявцев выделяет тагже политические задачи и
общественное содержание реформационного движения в Германии.
С определенного этапа это движение, как он скажет об этом и
ттозже, приобретает характер «в полном смысле народного»,
охватившего почти все сословия11. С этими изменениями он связывает
появление требований социальных преобразований и параллельно
идущее размежевание сил, в ходе которого Лютер разошелся с
более радикальными направлениями, представленными Карлштад-
том и Мюпцером.
Оценка Кудрявцевым природы широкого народного движения
^ыла крайне противоречива. В решении ряда важных проблем
истории Крестьянской войны Кудрявцев дал во многом иную их
трактовку, чем крупный ученый того времени Л. Ранке,
фактический материал книги которого (так же как и К. Хагена) он
использует. Кудрявцев гораздо глубже подходит к выяснению
причин широкого народного движения XVI в. С одной стороны,
Крестьянская война оказывается в его интерпретации
продолжением более ранних движений немецкого крестьянства. Их
неизбежность он связывает с многовековым угнетением крестьянства:
«Не могли они („поселяне"), восставая против иерархии
церковной, не восстать и против иерархии светской, которая лежала
на них еще тяжелее первой». С другой стороны, Кудрявцев
подчеркивает значение реформационных выступлений Лютера в
дальнейшей радикализации народного движения. «Неудовольствие
копилось годами, новое движение придало ему более силы и
энергии» (с. 141).
Утверждения о недовольстве народа своим положением
Кудрявцев подкреплял извлечениями из жалоб и требований крестьяп,
отраженных в таких документах, как памфлеты, «беглая
литература брошюр», которая должна была «сильно расшевелить старое
ведовольствие» народа, «Реформация Фридриха III».
Рассматривая крестьянскую программу «12 статей», лектор отмечал здесь
две тенденции, проявившиеся в ней,— антииерархическую и
антифеодальную с требованием личной свободы и смягчения гнета.
В Гейльбропнскоп программе он обращал внимание на
выдвинутую в ходе Реформации «смелую идею восстановления единства
Германии на национальных началах», но, к сожалению, по его
словам, идею для своего времени совершенно неисполнимую
(с. 146).
Кудрявцев понимал неизбежность выступлений угнетенных за
свои права; вместе с тем, подобно Ранке, он отмечал
«разрушительный» характер Крестьянской войны, с осуждением говорил
о насильственных методах их действий против своих угнетателей.
Тем не менее в, казалось бы, бесстрастном повествовании Кудряв-
11 См.: Кудрявцев П. Н. Карл V / Соч. М., 1887. Т. II. С. 343.
806
Приложения
цева о подавлении Крестьянской войны содержатся многочислен-
вые свидетельства кровавой расправы, массовых убийств,
грабежей со стороны дворянства. Победители, подмечал он, «не
хотели быть ни великодушными, ни умеренными» (с. 149).
«Крайности» Крестьянской войны олицетворяет для
Кудрявцева Томас Мюнцер, глубокое воздействие идей которого на
народ лектор признает. Желание Мюнцера освободить крестьян от
всех тягот соединялось, по его словам, с фанатическим призывом
истребить «мечом неверующих», т. е. тех, кто не разделял его
программу. Упрекая и Мюнцера, и связанное с его идеями
повстанческое движение крестьян в отказе от «всякого
послушания властям», Кудрявцев как бы противопоставлял Мюнцеру
Лютера, который, как подчеркивал ученый, оставался хотя и менее
верным закону «беспрестанного поступления вперед», но зато
и не пошел дальше своих убеждений, «не увлекся ни одной
утопией» (л. 153). Кудрявцев, сам склонный, по собственному
признанию, к реформам, а не революционным преобразованиям,
видит заслугу Лютера в умении соблюсти меру, противостоять
«односторонним», на его взгляд, идеалам повстанцев.
Общий склад мировоззрения Кудрявцева проявился в его
отношении к анабаптизму. Вполне реалистично он отмечает связь
его с промышленным развитием и обеднением «ремесленной
массы», которая пыталась изменить политические и социальные
порядки 12. Ее идеалы, однако, он объявляет «несбыточной химерой»
общественных отношений, используя для этого пример Мюнстер-
ской коммуны. В своей попытке уничтожения частной
собственности ее руководители, по словам Кудрявцева, шли на жестокости
(л. 150 об.). Он оценивает историю коммуны как анархию, как
фанатическое движение, приведшее к господству «теократии» и,
что вызывает его особое неприятие, к разделу имущества
(л. 150 об.). Кудрявцев, однако, не отказывает ее участникам
в мужестве.
Более сочувственно изображается Кудрявцевым
демократическое движение в Любеке и некоторых других городах Ганзы,.
поскольку там, с его точки зрения, не было той
«односторонности», которую он усматривал в Мюнстерской коммуне.
В оценке религиозных и политических проблем Реформации*
как это видно из лекций, Кудрявцев был более прозорлив, чем
в анализе социальных требований народных масс. Он верно
отмечал позднейшую эволюцию Лютера: «Чем больше раскрывались
радикальные направления, тем больше отчуждался от них Лютер..^
тем больше он заключался в свой цринцип... принцип
религиозный, с полным послушанием законной власти» (л. 157).
12 Лектор подчеркивал практическую направленность деятельности
анабаптизма. Мюнцер, анабаптисты вовлекали в водоворот реформационных
событий не только крестьянство, но и ремесленные массы, выступившие,,
по его словам, «с тенденциями социальными» (л. 148 об.).
С. А. Асиновская. Автограф курса П. Я. Кудрявцева 807
В повороте Лютера в сторону «решительно консервативную»
Кудрявцев трезво видит совпадение его воззрений с интересами
князей, власти которых угрожали радикальные направления (с. 150).
Подробно анализируя политическую историю на
заключительном этапе реформационного движения, Кудрявцев подчеркивал
«слишком умеренный дух» Аутсбургского вероисповедания,
составленного Меланхтоном, в котором протестантское учение много
потеряло, по его словам, в своей оригинальной резкости: «Оно
сделало шаг назад, подделываясь под католицизм» (160 об.).
Рассказывая о церковном, политическом расколе в Германии
после Аугсбургского мира, он утверждал, что его последствием
была не действительная свобода вероисповедания, а свобода лишь
для княжеской власти, установившей «произвол местного
властителя по отношению к религиозному началу», вся тяжесть которого
обрушилась на народ (л. 325). Таким образом, он смог дать
достаточно реалистичную оценку положению народа, но
отказывал ему в праве претендовать на изменения общественного
устройства.
Кудрявцев разъяснял студентам в своих лекциях подоплеку
религиозно-политических событий второй половины XVI —
начала XVII в., усматривая ее и в важной роли материального
фактора, прежде всего в борьбе за бывшие церковные земли.
Вражда между католиками и протестантами, нараставшее
«несогласие» внутри самого протестантского лагеря ослабляли
страну. Все местные владетели погрязли в борьбе за свои частные
интересы, за свои имения, утверждал лектор: «Это был интерес
собственности, в которую входила земля и жившее на ней
народонаселение...» Общие интересы, читаем в лекциях, записанных
осенью 1848 г., приносились в жертву частным. Протестантское
начало, отмечал Кудрявцев, соединилось — благодаря своему
«антиреволюционному (чисто реформатскому характеру)»—с
делом территориальных властей, усилило их позиции, тем самым
подкрепив и политическую раздробленность Германии
(л. 325-326).
Отчуждение территориальных владетельных князей (как
протестантов, так и католиков) от решения национальных задач всей
Германии способствовало тому, что страна оказалась в гуще
событий Тридцатилетней войны. Кудрявцев видел в этой войне
международный конфликт, проходивший под религиозными
знаменами, но не исчерпывающийся лишь религиозной стороной дела.
Подробно останавливаясь на предыстории и начальном этапе
Тридцатилетней войны, он связывает этот перид с патриотической
борьбой чешских повстанцев, выступивших против нарушения их
национальных прав. Глубоким сочувствием проникнут его рассказ
о героическом выступлении чешского народа за сохранение своей
не только религиозной, но и политической независимости. В
анализе последующих этапов войны, охватившей почти всю Европу,
308
Приложения
лектором ярко раскрыта одна из типичных ее примет — борьба
за чужие земли, использование ее участниками системы массовых
грабежей населения и насилия над ним. Здесь лекции
обрываются как бы на полуслове: дальше должны были бы идти чтения
о продолжении войны в период вмешательства в нее Франции и
характеристика Вестфальского мира. Этот раздел остался,
видимо, ненаписанным (л. 382 об.).
В структуре курса большое место занимает и освещение той
реакции в лоне католической церкви, которую вызвало реформа-
ционное движение (разделы V и VI). Усилению влияния
католицизма, целью которого было восстановление католического мира
«в прежнем его объеме» (л. 322), способствовали, по мнению
лектора, нараставшие разногласия в лагере протестантов. Важную
роль в развитии католической реакции лектор отводил Тридент-
скому собору и созданию ордена иезуитов—«этого передового
поста» католицизма (л. 331 об.).
Пока Тридентский собор стремился установить «на вечные
времена» поколебавшиеся догмы католицизма, писал Кудрявцев,
иезуиты стремились захватывать новые позиции в стане
протестантизма. Бродившие в глубине католического мира идеи о
всеобщем подчинении народов иерархии повсеместно
распространялись «смелыми, хитрыми миссионерами» (л. 221). Строгая
организация, беспрекословное послушание папе и вместе с тем
понимание орденом необходимости выработки новых средств
борьбы с ересью (неразборчивость в средствах, коварство и
жестокость) позволили иезуитам, как подчеркивал Кудрявцев,— этому
«новому ополчению»— устремиться вперед для новых
завоеваний— завоеваний особого рода; иезуиты проникали во внутрен-
нейшую область человека, «в его совесть...».
Кудрявцев оценивает деятельность ордена и вместе с ним всю
католическую реакцию резко критически. В тетрадях ученого
находим слова: «Как то, что происходило в католическом мире,
радикально противоположно тому, что совершалось тогда в повом
мире!» Тогда как там, [т. е. в новом мире,] «все стремились, чтобы
освободить индивидуальную мысль», здесь, в мире иезуитизма, все
было основано на «совершенном умерщвлении индивидуальной
воли» (л. 215об.).
Не случайно, по его мнению, оплотом иезуитизма стала не
принявшая церковной реформы Испания. Отмечая могущество
католических традиций в стране, Кудрявцев писал, что здесь,
в Испании, «во всей своей чистоте... бродил старый средневековый
дух» (л. 210 об. раздел V). Отражение этого духа он видел и в
политической истории Испании с присущей ей крайней,
«всепоглощающей централизацией», благодаря которой стирались не
только «былые вольности» (л. 224), но велось настоящее
наступление на все то новое, что возникало не только в самой стране,
но и вне ее. Источником политической мощи Испании Кудрявцев
С. А. Асиновская. Автограф курса П. Н. Кудрявцева 309*
считал огромную территорию и экономические ресурсы страны,,
поборы с крестьян и Нидерландских провинций с их
высокоразвитой промышленностью, а также «золото американских
рудников» (л. 221), что было важным основанием усиления позиций
королевской власти. Мрачной фигурой встает со страниц его
курса Филипп II Испанский. Его деспотизм, пишет Кудрявцев,,
поглотил все другие чувства. Филипп II был полон глубокой,,
непримиримой ненависти ко всему протестантскому миру. Его
эгоизм, «освященный именем долга христианского властителя
против врагов... мог сделаться весьма опасным, он и сделался
таким» (л. 226 об.), о чем свидетельствовали события в
Нидерландах в первую очередь.
Нидерландскую революцию Кудрявцев рассматривал прежде*
всего как патриотическое национальное движение против
чужеземного господства, за распространение религиозного
свободомыслия в стране. В своих лекциях ученый подробно рассказывал
о действиях Филиппа II против восстания «мятежных
подданных», которое с чудовищной жестокостью подавлялось им самим
и его сподвижником герцогом Альбой, сопровождалось грабежами
и насилием со стороны испанских солдат. Миссия Альбы,
напишет позже Кудрявцев, принесла в Нидерланды «дух вражды
и ненависти..; права, религия, собственность, самая жизнь
граждан — все подпало суровому закону мстителя». Подобная
политика, по мнению Кудрявцева, не могла не вызвать неизбежного
отчуждения народа, его протеста против насилия 13.
Расценивая Реформацию как общеевропейское явление с
различными направлениями, Кудрявцев уделяет большое внимание
ее развитию во Франции и Англии (разделы V, VII). Эти разделы
курса добавляют интересный материал к характеристике
особенностей Реформации в отдельных странах. Рассказывая о
кальвинизме, о специфике Реформации во Франции и гугенотских
войнах, Кудрявцев напоминает о тех чертах галликанизма и
галликанской церкви, которые помогли католицизму сохранить свои
позиции в этой стране. Он отмечал зависимость любого учения
(в том числе, конечно, и кальвинизма) от личности, создавшей
это учение, а также от местности, где оно возникает.
В общем понимании кальвинизма главными для Кудрявцева
были идейная и политическая стороны этого учения. При
объяснении причин его возникновения Кудрявцев усматривал в
кальвинизме «новое сильное порождение мыслящего духа,
освобожденного от иерархических начал»; при этом он указывал и на
неизбежность протеста Кальвина и против Лютера, стремившегося
«сделать свое учение обязательным для всех». Но ведь «однажды
приобретенная свобода мысли не хотела более подчиняться такому
принуждению и выражалась во многих более или менее произ-
13 См.: Кудрявцев Я. Я. Осада Лейдена // Соч. Т. И. С. 1—2.
310
Приложения
вольных отступлениях», одним из которых, как мыслил
Кудрявцев, и явился кальвинизм (л. 230 об.). Ученый в общем оставляет
в стороне вопрос о социальной природе кальвинизма и социальных
силах, которые питали это учение. Он, правда, лаконично отмечал
«народное нерасположение» к кальвинизму, под которым,
возможно, имел в виду недостаточную заинтересованность в нем
крестьянства, а также сравнительно небольшое число городов
Франции, вовлеченных в реформационное движение.
Столь же мало Кудрявцева занимает догматическая сторона
кальвинизма. Отметив демократическую структуру кальвинистской
церкви, лектор справедливо подчеркивал, что эта церковь приняла
в себя не только демократические элементы: «Она хотела
подчинить себе все другие направления и приняла характер
исключительности, насильственности»; по сути, Кальвин, отмечает
Кудрявцев, наложил не только «нравственную печать» на
кальвинистскую общину, «он правил ею в собственном смысле... во имя
теократических начал» (л. 231). Кудрявцев подробно рассказывал
своим слушателям о религиозной нетерпимости кальвинистской
церкви и самого Кальвина, который преследовал «смелых ново-
зводителей», в деле Сервета дойдя до фанатизма. Кальвинизм
принимает такой же ожесточенный характер, отмечает лектор,
«как и католическая церковь в отношении ко всем отступившим
■от ее ортодоксии». В представлении Кудрявцева кальвинизм — это
мрачное учение, лишенное гуманистической терпимости. Кальвин
хотел, говорит Кудрявцев, «наложить аскетический характер на
все человечество... хотел истребить все земные проявления
радости» (л. 232 об.).
Существенной стороной характеристики французской
Реформации была попытка ее рассмотрения в контексте европейских
международных отношений. Он говорит о противоборствующем
влиянии на страну, с одной стороны, лагеря протестантизма
(Германия, Нидерланды, Швейцария), с другой — католического
лагеря, оплотом которого были Италия и Испания. В описании
гугенотских войн Кудрявцевым обращает на себя внимание его
подробный рассказ о жизни французского двора, доме Валуа,
дворцовых интригах с Гизами; отчетливо сказывается склонность
лектора к портретным характеристикам исторических деятелей:
некоторые из них не лишены налета романтизма (Франсуа Гиз,
Колиньи, Генрих IV и др.). Ученый интересуется прежде всего
политической и религиозной стороной нараставшего во Франции
конфликта. Его масштабность он видит в разделении всего
населения на два лагеря, которые живо реагировали на победу или
поражение своих вождей. Интересна оценка в этом плане роли
Парижа в бурных событиях сложной эпохи гугенотских войн.
Специальное внимание лектор уделяет позиции Екатерины
Медичи, подчеркивая ее стремление использовать противоборство
гпартий, коварно разжигаемое ею.
С. А. Асиновская. Автограф курса П. Н. Кудрявцева 811'
В гугенотских войнах Кудрявцев видит нарастание великой
народной драмы, имевшей «свои фазы, свои перипетии»— это
Лмбуазский заговор, явившийся прологом событий,
Варфоломеевская ночь, День баррикад, Нантский эдикт. В описании самой
драматической страницы этих войн — Варфоломеевской ночи —
с наибольшей силой сказывается способность Кудрявцева к~.
живому и красочному отображению исторических событий.
В, рукописи читаем: «Ночь прошла, ночь полная крови
и убийства, но разнузданные страсти еще долго гуляли
по улицам Парижа... Варфоломеевская ночь положила
вечное пятно на память народа, и история вечно будет
повторять ей свое осуждение. Произнесет ли она свое осуждение
над целым народом? Нет, без сомнения: нельзя осудить народ
за большую или меньшую страстность. Давно признано, каким
великим орудием является часто страсть в истории. Вина и
осуждение падает на тех, кто напитал эту страсть фанатизмом... кто
освятил в глазах народа убийство как важное средство и погасил
любовь к человечеству» (л. 279, 280 об.).
Эмоциональное описание событий не помешало Кудрявцеву
дать четкую отрицательную оценку фанатизму обеих сторон, хотя
особенно преступным он считал действие католической партии;
разгул религиозных и политических страстей, по его словам, может
поставить под сомнение «веру в высокое назначение человечества,,
вселить ужас и омерзение к действию фанатизма!» (л. 279 об.).
Интересно его сопоставление Варфоломеевской ночи с
Сицилийской вечерней, когда тоже, казалось бы, имел место разгул
массовых страстей. Между тем Кудрявцев как историк оправдывал
стремление итальянцев к национальной независимости, их
ненависть к «своим притеснителям»: ведь там народ «искал свергнуть
с себя чужое иго и, доведенный до отчаяния, взялся за крайнее
средство» (л. 280 об.). Такая оценка, как и характеристика
героических событий в Нидерландах, антигабсбургского восстания
в Чехии, позволяет говорить об интересе и сочувственном
отношении Кудрявцева к борьбе народа за национальное
освобождение.
Лекционный курс Кудрявцева весь пронизан идеями борьбы
против всякого деспотизма, королевской или какой-либо другой
авторитарной власти, против всякого проявления нетерпимости
и притеснения личности. Эта прогрессивная направленность курса
отчетливо видна и в разделе, посвященном истории английской
Реформации (раздел VII). Особенности ее первого периода он
видит прежде всего в возрастающей роли королевской власти при
ослаблении роли парламента. Власть короля становится
«всеобъемлющей при рабском духе сословий», пишет Кудрявцев, что
способствовало проведению Реформации «сверху», сделало ее, по
словам Кудрявцева, «королевской». Англиканство обретает ха-
312
Приложения
рактер «государственной» религии, а монарх соединил в своем
лице высшую светскую и духовную власть (л. 403—404).
Свое отношение к деспотизму Кудрявцев раскрывает в
характеристике Генриха VIII. Незавидной называет он судьбу Англии,
которая зависела от благосклонности такого короля. «Генрих
был деспот от природы... Он был политически поставлен так, что
имел все средства упражнять свой деспотизм над другими. То,
что было законом для Генриха, он хотел, чтобы было законом
.для других...» (л. 404). Кудрявцев показывает, как все его
правление было заполнено бесчисленными казнями советников, его
жен, сожжением еретиков и т. д. Став главой англиканской
церкви, король обрел еще большую власть, перед которой «пало
всякое сопротивление в парламенте». Подобная направленность
курса, несомненно имевшая корни в русской действительности и
находившая живой отклик у молодых слушателей, особенно ярко
сказалась и в других исторических портретах, которыми так
богаты лекции.
Правда, далеко не всегда в своих характеристиках лектор
высказывал только осуждение в адрес царственных особ. Так,
говоря о Генрихе IV Наваррском, Кудрявцев отмечал его живой
ум, отвагу, остроумие, гибкость его политики. Рассказывая об
Елизавете Английской, он говорил не только о преследованиях
-ею католиков и жестокости по отношению к пуританам, в
которых она угадывала демократический дух, но и о ее
государственном уме. «Елизавета не принадлежала,— читаем в лекциях,—
к разряду узких натур, которые находят полное удовлетворение
в фанатическом преследовании своих жертв. Мысль ее способна
была вместить самые смелые планы, самые широкие направления;
то, что в отношении к английским католикам было только
преследование, в отношениях к целому католическому миру
разрешилось во всемирно-историческую борьбу». И далее, рассмотрев
политику (и прежде всего реформационную) английской
королевы, он писал, что «в планах Елизаветы много величия... Есть
не только обширный ум государственный, но и постоянство этого
ума». Однако нет под этим умом «женского сердца»,
это—«холодный ум» (л. 431 об.).
Изложением истории английской Реформации Кудрявцев
заканчивал работу над своим специальным курсом. В этом курсе
ученый предстает как один из первых крупных отечественных
исследователей этих проблем. Высокий научный уровень лекций
Кудрявцева, яркое и образное изложение, целостное осмысление
переломной исторической эпохи — все это не могло не привлекать
внимание слушателей. Передовые по тому времени взгляды
историка, его нравственная позиция придавала курсу большое
общественное звучание, они свидетельствовали о силе
прогрессивных традиций в историческом знании по всеобщей истории в Рос-
С. А. Асиновская. Автограф курса П. Н. Кудрявцева 813
«ии, заложенных Грановским. Современного читателя, мы
надеемся, привлекут не только научные воззрения ученого, но и
проявленный им глубокий интерес к духовным устремлениям общества,
активное неприятие им того, что он называл «позорными
страницами истории человечества».
* * *
Научное и эпистолярное наследие Петра Николаевича
Кудрявцева? хранится в различных архивах нашей страны 14. Это
рукописи его работ и подготовительных материалов к ним; обширная
переписка Кудрявцева с В. Г. Белинским, Т. Н. Грановским, с
другими учеными, друзьями, родственниками15. Сохранились
также материалы, связанные с его педагогической деятельностью:
учебные отчеты и планы, студенческие записи лекций
Кудрявцева, правда единичные16, и, наконец, обнаруженный нами в
конце 50-х годов наиболее ценный из этих материалов —
автограф обширного университетского курса. Данная рукопись наряду
с другими бумагами личного архива Кудрявцева хранится в
Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки им. М.
Горького МГУ17. Вместе с библиотекой ученого они были переданы
сюда его племянниками П. П. и Н. П. Колосовыми в самом
начале XX в.18
Настоящее издание представляет собой по существу первую
публикацию лекций П. Н. Кудрявцева19. Основной ее частью
является курс по истории гуманизма и Реформации в Европе,
написанный собственноручно автором на маленьких сдвоенных
листах, им же озаглавленный (картон 4, ед. хр. 4). Автором же
14 См. фонды П. Н. Кудрявцева в Рукописном отделе Государственной
библиотеки СССР им. В И. Ленина (далее: ГБЛ), Отделе редких книг и
рукописей научной библиотеки им. М. Горького МГУ (далее: НБ МГУ),
Центральном государственном архиве литературы и икусства (далее:
ЦГАЛИ). Материалы ученого хранятся также в отделе письменных
источников Государственного Исторического музея (далее: ОПИ ГИМ),
Центральном государственном историческом архиве Москвы (далее: ЦГИА)
и др.
15 Переписка Кудрявцева частично опубликована. См.: Русская мысль. 1898.
Кн. 1, 5, 9; В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948. С. 136—150;
Средние века. М., 1960. Вып. XVII. С. 410—421.
10 Сохранились, например, студенческие записи лекций Кудрявцева по
истории западноевропейского средневековья (см. запись Николая Самарина:
Лекции по истории раннего средневековья 1848/49 г. // НБ МГУ, архив
II. Н. Кудрявцева, картон 2, ед. хр. 2), а также запись курса 1850/51 г.
(см. ГБЛ, ф. Тихонравова, 299).
17 См.: НБ МГУ, архив П. Н. Кудрявцева, фонд 4, картон 3, ед. хр. 3, а также
картон 4, ед. хр. 4. Далее в тексте и под строкой указываем только номер
картона и лист.
18 См.: Исторический вестник. М., 1902. № 12. С. 1134—1135; Отчет МГУ за
1908 г. М., 1909. Ч. 1. С. 93—94; Русский библиофил. 1911. № 7—8. С. 72.
19 Опубликован нами лишь автограф «Вступительной лекции в новую
историю». См.: Средние века. М., 1963. Вып. 24. С. 303—312.
21 П. Н. Кудрявцев
814
Приложения
сделана постраничная пагинация листков (по разделам)· Этот
КУРС, датированный П. Н. Кудрявцевым 1848/49 г., видимо,
только создавался в это время, читал же его лектор позже. В
большей своей части автограф лекций беловой, но на некоторых
страницах вапись приобретает характер черновых набросков. В ряде
мест текст прерывается тезисным изложением материала.
Рукопись состоит из 443 архивных листов.
Сохранился также автограф двух лекций, которые были
созданы в качестве вступления к курсу новой истории20; датированы
эти лекции 17 сентября 1848 г. «Вступительная лекция в новую
историю» и лекция о Макиавелли, являющаяся как бы
продолжением предыдущей, ваписаны на длинных листах (картон 3,
ед. хр. 3,35 л.). Не исключено, что, создав их вначале как
вступление к лекциям по новой истории, в процессе работы над
специальным курсом по истории гуманизма и Реформации
Кудрявцев намеревался включить их в начало этого курса.
Подтверждением тесной связи двух рукописей является один из набросков
плана курса, помещенный на первом маленьком листке;
цифрой 1 обозначено вдесь—«Античный элемент во Франции и
Италии. Макиавель». Однако текста этих лекций на маленьких
листках нет, вапись курса начинается сразу со 2-го пункта плана —
«Гуманизм в Германии». Материалы же, намеченные в 1-м
пункте данного плана, мы находим во вступительных лекциях
(см. картон 3, ед. хр. 3): именно здесь лектор рассказывает о
значении «античного элемента», культурного наследия древности
в процессе зарождения и становления гуманистических идей во
Франции и Италии, рассматривает учепие Макиавелли и т. д. Все:
и содержание, и построение этих вступительных лекций —
неразрывно связано с курсом, запись которого на маленьких листках
является основой данной публикации; это позволяет нам с
полным основанием поместить текст «Вступительной лекции в новую
историю» в состав публикуемого нами специального курса.
Изучение содержания автографов позволило выявить более
точно последовательность листов и структуру самого курса21.
Материалы рукописей группируются следующим образом:
длинные листы — «Вступительная лекция в новую историю»,
«Макиавелли»; маленькие листы — разделы этой рукописи, в
окончательном виде обозначенные самим автором, мы уже перечисляли
выше.
10 Судя по отчетам П. Н. Кудрявцева, им читался (наряду с Т. Н.
Грановским) курс новой истории, β современной советской историографии
рассматривающийся как курс по истории позднего средневековья.
81 Удалось обнаружить ошибку, допущенную, видимо, наследниками архива
Кудрявцева при составлении перечня и при определении последователь«
ноет и разделов рукописи. Здесь раздел «Элемент религиозный» ошибочно
помещен после раздела «Обозрение истории Реформации».
С. А. Асиповская. Автограф курса П. Н. Кудрявцева 815
35-й лист собственноручной записи лекций П. П, Кудрявцева
(картон 3, ед. хр. 3),
21*
816
Приложения
В настоящем первом выпуске мы предлагаем читателю лишь
часть текста двух автографов Кудрявцева. Полностью публику·
ются здесь «Вступление», чтения о Макиавелли, история
гуманистических идей, а также раздел «Элемент религиозный». В
разделах по истории немецкой Реформации допущены купюры, что
объясняется конспективностью изложения в лекциях опускаемого
материала, а подчас его крайне описательным характером.
Разделы V—VII курса в данный выпуск не вошли.
Публикация осуществлена в соответствии с основными
правилами издания исторических источников. Зачеркнутые места в
тексте автографов, не имеющие смыслового значения, не
воспроизводятся. Авторская правка восстанавливается без оговорок.
Также без оговорок исправляются явные описки, обмолвки,
расшифровываются наиболее распространенные слова, написанные
в подлиннике сокращенно: например, «д. б.» вместо «должна
быть», «мнстр» вместо «монастырь», «с.» вместо «cap» (capitulum)
π т. п.
Иноязычные транскрипции имен, датировка событий, а также
многочисленные вставки в черновых записях курса, сделанные
на полях и согласованные с основным текстом, внесены в текст
без оговорок. Примечания подлинника (например, выписки из
источников и литературы), также помещенные на полях и не
являющиеся частью текста, вынесены под строку либо, в
исключительных случаях (когда, например, цитаты на латинском языке
слишком обширны или являются лишь дополнением к тексту),
приводятся в примечаниях справочного характера. Здесь же
уточняются помещенные на полях библиографические справки самого
автора.
В некоторых местах материал автографов (особенно на полях)
имеет явно подготовительный характер. Перед нами иногда лишь
отрывочные записи, его наброски: обширные выписки из
источников, цитаты из отдельных сочинений, почти полностью
использованные, повторенные в основном тексте. Такие материалы в
ряде случаев опускаются (картон 3, ед. хр. 3, л. 22, 24, 26;
картон 4, ед, хр. 4, разд I, л. 26; раздел II, л. 39, 62 и др.)»
что иногда специально оговаривается под строкой или в
примечаниях. Опущенный текст обозначен многоточием.
Примечания справочного характера обозначены цифрами;
текстологические примечания — буквами, авторские подстрочные
примечания — звездочками; звездочками обозначены под
строкой и переводы наиболее важных иностранных терминов,
отдельных фраз, встречающихся в тексте. Исправления искаженных
слов в рукописи даются в квадратных скобках. Текст
публикуется в основном по правилам современной орфографии. Собственные
имена и географические названия, 8а редким исключением,
даются в написании подлинника.
С. А. Асиновская. Автограф курса П. Н. Кудрявцева 817
Вслед 8а лекциями по истории гуманизма и Реформации в
настоящем издании следуют две статьи П. Н. Кудрявцева и
часть его книги «Римские женщины». Изложенные выше правила
издания в основном распространяются на тексты и этих ранее
изданных трудов П. Н. Кудрявцева, ставших библиографической
редкостью. Использованы прижизненные издания трудов
Кудрявцева. В данном выпуске статьи публикуются полностью; из книги
«Римские женщины» даются лишь первые два рассказа.
Типографские ошибки исправляются без оговорок. Примечания
редакции предыдущих изданий опускаются, комментарии самого
автора под строкой воспроизводятся.
С. А. Асиновская
ПРИМЕЧАНИЯ
В примечаниях основное внимание сосредоточено на автографе лек«
ционного курса П. Н. Кудрявцева по истории гуманизма и Реформации в
Европе. Здесь даются сведения справочного характера об источниках,
литературе, используемых в лекциях ученого. По возможности мы стремились
разыскать в наших библиотеках именно те издания, на которые П. Н.
Кудрявцев прямо ссылался либо мог ими пользоваться. В отдельных случаях
в примечания вынесены существенные материалы автографа, приведенные
на полях, поясняющие и дополняющие некоторые положения курса.
В примечаниях иногда приводятся связанные с сюжетами,
представленными в настоящем издании, фрагменты не публикуемой в данном выпуске
части курса.
Исторические сочинения П. Н. Кудрявцева, подготовленные к печати
самим автором, переиздавались и ранее. Более обширных примечаний
потребовали две его статьи: «О достоверности истории» и «О современных
задачах истории», важные для понимания методологических позиций
ученого и написанные им с широким использовапием отечественной и
западноевропейской историографии от эпохи античности, включая первую
половину XIX в. Книга «Римские женщины. Исторические рассказы по Тациту»
имеет авторские подстрочные примечания, поэтому в данном случае мы
ограничились лишь самыми необходимыми пояснениями.
Наконец, повторим, что так же, как в издании лекций Т. Н. Грановского
по истории средневековья (М., 1986), мы имели в виду тот факт, что
существует значительная разница в уровне развития наук между изучаемой
эпохой и современностью, и поэтому, как правильно отмечают исследователи
памятников исторической мысли, «комментирование всех отдельных мест
книги, требующих поправок или разъяспений,— задача неисполнимая по
сиоей обширности и разнообразию материалов» (Михайлов А. В.
Примечания / Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
С. 652).
В составительской работе участвовала Г. Л. Еленская. Составитель,
авторы статей и ответственный редактор благодарят сотрудников Отдела
редких книг и рукописей Научной библиотеки им. А. М. Горького за помощь
в процессе работы над книгой.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ В НОВУЮ ИСТОРИЮ
1 Кудрявцев говорит здесь об ордене иезуитов. В одном из
заключительных разделов (VI) курса «Борьба католического мира с
протестантским» подробно рассказывается о возникновении и деятельности этого
ордена, интересны наблюдения учепого о его действиях в Германии.
«Германия, как колыбель аптииерархического, т. е. свободного, религиозного
духа,—пишет он,—с самого начала сделалась предметом самых
ревностных усилий иезуитского ордена. Только Лойола, занятый внутренпим
устройством ордена, не простирал свои действия на Германию... Пылкий
испанский фанатизм был бы вдесь, впрочем, не совсем у места; нужно было
сверх того совершенное знание немецкой народности, духа ее, языка....
Какой трудный подвиг предстоял иезуитам в Германии, это можно видеть
Примечания
319
из той пропорции, в какой протестантское народонаселение было вдесь в
отношении к католическому. Две половины, на которые разделилась
Германия в религиозном отношении после Аугсбургского мира, вовсе не были
две равные части. Успехи, сделанные протестантизмом в первой половине
XVI века, были так важны, что девять частей народонаселения
принадлежали протестантизму,, и только десятая оставалась еще верна католицизму.
Если бы не духовные курфиршерства и не усердие некоторых владетельных
домов, в особенности Баварского и Австрийского, которые еще поддержи«
вали католицизм в Германии, католики составляли бы самое
незначительное меньшинство в империи. Надобно было носить много энергии в душе
и иметь огромный вапас средств тонких и неуловимых, чтобы без войска
и даже без оружия доставить перевес такому незначительному
меньшинству над 9 частями протестантского народонаселения Германии. Иезуиты с их
отважным и необыкновенно предприимчивым духом находили, однако, что
дело католицизма вовсе не есть дело отчаяния, и принялись за него так
ловко, что успехи их можно считать годами... В материальном пространстве
иезуитизму нужно было лишь столько места, сколько необходимо для того,
чтобы стать твердо ногой; с этого твердого пункта он потом свободно уж
разбрасывал свои сети во все стороны. В'Германии был такой пункт в доме
Габсбургском и за ним — в доме Виттельсбахов. Карл V был больше
макиавеллист, чем католик; при нем чистый иезуитизм едва ли бы мог сделать
большие успехи. Но с Фердинанда начинается уже наклонность дома к
иезуитизму. За исключением Максимилиана II, который своим
протестантским интересом едва было не изменил новым интересам своей фамилии,
все прочие члены этого дома в XVI и XVII были преданнейшие друзья
иезуитов... Это было первое зерно иезуитских учреждений в Германии.
Затем, под сенью того же дома, нетрудно уже было им пустить ветви и в
другие части Германии. Дух строгой, отчетливой организации отличает даже и
внешние действия ордена, напоминающий организующий дух римский. Как
римляне своими колониями, так иезуиты своими коллегиями в несколько
лет покрывают всю Юго-Западную Германию» (НБ МГУ, архив Π, Н.
Кудрявцева, картон 4, ед. хр. 4, л. 329 об.— 331).
2 Речь идет о восьмом — последнем — крестовом походе (1270 г.), во
время которого глава этого похода Людовик IX погиб от чумы в Тунисе.
3 Имеется в виду разграбление Рима в 1527 г. войсками Карла V, одним
из полководцев которого был в то время Карл Бурбон.
4 Речь идет о преследовании еретических движений, в частности
гуситского.
6 Когда Кудрявцев говорит здесь о «крайностях увлечения», он имеет
в виду прежде всего (это видно из его лекций по истории Реформации
в Германии) революционные идеи Мюнцера, которые он считал
фантастическими и ошибочными (картон 4, ед. хр. 4, л. 140—147 об.), решительные
действия повстанцев во время Крестьянской войны в Германии, события,
развернувшиеся в Мюнстерской коммуне (Там же. Л. 149—156). Ср. также
его суждения о «крайностях демократической исключительности» в
рассказе о последних годах Флорентийской республики (Кудрявцев П. Н. Соч.:
В 3 т. М., 1887. Т. И. С. 494—496).
6 Точнее: Leo Я. Geschichte der italienischen Staaten, vierter Teil.
Hamburg, 1830. Bd. VII. S. 303—304.
7 Имеется в виду труд: Raumer Fr. Geschichte der Hohenstaufen und
ihrer Zeit, Leipzig, 1825. Bd. VI. S. 472—473.
8 Точнее: Hagen K. Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse
im Reformationszeitalter: In 3 Bd. Erlangen, 1841—1844. Bd. 1. S. 80. (Далее
в тексте публикации — под строкой, в автографе — на полях: Hagen с
указанием номера тома, страницы названного издания).
9 Кудрявцев излагает здесь высказывание Энея Сильвия Пикколоминн,
которое приведено в указ. книге К. Хагена (Ibid. S. 86—87),
10 Германский император Фридрих III (1440—1492),
11 См. раздел «Гуманизм в Германии»,
820
Примечания
12 Пьетро Бембо (1470—1547), итальянский гуманист, поэт, с 1539 г.
кардинал. См.: Bembo P. Opère. Venezia, 1729. Т. I—IV.
13 Сочинение Никколо Макиавелли «Государь» («Il Principe»)
цитируется Кудрявцевым по изданию: Machiavelli N. Princeps: ex Sylvestri Telii Ful-
ginatis Traductione diligenter emendatus... quibus denuo acceffit Antonii
Possevini judici. Ursellis, 1600. По-видимому, этим и объясняется то
обстоятельство, что на страницах автографа указанное сочинение Макиавелли и
главный герой его называются то по-итальянски II Principe, то по-латыни —
Princeps. Первые русские переводы рассматриваемых здесь Кудрявцевым
сочинений Макиавелли появились только во второй половине XIX в. См.:
Макиавелли Н. Государь (Il Principe) и Рассуждения на первые три книги
Тита Ливия/Пер. Н. Курочкина. СПб., 1869; Он же. Монарх/Пер. Ф. Затлера.
СПб., 1869; см. также: Он же. Князь/Пер. С. М. Роговина. М., 1910; Он же.
Князь / Соч.:/Под ред. А. К. Дживелегова. М.; Л., 1934. С. 211—329; Он же.
Избр. ооч./Вступ. ст. К. Долгова. М., 1982. С. 301—379.
14 Имеется в виду сочинение Макиавелли «Рассуждения на первые
десять книг Тита Ливия»: I tre libri de' discorsi sopra la prima deçà de Tito
Livio. Tutte le opère di Nicoio Machiavelli. S. 1., 1550. (Далее: Discorsi).
К сожалению, издание «Discorsi», страницы которого указаны в тексте
автографа в скобках и на полях, нами не найдено. См. рус. пер. Н.
Курочкина 1869 г., а также Макиавелли Н. Избр. соч. С. 380—454.
15 Творчество Макиавелли привлекало особое внимание Кудрявцева и в
связи с изучением раннесредневековой истории Италии. Макиавелли, по
его словам, был «не что иное, как самое умное и верное выражение всей
предшествующей италианской истории», он «первый дал ключ к
уразумению истинного хода ее; но, к сожалению, политик рано заслонил в нем
историка, и я не знаю,— отмечал Кудрявцев,— кто бы потом воспользовался его
историческими идеями, чтобы при свете их распутать хотя главные узлы
истории его отечества» (Кудрявцев П. Н. Судьбы Италии от падения
Римской империи до восстановления ее Карлом Великим. М., 1850.
С. V—VI).
18 Точнее: Carrière M. Die Philosophische Weltanschauung der
Reformationszeit in ihren Beziehungen zur Gegenwart. Stuttgart; Tübingen;
Gotta, 1847.
17 Имеется в виду сочинение Макиавелли «Семь книг о военном
искусстве»: Machiavelli N. I sette libri dell' arte délia guerra // Delli discorsi Nie-
colo Machiavelli libro I. Cosmopoli, 1769. Рус. пер.: Макиавелли H. О военном
искусстве. M., 1939.
18 По-видимому, имеются в виду известные комедии Н. Макиавелли
«Мандрагора» и «Клиция».
19 Здесь почти точная цитата из вступления к «Рассуждепиям на
первые десять книг Тита Ливия»; ср. пер. Н. Курочкина. С. 119—121.
20 Machiavelli N. Discorsi. Lib. I. Cap. IX.
21 Ibid.
22 Здесь па полях автографа приведена цитата из «Discorsi» (Lib. Ι.
Cap. XII): «Non aessendo dungue stata la chiesa [potente] da poter occupare
ritalia, ne avendo permesso che un altro la occupi, è stata [cagione] che la
non è potuta venire sotto un capo, ma è stata sotto più Principi e signori; da
quali è nata tanta desunione e tanta debolezza, che la si è condotta ad essere
stata preda, non solamente de' barbari potenti, ma di qualunque Γ assalta».
«Таким образом, церковь не имела силы овладеть Италией и в то же время
не позволяла этого другим — что и было причиной, почему Италия не
могла соединиться под одной властью, а всегда разделялась между множеством
князей и владетелей, вследствие чего и подвергалась таким раздорам и была
так обессилена, что готова была сделаться добычей не только
могущественных варваров, но первого нападающего» (пер. //. Курочкина).
Примечательно, что именно это высказывание Макиавелли явилось
эпиграфом к монографии Кудрявцева «Судьбы Италии...»
^23 Здесь вольная цитата из кн. «Государь» (см.: Machiavelli N. Princeps.
P. 141 (cap. XXVI); ср. пер. H. Курочкииа. С. 109).
Примечания
S21
24 Ibid.
25 Кудрявцев имеет в виду в первую очередь отрицательное отношение
Макиавелли к папству, основываясь главным образом на его сочинении
«Государь».
26 machiavelli N. Princeps. Cap. XI.
27 См. примеч. 17.
28 Здесь вольное изложение: Machiavelli N. Princeps. Cap, XVI—XVII.
29 На полях автографа ссылка на К. Хагена, см. примеч. 8.
30 Machiavelli N. Princeps. Cap. XVII; ср. пер. H. Курочкина С 71
81 Ibid. Сар. XIX.
32 См. примеч. 13.
ГУМАНИЗМ В ГЕРМАНИИ
1 В данном разделе Кудрявцев пользуется трудами К. Хагена (см.
примеч. 8 к Вступительной лекции) и Г.-А. Эрхарда: Erhard Η-Α. Geschiente
des Wiederaufblühens wissenschaftlicher Bildung, vornehmlich in Deutschland
bis zum Anfange der Reformation. Magdeburg, 1827—1832. Bd. 1—3.
2 Речь идет о восстании под предводительством Яна Гуса в 1415 г.
8 Имеется в виду книга: Carrière M. Die Philosophische Weltanschauung
der Reformatioszeit in ihren Beziehungen zur Gegenwart. Stuttgart; Tübingen?
Gotta, 1847. (Далее: Carrière с указанием страницы названного издания).
Кудрявцев в основном в автографе (впрочем, так же как и в сочинениях),
ссылаясь на иностранные тексты — источники и литературу, обозначает
страницу начальной буквой (р.) латинского слова «pagina» — страница
независимо от языка оригинала.
4 Марсилио Фичино (1433—1499), флорентийский ученый-гуманист,
стоял во главе основанной Козимо Медичи Платоновской академии.
5 Кудрявцев не ставит здесь целью показать эволюцию схоластики как
направления общественной мысли, науки. Грановский наряду с негативной
оценкой позднего схоластицизма в общем лекционном курсе по истории
средневековья отмечал также его положительные черты, особенно на
ранних этапах развития схоластики — в XI в., говорил о плодотворности этого
направления. См.: Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М.,
1986. С. 271, 400-401.
6 О значении девентерской школы в развитии гуманистического
движения в Германии см.: Немилое А. Ы. Немецкие гуманисты XV века. Л.,
1979. С. 39—45.
7 По-видимому, имеется в виду 1485 г. Ср.: Hagen К. Op. cit. Bd, 1«
S. 145.
8 Имеется в виду свидетельство известного немецкого гуманиста
Иоганна Кохлея, его речь 1512 г.
9 Точнее: Mayerhoff Ε-Т. Iohann Reuchlin und seine Zeit. В., 1830.
Обширное приложение к этой монографии содержит публикацию некоторых
писем Рейхлина и описание имевшихся в то время изданий его трудов.
10 На полях автографа находим ссылку на статью немецкого историка
Г. Эшера об Эразме. Точнее: Escher H. Erasmus von Rotterdam: Ein Beitrag
zur Gelehrtengeschichte des sechszehnten Jahrhunderts // Historisches
Taschenbuch/Hrsg. Fr. von Raumer. Leipzig, 1843 Jg. IV. S. 487—574.
11 В католической церкви новициат — название длящегося иногда два
года, часто трудного испытания лиц, желающих поступить в монашеские
ордена. Ср.: послушники в русских монастырях.
12 Так принято называть перевод Библии на латинский язык,и автором
которого является Иероним (ок. 346—420), один из отцов Западной церкви.
13 Erasmi Roterodami Declamatio. Μωρίαε εγκωμιον, id est Stultitiae
Laus. Ad fidem editionis antiquae Frobenii figuris holbenianis ornata. Lugduni
Batavorum, 1851. Во время работы Кудрявцева над лекционным курсом уже
были предприняты первые опыты перевода этого сочинения Эразма на рус*
ский язык. См.: Эразм Роттердамский, Похвала глупости. М.э 1840 (аноним^
822
Примечания
ный перевод). Однако ученый не пользуется этим переводом, очевидно, он
считал его явно неудовлетворительным. В конце XIX—XX в. появились
новые, более совершенные переводы А. Кирпичникова (Мм 1884), П. Н. Арда-
шева (Учен. зап. имп. Юрьевского ун-та. Юрьев, 1902; 2-е изд., испр. Юрьев,
1903; 3-е изд. Киев, 1910), П. К. Губера (М.; Л., 1931; 2-е изд. М., 1958 и др.:
М„ 1960; М., 1983).
14 См.: Erasmi Roterodami. Stultitiae Laus. Cap. LUI. Упоминаемые здесь
термины средневековой схоластики в данном контексте не переводятся:
трудно отразить в переводе ту иронию, с которой употребляет терминологию
схоластики Эразм.
15 Ibid.
18 Ibid.
17 П. H. Ардашев сообщает, что «Похвала Глупости» при жизни
Эразма была переиздана в разных местах не менее 40 раз.
18 Имеется в виду сочинение Ульриха фон Гуттена «Querelarum libri II»;
впервые оно было напечатано в 1510 г. во Франкфурте-на-Одере, см.: Ulrichl
ab Hütten. Opera omnia/Ed. Ε. J. Η. Münch. В., 1821. Bd. 1.
19 В 1507 г. было издано первое сочинение И. Пфефферкорна «Der
Judenspiegel», в котором он нападал на евреев и их религию, требуя чтобы
у евреев были отняты их книги. Подробнее об этом см.: Кун Н. А. Спор
о еврейских книгах, процесс Рейхлина с кёльнцами и «Письма темных
людей» / Источники по истории Реформации. М., 1907. Вып. II.
20 Рейхлин является первым составителем грамматики еврейского
языка; его книга «De rudimentis hebraicis» впервые была издана в 1506 г. Это
издание было в библиотеке Кудрявцева (сейчас в Научной библиотеке МГУ),
котооый, как известно, в семинарии изучал еврейский язык.
21 Имеется в виду памфлет Пфефферкопа «Handspiegel». В ответ
Рейхлин написал «Augenspiegel», см. об этом ниже.
22 После выхода в свет (1511) памфлета Рейхлина «Глазное зерцало»
появились его разъяснения (1512) уже на немецком языке — «Ain clare
verstentnus» («Ясное понимание»). Рейхлин писал, что, по его мнению,
недостаточно декларировать свои мысли по-латыни, необходимо изложить
их на языке народном («in lingua vernacula et vulgari»); см. его письмо
от 27 января 1512 г. в кн.: Geiger L. Iohann Reuchlins Briefwechsel.
Tübingen, 1875. S. 153. Вскоре Рейхлин написал свою «Защиту против кёльнских
клеветников». Кроме того, в 1513 г. он выхлопотал у императора
Максимилиана мандат, по которому и та и другая сторона приговаривались к
молчанию.
23 То есть вызывал Рейхлина на суд в Майнц.
24 Здесь на полях автографа читаем: «Die ganze Welt,— пишет Mutia-
nus,— theilt sich in zwei Parteien. Eine ist für die Dummen, die andere ist für
Reuchlin. Wenn du den Ruhm liebst, wie du es thust, so seie ein Reuchlinist,
nicht ein Arnobadist d. h. ein Schaafnarr». Hagen, I, 430.
25 13 октября 1513 г. на площади в Майнце по инициативе Гохстратена
уже сложен был костер, чтобы сжечь книгу Рейхлина «Глазное зерцало».
Но архиепископ Майнцский запретил сожжение; дело было передано в Рим
на суд папы и таким образом попало на рассмотрение епискому Шпеерско-
му, о чем Кудрявцев упоминал выше.
26 См. ниже, примеч. 37.
27 Капнион — греческое имя Рейхлина, принятое среди гуманистов.
28 См. письмо Гуттена Рейхлину из Болоньи, январь 1517: Ulrichi ab
Hütten. Op. cit. Bd. II. P. 337—338.
29 Имеется в виду 2-е издание стихотворения Ульриха фон Гуттена
«Никто» («Nemo»), значительно переработанное им, которое было написано,
по-видимому, в 1515 г. и в следующем году издано вместе с обширным
прозаическим предисловием — обращением к Кроту Рубиану: Ibid. Р. 301—
320. Далее цитируется текст предисловия к «Nemo»,
90 То есть последователи Фомы Аквинского.
Примечания 323
81 Далее: Epist. Первая, латинская, цифра обозначает номер части
вторая, арабская,—страницу цитируемого Кудрявцевым издания «Писем
темных людей». Кудрявцев делает, видимо, одну из первых попыток
передать содержание «Писем темных людей» на русском языке. Еще в начале
XX в. Д. Н. Егоров (1878—1931), известный русский медиевист, представляя
их публикацию в переводе Н. А. Куна, писал, что не следует забывать, что
«это — первая попытка со всеми неизбежными в таких случаях промахами»
и отмечал, что «передать всего колорита их, всей нарочитой варваризации
языка, всей беспомощной наивности и угловатости в построении фраз, всей
вульгарности стиля — действительно нельзя» (Источники по истории
Реформации. Вып. II. С. II—III).
32 Вопрос об авторстве «Писем темных людей» Кудрявцев излагает в
основном по книге К. Хагена. Н. А. Кун писал об этом: «Ни на одном
издании не было, конечно, имени, да и место их выхода обозначено
вымышленное. Вопрос об авторстве — сложный: можно лишь сделать целый ряд
предположений, не давая окончательного ответа. Ясно только, что автор не один,
а их несколько; ясно также, что все они гуманисты» (Там же. С. XIII;
см. также: История всемирной литературы. М., 1985. Т. III. С. 182).
83 Н. А. Кун комментирует это место «Писем» так: «Конечно, нельзя
сказать ни „magister nostrandus", ни „noster magistrandus", так как в
первом случае форма „nostrandus4* произведена от местоимения, а во втором
„magistrandus" от существительного, формы же эти герундивы —
отглагольные прилагательные. Да и по правилам латинского синтаксиса нельзя было
бы так сказать» (Источники по истории Реформации. Вып. II. С. 4,
примеч. 1).
84 На полях читаем: «Epist. I, 6—7... Ego etiam semel ivi per Ecclesiam,
ubi stat unus Judeus ligneus ante Salvatorem, et habet malleum in manu, et
ego putavi quod est sanctus Petrus, et haberet clavem in manu, et flexi genua,
et deposui bitterum; tune vidi quod est Judens, et etiam penituit me. Tarnen in
confessione cum confitebar in monasterio praedicatorum, dixit mihi со η f essor
meus quod est peccatum mortale, quia debemus respicere, et dixit, quod non
posset me absolvere, nisi haberet potestatem episcopalem, quia esset casus
episcopalis. Et dixit, quod si libenter fecissem, et non ignoranter, tune fuisset
casus papalis: et sic fui absolutus, quia habuit potestatem episcepalem».
См. рус. пер.: Письма темных людей/Вступ. ст. и коммепт. Н. А. Куна. М.; Л.,
1935. Кн. I, II. С. 53: «Я раз шел через одну церковь, в которой пред
Спасителем стоял сделанный из дерева жид с молотком в руках; я же подумал,
что это святой Петр и что у него в руках ключ, и преклонил пред ним
колени, сняв берет. Тут только узрел я, что это жид, и мной тоже овладело
раскаяние. Но в монастыре проповедников сказал мне на исповеди мой
духовник, что это грех смертный, так как мы должны быть осторожными,
а также он сказал мне, что не мог бы сам дать мне отпущения в этом
грехе, если бы не обладал властью епископа, так как сие есть грех
„епископский". И еще он сказал: сделай я это умышленно, а не по неведению,
то было бы сие грехом „папским". Он все-таки дал мне отпущение, так как
обладал властью епископа» (пер. Н. А. Купа).
35 H.A. Кун, например, приводит такие факты: «Нищенствующие монахи
Англии ликовали, что появилось сочинение, восхваляющее их и
направленное против Рейхлина, а какой-то доминиканец в Брабанте купил
несколько экземпляров „Писем", чтобы послать их в подарок своим
начальникам» (Источники по истории Реформации. Вып. II. С. XI).
3Θ Речь идет о письмах Конрада из Цвиккау (Письма темных людей.
Кн. I. Письма IX, XIII, XXI), где свои слабости их автор оправдывает
обширными цитатами из Священного Писания.
37 Новый памфлет Пфефферкорна «Набатный колокол» был напечатан в
1514 г. В нем он с еще большим озлоблением нападал на Рейхлина и
других гуманистов. Когда же появилась первая часть «Писем темных людей»
(1515), Пфефферкорн издал «Defensio J. Pepericorni contra famosas et criml··
324
Примечания
nales obscuronim virorum epistolas». Это сочинение послужило поводом к
появлению второй части «Писем» (1517).
38 В лекциях Кудрявцевым рассматриваются в основном материалы
первой части «Писем темных людей».
89 Кудрявцев цитирует здесь на полях письмо Эразма (в котором
гуманист высказывает свои опасения в том, как бы вместе о изучением
древних литератур не возродилось старое язычество): «Ich fürchte,— schrieb
Ërasmus 1516,— mit dem Studium der alten Literatur werde das alte Hei-
denthum wiederkehren» (цит. по: Merle d'Aubigné J. A. Geschichte der
Reformation des sechszehnten Jahrhunderts/Aus dem fr, übertr. Dr. M. RunkeL
Stuttgart, 1848. Bd. I. S. 50).
4° Здесь Кудрявцев ставит интересный вопрос о соотношении гуманизма
и реформационной идеологии. На материале немецкого гуманизма и
Реформации в советской медиевистике этот вопрос был исследован в работах
M. М. Смирина. См. его кн.: Эразм Роттердамский и реформационное
движение в Германии. Очерки по истории гуманистической и реформационной
мысли. М., 1978.
41 Hagen К. Op. cit. Bd. 1. S. 456—470·
ЭЛЕМЕНТ РЕЛИГИОЗНЫЙ
1 Данный раздел предваряет список источников и литературы,
который сопровождается комментариями ученого. Для интересующихся
творческой лабораторией П. Н. Кудрявцева читателей приводим этот список почти
полностью (неразобранные места обозначены многоточием): «Johann Sleida-
nus, De statu religionis et reipublicae, Carolo Quinto, Caesare, commentario-
rum libri XXVI. От 1517—1556.—Cum Casp. Landorp[ii], Continuato Sleidani.
От 1555—1564.—Franc. 1610, 4 voll, (один для Слейдана). Лучшее издание
J. G. Böhme, Franc. 1785—86. 3 voll. 8. О нем. см. Ranke, Zur Kritik η [euerer!
Geschichtsschreiber. Leipzig und Berlin 18241 p. 61. „Dies Werk ist durch
und durch urkundlich.—Eine andere Einheit, als welche der Sang der
Geschichte gewährte, kann ich nicht entdecken".
G. Spalatini, Chronicon (1513—1526), Johann Mencke. Scriptores rerum
Germanicarum, praecipue Saxonicarum, T. 2, 1728.
Ph. Melanchtonü vita Lutheri; vit« Ph. Melanchtonis ab Jo. Camerario,
изд. von. Augusti. Breslau, 1819. (Также у Mencke, T. II).
V. Ludlovici] a Seckendorf (род. 1626), Commentarius fhistoricus et Apo-
logeticus] de Luthéranisme sive de reformatione religionis M. Lutheri et cet.
(Против иезуита Маймбурга.) Franc[ofurtii] et Lips[iae], 1688.
Maimbourg, [L.] Hist[oire] du Luthéranisme. Paris, 1680, 2 voll. Sepul-
veda, De rebus gestis Caroli V (30 книг). Colon, 1687. G 1536 историограф
императора. О нем Ranke, Zur Kritik, [p.] 119.—„Ist er für Jemand
eingenommen, so ist er's für alle Spanier".
Sandoval, Historia de la vida y hechos del imperador Carlos V. Vallado-
lid, 1604, 2 voll.—О Сандовале Ibid., p. 132: „Das Werk ist mehr eine
Sammlung, als eine Historie".
Dr. Martin Luthers sämmtliche Schriften sowol in deutscher als
lateinischer Sprache in 24 Theilem herausg. J. G. Walch. Halle, 1740—42.— Die
Briefe, Sendschreiben und Bedenken.—De Wette. 5 voll. [В., 1825—1828].
Ph. Melanchtonis орете omnia. Erlang [en], 1828. 1 voll.
W. E. Löscher, Vollständige Reformations-Acte und Documente. Leipzfig]«
1740. 3 voll...
G. J. Planck, Geschichte der Entstehung, der Veränderungen und der
Bildung unsers protestantischen Lehrbegriffs von Anfang der Reformation bis zu
der Einführung der Concordienformel. 6 voll. Leipz[ig]. 1781—1800.
Доведенное до XVIII стол[етия]. Götting[en], 1831.
Marheinecke [Ph.-CA, Geschichte der deutschen Reformation. 4 voll.
Berlin, 1816-1834,
Примечания
825
Luthers Leben. Von Karl Jürgens. Abteil I: L[uther] von seiner Geburt bis
*um Ablasstreit.— 1483—1517. 3 voll. Leipzig]. 1846.
Geschichte der protestantischen Secten im Zeitalter der Reformation, von
H. W. Erbkam. Hamb[urffl und Gotta, 1848.
Lanz [K.] Correspondenz des Kaiser Karl V, 3 voll. [Leipzig, 1844—1846].—
Idem. Staatspapiere zur Geschichte Kaiser Karl V. [Stuttgart, 1845]...
L. Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. 5 volL
Berlin [1839—1840].—"Wir unsere Orts haben einen andern Begriff von
Geschichte. Nachte Wahrheit ohne allen Schmuck; gründliche Erforschung des
Einzelnen; das Uebrige Gott befohlen; nur kein Erdichten, auch nicht im Kleinsten,
nur kein Hirngespinnst".— Ranke TL.] Zur Kritik der η [eueren]
Geschichtsschreiber. Leipzig und Ber. in. 1824], p. 28.
Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse im
Reformationszeitalter (со второго тома — Der Geist der Reformation und seine Gegensätze).
Von dr. Karl Hagen, 3 voll. Erlang [en]. 1844.
Die philosophische Weltanschauung der Reformationszeit in ihren
Beziehungen zur Gegenwart. Von Moritz Carrière. Stuttgart] u. Tübingen]. 1847.
Robertson [W.] The History of the Reign of the Charles V. Lond[on].
1787. Bearbeiter von Remer. Braunschwfeig]. 1772—79. 3 voll.
Geschichte der Reformation, von Merle d'Aubigné, aus dem französischen
Übertrag, dr. M. Runkel. Stuttgart. Bd. 1—2. 1848].
Historia Herrn Georg und Herrn Caspar von Frundsberg: Francfurt, 1572,
von Adam Reisner. См.: Ranke [L] Zur Kritik [neuerer Geschichtsschreiber.
Leipzig und Berlin. 1824], p.. 145л» Архив Π. H. Кудрявцева, НБ МГУ,
картон 4, ед. хр. 4, л. 35—36 об.).
2 Имеется в виду Констанцский собор 1414—1418 г., решениями
которого, в частности, было ограничено взимание папами аннатов.
3 Резервация (лат.), или папские резерваты,—назначения на
церковные должности, зависевшие исключительно от пап. Здесь на полях рукописи
Кудрявцев отмечает: «Некоторые роды резерваций: иногда папа объявлял,
что он предоставляет себе все места, которые в той или другой провинции
упраздняются в следующем году,— в своей заботливости, говорил он,
заместил все епископства способными людьми. В другой раз он предоставлял
■себе без исключения все места, все должности, которые были заняты
людьми, умершими при дворе папы или на расстоянии от него двух дней пути.
Иногда он предоставлял себе все те, которые упразднялись вследствие
отрешения епископа или прелата, или те, которые занимал кардинал или
вообще какой-нибудь чиновник при римском дворе и т. п. Надобно прибавить,
что все эти места потом продавались в Риме только что не с аукциона»
(НБ МГУ, архив П. Н. Кудрявцева, картон 4, ед. хр. 4, л. 37 об.).
4 Экспектатива (лат.) — право назначения преемника на не
освободившуюся еще церковную должность с целью запять ее, когда она сделается
вакантной.
5 Имеется в виду Болонский конкордат, который действовал до 1682 г.
6 То есть в Германии (по сравнению с Францией) государственная
власть была «еще менее» свободной от гпета римской иерархии. В начале
зтого раздела текст часто, как, например, в данном случае, перемежается
конспектом.
7 Точнее: Eichhorn К. Fr. Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte.
Gottingen, 1808. Bd. 1; 1812. Bd. 2.
8 Имеется в виду соглашение 1122 г. в Вормсе между германским
императором Генрихом V и папой Каликстом II, положившее конец борьбе за
инвеституру.
9 Венский конкордат был подписан преемником Евгения IV — папой
Николаем V.
10 На полях автографа здесь ссылка на вторую часть книги английского
публициста, историка и философа Дж. Макинтоша (1765—1832): Mackin-
tosch У. Geschichte von England/Aus dem engl, übers, von Dr. G. F. Wurm:
In 2 Thl. Hamburg, 1832. Эпохе Генриха VIII посвящены пять глав
<IV—VIII). См.: Ibid. S. 144—331.
826
Примечания
11 Имеется в виду дело о разводе Генриха VIII с его второй женой,
Анной Болейн.
12 Точнее: Planck G. /. Geschichte der Entstehung, der Veränderungen
und der Bildung unsere protestantischen Lehrbegriffs von Anfang der
Reformation bis zu der Einführung der Concordienformel. Leipzig, 1781—1800. Bd. 1—6*
13 По определению канонистов, декреталии (лат.) — это письма или
послания папы в ответ на вопрос, обращенный к нему по частному делу,
разрешение которого может служить общим правилом. Называя их
фальшивым источником, Кудрявцев, видимо, имеет в виду, что в эпоху
средневековья сборники декреталий включали много фальшивых документов.
14 Александр Галесский, один из известнейших схоластиков первой
половины XIII в., за свое остроумие был прозван современниками doctor irre·»
fragabilis, т. е. Неопровержимый. Здесь на полях автографа (в текст»
публикации — под строкой) ссылка на книгу: Merle d'Aubigné LA. Geschichte
der Reformation des sechszehnten Jahrhunderts/Aus dem fr. übertr. Dr. M. Run-
kel. Stuttgart, 1848. Bd. 1—2. (Далее: Merle d'Aubigné с указанием тома а
страницы).
15 Подробнее об этом см.: Грановский Т. Я. Лекции по истории
средневековья. М., 1986. С. 90, 383.
16 Имеется в виду Уиклиф Джон (ок. 1320—1384), английский
реформатор.
" Ян Гус — знаменитый чешский реформатор, сторонник Уиклифа.
6 июля 1415 г. сожжен в Констанце как еретик.
w Точнее: Gieseler L С. L. Lehrbuch der Kirchengeschichte. In 3 Bd«
4 Aufl. Bonn, 1829—1848. Bd. II. 3 Abt., 1829. (Далее: Gieseler с указанием
тома, издания и страницы).
10 Здесь ссылка, кроме указанного выше сочинения (примеч. 18), на
книгу: Carrière M. Die Philosophische Weltanschauung der Reformationszeit
in ihren Beziehungen zur Gegenwart. Stuttgart: Tübingen; Gotta, 1847. (Далее:
Carrière с указанием страницы).
20 Вторжение французов в Италию во главе с Карлом VIII началось
2 сентября 1494 г. Савонарола, по словам С. Д. Сказкина, «в лице
французов ждал „грозы божьей" и всеобщего очищения от грехов». См.: Сказ-
кин С, Д. Итальянские войны / Сказкин С. Д. Из истории
социально-политической и духовной жизни Западной Европы в средние века. М., 1981,·
С. 159-160.
21 Бонифаций, Винфрид (680—755), католический миссионер.
22 Золотая булла была принята на Нюрнбергском сейме в 1356 г.
23 Архиепископы Майнцский, Кёльнский и Трирский с 1356 г. имели
право избрания императора наряду с королем Богемским, пфальцграфом
Рейнским, герцогом Саксен-Виттенбергским и маркграфом Бранденбург-
ским.
24 Позднее в своем сочинении «Карл V» Кудрявцев писал: «Мистики
XIV века, действовавшие в одно время в разных частях Германии, были
верным гарантом этого нового движения, происходившего в самой народной
мысли. Их постоянной темой была любовь; все их требования были
обращены к высшей, духовной природе человека. В следующем столетии стал
уже зреть и плод подобных учений» (Кудрявцев П. Н. Соч. М., 1887. Т. II.
С. 283).
25 Сочинения Экхарта в начале XX в. были изданы в переводе М. В. Са-
бапшиковой: Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения. М., 1912; Он жеч
Избранные проповеди. М., 1912.
26 См.: Tauler J. Die Predigten/Hrsg, von F. Vetter. В., 1910. Bd. I—II.
27 Точнее: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся,
ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался
так, как всякая из них» (Новый завет. Евангелие от Матфея, 6).
28 Die deutsche Theologia. Amsterdam, 1678.
29 В скобках в тексте автографа здесь и далее приведены ссылки на
#шигу: Carrière M, Ор, cit.
Примечания 327
» См.: ίΛΙΗπΜ. Vorrede zu der yoUstandigen Ausgabe der «deutscheu
Theologie». 1518 / Luthers Werke. Weimar, 1883. Bd. I. S. 378—379.
31 Здесь на полях автографа ссылка на книгу: Hagen К. Deutschlands
literarische und religiöse Verhältnisse im Reformationszeitalter: In 3 Bd
Erlangen, 1841—1844. (Далее в тексте публикации в скобках и под строкой:
Hagen с указанием тона и страницы).
32 Здесь на полях автографа ссылка, кроме указанных выше (примеч 31
19) сочинений, видимо, на книгу: Ulimann С. Johann Wessel: ein Vorgänger
Luthers. Zur Characteristik der christlichen Kirche und Theologie in ihrem
"Übergang aus dem Mittelalter in die Reformationszeit. Hamburg, 1834.
33 Имеется в виду издание произведений M. Лютера, предпринятое в
середине XVIII в. немецким ученым И. Г. Вальхом: Luther M. Sämmtlicho
Seh niten/ttrsg. von J. G. Walch: In 25 Th. Halle im Maffdeburcrischen. 1740—
1753.
34 Донат Элий, известный римский грамматик и ритор середины IV в.
Его сочинения в средневековье сделались главным руководством при
элементарном обучении латинскому языку.
35 См. примеч. 33.
36 Штаупиц являлся в то время генерал-викарием ордена августинцев
яа всей территории Германии.
37 Здесь на полях автографа сылка на книгу: Ranke L. Deutsche
Geschichte im Zeitalter der Reformation, В., 1839—1840. Bd. 1—6. (Далее: Ranke
с указанием тома и страницы).
38 Письмо Лютера к Спалатину от 30 мая 1518 г. цит. по: Merle d'Aubig*
né J. A. Op. cit. Bd. I. S. 128.
39 Здесь на полях автографа читаем: «Исполняя все эти действия, он
желал бы, чтобы родителей его не было более в живых, ибо, казалось ему,
здесь было столько средств — искупить их от огня чистилища. Ranke, I, 300.
Вот его собственные слова: как жаль мне, что еще живы мои родители.
Мессами, молитвами и другими святыми делами я бы так охотно стал
ходатайствовать об искуплении их из чистилища. Merle d'Aubigné, Ι, 142».
40 Точнее: Послание к Римлянам, I, 16, 17 (здесь цитируется текст
Ветхого завета, Аввакум, II, 4).
41 Имеется в виду одно из таинств христианства — причащение.
Согласно христианскому вероучению, причащающиеся верующие приобщаются к
Христу, вкушая во время литургии хлеб и вино, в которых будто бы
воплощены его тело и кровь. Позднее Лютер отвергнет это таинство. Luther Л/«
Op. cit. Th. XXII. P. 2377.
42 Здесь Лютер, в частности, передает пословицу, бывшую в ходу у
римлян: что если ад находится где-нибудь под вемлею, то Рим построен на его
сводах.
43 См. выше, примеч. 40.
44 В Виттенбергском университете, посвященном его основателями, в
частности Штаупицем, апостолу Павлу и Августину Блаженному, была
введена новая присяга, первая статья которой обязывала «к обороне по
силам евангельской истины» и только затем уже шла речь о верности
общепринятому учению римской церкви.
45 Цит. по: Merle d'Aubigné J. A. Op. cit. Bd. I. S. 153.
46 Спалатин — придворный священник, был, кроме того, личным
секретарем Фридриха Саксонского.
47 Тезисы Лютера, приведенные в тексте автографа на полях выше,
см. под строкой, с. 94. Речь идет о сочинении Лютера: Luther M. Disputatio
contra scholasticam theologiam 1517 / Luthers Werke. Bd. I. S. 221—228,
СПОР ОБ ИНДУЛЬГЕНЦИЯХ
1 Паллиум, паллий (лат.) — вид верхней одежды, белый шерстяной
ллащ, позднее — большой белый воротник, символ пастыря, несущего на
плечах овцу; знак епископского достоинства.
328
Примечания
2 В данном разделе Кудрявцев использует фактический материал,
приведенный в книге Леопольда фон Ранке: Ranke L. Deutsche Geschichte-
im Zeitalter der Reformation. В., 1839—1840. Bd. 1—6. (Далее в тексте
публикации — под строкой, в автографе — на полях: Ranke с указанием тома
и страницы).
3 Здесь и далее Кудрявцев использует сочинение Ж. А. Мерля д'Обипье
в переводе с французского по изданию: Merle d'Aubigné J. Α. Geschichte der
Reformation des secnszehnten Jahrhunderts/Aus dem fr. übertr. Dr. M. Runkel.
Stuttgart, 1848. Bd. I—II. (Далее в тексте публикации — под строкой,
в автографе —на полях: Merle d'Aubigné с указанием тома и страницы).
Видимо, оригинальным изданием Кудрявцев в ту пору не располагал, о чем
он с сожалением говорил иногда и в своих сочинениях.
4 Здесь на полях читаем: «Тецель между прочим утверждал: „Subcom-
missariis insuper ас praedicatoribus veniarum imponere, ut si quis per impos-
sibile dei genitricem semper virginem violasset, quod eundem indulgentiarum
vigore absolvere possent, luce clarius est41. Merle d'Aubigné, I, 185». Тезисы
Тецеля (Positiones fratris J. Tecelii, quibus indulgentias contra Lutherum)
были опубликованы в 1517 г. Извлечения из положений Тецеля см.:
Хрестоматия по всеобщей истории/Под ред. П. Н. Ардашева. Киев, 1914. Ч. I:
Эпоха гуманизма и Реформации. С. НО.
6 Имеются в виду внаменитые тезисы Лютера, обнародованные 31
октября 1517 г.: Dr. Martin Luther's Disputation von der Kraft des Ablasses,
bestehend in 95 Thesen oder Sprüchen, die er wieder den Ablasskrämer Johann
Tezel, am Aller Heiligen Abend 1517 an der Thüre der Schloss-Kirche zu
Wittenberg anschlagen lassen / Luthers Werke/Hrsg, von 0. von Gerlach. В.*
1847. Bd. I.
6 Точнее см.: Володарский В. M. Социально-политические взгляды Уль-
риха фон Гуттена / Средпие века. М., 1964. Вып. 26. С. 74—75.
7 Точнее: Hagen К. Der Geist der Reformation und seine Gegensätze.
Erlangen, 1843. Bd. II. S. 91. Здесь приведено письмо Ульриха фон Гуттепа
к известному немецкому гуманисту Эобаиу Гессу (октябрь 1519 г.).
8 Имеется в виду орден августинцев.
9 См.: Dr. Martin Luther's Verteidigung des Sermons vom Ablass und
Gnade wider Johann Tezel, anno 1518 / Lulhers Werke. Bd. I. S. 71.
10 Сочинение Иоганна Экка «Обелиски» впервые было напечатано в-
1518 г.
11 Богемцем, т. е. последователем учепия Яна Гуса.
12 Имеется в виду Иероиим Пражский (ок. 1380—1416), чешский
реформатор, который был сожжен.
13 Речь идет о сочинепип: Silvestro Mazzolini. In praesumptuosas M. Lut-
heri conclusiones de potestate papae dialogus. См.: Ranke L. Op. cit, Bd. 1,
S. 320.
14 Обширное объяснение своих тезисов Лютер написал в августе 1518 г.„
см.: Luther M. Die Resolutionen, oder Erklärung und Beweis der 95 Thesen //
Luthers Werke. Bd. I. S. 74—199; В., 1848. Bd. II. S. 1—99.
15 Имеется в виду Карл I Испанский, будущий император Карл V
Немецкий (1519—1556).
10 Имеется в виду известный библейский сюжет: Бытие, 25. У жены
Исаака Ревекки родились близнецы, Исав и Иаков, купивший у брата нер-
вородство 8а чечевичную похлёбку.
17 Отмечая иронический характер этих слов Лютера, Кудрявцев имеет
в виду тот факт, что в то время Лютер еще не имел ни жены, ни детей
и т. д.
18 Здесь, видимо, Кудрявцев ищет лучший вариант перевода слов
Лютера на русский язык.
19 То есть кардинал Каэтан, Фома из Гаеты (1469—1534), генерал
ордена доминиканцев (с 1508), кардинал (с 1517), епископ Гаеты (с 1519).
Кудрявцев приводит эдесь разные варианты написания его имени; ср. выше—
de yio,
Примечания
829
20 Имеется в виду концепция Фомы Аквинского, знатоком творчества
которого являлся кардинал Каэтан, см.: Divi Thomae вшита cum commen-
tariis Thomae de Vio. Lugduni, 1587.
21 См. выше, примеч. 19.
22 То есть revoco, «отрекаюсь» (лат.).
23 Цит. по: Merle d'Aubigné Л A, Op. cit. Bd. I. S. 327.
24 См. письмо Лютера кардиналу Каэтану от 17 октября 1518 г.: Luthers
Werke. Bd. И. S. 126-129.
25 Второе письмо Лютера кардиналу Каэтану датировано 18 октября
1518 г. См.: Ibid. S. 129—131.
26 Перед отъездом из Аугсбурга Лютер оставил здесь апелляцию к папе-
Льву X, прибил ее па дверях Аугсбургского собора, другой экземпляр
отослал Каэтану. Дальнейшие события излагаются Кудрявцевым
конспективно.
27 Аугсбургские акты Лютера были опубликованы в начале декабря
1518 г., см.: Acta Augustana, Luthers Bericht über die Verhandlungen des·
Cardinal Cajetan mit ihm zu Augsburg / Luthers Werke. Bd. II. S. 155—189.
28 Luther M. Appellation an ein allgemeines Concil vom 28. November
1518 / Ibid. В., 1848. Bd. III. S. 1-8.
29 Здесь на полях автографа приведено письмо Лютера папе Льву X
3 марта 1519 г. См.: Ibid. S. 20—23.
™ Видимо, имеется в виду смерть императора Максимилиана I и приход.
к власти Карла V.
31 Речь идет о сочинении Иоганна Экка: Eck /. Defensio contra amaru-
lentas D. Andreae Bodenstein Carolstatini, doctoris et archidiaconi Witten-
bergen. Invectiones (1518)/Hrsg. von J. Greving. Münster, 1918.
32 Здесь имеется в виду книга: Merle d'Aubigné J. A. Op. cit. Bd. И. Î5. 18.
Далее в скобках в тексте даются ссылки на это издание с укаа^ием тома
и страницы.
33 Видимо, речь идет о празднике Петра и Павла, см.: l'md. S. 35.
34 См.: Из протоколов Лейпцигского диспута. О первенстве римскойг
церкви /j Хрестоматия по всеобщей истории. Ч. I. С. 38—116.
35 См. выше, примеч. 32.
36 См. примеч. 16 к разделу «Элемент религиозный».
37 Точнее 18 дней. Лейпцпгский диспут проходил с 27 июня по 14 июля
1519 г. Лютер явился в Лейпциг 4 июля: в первую неделю диспута он
отсутствовал.
38 «Те Deum laudamus» — «Тебя, Бога, хвалим» (лат.). Название (и
начало) католической благодарственной молитвы.
39 Речь идет о сочинении: Eck У. De primatu Pétri adversus Ludderum
Joannis Eckii libri très. См.: Ranke L. Op. cit. Bd. 1. S. 425. См. также:
Rischar К. Johann Eck auf dem Reichstag zu Augsburg 1530. Münster, 196&
(Bibliogr.: S. X-XXVI).
40 Имеется в виду сочинение: Silvestro Mazzolini. De juridica et irrefra-
gabili veritate Romanae ecclesiae Romanique Pontificis. См.: Ranke L. Op. cit.
Bd. 1. S. 423.
41 Протонотарпй — первый, или главный, секретарь высшей судебной
инстанции. Папские, или апостолические, протонотарии составляют особую
коллегию высших духовных сановников, которые ведают всеми
относящимися к церкви торжественными актами.
42 См. письмо Лютера к Спалатину (июль 1519 г.): Luthers Werke.
Bd. III. S. 27-35.
43 Точнее: Luther M. Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation
von des christlichen Standes Besserung / Ibid. Bd. III—IV. Рус. пер.:
Лютер M. К христианскому дворянству немецкой нации. Об улучшении
христианского состояпия/Пер. В. С. Рожицына. Харьков, 1912.
44 Luthers Werke. Bd. III. S. 166.
45 Luther A/. Büchlein von der babylonischen Gefängniss der Kirche /
Ibid. Bd. IV. S. 69-70,
22 Π, H. Кудрявцев
830
Примечания
49 Здесь описка, работа Лютера называется «О Вавилонском пленения
церкви», см. выше, примеч. 45.
47 Речь идет о тех препятствиях, которые встретил Экк при
распространении папской буллы в Саксонии. В рукописи здесь описка: вместо
Экк — Лютер.
48 Буквально слово «булла» означает «водяной пузырь», см.: Сми*
рин M. М. Германия эпохи Реформации и Великой Крестьянской войны.
М., 1962. С. 171.
49 Кудрявцев цитирует здесь письмо Лютера к Спалатину от 11 октября
1520 г. Рус. пер. см.: Хрестоматия по всеобщей истории. Ч. I. С. 119—120.
50 Luther A/. Schrift wider die Bulle des Antichrists // Luthers Werke·
В., 1841. Bd. V. S. 57—75.
61 Речь идет о сочинении Лютера: Luther M. Schrift: Warum des Pabsst's
und seiner Jünger Bücher von Dr. M. Luther verbrannt sind / Ibid. S. 76—90«
62 Ibid. S. 77.
63 Ibid. S. 88—89.
64 См. примеч. 2.
55 Позднее в сочинении «Карл V» Кудрявцев напишет: «Отношения
Карла V ко внутреннему движению, происходившему в Германии,
заслуживают внимания. Прежде всего бросается в глаза равнодушие его к новому
явлению, которое волновало тогда целую империю. Ни в переписке его, ни
в дипломатических актах, ближайших ко времени избрания, нигде не видно,
чтобы мысль его много занята была событиями, происходящими в
Саксонии. Он как будто не замечал их огромного влияния на общее настроение
умов во всей Германии. Все внимание его на первое время поглощено было
дипломатическими сношениями с Францией) и Англиею. Даже вступивши
в пределы империи и видевши многое своими глазами, он по-прежнему
остается мало озабочен происходящим вокруг его волнением умов. Самое
сожжение папской буллы в Виттенберге не подействовало на него очень
чувствительно. По крайней мере ни из чего не видно, чтобы он много
сокрушался по поводу этого события или готовился принять сильные меры,
чтобы потушить взрыв пламени, которое явно начинало угрожать всеобщим
пожаром. Нужны были настоятельные внушения нескольких римских
посланных, папских легатов, для понуждения его пристальнее заняться
делом, от неблагоприятной развязки которого римский престол не без
причины опасался существенного ущерба своим материальным и другим
интересам» (Кудрявцев П. Н. Соч.: В 3 т. М., 1887. Т. II. С. 288).
56 См. письмо Лютера к Спалатину от 15 марта 1521 г.: Luthers Werke«
Bd. V. S. 98.
67 См. письмо Лютера к Спалатину от 14 апреля 1521 г.: Ibid. S. 102«
68 Здесь на полях Кудрявцев отмечает сомнения Л. фон Ранке по
поводу таких козней со стороны императора: «Впрочем, Ranke, 1, 480: Ich möchte
nicht glauben, das dies Heimtücke war, wie so viele annahmen». См.
примеч. 2.
59 Здесь вольпое изложение письма Лютера к Иоанну Куспиниану от
17 апреля 1521 г. См.: Luthers Werke. Bd. V. S. 103.
60 Речь Лютера на Вормсском сейме 18 апреля 1521 г. см.: Хрестоматия
по всеобщей истории. Ч. I. С. 121—124.
61 Позднее эти знаменитые слова Лютера, по выражению Кудрявцева,
«как бы из стали выкованные», «в которых сказалась вся адамантовая сила
и крепость нового религиозного убеждения» (Кудрявцев П. Н. Соч. T. IL
С. 291), историк переведет на русский язык немного иначе: «Я здесь стою,
иначе я не властен, Бог мне помощник»,— читаем мы в его сочинении
«Карл V» (Там же. С. 286).
62 Вормсский эдикт, объявляющий над Лютером имперскую опалу,
принятый 25 мая и подписанный императором 26 мая, официально был
помечен задним числом — 8 мая 1521 г. В сочинении «Карл V» Кудрявцев
также отмечает этот факт. См.: Там же. С. 293.
Примечания
331
ОБОЗРЕНИЕ ИСТОРИИ РЕФОРМАЦИИ
1 Рассматривая распространение реформационных идей во Франции,
большое внимание уделяет Кудрявцев в своем курсе характеристике
кальвинизма. Подчеркивая жесткий, суровый характер учения Жана Кальвина
и его деятельности в Женеве, он писал, что гуманистическая терпимость
«была изгнана из кальвинизма частью его неумолимой, хотя и очень узкой
логикой, частью —его независимым положением, его отождествлением с
первой властью в республике». Рассказывая о деле Мигеля Сервета,
Кудрявцев отмечал, что его «дерзость возвысила нетерпимость Кальвина* даже
до фанатизма. Его логика постановляла всякое свое положение как
непреложную истину, следовательно, всякое отступление от нее было не только
ложью, но и погибельной ложью. Там, где германский протестант
употребил бы увещание, Кальвин употреблял силу, власть, насилие. Кальвин мог
без всякого упрека себе выманить у Серве тайну его религиозных мнений,
захватить его потом в свои руки и в заключение дать ему почувствовать
всю тяжесть своего суда. Серве погиб жертвою религиозной ненависти к
нему Кальвина как представителя извеетной системы религиозных
убеждений... Много новой, неизвестной дотоле энергии заложено было в новой
церкви, основанной Кальвином, много той страшной силы, которая не
останавливается ни перед какими препятствиями, но вместе с тем мало
человеческого, гуманного, много насилия, деспотизма в духе фанатического,
против которого особенно думал послужить человечеству протестантизм»
(НБ МГУ, архив П. Н. Кудрявцева, картон 4, ед. хр. 4, л. 230—231 об.).
2 Речь идет об английском короле Генрихе VIII. Краткий сравнительно-
исторический очерк успехов борьбы светских властей с церковной
иерархией в Германии, Англии, Италии и Франции дается в начале раздела
«Элемент религиозный», см. выше.
3 Имеется в виду несоответствие политических планов Карла V
реальной действительности. Эта мысль Кудрявцева последовательно проводится
и широко аргументируется в его сочинении «Карл V». См.: Кудрявцев П. Я.
Соч. М., 1887. Т. II.
4 Первая война Карла V с французским королем Франциском I
проходила с 1521 по 1525 г.; четвертая война, закончившаяся подписанием
мирного договора в Крепи,— с 1542 по 1544 г.
6 Вероятно, имеется в виду образование Шмалькальденского союза
протестантских князей в 1531 г. Ниже в этом же разделе (в той его части,
которая не вошла в настоящую публикацию) Кудрявцев излагает
«главные факты, из которых слагается история успехов Реформации в Германии».
Он отмечает, что «первое политическое проявление протестантского духа
находим на Шпеерском сейме 1526 года». Тогда «после долгих споров и
совещаний поборники реформ настояли на известном решении, которое состояло
в том, что в ожидании всеобщего собора каждый чин (Stand) получил право
поступать так, как только найдет он лучшим по своей совести, т. е. помня,
что он должен ответить Богу и императору (в делах, о которых рассуж-
даемо было на Вормсском сейме). Фердинанд в качестве наместника
императора принял мнение комиссии, и таким образом положено было начало
законному утверждению Реформации под защиту территориальных властей
в разных пунктах Германии». Однако на другом Шпеерском сейме в 1529 г.
«к одному общему решению не могли прийти более».
Поборники католицизма, составившие большинство, требовали
отменить решение 1526 г. и восстановить «порядок вещей, более соответствующий
требованиям высшей духовной власти. Защитники Реформации, оставаясь
в меньшинстве, не могли отклонить этого решения, тогда они решились
на новую дорогу и, явившись перед чинами, прочли свой протест против
решения сейма (говоря, что они и впредь намерены поступать в силу
решения 1526) и требовали, чтобы их протестация внесена была в одну книгу
с приговором сейма. Дело было сделано совершенно против воли
Фердинанда, однако протестация произвела сильное впечатление: 14 городов
22*
332
Примечания
(Страсбург, Нюренберг, Ульм, Констанц, Нордлинген и другие) приняли
«торону протестантов. Тогда уже попяли виновники протеста свое не совсем
безопасное положение, тогда уже возникал между ними вопрос о том, в
какой мере они имели бы право сопротивляться императору. Юристы
говорили уже за это право, но теологи, призванные на совещание, решили в
противоположном смысле (кроме Бугенгагена). Лютер говорил, что таким
образом мало-помалу можно прийти к совершенному отрицанию властей
(начали с отказа в повиновении тому, кто был призван главою империи):
явно, что подобное убеждение особенно должно было утверждаться в нем
в противоположность тому учению, которое проповедовалось в разных
радикальных тенденциях. Как бы то пи было, ввиду опасности не решались,
однако, и подумать о вооруженном сопротивлении и разошлись, ничем πθ
скрепив своего союза.
Наступил следующий год. Назначен был новый сейм в Аугсбурге, сам
император возвращался из Италии, чтобы присутствовать на нем. Он
возвращался увенчанный новыми лаврахми и римской короной и в то же время
довольно обеспеченный мирными договорами, чтобы свободно действовать
в Германии. Он хотел действовать решительно, хотя вообще не склонный
к фанатизму, не приносил с собой особого озлобления против протестантов:
он думал, что достаточно будет его авторитета, его личного присутствия,
чтобы покончить дело мирным образом. Карл имел торжественный въезд
в Аугсбург, окруженный всем блеском и пышностью империи. Все князья
империи, протестанты и католики, сопровождали его в процессии; первые
присутствовали даже и в католическом Доме, когда воспевалось в нем Те
Deum на случай. Впечатление было сделано. По первому приему можпо
было надеяться, что никто не осмелится нарушить гармонию общего
подобострастия каким-нибудь дерзким противоречием. Император, кажется, сам
был того же мпения, когда, пользуясь минутой, тотчас же после процессии
пригласил к себе главных защитников протестантизма — курфирста Саксои-
ского, маркграфа Бранденбургского, герцога Люнебургского и ландграфа
Гессенского и предложил им устранить поставленных ими лютеранских
проповедников. Но тут же сказал, что есть убеждения, на которые не может
более действовать никакой авторитет. Вместо ожидаемой готовности
исполнить желание императора князья отвечали глубоким молчанием. Один
осмелился потом заметить, что проповедуется, однако, чпстое слово Божие.
Когда же предложение повторено было уже в виде требования, «государь,—
отвечал маркграф Георг,— скорее я соглашусь на этом самом месте
преклонить мою голову и отдать ее на отсечение, чем отступлюсь от слова
Божия». Император, вовсе не ожидавший такого упорного сопротивления,
отвечал только: «Любезный князь, тут дело идет вовсе не о головах».
Протестанты, со своей стороны, увидели необходимость действовать прямо и
откровенно. Они почувствовали нужду предупредить приговор сейма, от
которого уже не могли ожидать себе ничего благоприятного,
предварительным изложением тех убеждений, которыми они отделились от большинства,
и представить их на суд императору. Таков был повод к знаменитому
изложению, известному под именем Аугсбургское исповедание» (НБ МГУ,
архив П. Н. Кудрявцева, картон 4, Ед. хр. 4, Л. 157 об.— 160).
6 По-видимому, речь идет об апглийском короле Генрихе VIII,
который в 1534 г. был провозглашен главой англиканской церкви.
7 Здесь на полях автографа (в публикации под строкой) ссылка на
книги Л. фон Ранке и К. Хагепа: Ranke L. Deutsche Geschichte im Zeitalter
der Reformation. В., 1839—1840. Pd 1—6. (Далее: Ranke с указанием тома
и страницы); Hagen К. Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse
im Reformationszeitalter. Erlangen, 1841—1844. Bd. 1—3. (Далее: Hagen с
указанием тома и страницы).
8 Точнее: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься»
{Бытие, 3, 19).
8 См.: Ranke L. Op. cit. Bd. 2. S. 32.
Примечания
8SS
10 Ulrich von Hütten. Beklagung der Freistatte teutscher Nation /
Sämmtliche Werke. В., 1825. Bd. 5. S. 379—390.
11 Цит. по книге: Ranke L. Op. cit. Bd. 2. S. 107.
12 «Законы двенадцати таблиц» (Leges duodecim tabularum), один из
древнейших сводов римского обычного права (V в. до н. э.).
13 Позднее, в самый разгар Крестьянской войны в Германии (1525 г.)
Лютер написал свое знаменитое «Увещание к миру»: Luther M. Ermahnung
zum Frieden auf die 12 Artikel der Bauernschaft / Luthers WerkeAIrs«. von
O. von Gerlach. В., 1841. Bd. VII. S. 152—182.
ι14 Этот образ восходит к книгам Нового вавета: «...пал, пал Вавилон,
великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому
нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо
яростным вином блудодеянпя своего она напоила все народы, и цари
земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой
роскоши ее» (Откровение Иоанна Богослова, 18, 2).
i5 Johann Eberlin von Günzburg. Ausgewählte Schriften. Bd. I. Neudrucke
deutscher Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Flugschriften
aus der Reformationszeit: XI/Hrsg. von L. Enders. Halle, 1896. S. 122—131.
16 Императора Фридриха III Реформация священной Римской империи
Германской нации/Пер. В. В. Бауера / Бауер В. В. Лекции по новой
истории. СПб., 1886. Т. 1. С. 263—299.
17 Здесь на полях автографа приведены указания на литературу. По-
видпмому, имеется в виду: Zimmermann W. Allgemeine Geschichte de9
grossen Bauernkrieges. Stuttgart, 1841—1843. Bd. 1—3. Рус. пер.: Циммерман В.
История Крестьянской войны в Германии. М., 1937. Т. I—II. Далее точнее:
Bensen H. W. Geschichte des Bauernkriegs in Ostfranken. Erlangen, 1840;
Sartorius G. F. Versuch einer Geschichte des deutschen Bauernkriegs oder der
Empörung in Deutschland zu Anfang des 16-ten Jahrhunderts. Frankenthal,
1795; Heinrich Pfeifer und Thomas Münzer in Mühlhausen. Eine Urkundliche
Mittheilung aus der Mühlhauser Chronik/Von Dr. F. A. Holzhausen /
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. В., 1845. Bd. 4. S. 365—394.
18 Имеется в виду «Программа двенадцати статей». См. в книге:
Хрестоматия по всеобщей истории/Под ред. П. Н. Ардашева; Пер. А. Н.
Савина. Киев, 1914. Ч. I: Эпоха гуманизма и Реформации. С. 153—158.
19 Там же. С. 153 (статья 1).
20 Речь идет о Франконии.
21 Имеется в виду Гейльброннская программа. См. Там же. С. 158—162.
22 Речь идет о 3—6 статьях Гейльбропнской программы.
23 Спустя более чем полвека крупный русский историк А. Н. Савин
'( 1873—1923) при переводе 4-й статьи Гейльброннской программы, о которой
вдесь идет речь, также обратил внимание, что «под „докторами" в этой
статье разумеются „доктора права", т. е. римского права, которые в качестве
судей и советников князей работали над водворением римских правовых
порм на место норм обычного права, а это сводилось для крестьян к
разрушению старинного общинного самоуправления расхищению общинных
земель помещиками (па что указывают ст. 5 и 10 „Программы 12 статей")
и обострению крепостного права» (Там же. С. 159, примеч. 2).
24 Ироническое замечание о «сладком Христе» есть и в проповедях
Таулера. Интересное сопоставление произведений Мюнцера и Таулера
сделано М. М. Смириным. См. его книгу «Народная реформация Томаса
Мюицера и Великая Крестьянская война» (М., 1955. С. 176—177 и др.).
25 Цит. по: Ranke L. Op. cit. Bd. 2. S. 208.
28 По-видимому, речь идет о сочинении Лютера «Увещание к миру»,
см. выше, примеч. 13.
27 Имеется в виду памфлет Лютера «Против разбойных и
грабительских шаек крестьян» (1525): Luther M. Schrift wider die räuberischen und
mörderischen Bauern / Luthers Werke, Bd. VII. S. 183—190,
834
Примечания
м Вероятно, имеется в виду сочинение: Melanchthon Ph. Schrift wider
die Artikel der Bauernschaft ff Melanchthon Ph. Werke/Hrsg, von Fr.-A Koet-
he. Leipzig, 1829. Bd. I. S. 181—202.
88 Далее Кудрявцев дает характеристику движения анабаптистов после
Крестьянской воины, пишет о взглядах Людвига Гетцера, Мельхиора
Гофмана и др. Он отмечает: «Анабаптистов находим, начиная с 1525, в
Констанце, в Страсбурге, в Лёвене, в Штутгарте, в Гейльбронне, в Аугсбурге, в
Мюнхене, в Ротенбурге, в Нюрнберге, в Саксонии, даже в Шлезии...» «Они
все не составляли одного тесно соединенного общества, но в них не было
недостатка ни в одной немецкой стране. Эти таинственные проповедники,
апостолы будущего переворота, появлялись всюду время от времени: Бог
знает, откуда они приходили и куда направлялись. Они приносили с собой
христианское приветствие мира, но потом начинали говорить о предстоящем
таинственном перевороте, о тех казнях, которые готовит Бог миру за грехи
его и т. п. Некоторые возвещали уже рождение Антихриста на Востоке.
Такими вестями постоянно было ванято воображение, и всегда
продолжалось брожение умов» (НБ МГУ, архив П. Н. Кудрявцева, картон 4, ед. хр. 4,
л. 148). В конце этого раздела Кудрявцев излагает учение Яна Матиса и
Иоанна Лейденского, историю Мюнстерской коммуны. В данном выпуске
эти сюжеты не публикуются.
О ДОСТОВЕРНОСТИ ИСТОРИИ
1 В настоящей публикации воспроизводится прижизненное издание
данной статьи: Отечественные записки. М., 1851. Кн. 9, отд. V. С. 1—28. Статья
уже была переиздана: Кудрявцев П. Н. Соч. М., 1887. Т. I. С. 1—32.
Заглавие статье дано издателями указанного собрания сочинений Кудрявцева;
в настоящем издании повторено.
2 Уваров Сергей Семенович (1786—1855), министр народного
просвещения с 1833 по 1849 г., президент Академии наук (с 1818 г.). Автор
теории «официальной народности», основными постулатами которой были
«православие, самодержавие, народность». Для характеристики отношения
к нему Кудрявцева важно отметить, что в годы его пребывания на посту
министра была широко распространена практика стажировки молодых
русских ученых за границей (см.: Эймонтова Р. Г. Русские университеты па
грани двух эпох. М., 1985. С. 55—56). Кудрявцев, как известно, также
получил возможность продолжить свое образование за границей.
Рассматриваемая Кудрявцевым статья была написана Уваровым в 1850 г.— вскоре после
того, как он оставил пост министра, видимо, не вполне разделяя те крутые
меры по отношению к просвещению, в том числе и университетам, которые
стали применяться в России под влиянием революций 1848 г. в Европе.
8 Проспер Аквитанский (V в.), средневековый хронист и поэт.
4 Идацпй (Идациус), испанский хронист второй половины V в.
8 Речь идет о Ламберте (XI в.), авторе Герсфельдских анналов,
которого в XIX в. и прежде чаще называли Ашаффенбургским (по месту его
рождения). См.: Lambertus Schaffnaburgensis, alias Hirsfeldensis dictus. De rebus
gestis Germanorum / Schard Simon. Germanicarum rerum quatuor celebriores
velustioresque Chronographi. Francoforti ad Moenum, 1566. P. 168—224.
8 Авель Франсуа Вильмен (1790—1870), французский писатель и
государственный деятель, с 1816 г. в Сорбонне занимал кафедру новой истории,
ватем кафедру французской словесности.
7 Гиксосы — кочевые азиатские племена^ около 1700 г. до н. э.
захватившие Египет.
8 Франц Карл Моверс (1806—1856), немецкий историк-ориенталпст.
9 Имеется в виду Геродот.
10 Речь идет о сочинении немецкого ученого Августа Бёка (1785—1867)
«Государственное хозяйство афинян». См.: Böckh A, Die Staajshaushaltung
der Athener. 2. Ausg. В., 1840—1851, Bd. 1—3.
Примечания 835
11 См.: Macaulay Th. В. The History of England from Accession of
James II. L., 1848. T. I—II. Рус. пер.: Маколей T. Б. История Англии от
восшествия на престол Иакова II / Поли. собр. соч. СПб. 1861—1865
Т. 6—13.
12 Кудрявцев, так же как и Т. Н. Грановский, высоко оценивал труды
Нибура для исторической науки. Грановский посвятил его творчеству
специальную статью «Чтения Нибура о древней истории» и биографический
очерк, основанный на переписке Нибура (см. ниже, примеч. 22) «Бартольд
Георг Нпбур». См.: Грановский Т. Н. Соч. М., 1900. С. 300—327; 328—376.
13 Речь идет о знаменитом исследовании гомеровских поэм «Введение"
к Гомеру» немецкого ученого Фридриха-Августа Вольфа (1759—1824):
Wolf F.Ά. Prolegomena ad Homerum. Halle, 1795.
14 Гуго Гроций (1583—1645), голландский политический мыслитель,
правовед, философ, известен и своими историческими трудами: Grotius H. Liber
de antiquitate et statu Reipublicae Batavicae. Amsterdam, 1633; Idem.
Historie Gothorum, Vandalorum et langobardorum Amsterdam, 1654; Idem.
Annales et historiae de rebus Belgicis. Amsterdam, 1657.
15 Ричард Бентли (1662—1742), английский филолог-классик.
18 Экзегетика (герменевтика) — искусство толкования текстов
(классической древности, Библии и т. п.).
17 Карл Лахман (1793—1851), немецкий филолог-классик. Имеется в
виду его сочинение: Lachmann К. Betrachtungen über Homers Ilias. В., 1847.
18 Франц Герлах (1793—1876), швейцарский историк.
19 Фридрих Карл Савиньи (1779—1861), немецкий историк. Имеется в
виду его сочинение: Savigny К. Geschichte des römischen Rechts im
Mittelalter. Heidelberg, 1834.
20 Так начинаются названия двух больших сочинений французского
историка и политического деятеля Франсуа Гизо (1787—1874). См.: Guizot Р.
Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'Empire Romain.
P., 1846. T. 1—4. Рус. пер.: Гизо Φ. История цивилизации во Франции/Пер.
П. Г. Виноградова. М., 1877. Т. 1—2; То же/Пер. М. Корсар. М., 1880—1881.
Т. 3—4; Guizot F. Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de
l'Empire Romain jusqu'à la Révolution française. P., 1846. Рус. пер.: Гизо Φ.
История цивилизации в Европе от падения Римской империи до
Французской революции/Ред. пер. К. К. Арсеньева. СПб., 1860; То же/Пер. В. Д. Воль·
фсона. СПб., 1892.
21 См.: Fauriel С. Poésie provençale. P., 1847.
22 Точнее: Lebensnachrichten über В. G. Niebuhr aus Briefen desselben
und aus Erinnerungen einiger seiner nächsten Freunde: In 3 Bd. Hamburg»
1838. Bd. 2. S. 47, 164.
23 Цитируемое здесь письмо Нибура датировано 21 мая 1804 г.
24 Точнее: Niebuhr В. G. Römische Geschichte. 4. unveränd. Aufl., В.,
1833. T. 1. S. IX (Vorrede).
25 Точнее: Schlegel A.-W. (Recension). Römische Geschichte von B. G.
Niebuhr. Berlin, in der Realschulbuchhandlung. Erster Theil. 1811. 455 S.
Zweiter Theil, 1812. 565 S. 8. Mit zwei Charten // Heidelbergische Jahrbücher der
Literatur. Heidelberg, 1816. Zweite Hälfte. № 53. S. 835.
26 Этим вопросам была посвящена первая магистерская диссертация
Кудрявцева «Папство и империя в IX, X, XI и начале XII столетия».
Диссертация была написана в 1844 г., представлена в Московский университет
еще до поездки Кудрявцева за границу, однако, как уже было сказано, до
диспута не была допущена; ее текст полностью не публиковался. Отрывки
были напечатаны в «Методической русской хрестоматии» Л. Поливанова
(М., 1883. Т. III. Ч. I) как образец художественной исторической прозы.
Во введении к диссертации Кудрявцев писал, что главный предмет его
сочинения — это «взаимные отношения между папским престолом и
императорской властью в средние века» (л. 2), «крайним пунктом... настоящей
работы,—отмечал он,—остается Вормсский конкордат», т. е. всего «период
в 325 лет» (л. 5 об.). Большое внимание он уделял роли личностей, по-*
836
Примечания
скольку в историческом процессе, по его мнению, «много зависит от
нравственной организации тех личностей, которые призваны быть его
совершителями, и в начале имеет большею частью характер субъективный» (л. 3),
НБ МГУ, архив П. Н. Кудрявцева, картон 1, ед. хр. 1, он. 1.
27 Свидетельства современников о борьбе гвельфов и гибеллинов, отно>
сягцпеся к временам детства и юности Данте, в частности хроника Вилла-
ри и сообщения Дино Компаньи, были подробно рассмотрены Кудрявцевым
в его большой статье «Дант». См.: Кудрявцев П. Н. Соч. Т. I. С. 413—544.
28 Речь идет о Французской революции конца XVIII в. С. С. Уваров в
рассматриваемой статье сосредоточивает свое внимание на двух, по его·
словам, «разительных» примерах: истории Реформации и истории
Французской революции XVIII в. Революцию во Франции он называет
«величайшим и последним из событий, которого наше поколение по большей части
было свидетелем и которое остальные узнали из первых уст» (Уваров С. С.
Достовернее ли становится история? // Москвитянин. 1851. Ч. I, № 1^
С. 102). При этом особое внимание Уваров обращает на личность
Наполеона, которая, по его мнению, в трудах современных ему ученых из
исторической превратилась в некое «символическое лицо» (Там же).
29 См.: Lehuërou J.-M. Histoire des institutions mérovingiennes et du
gouvernement des mérovingiens jusqu'à l'édit de 615. P., 1842.
30 Имеется в виду сочинение: Pétigny J. de. Etudes sur l'histoire, les lois-
et les institutions de l'époque mérovingienne. P., 1843—1845. T. 1—3.
31 Иоганн Вильгельм Лебель (1786—1863), немецкий историк и
литературовед; по-видимому, имеется в виду его сочинение: Loebell J.-W. Gregor
von Tours und seine Zeit. Leipzig, 1839.
32 Георг Вайц (1813—1886), немецкий историк; вероятно, имеется в
виду прежде всего его специальное исследование: Waitz G. Das alte Recht
der salischen Franken. Kiel, 1846.
33 Труды зарубежных ученых, прежде всего немецких — Ранке, Хагена>
Планка и др., по истории Реформации, о которых далее говорит Кудрявцев,,
широко использованы им в лекционном курсе по истории гуманизма и
Реформации, см. наст, изд., примеч. к автографу.
34 Переписка Карла V была проанализирована Кудрявцевым в сочппе-
нии «Карл V». См.: Кудрявцев П. Н. Соч. М., 1887. Т. II. С. 192—451.
35 Этому обычаю академического преподавания истории следовал и сам
Кудрявцев. В настоящей публикации перечень источников и литературы,
предваряющий изложение отдельных разделов его лекционного курса,
помещен в примечаниях. См. примеч. 1 к разделу «Элемент религиозный»;
см. также подстрочные примечания и археографический обзор.
36 См. выше, прихмеч. 11.
37 История Французской революции конца XVIII в., личность
Наполеона Бонапарта также привлекали внимание Кудрявцева. Большая работа
посвящена деятельности одного из братьев Наполеона. См.: Кудрявцев П. Н.
Жозеф Бонапарт в Италии / Соч. Т. И. С. 55—191.
О СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧАХ ИСТОРИИ
1 В настоящей публикации воспроизводится прижизненное издание
данной статьи. См.: Отечественные записки. 1853. № 4. С. 31—62. Статья
была переиздана. См.: Кудрявцев П. Н. Соч. М., 1887. Т. I. С. 33—69.
Заглавие статье дано издателями указанного собрания сочинений Кудрявцева;
в настоящем издании повторено.
2 Рассматриваемые Кудрявцевым работы Грановского, как известно,
неоднократно переиздавались. Ниже ссылаемся на издание:
Грановский Т. И. Соч. М., 1900. С. 13—30, 31—91.
3 Там же. С. 13—14. δ Там же. С. 15.
4 Там же. С, 14—15, β Там же, С, 16—17.
Примечания
SS7
7 Видимо, имеется в виду немецкий историк А.-Г.-Л Геерен (1760—
1842).
8 Речь идет о работе Грановского «Четыре исторические
характеристики: I. Тимур. II. Александр Великий. III. Лудовик IX. IV. Бэкон»
(Грановский Т. Н. Соч. С. 241—287).
9 Там же. С. 27.
10 Адольф Кетле (1796—1874), бельгийский ученый, основоположник
современной статистики. Автор многих трудов, в которых одним из первых
попытался применить при изучении общественных явлений приемы
точного исследования, используемые в естественных науках. Как и О. Конт.
Кетйе утверждал, что социальные отношения, подобно явлениям физиче^
ского мира, подчинены известной закономерности. В России его работы
имели широкую известность. См.: Quetelet L.-A.-J. Sur l'homme et le
développement de ses facultés, ou essai de Physique sociale. P., 1835; 2-е, перераб.
изд. под заглавием: Quetelet L-A.-J. Physique sociale, ou essai sur le
développement des facultés de l'homme. Bruxelles, 1869 (рус. пер.: Кетле A. Человек
и развитие его способностей, или Опыт общественной физики. СПб., 1865;
пер. с изд. 1869 г.: Кетле А. Социальная физика, или Опыт исследования
о развитии человеческих способностей. Киев, 1911—1913); а также: Quête-
le ι L.-A.-J. Du système social et des lois qui le régissent. P., 1848 (рус. пер.:
Кетле A. Социальная система и законы ею управляющие. СПб., 1866).
11 Грановский Т. Н. Соч. С. 27—28.
12 См. выше, примеч. 8.
13 Веллий Патеркул, римский историк I в., автор краткой «Римской
истории», составленной во времена императора Тиберия.
f4 См. примеч. 12, 22 к статье «О достоверности истории».
15 Грановский Т. Н. Соч. С. 17—18.
16 См.: Gibbon Ε. History of the Décline and Fall of the Roman Empire.
L., 1776-1788.
17 Видимо, имеется в виду сочинение: Schlosser F. Ch. Weltgeschichte in
zusammenhängenden Darstellung. Frankfurt а. M., 1816—1824. Bd. I—IX.
18 Речь идет о французском историке Франсуа Гизо (1787—1874).
См.: Гизо Ф. История цивилизации во Франции/Пер. П. Г. Виноградова.
СПб., 1877. Т. 1—2.
19 Грановский Т. Н. Соч. С. 18.
20 Там же. С. 19—20.
21 Точнее: Бе ρ К. О влиянии внешней природы на социальные
отношения отдельных народов и историю человечества / Карманная книжка
для любителей землеведения, издаваемая от Русского Географического
Общества. СПб., 1848. С. 232.
22 Там же. С. 231.
23 Точнее: Schouw J.-Fr. Die Erde, die Pflanzen und der Mensch. Leipzig,
1851. В библиотеках Кудрявцева и Грановского есть и другие книги этого
.автора, в том числе: Schouw J.-Fr. Beitrage zur vergleichenden Klimatologie.
Copenhagen, 1827; Ibid. Proben einer Erdbeschreibung/Aus dem dänischen von
Dr. H. Sebald. В., 1851. Библиотеки Грановского и Кудрявцева (см. их
фонды в Отделе редких книг Η Б МГУ) свидетельствуют о большом интересе
ученых к рассматриваемым в данной статье проблемам соотношения
исторической науки и естествознания.
24 Имеется в виду пролив Ла-Манш. В русской литературе середины
XIX в. употреблялось его английское название — Британский или
Английский канал.
25 То есть Уэльс.
26 Грановский Т. П. Соч. С. 18—19.
27 Имеется в виду издание: Kant Imm. Werke: In 10 Bd. Leipzig, 1838—
1839. Bd. X: Schriften zur Anthropologie und Pädagogik. Рус. пер.: Кант И.
Антропология с прагматической точки зрения. 1798 / Соч.: В 6 т. Мм 1966.
Т. 6. С. 562-588.
28 Грановский Т. Я. Соч. С. 19.
888
Примечания
29 Там же.
30 Там же.
31 Авиньон с XIV в. вплоть до событий, связанных с революцией во
Франции конца XVIII в., находился во владении римских пап, С 1791 г,
(официально 1797 г.) принадлежит Франции.
32 См. выше, примеч. 23.
33 Грановский Т. Н. Соч. С. 19.
34 Там же. С. 24.
35 Творчество Тацита привлекало особое внимание Кудрявцева. См.:
Кудрявцев П. Ы. Римские женщины. Исторические рассказы по Тациту
(наст. изд.).
36 Видимо, имеются в виду прежде всего исследования французского
египтолога Ж.-Ф. Шампольона (1790—1832).
37 Грановский Т. Н. Соч. С. 28—29.
РИМСКИЕ ЖЕНЩИНЫ.
ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ ПО ТАЦИТУ
1 Впервые было напечатано по частям в сборниках статей по
классической древности «Пропилеи», изданных П. Леонтьевым: Рассказ I.
Агриппина Старшая и Мессалина / Пропилеи. М., 1851. Кн I. То же. Переизд. М.,
1856; Рассказ II, Агриппина Младшая // Там же. М., 1852. Кн. II; Рассказ III,
Агриппина Младшая и Поппея Сабина / Там же. М., 1853. Кн. III;
Рассказ IV. Поппея Сабина и Октавия и, вместо эпилога, Нерон, сын
Агриппины / Там же. М., 1856. Кн. V. Первое прижизненное издание отдельной
книгой вышло в Москве в 1856 г., впервые с посвящением Т. Н.
Грановскому. Эта книга Кудрявцева впоследствии выдержала три посмертных
издания: М., 1860; М., 1875; М., 1913, последнее — без научного аппарата, все
ссылки Кудрявцева на оригинальные тексты латинских и греческих авторов
опущены. В настоящей публикации текст печатается по последнему
прижизненному изданию; сверено с изданием 1875 г.
2 Речь идет о сочинении Тацита «Анналы». Кудрявцев называет их
«Летописями», как было принято в его время, см.: К. Корнелий Тацит.
Летописи/Анонимный пер. СПб., 1803—1806. Ч. 1—3; Он же. Летопись/Пер.
Ал. Кронеберга. М., 1858. Ч. I—II. Ср.: Тацит. Анналы / Соч.: В 2 т./Пер.
Г. С. Кнабе. М., 1970. Т. I.
3 См. ниже, примеч. 16.
4 Письмо Т. Н. Грановского Я. М. Неверову. Берлин. 23(11) февраля
1837 г. / Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. II. С 395.
6 Письмо Т. Н. Грановского Я. М. Неверову. Берлин. 2 апреля 1837 г. /
Там же. С. 400.
6 Тема судьбы женщины является одной из центральных в творчестве
Кудрявцева. Он исследовал ее и как историк, и как литератор. Этой теме
посвящена первая повесть «Катенька Пылаева», опубликованная под
псевдонимом А. Нестроев (1836). Положение женщины в русском обществе
изображается и в других литературных произведениях Кудрявцева — «Звезда»,
«Антонина». Как историк он исследовал эту тему в своей большой работе
«Юность Катерины Медичи. Эпизод из последних времен Флорентийской
республики». См.: Кудрявцев П. Н. Соч. М., 1887. Т. II.
7 Имеется в виду установление Империи во времена правления Окта-
виана, получившего от сената в 27 г. до н. э. титул Августа.
8 Внимание Кудрявцева в этой книге привлекают не только Агриппина
Старшая, Мессалина, Агриппина Младшая, Поппея Сабина, но также
Октавия, первая жена Нерона, см. IV рассказ.
9 В библиотеке Кудрявцева (сейчас в НБ МГУ) находим издание
сочинений Тацита: С. СогпеШ Taciti Opera/Adcuravit С. H. Weise. Lipsiae, 1829.
T. Ι—II. Первый том этого издания содержит «Анналы» (Annalium Üb-
ri XVI),
Примечания
839
10 Орел был изображен на знамени римского легиона. Эта символика
появилась уже в конце эпохи Республики.
11 То есть солдатские сапожки.
12 Tac. Ann. Lib. I. Cap. 63.
13 Ibid. Cap. 69. Здесь Тацит ссылается на не дошедшее до нас
сочинение Гая Плиния «Германские войны».
uIbid. Lib. II. Cap. 61. Речь идет о ныне высохшем озере в Фаюмском
оазисе. У Тацита сказано, что оно было искусно вырыто в земле и
принимало лишние воды Нила; было ли оно действительно искусственным или
возникло естественным образом, не установлено. Древние греки называли
«го* Меридой и считали одним из чудес света.
15 Здесь, кроме «Анналов» Тацита, Кудрявцев ссылается на сочинение
Светония: Saetonii Caii Tranquillil De vita XII Caesarum. Libri VIII / C. Sue-
tonii Tranquillii Opera. Lipsiae, 1836. Vol. I. Пер.: Гай Светоний Транквилл.
Жизнь двенадцати цезарей/Изд. подгот. М. Л. Гаспаров, Е. М. Штаерман. М.,
1966.
16 Как известно, «Анналы» Тацита дошли до нас не полностью.
Утрачена их центральная часть: книги VII — X, включающие, по-видимому,
историю царствования Калигулы и начало правления Клавдия.
17 См. выше, примеч. 15.
18 См.: D. Junii Juvenalis. Satirae. Cum commentariis Caroli Frid. Hein-
richii. Accedunt Scholia vetera. Bonnae, 1839. Vol. 1—2. Пер.: Ювенал.
Сатиры/Пер. Д. С. Недовича, Ф. А. Петровского; Вступ. ст. А. И. Белецкого.
М.; Л., 1937.
19 Tac. Ann. Lib. XI. Cap.. 37«
20 Имеется в виду Гней (Кней) Домиций Агенобарб (буквально «модно*
€ородый»).
21 Речь идет о сочинении Светония, см. выше, примеч. 15.
22 Dionis Cassii Coccejani Historia Romana. Cum annotationibus L, Din-
dorfii. Lipsiae, 1864. Vol. 3.
23 См. выше, примеч. 16.
24 Scholia vetera in Juvenalem. Satira IV, 81«
25 Здесь имеется в виду: Tac. Ann. Lib. XII. Cap. 41.
26 Весталки — жрицы богини Весты. Взятые в храм в возрасте 6—10 лет,
они были обязаны в течение 30 лет соблюдать обет безбрачия, после чего
возвращались к частной жизни и могли вступать в брак.
27 Фуцинское озеро — озеро в Аппенинских горах, ныне Лаго ди Челано.
28 Точнее: Tac. Ann. XII. Cap. 57.
29 Точнее: Ibid. Cap. 58.
30 Бононская колония (Бопония) — город в Циспаданской Галлии:
с 189 г. до н. э.— военная колония римлян, ныне Болонья.
31 В следующем рассказе — «Агриппина Младшая и Поппея Сабина» —
говорится о судьбах матери и жены Нерона, которые обе были убиты им.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*
Авель 93
Август (букв, божественный,
счастливый), титул прннцепсов после
Октавиана Августа 259
Август Октавиан 196, 210—212, 214,
215, 224, 228, 230, 231, 233, 249,
252, 261, 263, 268, 278
Августа, титул матерей, жен и
дочерей римских императоров после
Октавиана Августа 260, 262
Августин Аврелий 43, 44, 75, 85, 87,
89, 90, 92, 122
Агрикола Георг 37
Агриппа Виспапий Марк 215
Агриппина Старшая 209—211, 214—
217, 222, 225-236, 248, 256
Агриппина Младшая 248—279
Адам 74
Адельмансфельден Адельман фон
102
Алеандро Иероним, Алеандр,
кардинал 122, 126, 127, 133
Александр VI, папа 27, 68, 69, 90
Александр Галесский (Alexander von
Haies) 67
Александр Македонский 223
Алексис 82
Альбрехт, архиепископ Майпцский
96, 102
Альбрехт Прусский 7
Амвросий Медиоланский 43
Аннибал, см. Ганнибал
Аристотель 33, 35, 55, 56, 81, 82, 90,
92 93
Арминий 217—221, 223—225
Атлас 44
Афанасий Александрийский 43
Афрапий Бурр 265, 278
Бембо Пьетро, кардинал 17
Бентли, Бентлей Р. 157
Бер К. М. 191, 192
Берлихинген Гец фон 146
Бёк А. 155
Бонавентура 81
Бонифаций VIII, папа 67
Борджа, Борджиа Цезарь 29
Александр, см. Александр VI
Боэций 14, 15, 62
Британник 240, 244, 252, 258—260,
262—264, 268, 271, 274—276, 278
Бульгенбах Ганс Мюллер фон 144
Буш Герман 46
Буцер, последователь Лютера 129
Бэкон Веруламский 186
* Указатель составлен к тексту лекцп
Вайц Г. 173
Валерий Азиатский 236, 237, 243
Вар, см. Квинтилий Вар
Василий Великий Кесарийскип 43
Везель Иоанн фон 77
Веллий Патеркул 186
Вергилий Публий Марон 56, 81, 84
Вессель Иоанн (Johan Wessel) 76, 77
Вибидия, весталка 244
Виклеф, Виклефет, см. Упклиф
Джон
Вильмен А. Ф. 153; 154
Вимпипа 105
Вимпфелинг Якоб 39
Вистплия 235
Вителлий 231, 237, 242, 253—255,
265, 266
Вольтер 171, 172, 175
Вольф Ф.-А. 156—162, 166
Вольц Пауль 39
Габсбурги 7
Гаген (Hagen) К. 14, 29, 32, 36-41,
44—46, 49, 57, 64, 76, 77, 93, 102,
138, 141-145, 148, 172, 174
Галилео Галилей 95
Галот 277
Ганнибал 29
Гвельфы 170
Гегель Г. Ф. 184
Гегий (Hegius) Александр 37
Гедеон 147
Гейер Флорпан 146
Гейлер Кайзерсберг фон (Geiler fon
Kaisersberg) 76, 77
Генрих VIII Тюдор 66
Геприх IV Франкоиский 170
Георг Саксонский, герцог 86, 95, 118,
119, 121, 127, 129, 133
Геерен, Герен А.-Г. 183
Герлах Ф. 161
Германик 196, 210—220, 222—232,
234-236, 248, 249, 252, 259
Гесс Эобан 46
Гета 242, 265
Гибеллины 170
Гиббон Э. 187, 188
Гизо Ф. 162, 168, 172, 173, 187, 188
Гильденбранд, см. Григорий VII
Гогенлоэ, Гогенлоге, старинный не-
мецкий дворянский род 146
Гогенштауфены 7, 12, 170
Гогстратен 49, 51, 52, 56, 106, 107
Гомер 156—162
и сочинений П. Н. Кудрявцева,
Указатель имен
84Т
Гораций Флакк Квинт 42, 157
Гракхи 22, 54
Граповский Т. Н. 177—479, 181, 183,
184, 186—189, 194, 195, 197—199,
204—208
Григорий VII, папа 170
Григорий Турскип 153
Гроцпй Гуго 157
Гус Ян 49, 68, 108, 120—122, 125,
126, 128, 129, 133
Гуттен Ульрих фон 38, 39, 45—48,
52—54, 93, 102, 139, 140, 175
Давид 89
Дальберг Иоганн 36, 37, 39
Дальмапн Ф. 172
Данте Алигьери, Дант 196
Демосфен 155
Диоп Кассий, см. Кассий Дион
Диописий Галикарнасский 165
олленкопф Конрад 56
омиции, старинный римский род
249
Домиций Агенобарб Гней, Кней 249,
250, 260
Домиций, см. Нероп, Клавдий Ти-
берий
Дрингенберг Людвиг 37
Друз, пасынок Августа 210, 215
Друз, сын Германика 249
Евгений IV, папа 65
Жерсон 85
Идацпус, Идаций 153
Иеремия 112
Иероним Евсевий Софроний 14, 15,
44
Иероним Пражский 108
Иисус Христос 74, 75, 79, 87, 89, 92,
110, 120, 128, 130, 145
Ингвиомер 224
Иоанн XXII, папа 65, 67
Иоанн Златоуст 43
Иоанн Креститель 69
Иоанн Дуне Скот 62, 81
Иордан, Иорнанд 153
Ирипея 43
Каетан Томас, см Каэтап
Калигула Гай Цезарь, Кай
Калигула 215, 235, 248, 250, 251, 261
Каллист 241, 252, 267
Кальпурний Пизон Гней 226—229,
231, 232
Кант Им. 194
Капнион, см Рейхлин Иоганн
Карактак 262
Карл III 15
Карл VII 65
Карл I Испанский, V Немецкий Ь*
109, 126-129, 133, 136, 175
Карл Бурбон 9
Карлштадт Андреас 92, 119. 137.
138, 144, 149, 150
Кассий Дион 250, 265, 267, 276
Катон Марк Порций (Старший) 14г
15
Каэтан, Фома из Гаеты НО, 112—
118, 122
Квинтилий Вар 217, 219, 221
Кетле А. 184
Клавдии, старинный римский род
259, 260
Клавдии 196, 236—248, 251—261,
263, 264, 266, 268-278
Климент VI, папа 67, 114
Кпей Пизон, см. Кальпурний Ппзон
Гней
Кшшстров Иоганн 105
Кобеншлят Ганс 145
Коклес, см. Гораций
Коперник Николай 95
Котта Конрад 80
Кранц Альбрехт 102
Криспин 265
Ксенофонт 277
Крот Рубиан (Grotus Rubianus) 46r
54
Куспиниан 130
Ламберт Гесфельдский, Ашаффеп-
бургский 153
Лапг Иоганн 94
Лахман К. 160
Лебель И. В. 173
Легюэру Ж.-М. 173
Лев X, папа 65, 96, 98, 117
Лепида, мать Мессалины 247
Лепида, сестра Гнея Домиция Are-
нобарба, тетка Нерона 257, 273,
274
Лефевр д'Этапль Жак 69, 70
Либаний 43
Ливии Тит 19, 20—22, 157, 165, 18?
Линк Венцеслав 142
Локуста 277
Лоллия Паулина 252, 258, 259
Лоренц Бобра, епископ Вюрцбург-
ский 101
Лоренцо Валла 43
Лукиан 43, 180
Лукулл 237
Лютер Ганс 78, 79, 84
Лютер Мартин 69, 70, 75, 77—96,
99-143, 147-150, 175
342
Указатель имен
Макиавелли Никколо 17—32
Максимилиан I 50, 101, 109, 111, 118
Маколей Т. Б. 156, 168, 172
Маргейнеке Ф.-К. 172, 174
Медичи 18, 26, 35
Козимо, Косьма 35
Меланхтон Филипп 111, 123, 127.
128, 138
Мессалина 209, 210, 236—248, 251—
253, 256, 258, 265, 266, 270, 273—
275
Мецлер Георг 145
Миконий Фридрих 67, 101
Мильтиц Карл 110, 118
Моверс Ф. К. 154
Моисей 112
Мольтке А. 163
Мориц Саксонский 175
Мунаций Планк Луций 213
Муциан Руф (Mutianus Rufus) 39,
52, 93
Мюнцер Томас 144, 147—150
Нарцисс 241, 242, 244—247, 252, 267,
270, 274—276, 279
Нерон, сын Германика 249
Нерон Клавдий Тиберий 196, 250,
253, 257—264, 271, 2/3—275, 278
Нибур Б. Г. 156, 157, 159, 167, 186—
188, 194
Нума Помпилий 23, 24, 157
Овидий Публий Назон 19
Оккам Уильям 81, 85
Октавия (Старшая), мать Британии-
ка 244
Октавия Клавдия, первая жена Не-
рона 252, 253, 258, 271
Ортуин Граций 54—56, 58, 59
Павел, апостол 90, 92, 107, 122, 134,
143
Даллас 241, 252, 253, 259—262, 274
Нассиен 251
Нетиньи Ж. 173
Петр, апостол 89, 143
Петр дАльи, см. Пьер д'Альи
Пизон, см. Кальпурыий Пизой Гней
Никколомини Энеа Сильвио 14, 15,
32, 36, 65
Пиркгеимер Виллибальд 29, 38, 39,
52, 64, 93, 102
Пифон 57
Нлавт Тит Макций 84
Планк (Planck) Г. И. 66, 174
Плапцина, жена Пизона 226, 227,
231, 232, 235
Платон 14, 35, 36
Плиний 56, 222, 266
Плутарх 43, 165
Поллион Меммий 257
Помпеи Секст 196
Поппея Сабина (Старшая) 236, 237
Поппея Сабина (Младшая) 210
Поссевин Антоний 32
Приерио (Sylvester Mazzolini von
Prierio) 108, 121
Проспер Аквитанский 153
Пфейфер Генрих 148
Пфефферкорн Иоганн 50, 58
Публий Сципион 237
Пьер д'Альи 85
Ранке Леопольд фон (Ranke) 88—93,
96, 97, 109, 121, 122, 126, 129, 133,
138, 139, 144—147, 149, 150, 168,
172, 174, 187
Ревекка НО
Рейхлин Иоганн 37, 39, 41, 48, 50—
55, 60-62, 69, 93, 106, 111
Рем 22, 23
Риттер К. 189
Ришелье Аман Жан дю Плесси 202
Ромул 22—24, 156
Савиньи Ф. К. 162
Савонарола Джироламо 23, 35, 68,
69
Самуил 82
Сарториус Г. Ф. 145
Светоний (Suetonius) Гай Транквилл
234, 235, 238, 249, 250, 253, 257,
261-264, 268, 272, 274, 275, 277,
278
Сегест 217, 218
Секкендорф (Seckendorf) 86, 91
Сенека Луций Анней 256, 257, 261,
262
Септимий Север 31
Серра —Лонга 113
Спалатин Георг 99, НО, 118, 126—
128, 133
Сеян Элий Луций 233, 234, 249
Сигизмунд Габсбург 128
Сиккинген Франц фон 128, 129, 139,
140, 149, 174
Силан, см Юний Силан Луций
Силий Гай 238—245
Скот, см. Иоанн Дуне Скот
Соран Барея 267
Статилий Тавр Тит 271, 272
Стюарты 156
Сузо 71, 72
Тарквиний Приск 272
Таулер 71—73, 90
Таций Сабинский 22, 23
Тацит (Tacitus) Публий Корнелий
Указатель имен
843
207, 208, 210, 211, 222, 235, 236,
249, 251, 255
Теренций Варрон Марк 42
Тецель Иоганн 96, 98, 99, 104—106,
108, 118
Тиберий 196, 212, 222—225, 228,
230—235, 249, 259, 260
Тибулл 19
Тит Флавий Веспасиан 196
Тразея Пет 267
Тробониус Иоганн 80
Тритемий Иоганн 37, 39
Трухзес, Трухсесс (Truchsess) 146,
149
Тулий, см. Цицерон
Тулл Гостилий 256
Тунгерн Арнольд фон 51, 58
Ту сне льда 218
Тьерри Ам. 194, 195
Тьерри Ог. 168, 173, 174
Уваров С. С. 151
Уиклиф Джон 68, 121
Фарель Гильом (Guillaume Farel) 69
Фельдкирхен Бернгард фон 94
Фердинанд I 129
Филипп, ландграф Гессенский 133,
140
Фичино Марсплио 35
Флавий 223
Фома Аквинский 44, 61, 62, 81
Фома Кемпийский 14, 37
Фориель К. 163, 194
Франциск I, 65, 133, 136
Фридрих Мудрый, курфюрст
Саксонский 87, 89, 94, 99, 101, 102, 108—
110, 126, 128, 133, 134, 136, 175
Фридрих II Гогенштауфен 170, 192
Фридрих III Габсбург 14, 15, 33, 65,
66
Фриц Иосс 144
Фролов Н. 177
Фрундсберг Георг 149
Фуггеры 96
Фукидид 180
Цазий 39
Цвингли Ульрих 96
Цезарь Юлий 192
Цельтис, Цельтес Конрад 37, 38, 41
Цеципа 219—222
Циммерман В. 145
Цицерон Марк Тулий 14, 56, 81, 180,
271
Шекспир У. 208
Шиллер Ф. 205
Шлегель Α.— В. 165
Шлоссер Ф. 168, 187, 188
Штаупиц Иоганн 87—90, 92, 94, 99,
111, 112, 115—117, 125
Шторх Николай (Claus Storch) 138,
144, 149
Эвод 247
Эдварде В. Ф. (Edwards) 177, 194—
198
Эйнгард 153
Экк Иоганн 39, 40, 106—108, 118—
122, 124, 125
Экхарт Иоганн (Мейстер Эккард) 71,
72
Элия Петина 252
Эней Сильвио, см. Пикколомини
Энеа Сильвио
Эприй Марцелл Тит 254
Эразм Роттердамский 39, 41—48, 57,
60, 62, 93, 94, 102, 126, 175
Эрих, герцог Брауншвейгский 133
Юлии, старинный римский род 260,
271
Юлий II, папа 90
Юм Давид 171, 172, 175
Юний Люп 265, 266
Юний Силан Луций 253—255
Юния Силана 239
Carrière M. 18, 35, 68, 71, 74, 75
Chrysolaras M. 13
Cochlaeus J. 39, 86
Conecte Th. 68
De Bio, de Vio, см Каэтан
Eberbach P. 54
Edemberger L. 86
Eichhorn К. Fr. 65
Erhard Η.-Λ. 32
Fischer Fr. 54
Fuchs J. 54
Gieseler J. C. L. 68
Heimburg G. 36
Hemmerlein F. 36
Hipler VV. 146
Juvenalis 238
Leo Fr. 13
Merle d'Aubigné J.-A. 67, 78, 80, 82;
83, 86, 90—94, 96—98, 100—102,
104, 105, 107—112, 114—119, 123—
125, 129-131, 133, 134
Miltenberg VV. 146
Nuenar 54
Perusco M. 109
Raumer Fr. 13
Rhagius 46
Rovenna G. 13
Schouw J.-Fr. 192, 203
СОДЕРЖАНИЕ
[ГУМАНИЗМ II РЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ]
ЛЕКЦИИ 1848/49 Г.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ В НОВУЮ ИСТОРИЮ .... 5
{ГУМАНИЗМ И РЕФОРМАЦИЯ В ГЕРМАНИИ] .... 32
Гуманизм в Гермапип 32
Элемент религиозный 65
Спор об индульгенциях 96
Обозрение истории Реформации 135
СОЧИНЕНИЯ
О ДОСТОВЕРНОСТИ ИСТОРИИ 151
О СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧАХ ИСТОРИИ 177
РИМСКИЕ ЖЕНЩИНЫ. ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ ПО
ТАЦИТУ 207
Памяти Тимофея Николаевича Грановского 207
I. Агриппина Старшая и Мессалина 209
II. Агриппина Младшая « 248
ПРИЛОЖЕНИЯ
Т. Д. Сергеева. КУДРЯВЦЕВ КАК ИСТОРИК 280
С. А. Асиновская. ГУМАНИЗМ И РЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ.
Автограф курса П. Н. Кудрявцева (историко-археографический
обзор) 296
ПРИМЕЧАНИЯ (Т. Д. Сергеева) 318
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН (Г. Д. Сергеева) 340
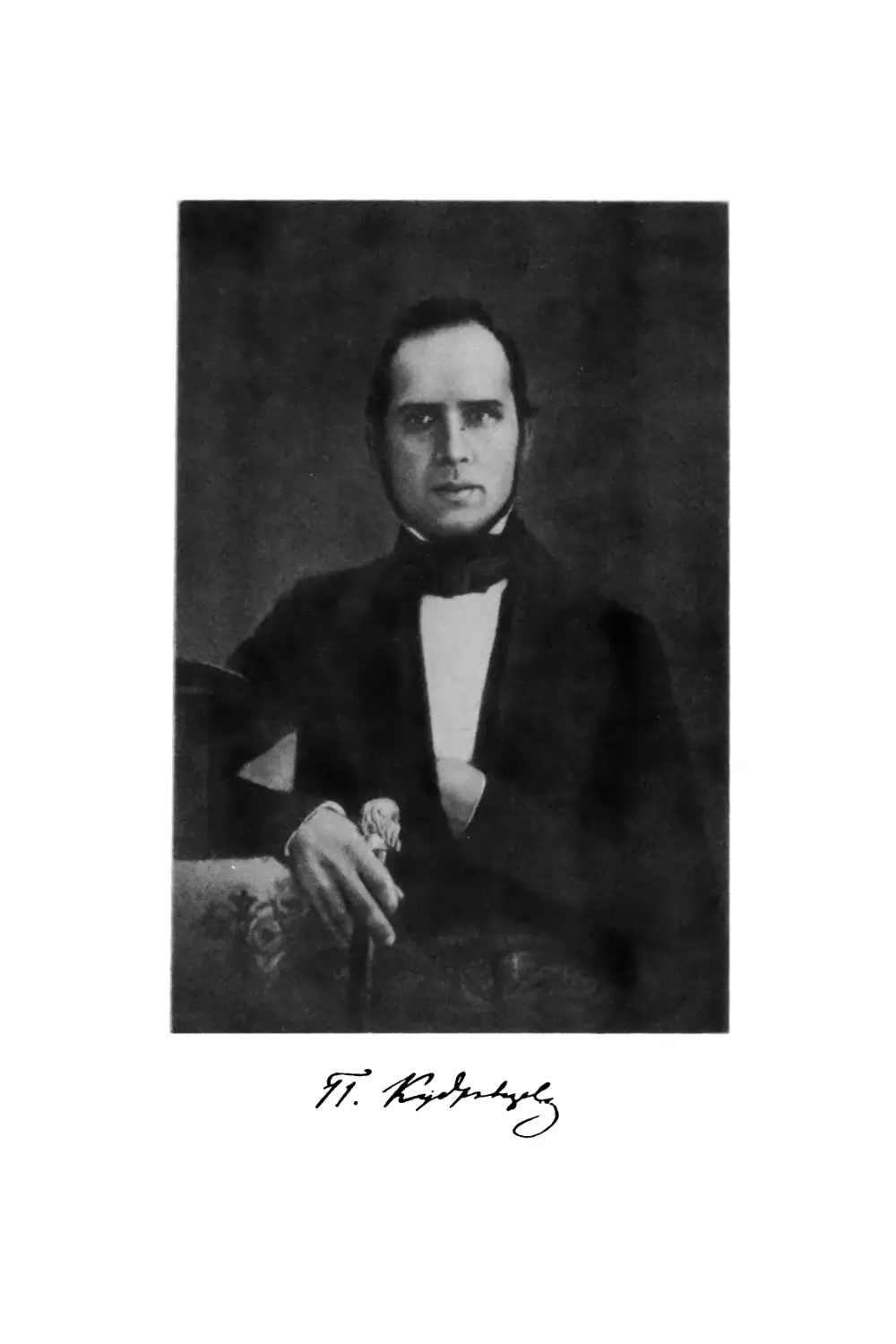




![[ГУМАНИЗМ И РЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ]. ЛЕКЦИИ 1848/49 Г.](https://djvu.online/jpg/o/0/v/o0vq9kUApmKRV/006.webp)





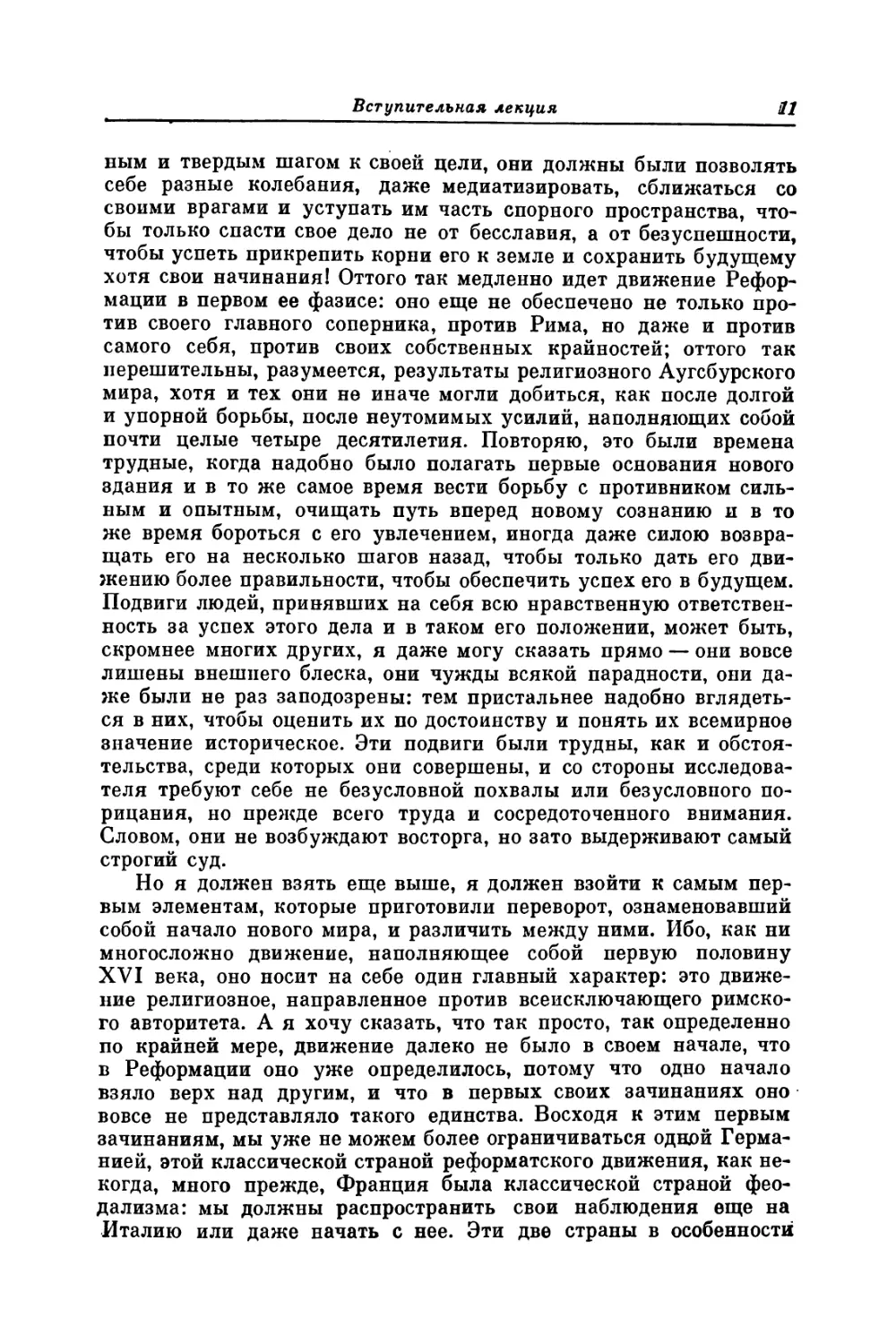


















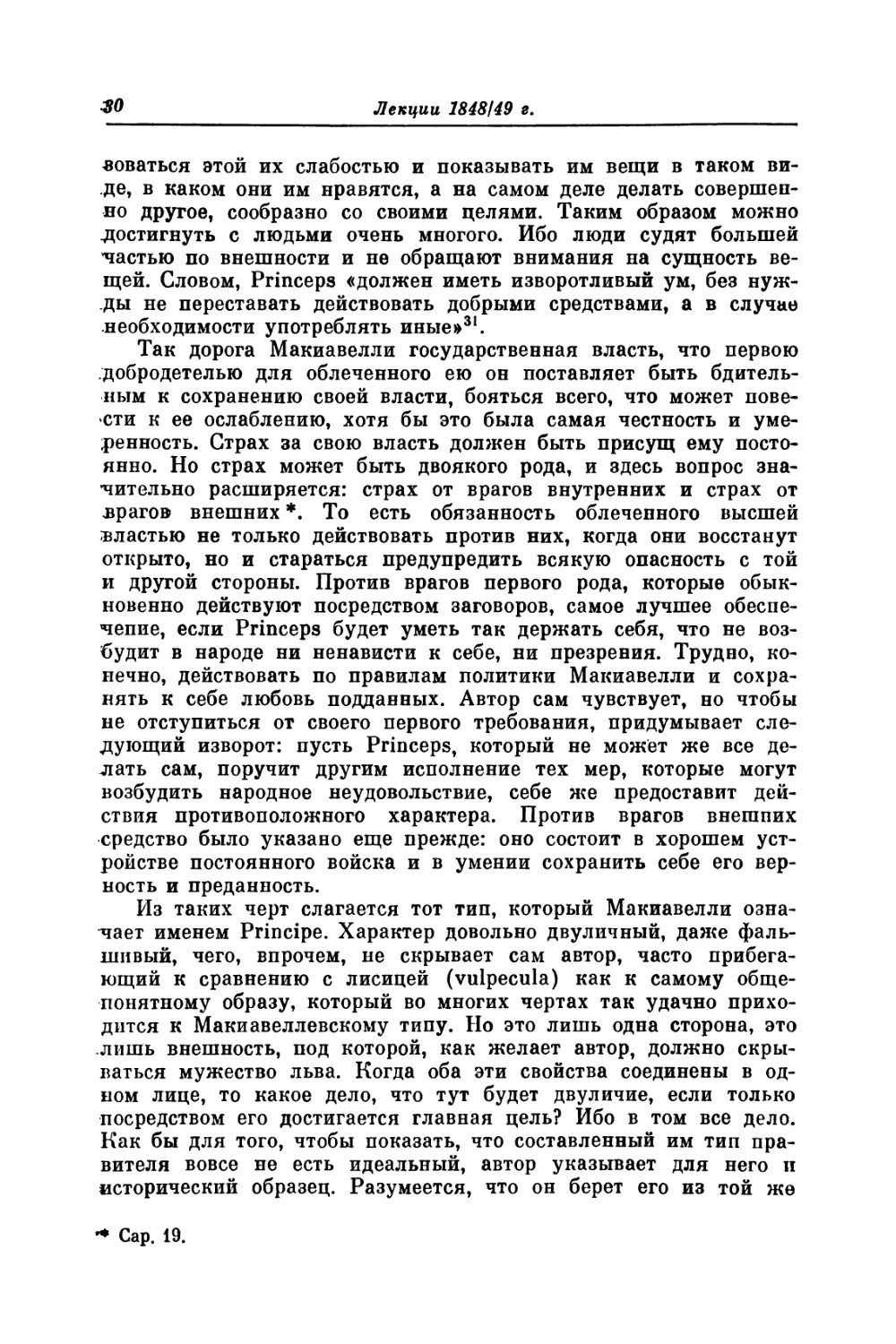

![[ГУМАНИЗМ И РЕФОРМАЦИЯ В ГЕРМАНИИ]](https://djvu.online/jpg/o/0/v/o0vq9kUApmKRV/033.webp)